Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил.
Ф.И. Тютчев
Предисловие
Древнегреческие тексты были в течение многих столетий основой европейской культуры, но научное исследование текстов и археология исследуют древности всего лишь немногим более столетия. Поэтому серьезные научные прорывы в этой области еще впереди. И мешает им лишь кризис академизма – огромные по объему библиографии превращают труд ученого в бесконечное изучение научных авторитетов и сопоставление их мнений. Научные публикации испещряются тысячами ссылок и оговорок, которые убивают научную мысль, отвлеченную на переписывание прежних текстов, пересказывние их каждый раз с бесконечными частными вариациями и адаптациями под новые данные археологии и нарастающий вал тематичкеских публикаций.
То, что называют «историей Древней Греции» на самом деле в малой мере таковой является. Скажем, минойский период представлен лишь археологическими данными и хозяйственными записиями администраторов критских дворцов. История как цепь событий в этот период отсутствует. Мы лишь можем сказать, что некогда были построены критские дворцы (как минимум 4 обнаруженных), потом они по какой-то причине были разрушены, и на их месте возникли еще более крупные сооружения, а потом некий кризис привел к тому, что сохранился лишь один Кносский дворец, а культурный фон сменился с благостно-мирного на военный. Мы знаем лишь моменты поздней истории Критского государства: могущество Миноса, его война с Афинами, его погоня за бежавшим Дедалом и его смерть на Сицилии.
При недостатке исторической информации ее источником могли бы стать мифы. Но по какой-то причине мифология представляется то как развлекательная аллегория, то как чистая выдумка – как будто сказочные сюжеты устраняют всякий историзм из описанных в мифологии событий, а их участников превращают в литературныъ персонажей. Между тем, сказочный слой в мифологии легко отделяется от реалистичных сюжетов, и это позволяет видеть событийный ряд. И его вполне возможно уложить в цепочку, поскольку древнее предание дает нам если не хронологию, то генеалогию. Разветвленная генеалогия, закончившаяся Троянской войной, формирует представление о последовательности событий размахом в полтора-два века или несколько более, что и отмечает микенскую цивилизацию, возникшую с конца XVII – начала XVI вв. до н.э. Самые длинные фрагменты генеалогии дотягиваются до истоков этой цивилизации. Таким образом, из мифологии мы получаем историческую «выжимку». И верность этого подхода подтверждена археологическими открытиями Шлимана (Троя и Микены), Эванса (Кносс), Блегена (Пилос).
Древнегреческий мир часто воспринимается нами через мрачные классические трагедии, а архаическая радость жизни, которая подняла древнегреческую цивилизацию из мрака веков предыстории, позабывается. И здесь рецептом от уныния служит Гомер – его жизнерадостность, солнечность и даже юмор и смех. Почему-то считается, что поэмы Гомера – это коллекция пересказов древних легенд ушедшей в прошлое минойской цивилизации. И в таком случае историзм Гомера сводится к нулю, а остается лишь беспочвенная эстетика, которую мы пытаемся приобщить к современности, украшая прошлое своими домыслами по поводу текстов и музейных экспонатов.
Это связано с убеждением, что цивилизации сменяют одна другую. На самом деле они сосуществуют. И даже если разрушение Кносского дворца превратило Крит в периферию новогреческой эпохи, а по Пелопонессу прокатились войны «темных веков», забившие в землю обломки и пепел микенской цивилизации, это не означает, что исчезло живое культурное наследие. Оно сохранилось на периферии, не затронутой ужасными катаклизмами и ставшей своеобразным музеем минойских и микенских древностей. И это обстоятельство хорошо известно лингвистам: периферия хранит архаику, даже если в центрах цивилизации идет бурная трансформация.
Для Гомера микенская эпоха была родной. Именно поэтому его рождение с древности связывают с ионийским побережьем. Тем не менее, Гомер – житель времен более ранних. Ионийские беженцы-переселенцы с Пелопоннеса сохранили то, что оставила им микенская эпоха и восприняли сказания о Троянской войне от автохтонного населения. Сказания и мифы недавних микенских времен Гомер наверняка слышал с детства – как все мы прикасаемся к русским древностям, слушая сказки. Как и мы, Гомер с юности впитывал в себя современность и отразил ее в своих свободных от всякого начетничества творениях о прошлом. Микенская история в «Илиаде» и «Одиссее» была отражена как нельзя лучше – тем языком и в тех образах, которые сохранились невредимыми с Троянской войны. Родственность микенской эпохи наверняка ощущалась ионийцами, участвовавшими и в затяжных войнах, и в морских странствиях. Герои Гомера и образ их жизни были близки им. Древние герои помогали ионийцам, да и всем грекам, пережить современность не страдающими от невзгод неудачниками, а смельчаками, мужественно встречающими испытания и любящими жизнь.
Некоторые элементы гомеровского эпоса попытался повторить Александр Македонский, числивший себя в потомках Ахилла и читавшего Гомера под руководством своего учителя Аристотеля. Но чудо эллинизма, охватившего огромный регион, сопровождалось ужасными разрушениями древнейших культурных центров – Фив, Милета, Персеполя. Невосполнимые потери этого периода подобны потерям «темных веков», стерших с лица земли микенскую цивилизацию. Невосполнимы утраты последующих разорений, в которых погибла Александрийская библиотека. Это был самый страшный удар по бесценной сокровищнице исторических и культурных достижений.
История показывает, что даже в эпохи самого бурного расцвета Эрос и Танатос шагают рука об руку. И разовать эту связь никому не по силам. Лишь воля человека может обратить его не к разрушению, а к творчеству и защите духовного, культурного, материального достояния цивилизации. Это не гарантия от «темных веков», в кои лета «ничего не было». Но это хотя бы душеспасительная позиция, сберегающая крупицы вечности, которые мировая цивилизация бережно хранит до тех пор, пока сохраняет волю к жизни.
Для нас смысл изучения и обдумывания древнегреческой истории состоит в том, чтобы осветить закат собственной цивилизации светом древнейших идей, образов и сюжетов, прояснив причины этого заката и последние шансы на спасение.
***
Отказываясь от утяжеления текста библиограффией, ссылками и обсуждениями разного рода противоречивых идей, касающихся истории Древней Греции, автор считает необходимым упомянуть имена тех ученых, чьи труды легли в основу его собственных размышлений: А.Ф.Лосев, Ю.В. Андреев, И.Е.Суриков, а также Пьер Видаль-Накэ и Грегори Надь, чьи работы относительно недавно были опубликованы на русском языке и дают нам важные сведения в области древнегреческой лингвистики.
От Гомера до Павсания
Древнегреческая культура представляет собой уникальное смешение двух цивилизаций – крито-микенской и классической. Устная традиция первой выразившая ее историю, верования, образы, была подхвачена второй как нечто священное и совершенное. Другой народ – пришедшие с севера дорийцы – приняли предшествующую цивилизацию и ее предков как своих. И прославили себя в веках, прославляя их.
Созданные до диалектного деления, образовавшегося в «темные века», «Илиада» и «Одиссея» не были составлены из разрозненных кусков, как считают многие. Они – целостное наследие, сохраненное в веках так, что последуюая эпоха и предшествующие предания отразились в нем. При этом гомеровский эпос стал основой образования – всеобщего для полисов Эллады. Поэмы Гомера учили и декламировали дети, их постоянно исполняли на местных и панэллинских праздниках, их цитировал и использовал в повседневной речи каждый культурный грек. Герои микенской цивилизации стали героями мифов и воплотились в громадную изобразительную культуру, которая дошла до нас лишь в скульптурной форме и росписях ваз, но и в этой форме она составила великолепное начало европейской культуры. Боги микенских ахейцев стали богами всей Эллады, освободившись от элементов хтонизма и представ перед последующими эпохами блистательными антропоморфными существами – сверхлюдьми. Все их странности и проступки были превращены в занимательные и сказочные сюжеты, лишь подчеркивающие роль демиургов, не стесняющих себя никакими условностями, установленными людими в культах и религиозных догматах.
Цивилизация железа прославляла цивилизацию меди как «золотой век». Цивилизация с развитой письменности возносила цивилизацию, которая была воспринята как бесписьменная – через устное предание, цивилизация изнеженная – цивилизацию скудную и жестокую. Цивилизация тираний и демократий – цивилизацию царей. Цивилизация, возвысившая красоту человеческого тела до божественного почитания, – цивилизацию, которая в изображении людей была значительно скромнее. Цивилизация трагиков и философов – цивилизацию жрецов и героев.
Разлом между цивилизациями, обозначенный «темными веками», эллинами не был замечен. Ужасы и страдания оставленной столетия позади эпохи переплавились в высокую поэзию, звучавшую не только у расподов, но и в музыке, скульптуре, архитектуре. Давно угасшая цивилизация сформировала сознание эллинов, ее боги и герои заполонили их святилища, отзвуки ее истории стали ее божественной предысторией. И все это перекочевало как высшие образцы культуры в Рим, сохранивший бесценное наследие и положивший его в основу европейской цивилизации.
Античные образы точно так же незаметно используются нами, как и христианская этика, воспринятая Россией от Византии. Без того и другого невозможно мыслить продолжение нашей собственной цивилизации. И насколько мы будем владеть этими открытыми для нас сокровищницами, настолько и высоки будут наши перспективы как исторического и культурного народа.
Индоиранские корни греческой мифологии
Греческий язык и мифологические аналоги роднят древних обитателей Эллады с индоевропейской общностью. Что позволяет переносить результаты исследований латинских, древнеиндийских, древнеисландских обществ на древнегреческие, где обнаружение аналогов дает возможность заполнить некоторые лакуны мифологических сюжетов. Мы имеем дело с культурно-родовым архетипом, охватывающим все индоевропейское пространство. По мысли мифолога Жоржа Дюмезиля, греческая эпическая традиция является индоевропейской, в полной мере отраженной в «Махабхарате».
Трудно обнаружить в текстах гомеровских поэм базовые модели индоевропейского сообщества в том виде, в каком они реконструируются на основе текстов, написанных на родственных греческому языках. Наблюдается серьезное расхождение гомеровских сюжетов и мифологических сюжетов, связанных с мифами о греческих богах. Разрешение проблемы видится в соединении исследований архаических мифов с современными данными археологии. В гомеровской поэзии множество реалий, которые археолог отнес бы к концу второго тысячелетия до н.э. Но в ней отражено также мировоззрения VIII в. до н.э. В частности, местами достаточно скептическое отношение к богам, которое лишь в классический период заместилось строгим государственным культом, в котором уже не было живой веры, но все же осталось вдохновение для философов, поэтов, художников и скульпторов.
Отчего священный обычай не был принят как органичный, непререкаемый? Почему в дополнение к мифам столь большое влияние сохранилось за эпосом? Следует предположить, что боги и герои греков – это по большей части наследие предшествующей крито-микенской эпохи или привнесено миграционными потоками из Малой Азии и Северного Причерноморья?
Иштар
Смысл неясных для нас условий греческой жизни проясняется только через параллели с ближневосточными культами. Мифы и ритуалы, связанные с Деметрой, схожи по моделям хеттского Телепинуса или месопотамской Инанны/Иштар. В поэзии Сапфо индоевропейские мифы об Утренней и Вечерней Звезде смешиваются с мифами о планете Иштар, знакомой грекам как планета Афродиты, а нам – как Венера. Предположение о том, что мы имеем дело с общечеловеческим архетипом, «первичным переживанием», не подходит, поскольку в иных культурах не обнаруживаются сколь-нибудь близкие аналоги.
Откуда в «Трудах и днях» Гесиода появляется его брат Перс (Perses), да еще в роли захватчика части братского имущества? Происхождение имени идет от распространенной формы Perseus, которая также с присутствущией в сложных словах формой persi-, происходящий от pertho «разрушать». Перс наследует разрушительную ипостась Зевса. Гесиод называет его Dios genos – «отпрыском Зевса». Соответственно Гесиод берет на себя другие качества общего божественного предка – справедливость и законоучительство. Гесиод и Перс примиряются на основе божественной справедливости и отеческого имени Dios, близкого к Зевсу.
В то же время имя Perses – это также имя титана, отца богини Гекаты (Гесиод), которая частично сочетает функции многих богов, а обращение к ней означает обращение ко всем богам одновременно. Геката предположительно заимствована из малоазийских культов, поскольку связана с луной и неолимпийским кругом богов (представляет собой ночной аналог Артемиды), а также олицетворяет собой мрак. Замещение функций мужских богов имеется и в древнеиндийских текстах, где присутствует десятирукая богиня Дурга, рожденная из тучи (мрака), которой боги отдают атрибуты своего могущества для победы над буйвологоловым демоном Махиши. Геката изображалась трехликой (что означало власть над небом, землей и Аидом) и имела шесть пар рук с различным оружием и атрибутами власти (включая два факела). С сюжетом о Медузе ее сближает змееволосость (ее ужасный облик формируется в классический период Эллады).
Архаическое изображение Артемиды
Можно предположить, что конфликт Гесиода и Перса – это иносказательная передача древнего конфликта, в результате которого малоазийское или индоиранское население раскололось, и часть его вынуждена была мигрировать на Балканы. Как и отец Гесиода и Перса перебирается из малоазийских Ким в Беотию – «деревню нерадостную Аскеру» у горы Геликон. Из этих мест отрпавлась, согласно преданию, троянская экспедиции ахейского флота. И эта экспедиция вполне может быть ответным действием укрепившихся общин, решившим отомстить своим братьям «персам». Общность «греческой» и малоазийской традиции можно усмотреть в похоронных обрядах. В «Илиаде» Патрокла хоронили так же, как и хеттских царей. Считается, что кремация для греков – позднее нововведение, а микенскую эпоху общепринятой была ингумация. Но оказывается, что это не так: ахейское войско вовсе не чуждо малоазийской традиции. Да и ингумация в ускловиях кровопролитой войны была делом хлопотным, и ею предпочитали пренебрегать.
В дневнеиндийских Ведах до смерти человека его сознание именуется manas-, оно отделяется от тела в момент смерти и отождествляется с парным понятием asu-. Оба понятия обозначали бестелесный носитель личности покойника в облике маленького человечка, похожего на усопшего. Достигая «третьего неба», manas– (и asu-) воссоединяется с телом, что возможно только после обряда кремации. Греческие представления аналогичны. До смерти центр сознания именуется thumos. Ему сопутствуют menos («сила», «сила ума», «напоминание» – Menetes, облик Афины-напоминающей) и psukhe («дух», от psukho – «дуть», о ветрах в гомеровской лексике). После смерти psukhe обозначается как носитель бестелесной личности, который представляется в образе маленького человечка (Для сравнениея: на православных иконах, посвященных успению Богоматери, ее душа изображается в виде младенца на руках Спасителя) . Бывает, что рядом с фигурой усопшего мастер вазописи делает пояснительную надпись – psukhe.
Три понятия отождествляются в момент смерти и, отделившись от тела, следуют в Аид. Но в случае Патрокла psukhe не допускается в Аид и отправляется к Ахиллу, заклиная его провести обряд кремации. Это выглядит как напоминание о забытом обряде, который был принят у народа, к которому некогда принадлежал Патрокл и, возможно, Ахилл. У них, соответственно, были свои правила обращения с телами умерших, нежели чем у мирных ахейцев Пелопоннеса, – непременная кремация. Патрокл в этом смысле выглядит как носитель наследия предков: Patro-klees означает «обладающий славой (kleos) предков (pateres)».
Персей и Горгона Медуса
«Персидской» гипотезе противоречит датировка этнонима pārsa– , который относится к VII в. до н.э. В то же время в «Ригведе» упоминается племя Parśu, которое встречается также в ассирийских надписях XI в. до н.э. В «Ригведе» это племя – участник битвы десяти царей, разгромленных царем Судасом при помощи Индры. Сюжет схож с библейским: Судас смог отступить перед превосходящим противником, потому что Индра создал для него брод через реку, а его преследователи утонули во вновь разлившейся реке.
Отодвигает датировку появления «персидского брата» и Персей, сын Зевса, победитель Медузы, основатель Микен, а также соперник Диониса, с которым он примирился и основал в Аргосе храм Диониса Критского. Старший сын Персея считался родоначальником персидского племени и династии Ахменидов. Тем самым, сюжет с Персом перемещается от «времени героев» к «времени богов». Перс, как и сам Гесиод, – личности условные. Они обобщают некие принципы и проблемы социального порядка, пришедшего к эллинам от других племен и сформированные задолго до их появления на Балканах.
В имени богини Гестии угадывается хеттское has– («порождать») и hassa («жертвенный очаг»), а также hassu («царь»). В предположении, что мы имеем дело с индоиранской этимологией, в единой целое сливается комплекс понятий: родство, семья, царство. Идея общества в этом случае является продолжением идеи семьи, идея законности – идеи наследственности.
В «Илиаде» кремация – благочестивое действие в среде героев, залог посмертного благополучия. Этот обычай противостоит зороастрийскому обычаю оставления тела умершего на растерзание собакам и птицам. Кремация, напротив, считается осквернением священной сущности огня. Запрет на кремацию, заимствованный у среднеазиатских народов, предполагает наличие такого рода практики у ряда иранских племен. Действительно, в «Авесте» говорится о большом числе племен, запятнавших себя «варением трупов». Другими нарушениями считаются закапывание трупов и погребальные плачи. Последнее находится в противоречии с героическим культом, связанным с древнегреческим эпосом, где погребение сопровождалось играми, воинскими состязаниями и рыданиями родных и близких. Что сообщает нам «от противного» наличие такого культа как более раннего, чем зороастрийская религия.
«Персидский» мотив раскладывается на три стадии: распространение различных групп в Северную Индию (Битва десяти царей, богиня Дурга) и Иран. Из Ирана – миграция в Малую Азию и на Балканы, основание Микен, борьба с минойскими царями Крита (Перс, Персей, богиня Геката). Затем возвратная волна, возвышение Трои и в финале – экспедиция ахейцев войне (Ахилл, Патрокл, богиня Фетида).
Не случайно выглядит посмертная архаизация образа Ахилла, чей прах был перенесен его матерью богиней Фетидой на о. Левка («Белый») в Понте Эвксинском (Черное море). Здесь был основан культ Ахилла Понтарха («повелителя моря»), о котором подробно писал во II н.э. Флавий Арриан в «Перипле Понта Эвксинского» (черноморской лоции). Здесь же указано и о почитании Патрокла. Этот культ представляет Ахилла как спутника Великой Богини. Его сопровождают Геката и Артемида. Также от местных верований Ахиллу была приписана власть надо конями-людоедами и его собственное людоедство.
Известен и Ахилл Боспорский, упомянутый византийцем Львом Диаконом со ссылкой на перипл Арриана. Утверждается, что Ахилл был скифом из Мирмекия. Мирмидоняне («муравьиные люди») из Фессалии, над которыми властвовал Ахилл, вполне могли быть выходцами из Причерноморья. Или, наоборот, они основали свою колонию на Керченском полуострове и перенесли туда культ Ахилла – со временем трансформированный.
Страбон упоминает поселение Ахиллей на Тамани. С морскими функциями Фетиды, матери Ахилла, а также названием его культового острова, перекликаются особенности культа богини Левкотеи («Белой богини») в доэллинском святилище мосхов на Кавказе, о котором также писал Страбон. Эта связь вполне может означать малоазиатские связи Ахилла и даже ахейцев, чей этноним мог происходить от государства Ахиява, упоминавшегося в хеттских текстах XIV-XIII вв. до н.э.
Портик как утилизация древних богов
Образование античного портика требует объяснений, поскольку портик выглядит избыточным, крайне трудоемким сооружением. При этом, как пишет Освальд Шпенглер, интерьер как бы вывернут наружу. Зачем было его «выворачивать»? Предположение о том, что это просто навес – удобное место, чтобы скрыться от палящего солнца и, в то же время, не сидеть в духоте и тесноте помещения – не проходит. Слишком разорительным было бы такое удобство для бедной древнегреческой цивилизации (в особенности в ранней фазе ее существования).
Неоправданные, с точки зрения современной прагматики, затраты могут иметь только ритуальное значение. Неслучайно и теперь значимые общественные сооружения снабжаются портиками наподобие греческих. Правда, теперь они оформляют фасад – «лицо» архитектурного замысла. Античный портик охватывал весь периметр. Зачем? Дело в том, что портик – это вовсе не подпорки для нависающей крыши. Портик – это боги, стоящие фалангой на страже святыни.
Изначально божество в виде вкопанного в землю столба одновременно означало и права семьи на данный участок земли. Здесь же рядом возникал очаг и жилище. Столбовиное божество обозначало вход в это жилище. Последующие столбовидные изображения божества (Аполлон в Амиклах в виде медного столба, которого описывает Павсаний, или придорожные гермы) были данью традиции.
Психоаналитики видят у древних особую форму сексуальности – и чаще всего указывают на фаллические изваяния. Это глубоко ошибочная мысль, подводящая под синкретические представления древних современное бесстыдство. Обожествление «вала» – вертикально выставленной колонны как знака некоей заготовки воображаемого творения – ошибочно было бы подводить под фрейдистские фантазии. «Вал» – это охранник, страж жилища, а вовсе не напоминание о сексуальной мощи его владельца или строителя.
«Орты» (прямые) или «Орфы» – это стражи. Ужасный двуглавый пес Орф (Орт) ничего общего с исходным символом вала не имеет. «Орфос» – это предрассветный сумрак, в котором стражи должны быть бдительны. Он скрывает нечто, что должно быть ясным, правильным, «ортодоксальны».
Близкое звучание к Орфу имеет название группы мифологических богинь времени – Оры (времена). Оры – привратницы, которые открывают или закрывают облачные врата на Олимп. Вероятно, в более позднее время им даны персональные имена – Эвномия (законность), Дике (справедливость), Эйрена (Мир) и др. Артемида-Орфия – древнейший образ богини-матери.
«Ортос» – прямой, правильный. Статуи Орт-Ор – это колонны, несущие крышу святилища и образующие портик. Исходно «валлические» колонны – это стражи жилища, и лишь позднее они обрели утилитарную функцию и стали подпирать выступающие края крыши. Или же крышу греки решили продлить до своей божественной стражи, чтобы она ассоциировалась с жилищем и покрывала их головы.
Кариатиды – вовсе не развитие идеи колонны. Кариатиды лишь развивают идею облика божества. Упрощенная форма кумира – просто столб, который лишь позднее снабжается антропоморфными элементами, а потом превращается в человеческую фигуру. Каннелюры (вертикальные ложбинки) на колонне – вовсе не абстрактная эстетика с целью создать иллюзию удлинения колонны. Это ровно ниспадающие складки одежды. Такие складки можно видеть на ранних греческих скульптурах столпообразного типа.
Отдельно стоящий античный портик вообще не имеет внутреннего помещения. Это просто ограда для священного места – без здания.
Греческая скульптура отделяется от колонны, которой она была изначально. Многофигурная композиция – от барельефа, который сам происходит из фрески. Точно так же происходит «выход» египетских изваяний из плоскости рисунка – они становятся стражами ворот или образами обожествленных хозяев у входа в храм. Точно так же крыши индийских культовых зданий подпираются балками с фигурными изображениями. В буддизме тысяча будд и десятки крутящихся барабанов с текстами молитв также говорят о нивелировании и формализации религиозного чувства.
Вся тенденция тиражирования изваяний божеств (в Индии, в Египте, в Греции) говорит об упадке прежней религиозности. Одного изваяния уже недостаточно. И оно перестает быть сокровищем храма. Напротив, оно должно быть вынесено за его пределы и охранять священное место, где обитают уже другие боги, и утверждается другая эпоха. Множество фигур возникает от стремления усилить эффект. И это «заклятие» направляется больше всего на людей, которые должны испытывать благоговение перед целой армией колоссов, смотрящих на него с высоты своего роста.
Там, где религия поддерживается громадными сооружениями, невиданной роскошью храмов и целыми армиями изваяний божеств, культ уже уступает место властителям, которые утверждают себя на месте богов. Крах власти означает и крах культа, который давно уже утратил прежнее значение в душе народа.
Становление панэллинской мифологии
При всей ограниченности наших знаний о древнегреческой мифологии, имеются два источника, которые отобрали из нее все наиболее существенное и общезначимое – Гомер и Гесиод. Более того, именно им греки обязаны сложившейся системой взглядов на мир богов (а значит, и на мир людей) в классический период. Причем Гомер оказывается «морским» писателем (хотя опыта управления кораблем он явно не имел и с морской географией был знаком слабо), а Гесиод, лишь однажды пересекший узкий пролив на корабле, – «сухопутным». Первый собирал сюжеты для своих поэм на анатолийском побережье, второй – в центральной Греции, в Беотии. Это предопределило стилистические особенности и различия между двумя ключевыми авторами, от которых мы – по преимуществу – получили знания о древнейшем периоде греческой цивилизации.
Гомер
Гесиод (?)
Поскольку популярность Гомера и Гесиода относится, скорее всего, к VIII в. до н.э., то мы можем сказать, что с этого периода начинается отсчет становления общегреческого пантеона богов, который формировался из разнородных преданий отдельных местностей и заимствований у других народов. Наиболее «живучие» сюжеты постепенно закрепились за определенными богами, а предметный ряд в этих сюжетах превратился в атрибуты, характеризующие божественные изваяния. При этом присутствие героев среди богов и даже выдвижение героев на первый план повествования говорит, что ценностная система у греков претерпела изменение в связи с наступлением «эпохи героев» – периода большой войны, которая могла не прекращаться много десятилетий (Троянская война), а в классическую эпоху повторилась в противостоянии Спарты и Афин. Герой становится центральной фигурой, боги – вспомогательными персонажами героических сюжетов. Лишь «Теогония» Гесиода распределила богов в священной истории и увязала их деяния между собой. Но это не означало образования общепринятой нормы религиозности, в которой оставалось очень много местного.
Архаическое изображение рапсода
Общеэллинский миф при всей противоречивости местных преданий послужил сплочению разнородных и взаимно враждебных греческих общин-городов. Помимо мифа трудно найти причины единства. Все было непрочно в греческом мире. Тенденция к панэллинизму могла быть связана только с интенсивным культурным обменом, который у греков принял характер состязаний – спортивных (Олимпийские игры) и поэтических (состязания распсодов, rhapsoidoi – «сшиватели песен»). Кроме того, в VIII в. обозначились общеэллинские религиозные святыни – святилище Аполлона в Дельфах, политические и военные цели – колонизация, и культурные ценности – общий алфавит. Все это не могло возникнуть неожиданно, складываясь десятилетиями и веками и перерабатывая заимствованные у распавшихся культур ценности, символы и законы.
Произведения Гомера и Гесиода – первый опыт общегреческой памяти. В VIII веке они были записаны новым алфавитом. Возможно, именно эта запись и обусловила распространение грамотности. Сохранение «канонической» версии было особенно важно для поэтических состязаний, где точность воспроизведения диктовалась отношением к тогда еще устному тексту как к святыне. Как народные сказания, песни рапсодов были рассчитаны именно на узнавание, а не на сообщение каких-то новых сюжетов. Это общая практика народного сказительства и устного предания – напоминание уже известного.
Огромный объем поэтического наследия Гомера и Гесиода заставляет предположить, что для запоминания сказители могли использовать записанные тексты. Иного варианта закрепления столь обширных произведений в устном предании представить невозможно, поскольку в архаический период Греции не было жреческого сословия, которое могло бы профессионально передавать эти тексты следующим поколениям в порядке ритуального заучивания (как это имело место при передаче в устном предании индийских Вед).
Знание письма и способность к чтению первоначально коснулись лишь очень узкого профессионального слоя – не жреческого, а поэтического. Вероятно, чтение текста поэм было вспомогательной процедурой для подготовки к их устному воспроизведению. Успешность распода и его доходы во многом зависели именно от того, насколько хорошо он помнил обширные тексты любимых греками поэм. Это была его профессиональная тайна – способность заучивать огромный текст и помнить его во всех деталях, даже если первоначально исполнение поэм предполагало свободную импровизацию и подстраивание под местный патриотизм.
Полевые исследования Пэрри и Лорда, изучавших южнославянскую устную поэзию, показывают, что создание и исполнение эпоса – две стороны единого процесса. Миф воссоздается в прежней или обновленной интерпретации при каждом исполнении. Традиция живет в вариациях исполнителей, которые все больше нейтрализуются общим каноном. Импровизация сказителя требует закрепить в памяти определенные формы-связки, которые подсказывают ему переход от одного стиха к следующему. Возникают «параллелизмы» устного стиля – последовательности из нескольких стихов. Импровизатор ищет в памяти готовые формулы: имя + вариации эпитета, пригодные к данному случаю. Постепенно к каждому случаю прикрепляется единственная формула. Например, каждому герою соответствует свой собственный отличительный эпитет: многострадальный Одиссей, быстроногий Ахилл, шлемоблещущий Гектор. Прочие эпитеты могут быть применены к любому герою без различия – в порядке отражения героического статуса и контекста ситуации.
Если текст был основой для сказительства, то это противоречит открытию Перри и Лорда, утверждавших, что устное исполнение народных преданий и грамотность у южных славян взаимно исключаются. Скорее всего, современные полевые исследования просто констатировали разделение сельской и городской культур. Сельская традиция начала свое обособленное существование как бы «с нуля» – с возвращения в глубокую архаику, когда исполнение поэтических произведений не было профессией. Городской культуре уже ничего не надо заучивать наизусть – грамотность устраняет необходимость заучивания на слух и избавляет от необходимости замещения забытых фрагментов импровизациями. Как и в древности, унификация записанных текстов побеждает в конкуренции с устными импровизациями.
В пользу устного складывания канонической формы собранных воедино поэтических фрагментов говорит тот факт, что Гомер не упоминает о письменности (за исключением одного неясного фрагмента в «Илиаде», когда Главк рассказывает об неких «знаках», которые должны были погубить Беллерофонта). Греческие цари и герои, надо полагать, неграмотны. Именно поэтому они никак не могут вмешаться в тексты, которые озвучиваются аэдами и рапсодами. В то же время, распространение письменные формы вполне могут быть элементами тайного знания. Ибо бесписьменный период мог касаться только населения греческих общин, но не мобильной части инородного (внеобщинного) слоя странствующих профессионалов, порожденных иными, увядающими или ушедшими в прошлое государствами, чей культурный уровень был значительно выше греческого.
Проблема различий в расстановке акцентов при записи и устном исполнении поэм, замеченная в постклассический период александрийскими учеными, говорит лишь об архаичности поэтической традиции, но вовсе не означает отсутствия писаных текстов, где общие правила произношения еще не утвердились или вовсе отсутствовали в силу того, что переводили на греческие диалекты древний эпос, в котором диалектного деления еще не было. Ко времени Платона импровизации в исполнении поэм сошли на нет. Как и в современной декламации, творчество переместилось в интонацию, темп, ритм – музыкальность речи исполнителя. Сегодня никому не придет в голову «поправлять» лучших поэтов. Как и заучивать их произведения на слух. Подобный подход сохраняется только у дилетантов. Отсюда мы можем предположить, что и в древности «канонизация» текстов была связана с их записью – все более точной и нивелирующей импровизации и местные пристрастия.
Имеется аналог греческой поэзии – индийские Веды, представляющие огромное собрание священных стихов, хранимых именно в устном предании в течение двух тысячелетий. Считается, что Веды, несмотря на доступность записей, передавались все это время из поколения в поколение в устной традиции, использующей мнемотехнические приемы. Разумно предполагать аналогичную традицию и у греков. С одной лишь разницей: поэмы не были достоянием жречества. Поэтому запись текста поэм вполне могла быть техническим подспорьем для рапсодов. Чем больше проводилось поэтических состязаний на бесчисленных греческих праздниках, тем более подготовленная публика внимала исполнителям. Именно эта публика и принимала решение о том, кто победил в соревновании и достоин вознаграждения. Тем самым, рапсоды имели прямой интерес использовать уже хорошо знакомый публике текст и закреплять имевшие успех импровизации. Этим они отличались от аэдов (aoidos), представлявших публике свои собственные сочинения. Как и сегодня, популярность лучших поэтов прошлого намного превышает популярность авторов-исполнителей, «бардов». Или, по крайней мере, мы имеем дело с двумя разными видами искусства: исполнитель и поэт – две принципиально разные творческие профессии.
Различна и социальная функция: рапсоды – носители общегреческих ценностей, они выступают на общегреческих мероприятиях; аэды представляют местную традицию, могут быть только местными знаменитостями. Собственно, импровизация должна была становиться уделом аэдов, которым проще было реагировать на камерную аудиторию, подстраиваясь к ней, прославляя именно то, что желает данная аудитория (конкретная община, социальная группа, конкретный правитель, конкретное событие).
Сказитель-аэд, перемещаясь из города в город, неизбежно бывал изобличен в распространении неверной информации, ославлен как лжец и терял слушателей. Унификация текста поэм неизбежно трансформировала местные предания, отказывая любому из них в подлинности и утверждая некую приемлемую для всех греков истину. Одиссей, выступая в роли сказителя, «нагромождал множество лжи (pseudea)». В целом искусство сказителя – это искусство лжи, выдумки бродяг, кормящихся этим. Ставшая нарицательной ложь критян – скорее всего, связана именно с ранними профессиональными качествами странствующих исполнителей, который первоначально несли грекам чужую традицию и чужие мифы, но постепенно подстроились под аудиторию, превращая чужих для греков героев и богов в своих. Способность к чтению и письму могла быть залогом их успешности в отражении местной традиции, а затем – и в создании общегреческой.
О том, что узкопрофессиональная письменная традиция существовала и могла иметь хождение в ареале расселения греков, говорят критские таблички, написанные линейным письмом Б, воспроизводящим греческий язык. Орфография оставалась прежней – возникшей до завоевания Крита ахейцами, а потому плохо подходила к воспроизведению греческого языка (например, слоги pa; pha; ba передавались знаком ‡). Тем не менее, иной письменности в ту пору не существовало, и ею пользовалась каста писцов. Считается, что линейное письмо Б было забыто сразу после завоевания Крита дорийцами, а греческий алфавит возник в VIII в. до н. э. на базе финикийского письма. Тем не менее, в отсутствие дворцовых записей и обслуживания письмом делового оборота, линейное письмо Б вполне могло сохраниться именно для записи греческих мифологических сюжетов. И это соответствовало «социальному заказу», который выражался в страсти греков к запоминанию. Отсутствие записанных образцов с ранними вариантами поэм объясняется тем, что они просто утратили значение и не сохранялись. Их место заняли «канонические», устоявшиеся и согласованные с рассказами очевидцев варианты, которые и дошли до нашего времени.
Греческая культура рождена страстью к истине, которая открывается вовсе не в индивидуальном творчестве, а именно в запоминании. Не случайно матерью Муз является Мнемосина (Mnemosune, Память), а истина, a-leth-а – это незабываемое, (let– забывать, mne– помнить). Способность к запоминанию в архаической традиции связывается именно с поэтическим запоминанием, заучиванием текстов поэм, отражающих истинную мифологию, героический эпос, длинные перечни героев, кораблей, побед в поединках, генеалогий.
Сложившийся «канонический» текст уже невозможно было изменить. Попытка вставить в «Каталог кораблей» две строки про 12 саламинских кораблей Аякса, примкнувших к афинской эскадре, была воспринята греками чуть ли ни как святотатство. Но в рамках местной традиции подобные расхождения вполне могли существовать в виде отдельных сказаний.
Миф становится вымыслом только там, где он перестает восприниматься как живая традиция. Пока миф животрепещет, он не является вымыслом, а предполагает психические состояния, позволяющие переживать историю как реальность, происходящую в данный момент. Миф – это коллективное самовыражение общества, который складывает это общество в признании мифического сюжета как истинного. Причем, у этого сюжета может быть множество интерпретаций, включая возникновение новых персонажей, заимствованных из параллельной мифологии других народов, а также воображаемые философские смыслы, но не может быть отрицания реальности мифа, которое разрушило бы общество. Посягательство на эту реальность в устойчивом обществе предполагает жестокие преследования.
Эпос отражает миф, скрывая исторический контекст. Ошибаются, те, кто полагают, что миф имеет обособленное значение: история происходит отдельно, а мифические истории к ней не имеют никакого отношения. Реальность мифа не приоритетна по отношению к реальности, а лишь представляет ее в форме, способной пережить века. Преображение реальных событий в мифе – только «техническая» операция, которая может быть обращена вспять, и тем самым может вскрыть пласт реальности, послужившей основой для мифического сюжета.
Вытеснение (точнее, оттеснение) местных мифологических традиций панэллинской становится возможным в результате столкновения разноречивых трактовок и кристаллизации общего смысла. Преимущество получают нейтральные трактовки, переносящие сюжеты мифов за пределы известного грекам мира и переоценивающие топонимы Эллады как получившие производные от удаленных мифологических объектов. Стикс, вытекающий из Аида – мифический аналог конкретного Стикса, о котором греки других местностей могли ничего не знать, но внимать местному мифу как некоему новому откровению, принесенному поэтами. Стикс мифический занимал свое место в общеэллинской культуре, а Стикс реальный получал статус эпифеномена – земного аналога мифического образа, в чем-то сходного с ним.
Вытеснение на периферию демонстрируется в гомеровском гимне Дионису. Последовательно отвергаются ложные версии его рождения в Дракане, Икарии, Наксосе, на берегах Алфея, в Фивах. Приверженцы этих версий – pseudomenoi, фальсификаторы истины, лжецы. Дионис рожден на горе Нисе (Дио-Нисус), удаленной в мифические пространства – где-то «у потоков Египта». Точно так же приключения Одиссея со всеми сказочными явлениями невозможно отнести ни к каким конкретным географическим пунктам. Путешествие аргонавтов трактует географию в рамках представлений греков о мире и имеет мало общего с реальной географией.
Опорой местных традиций уже после становления панэллинской мифологии и эпоса оставались община – demos (административная область, население). В архаической Греции «демос» – вовсе не сумма граждан, а именно община вместе со всеми ее обычаями, традициями и законами. И особенностями толкования мифологии.
В местной традиции греческих городов-государств под именем одного и того же бога или героя могли существовать совершенно разные образы и сюжеты. Образование общегреческой традиции связано с «выживанием» только тех характерных черт богов (и, вероятно, только тех богов), которые не вызывали возражений всюду, где расподы демонстрировали свое искусство. Множество местных традиций постепенно отступило перед общей для всех греков мифической системой. Так, Кифера и Кипр оказались для греков приемлемым местом рождения Афродиты, но какие-либо местные сюжеты этих удаленных территорий для общегреческого мифа не значили ровным счетом ничего и не сохранились. «Теогония» Гесиода оказалась истинной, а противоречащие ей местные традиции – ложными. И, тем не менее, множество местных традиций выжило. Например, греки почитали одновременно четыре могилы Эдипа, а могила троянца Гектора каким-то образом оказалась в Беотии – в Фивах. И так далее. Не говоря уже о том, что на Крите показывали могилу Зевса. Верховный бог в местной традиции оказался смертным!
Гекатей из Милета (конец VI – начало V века до н. э.) в «Генеалогии» пишет: «рассказы эллинов многочисленны и смешны». В одном из немногих сохранившихся отрывков его сочинения Гекатей утверждает, что Геракл никогда не спускался в Аид и не побеждал Кербера, да и самого Кербера не существовало. Это имя вовсе не трехглавого пса, а ядовитой змеи из пещеры на мысе Тенар (южная оконечность Пелопоннеса, где греки размещали один из входов в Аид), которую Геракл убил. Акусилай Аргосский также пытался рационализировать миф, безуспешно разоблачая предание: говорил, что похищение Зевсом финикийской царевны Европы в образе быка было недостойно бога. На самом деле поручение Зевса выполнял ученый бык.
Если в подобных случаях дискредитация мифологического сюжета не состоялась, то во множестве других случаев вполне могли разрушаться местные предания. Геродот, передавая периферийную мифологическую традицию, писал, что Гераклов, оказывается, было двое – один божественный, из дюжины главных египетских богов (неизвестно, какой именно), другой – сын смертных Амфитриона и Алкмены. Попытки опровергнуть сохранившимися периферийными традициями стержневую, общегреческую прямо свидетельствуют о кризисе мифологического сознания в классическую эпоху.
«Расшифровкой» мифов как посланий древних занимались уже пифагорейцы и орфики. Это стадия переосмысления мифа в аллегорическо-символическом духе. Дальнейшее низложение мифа отражено в попытке Евгемера из Мессены (IV—III веков до н. э.) представить богов великими героями прошлого. Эвгемеризм имеет под собой серьезную основу – историческая персона претендует на культ не только в виде посмертной славы, но и прижизненных ритуалов (как, например, спартанский флотоводец Лисандр). Позднее, в Риме император уже по должности становится Divus, божественным, и этот статус отражен в официальном титуловании.
«Илиада» содержит эпизод XX песни, способствующий перетолкованию мифа в таком духе. Сцена выглядит не вполне по-божественному: обитатели Олимпа, спустившись на землю, обмениваются грубой бранью и даже дерутся. Перетолкование позволяет представить эту схватку иносказательно: как столкновений стихий, закрепленных за богами: Аполлон, Гелиос и Гефест символизируют огонь, Посейдон и речной бог Ксанф – воду. Истинность мифа могла сохраниться только в народном предании, где его правдоподобие не ставилось под сомнение. Народное перетолкование наделяло богов вполне бытовыми чертами, старые боги отходили на второй план и уступали первенство другим богам – зачастую восточного происхождения. С течением времени старые сюжеты и их персонажи угасали вместе с античной культурой в целом.
Символическое и эстетическое перетолкование мифа, нараставшее в классическую эпоху Древней Греции и продолжившееся вплоть до XIX века, было стремительно разрушено открытиями Шлимана – Трои и Микен, а также дворца в Тиринфе. Все свои открытия он сделал, опираясь на мифы, рассматривая их как основу реальных событий. Считается, что традиционная датировка Троянской войны и Микенского царства не совпадает с результатами, рассчитанными археологами. Раскопанные древности, будто бы, оказались существенно старше Троянской войны, и могут относиться к какой-то другой войне, слава которой была перенесена на Троянскую землю вместе с именами героев. Этот вывод можно оспорить весьма основательно. Во-первых, длительным хранением ценностей в родовых сокровищницах, во-вторых, шахтным характером их размещения в случае опасности – в более ранних культурных слоях.
Аналогичное перенесение имеет место в Элевсинских могилах семи аргосских героев, известных своим походом на Фивы и участвовавших во вражде братьев Этеокла и Полиника. Археология дала датировку этих захоронений, относящуюся к III тысячелетию до н. э. или раннеэлладской эпохе, когда в Греции еще не было ни Аргоса, ни Фив. Длительное почитание греками этих могил выглядит как ошибка. Или же названия более поздних городов перенесены из других мест, где, действительно, происходили легендарные события. А греки, начавшие почитать древние захоронения только после «темных веков» (с VIII века, к которому относятся самые ранние сведения, дошедшие до нас), присвоили себе чью-то историю, обратив ее в мифологию. Вполне возможно, они имели представление о микенских богах и героях, но крах микенской цивилизации разорвал традицию преданий, и множество исторических событий было просто забыто. Греки зачастую приносили жертвы безымянным героям. И это значит, что героический культ оказался в прошлом – отделенным от известной нам истории Эллады, по крайней мере, несколькими поколениями.
Иной вариант объяснения хронологических нестыковок – приписывание древним могилам имен известных героев недавнего прошлого, которые могли быть похоронены в других местах. Как отмечал Шпенглер, особенностью греков было отсутствие исторического мышления, отчего даже недавняя история становилась мифологией со всеми особенностями мифологического изложения (одновременное присутствие в разных местах, отсутствие логичного биографического сюжета, сочетание противоречивых функций и т.д.). Гомер знает в основном лишь отцов своих героев. Фукидид не обнаружил до своего времени ничего впечатляющего, никакой крито-микенской эпохи – только варварство и мифы, которые он в своем изложении греческой истории стремился игнорировать. Остается предположить, что «лживые» аэды как раз и принесли грекам повествования о предшествующей цивилизации, которые те приняли как собственную предысторию, выраженную в мифологических и героических сюжетах.
Неполнота и неясность географических и хронологических аспектов мифологического и поэтического наследия Эллады подтверждается также археологией, представившей значительные находки, не имеющие никаких следов в античных текстах: три дворцовых ансамблея Крита (дворцы Маллии, Като Закро и царская вилла в Агиа Триаде), цитадель Гла в Беотии (по площади – наибольшая из всех микенских цитаделей), поселения в Филакопи на острове Мелос, Акротири на Фере, Айя Ирини на Кеосе и многие другие. Как минимум, из этого можно заключить, что Троянская экспедиция была вовсе не общегреческой. И расшифровка истории по мифам далеко не полна. Можно предположить, что местные мифологические традиции погибли вместе с памятью о породивших их общинах.
Все это не отменяет реальной основы мифов, которая продолжала находить свое подтверждение и после Шлимана, – например, открытием в 1900 году Кносского дворца на Крите (с ним связаны мифы о Дедале и Икаре, Тесее и Минотавре), в 1939 году – дворца в Пилосе («Илиада» размещает в этом дворце «божественного Нестора» – участника похода на Трою). Так, археология подкрепляет общеэллинский миф – надежнее, чем его опровергают местные перетолкования.
Гесиод предлагает набор аргументов против силового захвата имущества, сравнивая его с решениями жадных царей-«дароядцев» (dorophagoi). Народные сказания о наказании за лживые решения переносятся на частное дело. Поэт пересказывает своему брату Персу, присвоившему часть имущества Гесиода, миф о пяти поколениях, последовательно деградирующих до современности – железного века, когда «справедливость» (dike) и «заносчивость» (hubris) столкнулись в непримиримой борьбе. Поражение первого и победа второго – печальный прогноз будущего.
В басне, передаваемой Гесиодом, ястреб хватает соловья – певца (aoidos). Иносказательно сила выступает против истины, земные страсти побеждают божественные установления. Демонстрируя, как возникает несправедливость, Гесиод стремится отвратить от нее тех, кто рассчитывает властвовать несправедливо – ведь на них также обрушится эта напасть, если dike падет. Тогда богиня Дикэ накажет отступников при помощи своего отца Зевса. Лишенные dike будут пожирать друг друга. Это вневременное правило, действие которого мы можем видеть и в наши дни, подается в мифологической обертке, способствующей образному восприятию рациональной идеи.
«Труды и дни» Гесиода отражают общеэллинское представление о том, что города Греции управляются либо по справедливости, либо несправедливо. Отражены общие представления о законности, основанные на божественных установлениях themis. Таким образом, увещевание Перса проходит три стадии: моральные аргументы, мифологические образцы и, наконец, общие принципы законности.
В «Теогонии» Гесиод упоминает богиню Эвномию – дочь Зевса и Фемиды. В стихах Солона Эвномия укрощает лишенных dike, чернит hubris, смиряет нарастание беспорядков, выправляет неправые решения. Так божественное предопределяет земное.
Солон выступает пророком богов, утверждая одинаковую dike для бедных и богатых. Одновременно в фигуре Солона выступает поэт-законодатель, который во многом аналогичен Гесиоду. Как и Гесиод, он встает во взаимоотношения с Музами, которых он молит дать ему богатство и славу, чтобы помогать друзьям и вредить врагам, но не за счет hubris. Он сам является воплощением dike, то есть – представляет мифологизированный образ законодателя, который получает божественную санкцию на свои действия, и тем самым не может не быть поэтом.
Еще один пример поэтического устремления к справедливости – Феогнид из Мегары, который, как и Гесиод, теряет часть имущества, и также выступает с поучениями общезначимого характера. Он ждет момента, чтобы «испить крови своих врагов» и уповает на поддержку духа diamon, который покровительствует его мести. Возможно, это один из стражей Dike, с помощью которых она карает преступников. Феогнид также молит Зевса дать ему силы на помощь друзьям и на вред врагам.
Солон и Ликург считались подобными богам и почитались в именных культах. Также и Гесиод и Феогнид мечтали о богоподобии, которое им будет положено, если они взыщут с обидчиков по справедливости. И они делают шаг, который должен привести к этому – описывают правильное ритуальное поведение, в котором только и может существовать нравственность. Гесиод конкретизирует множество советов ритуального поведения: не мочиться лицом к солнцу, на дороге, в реки и источники. И здесь – полная аналогия с индийскими «Законами Ману»: не мочиться на дорогу, на ходу или с берега реки, лицом к ветру и огню, глядя на брахмана, на солнце, воду, коров. Индийское имя Ману означает «помнящий». Он держит в уме все правила жертвоприношения. Через слово memnemenos «держащий в памяти, уме» прослеживается лингвистическая связь между индийцами и греками, а также критянами (корень men-/mneh-, созвучие menos/minos – Минос).
Считается, что форма древнегреческого брака была связана с мобильной ролью женщины, которая предполагает перемещение от очага к очагу и заключение экзогамных браков. Но в мифе – иное правило. Богиня Гестия, покровительница семейного очага, олицетворяет неподвижность и законность наследственных прав. Очаг в этом случае – символ отцовства и родовой солидарности. Огонь и очаг олицетворяют также принцип законности и законной царской власти.
Греческий полис получает Народный Очаг, который помещался в prutaneion («пританий, председательское здание»). В Афинах считалось, что власть архонтам дается Общим Очагом и их заседания проходят в притание. Сама сущность человека – порождение очага. Этимология греческого anthropos, άνθρωπος происходит от угля – (др.-греч. ἄνθραξ «уголь; карбункул»). Первый человек – он же и первый царь, порождение очага, от которого идет первородство по мужской линии – первородство в пылающем огне, зажигающем очаги.
Поэт – сшиватель эпох
Споры о том, является ли Гомер исторической личностью или собирательным образом не имеют существенной ценности. Выдающийся антиковед Алексей Лосев предметно доказал, что автор «Илиады» и «Одиссеи» является личностью – независимо от того, единичная ли она или собирательная (имманентный автор). Поэтому мы можем говорить об авторе, который отразил в своих бессмертных сочинениях сразу несколько эпох – героическую, связанную с Троянской войной, предшествующую ей микенскую – во множестве простейших деталей быта, и последующую – с ее раскрепощением после «темных веков». Именно Гомер связывает две соседствующие эпохи в единую ткань истории и культуры. Его редакторы заострили внимание не том, что Гомер предчувствовал в переходную эпоху, что было веянием времени.
Исторический Гомер наверняка существовал, и наверняка принадлежал к общине, которая позднее переселилась на ионийское побережье. Которое и считают родиной Гомера, привязывая те черты, которые имела община переселенцев, к месту, куда она переселилась. Общине гомеридов не надо было заискивать перед местными владыками, чтобы возвести их генеалогию к поколению героев. Ионийская свобода была под покровительством восточных царей, которых греческая культура мало интересовала – лишь бы их покровительство приносило доходы, а полисы не досаждали своей непокорностью. Умно управляемая империя не истязает удаленную периферию.
Обычно считается, что Гомер пишет об ионийском побережье, волны на берег у Гомера гонит Нот – южный ветер, зефир (западный ветер) у него гонит тучи с моря на берег. И эти ветры у него губительны, что характерно именно для ионийского побережья, а не для Греции, где Зефир, напротив, считается ветром легким и нежным. Но тот же характер морской погоды вполне мог быть связан с западным побережьем Пелопоннеса и Средней Греции, откуда родам любимый герой Гомера – Одиссей. В «Одиссее» рыбная ловля непопулярна – как у ионийцев Смирны, где рыбой питались только бедняки. В отличие от материковой Греции. Но это может быть связано с местом описываемых событий, а не с местом жительства Гомера.
Считается, что Гомер родился близ Смирны, где имелся целый культ Гомера, и значительную часть своей жизни прожил на о. Хиос, где секта гомеридов распространяла его произведения. С течением времени Гомеру приписывали все больше произведений других, менее известных авторов. Хотя само авторство не было для архаических греков чем-то особо ценным. До нашего времени сохранилось только то, что было наиболее популярным. Причем, обе гомеровские поэмы – это скорее фрагменты масштабных циклов, в создании которых участвовали многие авторы, которые продолжали в такой форме летописание. Первое известное нам упоминание о Гомере связано вовсе не с «Илиадой» и «Одиссеей», а с «Фиваидой», описывающей события до Троянской войны. До нас относительно целыми дошли только самые популярные произведения, которые поправлены множество раз – не с целью подмены, а с целью литературного совершенства текста. Из остальной древнегреческой поэзии до нас дошли и более или менее целостные фрагменты, и сущие обрывки, а порой только имена широко известных в свое время авторов.
Самая большая проблема – невозможность установления времени, когда жил Гомер. Размах гипотез в древности – от Троянской войны до VIII века до н.э. Мы можем наверняка сказать, после VIII века Гомера чтили и заучивали его поэмы по всей Греции. Вполне возможно, до «темных веков» они существовали и в писаном виде – в микенских или финикийских записях, а в период утраты общедоступной письменности существовали в виде отрывков, которые носили с собой расподы, освежая в памяти строки Гомера перед устными выступлениями. Что поэмы явно носят черты устного предания, ни о чем не говорит. Поэмы слушали, поэтому их запись – следствие способа представления произведений, а не формы их сохранения.
К сожалению, расшифровка микенского линейного письма Б дала нам только имена, сходные с именами гомеровских героев. И больше почти ничего. Поскольку сохранились только те записи, которые велись на глиняных табличках. Да и то на тех, которые случайным образом оказались обожжены в пожарах микенских дворцов.
Хозяйственные записи – все, что нам оставило линейное письмо Б. Считается, что это письмо не было приспособлено к гомеровскому гекзаметру – слоговая запись сложнее для передачи поэтической ритмики, чем пришедший взамен греческий алфавит, передающий звуки. Но ведь и позднейшая запись Гомера потребовала множества искажений слов и вставок целых фраз для поддержания ритмического рисунка. По «поэтическим вольностям» мы прекрасно видим, что русское стихосложение предназначалось для декламации, но также и для чтения.
Запись устной речи, как предполагается, накладывает на текст неизгладимый отпечаток, который и находят у Гомера, сравнивая его поэмы с текстами, которые наверняка создавались греками при восстановленной письменности. Но заметим, что исправления Гомера происходили вплоть до III в. до н.э., и это неизбежно наложило отпечаток в новой письменной традиции. В таком случае, если мы не замечаем, где в поэмах Гомера явно устная традиция, а где письменная вставка, значит, различия не столь существенны. Кроме того, целостность поэм и их объемность говорят о том, что их замысел рожден также целостно, а не составлен из отдельных фрагментов существующих устных преданий. Мы не можем увидеть различие в методе сохранения текста, но достаточно ясно различаем элементы микенских реалий, отделенных веками даже от греческой архаики. Сомнительно, чтобы огромные тексты в течение такого длительного времени были только лишь достоянием устной традиции.
Целесообразно заключить, что поэмы Гомера содержат как устный, так и письменный элементы, и сохранены первоначально микенской письменностью и последующей устной традицией, записанной уже греческим алфавитом. Аэды (певцы, о которых упоминает и Гомер) помнили поэмы и, возможно, пользовались отрывочными записями, которые только они и могли читать, а позднее профессия рапсода – «сшивателя песен» – позволила не утратить их основной сюжет и сохранить сочинения Гомера до момента, когда они могли быть зафиксированы новым письмом. Важнейшим средством для сохранения устного предания были состязания расподов – на точность и максимальную длительность воспроизведения поэм Гомера. Эта традиция поэтических агонов известна по всей Греции уже к VIII-VII вв. до н.э.
Удивительным фактом древнегреческой истории является государственный статус поэм Гомера, который возник в Афинах, сначала благодаря Солону, который ввел на Панафинеях исполнение только этих поэм, а потом – благодаря тирану Писистрату, составившему комиссию по сверке существующих версий. Появлению «канонического» текста поэм Гомера мы обязаны некоей религиозной реформе: скорее всего, она была связана с унификацией пантеона греческих богов, основные знания о которых должны были иметь общегреческое значение и иметь древнейшее происхождение. Поэмы Гомера и Гесиода были единственным таким источником общегреческого масштаба. К тому же они вводили в греческую современность «поколение героев», излюбленное в изобразительном искусстве. Тем самым происходила не только унификация культа, но и укрепление предания, владельцем «истинной» версии которого становились Афины. «Илиада» и «Одиссея» оказывались не только народным преданием, но и государственной эпической традицией. Странствующие поэты становились своего рода трансляторами официального культурного стандарта, зафиксированного Писистратом. Скорее всего, «канонические версии» были созданы и для других поэтических произведений, а за их произвольное изменение полагалось жестокое наказание – штраф или изгнание (как это произошло с Ономакритом и Ликоном).
Вполне возможно, что в поэмы в тот период были сделаны «политические вставки». К таковым относят слова, которые служат обоснованием прав афинян на о. Саламин: «Мощный Аякс Теламоний двенадцать судов саламинских вывел с собою и стал, где стояли фаланги афинян». Мнения о существовании подобных вставок бытуют с древности, но мы не видим ни существенного присутствия у Гомера афинской темы, ни афинских героев (за исключением третьестепенных вождей Стихия и Менесфея и еще двух героев – без слов, без сюжетных линий, без подвигов). Обвинение Писистрата в политической редактуре поэм как раз, скорее всего, были политически обусловлены, поскольку исходили в основном от мегарских авторов, вспоминающих о захвате Саламина афинянами во времена Солона. Таким образом, работа комиссии Писистрата ставила себе целью восстановление изначального целостного текста, искажаемого рапсодами, а не внедрение в текст каких-то политических вставок. Афинам достаточно было обладания «самым правильным» текстом Гомера – в этом был главный политический результат. Афины стали хранителями общегреческой реликвии. Хотя «Илиада» была сложена из отдельных гомеровских песен в «Ахиллеиду», а покровителем Ахилла была богиня Афина. Получалось, что в политических целях Афин было сохранение в такой форме древнейшего предания.
При многовековом редактировании поэм Гомера в них чудесным образом остались противоречия, связанные воздействием некоей «священной силы» – государственной цензуры, которая в более поздние времена была замещена традицией – привычкой не повреждать сюжетных событий изначального текста, а работать только над стилем. Среди самых явных противоречий: в «Илиаде» стена вокруг ахейского стана то появляется, то замещается рвом, то пропадает вовсе. Хронология распределена по песням поэмы крайне неравномерно: третий день боев оказывается на порядок насыщеннее событиями, чем два предыдущие. Менелай убивает пафлегонского вождя Пилемена, но позднее тот же Пилемен оплакивает своего убитого сына. Гектор убивает фокейского вождя Схедия дважды в разные моменты повествования. Все эти проблемы рассеиваются, если допустить перестановку песен при сохранении их содержания.
На бережное отношение к тексту гомеровского эпоса указывает сохранение разночтений с мифологической традицией. В «Илиаде» упоминается, что Эдип умер в Фивах, а по традиции считается, что это произошло в Колоне близ Афин. Гомеровский Тидей похоронен в Фивах, хотя считается, что его могила в Элевсине. У Гомера в «Одиссее» Филомела считается дочерью Панадрея, а по традиции считается, что она дочь афинского царя Пандиона. В «Илиаде» Гекуба – дочь Диаманта, по традиции – Киссея. У Гомера Минос – мудрый судья, друг Зевса, в афинской традиции – враг.
Перед лингвистами стоит вопрос о том, изменялся ли язык гомеровских поэм за столетия их редактирования. Что прямого перевода с одного диалекта на другой не было и быть не могло, считается общепризнанной истиной. Также считается, что основным для поэм Гомера является ионийский диалект – ответвление аттического диалекта, очень сходного с ним. Вместе с тем, присутствуют также элементы эолийские и специфически аттические. Ряд терминов, безусловно, относятся к микенской архаике.
Микенские термины: aor (меч), bios (лук), dais (факел, или война), egchos (копье), entea (вооружение), ios (стрела), pelex (шлем), sacos (щит), tryphaleia (шлем), phasganon (меч). Микено-эолийские термины: damemi (укрощаю), phobos (страх или бегство), charme (битва, страсть к битве) и др. Эолийские термины: aichmetes (копейщик), eychos (слава), cydos (слава, термин более позднего происхождения), aspistes (щитоносец), thorectes (латник) и др. Эолийско-ионийские термины: aichme (копье), aspis (щит), dory (копье), eris (ссора), thorex (панцирь), cnemis (поножи), xiphos (меч), oistos (стрела), toxon (лук) и др. Ионийские термины: acontistes (копьеметатель), eirene (мир), neicos (вражда), hoplon (оружие), ponos (сражение), toxeyo (стреляю из лука), typto (поражаю), philotes (мир), phyxis (бегство) и др. Микенско-эолийско-ионийские термины: ballo (метать, поражать, ранить), mache (сражение), nice (победа), polemos (война), machomai (сражаюсь), nicao (побеждаю), pheygo (обращать в бегство) и др.
Некоторые исследователи считают, что в первоначальную схему поэм включались дополнения в виде ранее обособленных кратких сказаний, ставших в поэмах эпизодами. А органичность общего рисунка поэм связана с постепенностью диалектных включений, содержащихся в соответствующих эпизодах. Тем же объясняется присутствие различных концепций божественного – переход от невидимых богов к антропоморфным явлениям (в образе человека), а затем – к собственно божественным явлениям. Хотя подобные представления могли сосуществовать – противоречивость религиозных представлений древних греков общеизвестна. Не говоря уще о сосуществовании исходных форм языка до разделения на диалекты.
После Писистрата изменение текстов Гомера продолжилось. О чем свидетельствует множество цитат и ссылок древних на тексты Гомера, которые до нас не дошли или отсутствовали в известном нам тексте поэм (в том числе – многочисленные и разнородные «неправильные» цитаты у Ксенофонта, Платона и Аристотеля). Удивительно, но трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида не имеют отсылок к Гомеру. Лишь две дошедшие до нас поэмы Еврипида (из сотен сохранившихся поэм разных авторов) продолжают сюжеты Гомера. Притом авторство Еврипида является сомнительным, а сами эти произведения малопопулярны. Кроме того, интересна закономерность: Гомер как будто нарочно исключен из трагедий, которые предпочитали развивать сюжеты других киклических поэм (около 60 случаев), но только не гомеровских.
Из этого неразумно делать вывод о непопулярности или малоизвестности Гомера при создании трагедий. Скорее, существовал некий политический запрет: неслучайно текст Гомера стремились зафиксировать так, чтобы он исполнялся единообразно. Поэтому любое посягательство на альтернативную интерпретацию Троянской войны или других элементов гомеровских поэм или же произвольное продолжение сюжета могло восприниматься как нечто сходное со святотатством. Позднейший же текст поэм, оформленный в Александрии, был поправлен в связи с падением политической власти, олицетворявшей собой незыблемость гомеровских текстов. Именно тогда исправления были сделаны, исходя из всего массива имеющихся в Александрийской библиотеке текстов. На это же указывает комедийное воспроизведение цитат и некоторых сюжетов из Гомера у Аристофана: более позднее пришествие сатирической драмы в сравнении с трагедией само по себе показывало, что цензурная мощь власти серьезным образом ослабла.
Часть искажений цитат Гомера можно объяснить распадом афинской государственности и повторным появлением «апокрифических» текстов поэм – в порядке демонстрации независимости от традиции, идущей от Писистрата. Вместе с тем, Гомер для всей греческой культуры – культовая фигура. Несмотря на критику, которой он был удостоен через несколько столетий беспрерывного триумфа.
Платон писал, что Гомер изображал жизнь, но не знал ее. Но для поэта «знать» – это изображать так, чтобы сообщать другим некое знание даже помимо их желания что-то узнавать. Культ Гомера – это исполнение его поэм на Панафинеях, отражавших общегреческое знание и понимание ценности его произведений. Причем, понимание жизни Гомера – самое светлое, яркое и близкое людям. Мир Гомера – это герои и обычные люди, мир Платона – это мудрецы. Есть и другое понимание жизни – от правителей, прославленных греческой историей. Одно – у Писистрата и Кимона, другое – у Перикла и Фемистокла.
Классические греки знают резкую критику Гомера – за его, якобы, несерьезное отношение к богам и героям. Платон мифологию Гомера и Гесиода считал глупой. Еще больше скепсиса было в отношении Гомера у пифагорейцев и орфиков, противостоящих аллегорическим толкованием эпоса. А Гераклит и вовсе объявил, что Гомер «заслуживает изгнания из общественных собраний и наказания розгами». Вслед за ним ритор Зоил написал целый трактат в 9 книгах «Бич против Гомера». Все это связано с формированием философских систем, чья картина мира неизменно находила у Гомера противоречия.
Понимание жизни поэтом может показаться в каких-то элементах совсем примитивным или бессистемным. И это хорошо видно по складыванию сект почитателей, которые искали, конечно же, простоты и красоты – в отличие от философов.
Архилох
Учреждением культа поэта Архилоха по поручению Аполлона занимается некто Мнесиеп (Mnesiepes – запоминающий «слово», epos). Культ связан с запоминанием слов поэта, а также с публичным исполнением его произведений расподами (о чем упоминают Афиней, Клеарх, Платон). Вероятно, аналогичным образом культ поддерживал и распространение поэм Гесиода и Гомера. Культовые центры могли даже конкурировать между собой за право считаться носителями неискаженной памяти (то есть, «истины»).
Начало культа может быть положено самым прозаичным сюжетом. Будущий поэт Архилох гнал в город корову на продажу и встретился лунной ночью с группой женщин, которые начали игриво торговаться с ним. Архилох готов продать корову, но отвечает женщинам колкостями и просит дать хорошую цену. Потом вдруг впадает с глубокий сон, а пробудившись, не обнаруживает ни женщин, ни коровы. Зато рядом с ним лежит лира. Тем самым он из пастуха превращается в поэта. Было ли впадение в глубокий сон обусловлено хмельным напитком, о котором в сюжете умалчивается, или увесистым ударом по затылку, не так важно. Важно, что в сюжете женщинам придается образ Муз, а украденная корова становится весомым вкладом в смену профессии. Прозаический сюжет переплавляется в мифологический и мотивирует Архилоха на творческие подвиги, высоко оцененные его современниками.
Более романтичное изложение подобного сюжета содержится в автобиографическом фрагменте Гесиода. Гесиод прямо пишет о встрече с Музами, которые наделяют его способностью к поэтическому запоминанию, то есть, знанию истины (alethea). Пастухов (аэдов по совместительству) они называют «простые желудки», а Гесиоду предлагают миссию носителя истины и служителя Муз (therapon) и посох (skeptron) как знак этой миссии. То есть, фактически выразителем их сущности, заместителем. (По аналогии эпитет воина – «служитель Ареса». Вероятно, поэтический оборот «служитель» заимствовано из хеттского tarapon-alli – «ритуальный заместитель, субститут».) Такое же достоинство имеет и Архилох в его культе.
В «Одиссее» фигурируют «странствующие ремесленники», среди которых перечисляются певец, пророк, врач, плотник. В других случаях ремесленником именуется глашатай. Сам Одиссей в роли поэта-попрошайки имеет характеристику «желудок» (gaster): своими россказнями он пытается добыть пропитание. Одиссей, прикинувшись странствующим поэтом, выпрашивает пищу на пиру женихов. И в то же время он становится носителем справедливости (dike).
У Гесиода певец попадает в один ряд с плотником и гончаром. Что подчеркивает, что demiourgoi (ремесленники из дема) – особый слой с высокой мобильностью, выходящей за границы греческого ареала. Роль «демиургов» – обустройство общества, которому пророк и певец дают обычай и закон, а плотник и гончар – искусство ремесла. Все эти «ремесленники» привносят в древнегреческую общину на порядок более высокую культуру и методы хозяйствования. И это также вклад в образование общегреческой мифологии.
Поэт, пророк и глашатай – функции, признаваемые по достоинству таланта. Не случайно Гесиод получает от Муз не только скипетр как знак своего служения, но и особый голос – aude, которым он может рассказать о прошлом и будущем. Аналогом земного поэта является Гермес, который находится под покровительством Мнемосины и, исполняя теогонию, тем самым «утверждает» богов. Боги, как и герои и цари, утверждаются в поэтическом слове.
В «Теогонии» (theon genos – рождение богов) Гесиода сама способность к справедливой власти царя (basileus) связывается с вдохновленностью музами. Царь в собрании (agora) должен высказывать справедливые суждения (dike), которые являются даром Муз, диктующих божественный закон (themis). Посох, полученный Гесиодом от Муз, в некоторой степени уравнивает его с царями и геронтами. Сочинительству придается божественная миссия. Гомер в гимне Аполлону называет его сочинителем. Более того, поэт оказывается выше царя и даже богов, потому что только через него в стихах фиксируется и распространяется их слава (kleos). Музы, местные божества горы Геликон усилиями Гесиода включаются в олимпийский пантеон. Тем самым культ поэта утверждает даже культы богов!
Посох властителя и лира поэта – взаимодополнительные символы. Гермес с Аполлоном вступают в соглашение путем обмена: лира переходит к Аполлону, посох – к Гермесу. Аполлон приобретает функцию дельфийского прорицателя, Гермес получает право «утверждать» волю самого Зевса. Позднее у Гермеса остается лишь пастушья дудка, которая олицетворяет простонародный статус его творчества, а также роль посланника богов. Также за Гермесом остаются местные пророчества, относящиеся к «пчелиным девам» Фриям, которые глаголют истину только под влиянием перебродившего медового напитка, а в обычном состоянии лгут. Тем самым Аполлон и олимпийские Музы – новое явление теогонии с новыми функциями. Они перераспределяют обязанности и полномочия между богами и выделяют поэзию в обособленный вид деятельности, отличный от пророчеств. И эта трансформация происходит при посредничестве Гесиода, который фактически выполняет божественную функцию.
После победы над мессенцами спартанцы учредили обычай в честь поэта Тиртея. В совместных трапезах они по очереди исполняли стихи Тиртея, а победитель получал награду в виде куска мяса. В данном случае социальное равенство сочеталось с поощрением лучшего, выделением его из всех. Это касается и лучшего исполнителя стихов, и самого Тиртея, которому отдавались почести. Таким образом, культ Тиртея в Спарте имел общегосударственный статус.
Афинское происхождение поэта Тиртея, отмеченное еще античными историками. Мы имеем совокупное действие двух традиций. С одной стороны, афиняне были склонны приписывать своему городу происхождение всего позитивного в Элладе, с другой – спартанцы исключали возможность занятия чем-либо, кроме военной службы, а это значит, что все их поэты должны были быть чужестранного происхождения. При этом Спарта становилась прибежищем достойных изгнанников, не признанных на собственной родине, и подобный подход использовал афинскую гордыню на пользу Спарте.
Такая ситуация способствовала складыванию общеэллинского культурного пространства: изгнанникам было где найти приют – их принимали соплеменники других полисов, обрадованные возможностью утереть нос конкурентам и восславить собственный полис вместе с талантом изгнанника.
Эллины Гомера
Быт греков Гомера рассматривается как наслоение картин из разных эпох. Но в действительности такое наслоение могло сохраняться и в жизни – в течение многих веков. Перемещение греков-переселенцев смешивало различные стили жизни – не только в литературном произведении. Поэтому гомеровские поэмы лучше считать портретом пространной эпохи, а не компиляцией картин, выхваченных из различных времен. Иначе рассыпается целостность произведения и нивелируется его значимость, которой уже не будет никакого объяснении.
Алексей Лосев очень точно определяет причины совмещения исторических пластов у Гомера: признаки грядущих эпох возникают у пророков, опережающих свое время. Поэтому следы классической эпохи были не только предчувствием, но и предрешением гомеровских поэм. Микенская эпоха ко времени Гомера уже сложила эпический стиль, который Гомер не мог придумать, а заимствовал, расцветив его свободным творчеством, в котором было предчувствие грядущих «темных веков». Древнейшая искрометная народность сочеталась с торжественной величавостью в духе микенских царств, а также с трагедийными сценами, которые распространились в драматическом искусстве несколько веков спустя.
Поэмы Гомера демонстрируют множество бытовых примет жизни эллинов. Но это эллины гомеровских времен, которые очень сильно отличаются от тех греков, о которых нам рассказывают более поздние авторы, а главное – современные музеи. Классические греки – это развитая письменность, великолепная скульптура, завораживающая идеалом обнаженного человеческого тела. Гомеровские греки не знают письменности, вообще каких-либо знаков и символов, не имеют ни скульптуры, ни вазописи, их тела всегда покрыты одеждой (раздетым оказывается только Одиссей в комической сцене встречи с Навсикаей). И они беспрерывно говорят длинные речи. Гомер значительную часть своих произведений составляет из речей главных героев. Которые даже в ситуациях, когда требуется не столько слово, сколько дело, затевают длинные монологи. Что должно было вызвать отвращение, скажем, у классических спартанцев.
Еще одно кардинальное отличие гомеровских греков от классических – полное отсутствие совпадения имен. Имена гомеровских героев и царей в постгомеровское время не повторяются. Хотя их популярность огромна. Их святилищами покрыта вся Эллада, но никто не решается присвоить их имена своему потомству. Это время других царей и других героев. А к гомеровским в лучшем случае возводят свои генеалогии. При этом в генеалогиях архаического и классического периодов повторение имен встречается достаточно часто. Повторение имен – дело естественное для эллинов, но исторические периоды разделены так, что давать столь архаические имена никто из классических греков даже не думает. Причиной тому – отношение к микенскому эпосу как к священным текстам, а не как к литературе.
Заметим, что все народы, с которыми общается Одиссей и его спутники говорят на одном языке или, по крайней мере, эллины их легко понимают. И «дикий» Полифем, и «дикие» лотофаги и лестригоны, и благородные феаки. Ни разу Одиссей не сталкивается в «варварами» – с людьми, чья речь была бы ему непонятна. Получается, что он, несмотря на сказочность ряда сюжетов, им самим рассказанных, остается в рамках хорошо известного эллинам пространства.
В «Одиссее», несмотря на описание дворцов, нет упоминаний о каких-либо статуях, картинах, вообще о каких-либо украшениях. Красивое изделие – это только сосуды из серебра и золота или одежда. Изукрашенный вещей Одиссей не встречает. В «Илиаде» украшения оружия минимальны. Подробно описывается лишь щит Ахилла. В остальном никаких украшений, изображений Гомер не замечает. Он может рассмотреть мелкие царапины на медном доспехе, оставленные оружием врага в битвах, но не видит там никаких рисунков.
Напротив, эллинская цивилизация классического периода – это сплошные изделия изобразительного искусства. О чем подробно говорит Павсаний, описывая Элладу как музей под открытым небом. Отсюда напрашивается вывод, что мир Гомера весьма удален от классического периода Древней Греции. Да и архаического тоже. Даже если считать, что в «Одиссее» есть множество признаков геометрического стиля, известного по керамике, то никаких признаков этого стиля в быте эллинов, который представляет Гомер, не обнаруживается. Гомера очень интересуют вещи, и он описывает их подробно. Но на этих вещах нет изображений. Они за малым и уникальным исключением прекрасны своей формой и блеском, но не деталями, которые что-то изображают.
Геометрический стиль появляется в керамике явно позднее «геометрических» стихов Гомера с сюжетными «триптихами» и строгой последовательностью перечня героев и народов в Каталоге кораблей. Никак не наоборот. Иначе у Гомера мы бы увидели хотя бы один сосуд с геометрическим рисунком, какой-то предмет, изготовленный по геометрическим законам. Но ничего этого нет. Все это приходит после Гомера. И поэтому датировка его творчества – доархаическая, микенская.
Природа в «Одиссее» практически бесцветна. В ней нет ни голубого неба, ни зеленой травы, ни цветов разных оттенков. Одежда может быть старой, новой, теплой, «прекрасной», у женщин – изредка «блестящей». Но у нее нет цвета. При этом цвета эллины различают неплохо: они не путают цвет золота, серебра и меди. Упоминается также некое «седое железо», которое надо было прострелить из лука. И еще «блестящее железо» которое тафосцы используют как средство обмена. Возможно, то и другое – либо олово, либо свинец. В «Илиаде» говорится о «синем железе» – из него сделаны топоры, а также упоминается о «хитрых изделиях железа», что свидетельствует: автор этих строк не знал, для чего железо используется и каковы изделия из него. Есть еще упоминание о закалке железа, когда дается весьма натуралистическое сравнение: выколотый глаз Полифема зашипел как железо, которое опустили в воду. Железо на две огромные поэмы упоминается не более полутора десятков раз, а об изделиях можно судить чаще всего косвенно, и это упомянутые уже топоры, наконечник стрелы и кинжал. Может быть, это поздние вставки в текст. Потому что на вооружении в гомеровских греков сплошная медь (поножи, мечи, наконечники копья, шлемы, доспехи), а железо появляется в виде диковинок – как призовые топоры в погребальных играх по Патроклу. Павсаний упоминает, что в качестве артефактов в святилищах Эллады хранятся только медные изделия.
Приходится встречаться с суждениями о том, что греки вообще плохо различали цвета. И Гомер дает основание для этого: у него мир вокруг не отличается цветом. Он может сиять или темнеть, но расцветки предметов и природы Гомер как правило не указывает. Доставшиеся нам в качестве музейного наследства древнегреческие статуи тоже бесцветны. Павсаний при описании Эллады также скуп на указание каких-либо цветов. Тем не менее, отдельные оговорки свидетельствуют, что цвета греки различали неплохо.
Павсаний называет материалы, из которых изготовлены статуи: мрамор, медь, дерево. А также элементы отделки: золото и позолота, слоновая кость. Цвет же он указывает в редчайших случаях – в одном случае он говорит о выкрашенном красным лице двух деревянных статуй Диониса (остальное – позолота по дереву), в другом – о статуе Афродиты с голубыми глазами, якобы унаследованными от ее отца Посейдона. Он указывает на красноватый цветок, который появился после смерти Аякса Локрийского, а также называет цвета общественных зданий: «Зеленый как лягушка» и «Пурпурный» – в переводе с греческого.
У Гомера примерно тот же скупой цветовой ряд, в основном связанный с блеском металлов: У Афродиты золотое одеяние, у Аполлона золотисто-светлые волосы, у Латоны – золотые кудри, Ирида «златокрылая», Фетида «среброногая». При этом розовоперстая Эос имеет шафрановый (желто-оранжевый) пеплос. У Деметры темно-синее покрывало, у Зевса темно-стальные брови, у Посейдона темно-стальные волосы, у Диониса темно-стальные или темно-синие глаза и волосы, Божественный нектар красного цвета, Дионис носит пурпурный плащ, море «виноцветное», корабли черные с темно-синими носами и «багрянощекие» и «карминнощекие», а паруса у них – «белые».
Нельзя сказать, что древние знают большое разнообразие цветов, а тем более – оттенков. От Гомера до Павсания мы не видим обычного для нас внимания к цвету. И все же мир древних греков от микенской до классической эпохи – цветной, а не серый.
Тесей и Антиопа
Радикальная точка зрения на греческое искусство говорит о том, что греческие статуи были окрашены. И в берлинском Пергамон-музее выставлены макеты греческих статуй, выкрашенные в кричащие цвета. Они выглядят отвратительно. Но кому-то очень хочется низвергнуть эстетику древнегреческой скульптуры, бесцветность которой подчеркивает ее пластику. Эти желания несостоятельны: Павсаний, подробно описывая сотни скульптур Эллады, нигде не говорит об их расцветке. Статуи, конечно, могли окрашиваться, но это не было каноном греческой скульптуры, и раскрашенные боги – это выдумка наших современников. Эстетические чувства европейцев не приемлют карнавальных расцветок, и в этом мы продолжаем эстетику Древней Греции. Найденные следы краски, скорее всего, римского происхождения, а причиной раскраски было как старение мрамора, так и упадок вкуса в римском обществе.
Дворцы и вообще жилища не имеют в «Одиссее» никакой архитектуры. Сам дом Одиссея – просто строение «под высокой крышей». Помещений в доме Одиссея много, но все они «прочные» и «высокие», и других характеристик не имеют. Столь же невыразительно описание «дворцов» Нестора и Менелая, а также божественной Кирки или добронравного царя феаков.
Люди «Одиссеи» не имеют характеристик внешности. Они все как на одно лицо, можно сказать, что все – «богоравные». Лишь изредка отмечается цвет волос. Да и то черноволосым определен только бог – Посейдон. Может быть, потому что остальные черноволосыми не были. Очень редко отмечается телосложение, рост, цвет глаз, повадки, какие-то характерные признаки поведения или речи.
Образцы аристотелевой физиогномики
Человек с жесткими волосами, высокий, с большим животом, крепкой спиной, широкими плечами, с худой шеей, широкой грудью, узкими бедрами, красными, сухими глазами, длинным и заостренным лбом – могучий человек и охотник. А тот, у которого нет этих свойств,– человек слабый и робкий.
***
Тот, кто мягкотел и кто не очень толст, чьи руки подвижны, чьи волосы мягкие и не очень черные, цвет кожи – нечто среднее между красным и белым – по натуре добрый человек, и в нем нет зла.
***
У кого толстая шея, большие ноги, плечи, приподнятые вверх, круглый живот и лоб и зеленые глаза – тот лишен половой страсти.
***
У кого глаза всегда широко открыты, брови густые тело худое, движения быстрые, цвет лица румяный само лицо круглое и на щеке родинка – тот опрометчив и дерзок.
***
Человек, у которого изнуренное лицо, широко расставленные брови, медлительные движения,– всегда в печали и отчаянии.
***
Тот, у кого голова наклонена вправо, чьи колени расходятся в стороны во время ходьбы, кто при ходьбе размахивает руками, кто опирается рукой в бок, когда садится, кто не обращает внимания на беспорядок,– благословенный человек во всех своих делах и действиях и по натуре своей благородный.
Приписываемые Аристотелю физиогномические опыты могут вызывать сегодня разве что улыбку. Не случайно у Гомера различают героев не столько характеры, сколько атрибуты: Агамемнон носит на руке пурпурый плащ, Аякс сражается с «семикожным» щитом, похожим на башню, у Гектора тоже огромный щит от затылка до пят, Парис носит шкуру пантеры, у Писандра боевой топор, у Гелена – длинный фракийский меч, у Дефиоба белый щит, у Амфия – льняной панцирь, Астеропей сражается двумя пиками. Но герои в основном лишены физиогномических особенностей.
Более разумны и поучительны классификации человеческих типов в сочинении Теофраста «Характеры», который, возможно, продолжал трактат своего учителя Аристотеля. Что касается Гомера, то его нравоучения крайне скупы и само нравственное измерение более или менее ощутимым становится только в «Одиссее».
Очень незначительное внимание в характеристиках своих персонажей Гомер уделяет морально-этическим оценкам: в противовес aisimos (определенный судьбою, разумный), eyergos (хорошо поступающий, честный) имеются hybris (дерзость, надменность), hyperphialos (высокомерный, наглый), athemistos (беззаконный, нечестивый), atasthalos (нечестивый, дерзкий), alitros (нечестивый). Такие термины, как enees (кроткий, ласковый), aganos (кроткий) относятся к чертам характера, а не к оценкам поступков. Термины arterothymos, craterophron (сильный духом), megathymos, megaletor (мужественный), hyperthymos (весьма мужественный), hypermenes (весьма могучий) также определяют скорее свойство личности, а не ее поступки, предполагающие этическую оценку.
Для всех гомеровских героев есть одно обязательное свойство – выдающаяся сила, необходимая для подвигов и последующей славы. Для оценки героев Гомер использует термины cleos (слава), cydos (слава), amymon (безупречный), eys (хороший), dios (божественный, светлый), theios (божественный), agathos (хороший), esthlos (благородный), саcos (дурной), ameinon (лучший), cheiron (худший), arete (добродетель, доблесть). Но даже храбрость (alcimos – сильный, храбрый) – это нечто тождественное физической мощи (iphthimos – физически сильный). Герои Гомера, выступающие в других эпизодах бесстрашными, порой отступают и даже бегут с поля боя.
У Гомера практически нет нравственных устоев: даже коварное убийство спящих воинов Диомедом не осуждается и выглядит как элементарная военная хитрость. Убийство Ахиллом просящих пощады – это просто эпизод сражения.
Хотя Одиссей оказывается хитроумным рассказчиком, все прочие герои гомеровского эпоса – мастера излагать свои мысли в замечательно длинных речах. Гомеровские герои – это люди длинных речей и войны. Ум и мудрость – ключевые добродетели гомеровских греков.
Если сам Одиссей мог быть искусным моряком, его спутники такими способностями явно не обладали. Эллинам, прибывшим штурмовать Трою, досталось от мисийцев во главе с Телефом – выходцев из Аркадии. Просто потому что эллины заплутали и приняли земли в Мисийской долине за троянские. На обратном пути из Трои только Нестор добрался до родных берегов без проблем. Одиссей и Менелай много блуждали по морю, Аякс Малый и несколько других героев погибли во время бури. Выходит, что эллины плохо ориентировались в морских маршрутах и неважно справлялись со своими «чернобокими» судами.
Гомер явно не мореход: он вкладывает в речи Менелая утверждение, что от острова Форос до Египта день морского пути. В то время как небольшой остров Фарос находится в устье Нила и позднее был знаменит своим соседством с Александрией и Александрийским маяком (Александр Великий соединил остров с материком дамбой). Правда, он мог иметь в виду другой Фарос – мыс на острове Санторин, который также мог иметь в древности название, которое затем осталось только у мыса. В другом месте Нестор говорит о том, что Средиземное море птица будет перелетать целый год. Это явное преувеличение мало похоже на художественный прием. Скорее, оно свидетельствует об отсутствии знания о пределах морских путей.
Если «Илиада» представляет беспрерывно возбужденных войной героев, то «Одиссея» – это сочинение вечно голодных людей (аэдов – бродячих поэтов). Герои «Одиссеи» вечно завтракают, обедают и ужинают. Ни один прием пищи не пропускается. Но что это за пища? Это всего лишь хлеб, вино и мясо. И ничего другого. Даже когда упоминаются какие-то яства, то о них никогда и ничего конкретного не говорится. В сортах вина или хлеба герои «Одиссеи» также совершенно не разбираются. У них вся пища либо хорошая, либо очень хорошая. Главное, что ее много. И каждый прием пищи – это пир, а не торопливое вкушение скудных запасов. В «Одиссее» мечта о «жирном царстве» – чтобы есть, пить, отдыхать и возлежать на ложе богини. У Церцеи (Кирки) торопящиеся домой сподвижники Одиссея провели целый год! Можно подумать, что они вовсе не желали встретить близких. Потом Одиссей сидел на острове у Калипсо семь лет – сидел и плакал. Пока ему богиня не сказала, что надо сколотить плот. А он, чудак, сам не додумался!
Вообще гомеровские греки – очень чувствительные люди. Герои то и дело принимаются плакать, рвать на себе одежды и посыпать голову прахом. Они иначе не могут выразить своих переживаний. Для этого у них не хватает слов. Слова же они произносят в длиннейших дипломатических приветствиях, восхвалениях и обличениях, а также для изложения различных рассказов. Они долго и увлеченно говорят, но это речи рациональные, где про свои чувства упоминать не принято. Чувство подразумевается разве что в описании действий.
Риторика и война – вот главное для гомеровских греков. Причем и в речи, и в описании сражений присутствует натурализм, который в более утонченные эпохи мог казаться разве что грубостями отдаленных времен, когда смертельные ранения на поле битвы можно было смаковать, и при этом никто не видел в этом дурного тона. Как и в мифе, в древнем эпосе на передний план выступает отчетливо ощущаемое «я хочу». Поздние слушатели гомеровских поэм не могли выразить свое желание (богатства, достатка, смерти врага и так далее) столь откровенно, и поэтому восторгались героями Гомера.
Можно сказать, что гомеровская Эллада отличается от классической очень существенно. Проведем аналогию: другой язык и другая культура, но общий культ связывает Византию и Россию. То же можно сказать о древних греках Троянского периода и посттроянских времен.
Боги ахейцев
Древнегреческая религиозность, выраженная в трепетании перед хтоническими существами, отражена в древнегреческих мифах. Но уже у Гомера они выглядят анахронизмом – скорее чудесной сказкой. И лишь изредка эпическая картина истории подхватывает хтонические (земнорожденные) черты божеств из глубокой древности: мощь Афины, под которой скрипит колесница Диомеда, ужасный крик Распри, сзывающей воинов на бой, крик Ареса мощностью в 10 тысяч глоток, совместный крик Ареса и Афины, разгоняющий войско, размеры раненного Ареса, который, упав на землю, занял семь гектар.
В остальном же хтонические существа – вроде Сциллы и Харибды – присутствуют в сказочных сюжетах, которые носят уже не религиозный, а развлекательный характер. Притом что эпос представляет их реально (как и все прочие чудесные события), но никто не обязывает верить всем тем картинам, которые рисует своим изощренным слогом хитроумный Одиссей.
Вопрос о происхождении ужасных образов божеств либо обходится стороной, либо разрешается в примитивно материалистическом духе: люди не понимали явления природы и боялись их, а потому придумали им чудесные объяснения. Якобы, ужасающие образы могут избавить от психоза, заместив ужасающие события! На самом деле, ужасные существа, о которых рассказывают сказки, не объясняют явления природы, а позволяют их пережить. Сказочные образы смягчают ужасы, потому что любое ужасное существо имеет некую слабину, и его можно победить. Отсюда и рождаются героические сюжеты. Образы отпечатываются в сознании как реплики действительности, и это сознание придумывает, как разрешить проблему – принять ужасный образ так, чтобы он не сводил с ума. И оставлял шанс на победу.
Откуда само состояние ужаса у древнего человека? Если он – дитя природы, то его реакции на повторяющиеся события мало чем отличаются от тех, что имеются у зверей. У зверей ужас возникает только от редких катастрофических событий. Вероятно, и человек реагирует сходным образом, но дополняя свою реакцию образным рядом, который передается из поколения в поколение как напоминание о возможной опасности самого крайнего свойства. Но также и на возможность спасения от нее.
Редкие и смертельно пугающие людей события – это особенно мощные природные явления (штормы, бури, землетрясения, извержения вулканов), а также появление особо крупных или необычных представителей фауны. Классические греки относились к бедствиям как к воле богов, но не как к явлению хтонических существ. В их сознании не появляются демоны, пугающие даже самим напоминанием о неких прежних катастрофах. Но все это есть в гомеровской архаике – как довольно смутное и уже нестрашное воспоминание.
Мы можем предположить, что хтонический страх связан с резким изменением климата и условий существования отдаленных предков гомеровских греков. Действительно, сейсмическая активность на Балканах и побережье Эгейского моря достаточно высока, а в некоторые периоды могла быть исключительной. Появление же громадных зверей могло быть связано с природными катаклизмами, гонящими их из чащи леса или из горных пещер.
Калидонская охота и подвиги Геракла показывает, что животные – прообразы хтонических фантазий – становятся из демонов предметом состязания. Охота как вид человеческой деятельности бросает вызов природным ужасам и рождает героев, попадающих в эпос вместе со своими подвигами. Переселенцы из степных зон, где нет землетрясений, и не попадаются громадные животные более южных широт, безусловно, должны были адаптироваться к новым условиям, куда привела их миграция (ее причины мы здесь не обсуждаем). По-человечески переселенцы древности разрешили для себя проблему жизни в благодатном, но очень неспокойном крае, – измыслили напоминающие об опасности образы.
Уже в гомеровском эпосе все эти образы скорее напоминают, чем пугают. И даже развлекают. Истории Одиссея – это именно искусство развлечения. И даже пришедший из глубокой архаики образ сирен развлекателен уже для самого рассказчика: Одиссей наслаждается пением сирен, будучи предварительно привязанным к мачте – чтобы не спрыгнуть от восторга в море (здесь – аналог пьянящего восторга любви, который стал причиной возникновения обычая у древних греков прыгать со скал в море). А остальным своим спутникам он благоразумно предложил залепить уши воском. При таких мерах предосторожности сирены оказываются не такими ужасными.
С хтоническими образами греческой религиозности соседствуют космогонические, в которых хтоническая природа проявляется изредка. Мощи хтонических существ, включая титанов и гигантов, может противостоять только мощь богов, от которых зависит судьба Вселенной. Теогония Гесиода определяет не только предшественников олимпийцев, но и космогонические силы – Хаос, Тартар, Гея (Земля) и Эрос. Хотя Гомер не знает слова «хаос» и почти не употребляет слово «эрос». Тартар у Гомера – скорее глубины Земли, но не часть космогонии. Гомер почти ничего не знает о Гее, Уране и Тифоне. Космогония возникает лишь в клятвах Геры, Клипсо, Агамемнона. И здесь мы имеем обращение к стихиям и элементам мироздания, но не к богам. Практически та же функция у Океана – на щите Ахилла это просто великая река, окружающая землю и питающая море, реки и прочие водные источники. Мельком лишь поминается «матерь богов» Тефия.
Олимпийцы – настоящие боги Гомера. И хотя Зевс часто именуется Кронидом (сыном Кроноса), о происхождении самого Кроноса умалчивается. Даже этот божественный персонаж не является исходным для отсчета теогонии, поскольку низвергнут в Татрар до конца времен. Титаномахия также исключена из поэм Гомера. Упоминается только Атлант, да и то лишь постольку, поскольку является отцом Калипсо. Да еще сторукий и пятидесятиглавый Бриарей, заявившийся из Тартара в помощь Зевсу, чтобы предотвратить заговор против него других олимпийцев. Гомер совершенно не имеет интереса к теогонии и космогонии.
Олимпийские боги Гомера представлены таким образом, что еще у древних возникли обвинения его в том, что он, в сущности, не верит в богов – слишком уж легкомыслены бывают сцены с участием олимпийцев. Но представить эпос Гомера без богов просто невозможно. Потому его религиозность вполне серьезна, но не сумрачна, как хотелось бы более поздним грекам, увлекшимся теогонией и хтонизмом, а потому и видящим олимпийских богов именно с этой стороны.
Религиозность Гомера носит героический характер. Герои – главные действующие лица, а боги лишь сопровождают их. При этом проявляя разного рода слабости: Зевс – нерешителен, непоследователен и невсеведущ, Гера вздорна и лжива, Арес и Аполлон даже людьми обличаются как бессовестные преступники, Афина суетлива. Герои первенствуют уже потому, что богов можно иногда умолить или умилостивить жертвоприношениями. Что, правда, не означает возможность отвратить свою судьбу, которую не способны изменить и боги.
Притом что пантеон богов Эллады огромен, у Гомера их число минимально. Главные боги – Зевс и Посейдон – выступают практически как одна весьма противоречивая личность. Именно они препятствуют по разным причинам возвращению Одиссея на Итаку. Всерьез помогает Одиссею только Афина. Но она имеет влияние в очень узких пределах – фактически вмешивается в дела Одиссея только советом или незначительными (может быть даже незаметными богам) воздействиями – например, отклоняет в сторону брошенные в Одиссея и его сподвижников копья, которые мечут женихи Пенелопы. Кирка и Калипсо также выглядят идентично: эти «длиннокосые» богини удерживают Одиссея у себя на длительные сроки и обеспечивают божественное довольство (праздность, пропитание и ложе богини).
Зевс у Гомера то и дело выглядит беспомощным, и боги по доброй воле не покоряются ему. Он все время исполняет чьи-то просьбы. То Афина просит за Одиссея, то Посейдон, которому претит, что Одиссей все же вернется домой, просит покарать доставивших его на Итаку феаков. И вроде бы, за что карать? За то, что фаеки выполнили волю Зевса – дали скитальцу корабль? Поэтому, так и быть, пусть Посейдон этот корабль обратит в скалу. Не обижать же родного брата!
И все-таки воля Зевса в конечном итоге оказывается определяющей. В «Илиаде» он не сразу раскрывает свой замысле богам, которые начинают без его ведома помогать – кто троянцам, кто ахейцам. Зевс, как оказалось, был озабочен только славой Ахилла, о которой его просила богиня Фетида. Прежней возлюбленной Зевса было предсказано, что ее сын будет сильнее отца. И владыке богов пришлось отступиться. Может быть, прежняя привязанность оказалась столь сильна, что Зевс не мог отказать Фетиде. Но, возможно, у него был еще более глубокий замысел. Так или иначе, Ахилл должен был вступить в битву только в тот момент, когда его участие становилось исключительным, и перекрыть все подвиги ахейских героев на поле брани. Поэтому Зевс и приказал Посейдону и Гере не вмешиваться в его сценарий, предполагавший вступление в битву Патрокла, его гибель от руки Гектора, вступление Ахилла в битву из мести за друга и убийство Гектора, который к тому моменту получил уже множество ран в длительной и жесточайшей схватке.
Последовательно в гомеровском эпосе ведет себя именно Посейдон. В то же время, ему – властителю морской стихии – в перипетиях гомеровских героев некого поддерживать. Пожалуй, только жителей Пилоса, славивших Посейдона, можно считать мореходами. Именно поэтому они без проблем вернулись из-под Трои. А вот поклонник Зевса Аякс Малый был утоплен вскоре после гибели своих кораблей – когда уже вцепился в скалу и посмеялся над богами, задумавшими его погубить. Досталось Менелаю и Одиссею, которые тоже как-то забывали о существовании Посейдона, но не переставали славить Зевса. И это им не очень-то помогало. Не говоря уже о троянцах, которые постоянно славят Зевса, и в решительный момент, когда Зевс спит, против них яростно выступает Посейдон.
Телемах в поисках сведений о своем отце Одиссее, прибывает в священный Пилос к Нестору именно в тот момент, когда там приносят жертвы «черноволосому богу» Посейдону. После гекатомбы Посейдону Нестор на следующий день ровно такую же жертву принес и Афине, но почему-то не Зевсу. Либо Зевс и Посейдон, действительно, одно лицо, либо они в глазах греков разных «конфессий» – антагонисты, хотя об этом и не приято было говорить. Кроме того, Зевс и другие боги были на стороне троянцев, а на стороне ахейцев только Посейдон, Афина и Гера.
Совершенно ошибочно представление о греческих богах по их совершенным антропоморфным образом, известным нам по древнегреческой скульптуре. Пока Зевс молчалив и сидит на троне, он может выглядеть совершенным существом. Но стоит ему заговорить, и образ рассыпается. Он вдруг начинает грозить другим богам, напоминая о своей силе. При этом вспоминается необходимость пригласить сторукого Бриарея, когда Гера, Афина и Посейдон выступают против него. Его сила оказывается ограниченной, его непобедимость – сомнительной. На восстания богов, почерпнутые из архаических сюжетов, указывает история о наказании Геры, которую Зевс повесил на облаках связанной золотой веревкой, а к ногам прикрепил две наковальни. Сочувствие богов было в данном случае на стороне Геры.
Пока Зевс бездействует, Гера с Афиной замещают его функцию громовержца. Вместо Посейдона Гера насылает бурю на Геракла, заставляет солнце заходить позднее, и даже Олимп содрогается от ее движения на троне. Обратившись в человека, она кричит как полсотни людей одновременно. Сравним: Посейдон в таком же обращенном облике кричит как 9 или 10 тысяч человек.
Афина – главная богиня древних греков, хотя формально находится во втором ряду после Зевса и его братьев, а также Аполлона и Артемиды. Афина гомеровских времен – богиня, чье происхождение очевидно критское. Ее атрибуты – змеи, и «великая мать» критян – прообраз Афины гомеровских греков. На о. Эгина почиталась богиня Афайя («нетемная»), причем культ был перенесен сюда с Крита, где имел древнейшее происхождение – с XIV века до н. э. Культы Афины и Афайи скорее всего имеют общее происхождение. Отождествление богов и обобщение ими различных атрибутов – для греков дело естественное. Гомеровская Афина получает определение «совоокая» – как природный змееборец.
Афина является в «Одиссее» в двух видах: либо в лице человека, который как бы становится рупором ее мудрости, и тогда Афина – просто сама мудрость, которая присутствует в человеке; либо в виде антропоморфного божества, ведущего беседы на Олимпе с Зевсом, который из состояния «спящего бога» едва выходит, чтобы одобрить планы Афины по спасению Одиссея. При этом оказывается, что кроме мудрого совета, Афина никак не может вмешаться в судьбу героя. Зевс может – разбив молнией его корабль (и тут же «уснув» и забыв о своей роли в этом эпизоде), Посейдон может – устраивая ужасные штормы. А вот Афина только советует – Телемаху или Одиссею. Причем в начале поэмы поминается, что Афина имеет копье, которым избивает неугодных ей героев. Но за всю поэму она ни разу это копье в дело не пускает.
В то же время, Афина оказывает решающее воздействие на Зевса, который самостоятельность проявляет только исключительных случаях. Несмотря на то, что в «Илиаде» Зевс вполне однозначно поддерживает троянцев, верх все-таки берут подопечные Афины – ахейцы. Это действует лукавая «критская» природа Афины – откуда поговорка, зашифрованная в логическую задачу: «все критяне – лжецы». Если бы это утверждение исходило от Афины, то парадокс избавлял бы ее от ответственности за ложь.
Гомер вряд ли сам осознавал, что в «Одиссее» Афина из богини превращается в довольно странное существо, которое сопровождает сюжет, а не создает его. Она оказывается неспособной быстро выполнить решение совета богов, которым открывается поэма, и вернуть Одиссея домой – после десятилетия мытарств. Вместо божественного повеления Афина отправляется не к Одиссею, сладко томящемуся по Итаке в объятьях Калипсо, а к Телемаху. Которого отправляет искать отца. По ее совету он едет в Пилос и Спарту, где так ничего и не узнает. Зато Одиссей, уже вернувшийся на Итаку, ожидает возвращения сына. Кроме того, Афина предлагает Телемаху рискованный шаг: потребовать в народном собрании удаления женихов из его дома. Что чуть не стоило Телемаху жизни. Наконец, Афина советует Телемаху на случай, если Пенелопа выберет кого-то из женихов, отправить ее к отцу Икарию. Все эти советы похожи на недружественную провокацию. Еще более нелепы другие советы Афины Телемаху: если выяснится, что Одиссей жив (а она знает, что он жив), то ждать на Итаке еще год. После чего выдать Пенелопу за одного из женихов, а других перебить. В итоге Телемах оказывается куда разумнее Афины, и исполняет лишь один ее опасный совет – выступает в крайне нелицеприятных выражениях против женихов.
Фактически мы видим увядание образа богини с хтоническими чертами, возрождение которых произошло несколько веков спустя. И это уже другая Афина, лишь атрибутами напоминающая свой древний микенский прообраз.
Гомер ищет и находит богочеловека – человека с элементами божественного и бога с элементами человеческого. Герои несовершенны, иначе они жили бы на Олимпе. Боги несовершенны, иначе им нечего было бы делать среди людей. Поэтому эпический стиль Гомера размягчен многомерностью ключевых божественных и героических образов. Они – не образец морали, а моральный урок. Что гораздо ближе к священному писанию, чем простой перечень заповедей о «можно» и «нельзя». Гомеровским героям слишком много «можно», отчего они страдают и погибают, представляя нравственный урок, а не пример для подражания.
Боги среди людей
У Гомера все творится по воле богов. Собственно, это и стало впоследствии официальной религиозностью, оспаривать которую было опасно для жизни. Но в действительности у Гомера в личном восприятии героев почти нет именных богов. Все это «боги вообще». И только когда Гомер представляет сцены божественных сфер, абстрактные «боги» приобретают имена и ответственность за те или иные действия. Фактически боги Гомера для людей – их собственная же психика.
Одиссея погружает в сон Афина, но он говорит о том, что это дело божества, которое он явно не знает по имени. То же самое происходит с Пенелопой. Афина помогает Одиссею, но Амфимедонт говорит, что это делает божество. Снова безымянное. Афина омолаживает Лаэрта, но Одиссей говорит об абстрактном «боге». Афина обеспечивает Телемаху попутный ветер, а тот неблагодарно рассматривает это как деяние некоего бога. Люди если и знают о богах, то очень редко имеют представление о том, что тот или иной бог замыслил или сделал. И когда раздраженный Менелай кричит проклятье Зевсу за то, что тот не дал ему победы над Парисом, это обращение к абстрактному «Зевсу» – к «богам вообще».
Боги скрывают свои намерения, но также и обманывают. В том числе и тех, кто читает или слушает Гомера. Волевые мотивы людей и непреодолимая воля богов зачастую смешиваются. Боги решают, что ахейцы и троянцы должны продолжить сражение, а сюжет «Илиады» выдвигает на передний план стрелу Пандара, которой он прерывает перемирие. Ахилл в споре с Агамемноном хватается за меч, но смиряет свой гнев. Делает это он по воле невидимой Афины, которая дергает его сзади за волосы. Патрокл не слушается Ахилла и вступает в битву, и это воля богов, которой он не мог противостоять, хотя решение по виду принимал сам. Ахилл проявляет сочувствие к Приаму, выдав тело Гектора для погребения. Но на самом деле это воля его божественной матери Фетиды, исполняющей повеление Зевса. Да и сам Приам направляется к Ахиллу не потому что так хочет, а потому что по воле Зевса этот поступок ему навязывает Ирида. Гермес провожает его, поскольку собственных старческих сил Приаму не хватает.
Люди иногда смекают, что к чему. Так, Приам не винит Елену за развязанную ахейцами войну, зная, что это воля богов. Елена же знает, что обольщению ее Парисом способствует Афродита и другие боги. Агамемнон винит богов за свою ссору с Ахиллом, Ахилл обвиняет Зевса за безумства Агамемнона. Также Ахилл считает, что не он, а боги повинны в гибели Гектора. И все же личное решение лишь сопровождается решением богов, а иногда такое решение выглядит как принятое постфактум – когда все уже свершилось. Все действия человека происходят по его воле, но воля богов представляется руководящей силой. Собственное волевое решение воспринимается отдельно от личности, а точнее, ее обычного состояния уравновешенности и спокойствия.
Люди все списывают на богов, но вину за те или иные несчастья чаще всего относят на других людей. Да и не все люди чувствуют над собой божью волю. Женихи Пенелопы не знают, что рядом с ними стоит черная Кера – погибель. Гектор не понимает воли богов, которые сообщают Полидаманту мысль о том, что наступление надо прекратить. И обвиняет его в трусости.
Более того, люди противятся воле богов. Диомед нападает на Афродиту и Ареса, наступает на Энея, которого защищает Аполлон. Патрокл наступает на троянцев, хотя Аполлон отводит его нападение, и после троекратной попытки Патрокла вынужден издать яростный вопль. Ахилл тоже готов сразиться с Аполлоном. Одиссей сомневается, что без плотного обеда воинам хватит в бою божественной помощи.
Что есть человек, с точки зрения древнего грека? Гесиод определял человека как существо, исключенное из времени богов – утратившее «золотой век», в котором жили какие-то другие «люди», род которых прерван, а современные греки являются людьми потому что, они сходным образом ведут себя: обрабатывают землю и живут совместно в родовом ойкосе. Гомеровский человек познает себя в сравнении с богами и разными человекоподобными существами. Главной отличительной чертой человека является то, что он питается хлебом. То есть, он не каннибал и поддерживает жизнь, прежде всего, продуктом своего земледельческого труда.
Люди и боги связаны жертвоприношением. Древний грек питался мясом только в одной трапезе с богами (или, точнее, должен был так поступать в соответствии с усредняющим стандартом). Богам доставались ароматы от сжигаемых жира и костей животных, а люди поедали обработанное огнем мясо. Таким образом, человек – не только земледелец, но и скотовод. Он отличается от диких «людей» тем, что приносит жертвоприношения и ест жареное мясо, потребляя его при посредничестве богов. Без жертв людей богам «голодно», поэтому они так чутки к частоте и масштабам ритуалов. Которые на поверку не так значимы для богов, как это кажется людям.
Ритуал жертвоприношения в гомеровские времена был прост и предполагал лишь одно отступление от нормы – ночные и подземные божества требовали всесожжения: жертвенные животные сжигались полностью, и человеку от богов не оставалось ничего. Но позднее на фоне все более изощренных и разнообразных ритуалов возникли более существенные отклонения от древней нормы. Например, пифагорейцы предпочитали жертвы богам из натуральных (необработанных) продуктов: молока, меда, благовоний. На другом полюсе в спектре допустимых отклонений – секта приверженцев Диониса, предполагавшая культовое поедание сырого мяса (омофагия) – также в природном, необработанном виде. Крайней формой того же культа, было его перерождение в кризисном и разлагающемся обществе в требование секты киников «вернуться к природе», то есть к дикости – к омофагии, инцесту и даже к людоедству.
На неоднозначность любого из культурных установлений, определяющих «человеческое», указывает двоякость одного из афинских жертвоприношений. Во время празднования буфоний в честь Зевса Полиэя («городского», «градохранителя»), предполагалось убийство жертвенного быка, но жрец-убийца быка и его нож подлежали ритуальному суду. Нож и топор, которым убивали быка, топили в море. Правило «можно и нельзя» означает совмещение двух культурных норм, примиренных в ритуале, где «можно» и «нельзя» разыгрываются как бы понарошку, дань отдается и культурному стандарту, и времени богов, которое этот стандарт отрицает.
Промежуточная социальная роль, которая обнаруживает связь как с миром людей, так и с миром богов, – роль охотника. Зверь, пойманный на охоте, как правило, не мог становиться жертвенным животным, ибо он – часть природы, и не связан со скотоводческим трудом человека, а в мифах такая жертва – аналог человеческого жертвоприношения. Охотник приближен к миру богов – все герои греческих мифов были охотниками. Поэтому человеческие установления для него не всегда обязательны. Участие в охоте извиняет отступление от бытующей нормы (например, в Спарте, – освобождение не успевшего вернуться с охоты от обязанности присутствовать на сисситии).
Греческая мысль, а за ней и идеальные представления об обществе, привержены природным процессам. Слепой случай (tyche) – творец истории, а расчет и предвидение (gnome) – дело частное, никак не влияющее на судьбу в целом. Расчетливость – это проявление гордыни, дерзости (hybris), а справедливость богов (dike) – нечто, не зависящее от людей. Нравственное увещевание, которое греки проповедовали через трагедию и философскую мысль, призывает смирить гордыню и жить по воле богов (то есть, случая).
Судьба стоит над богами. И боги лишь «взвешивают» судьбу людей. Люди же на богов особенно рассчитывать не могут.
Судьба обнаруживается даже в простой человеческой забывчивости, которую никак нельзя преодолеть: один из соперников забыл пообещать жертву богу, а другой не забыл. И пообещавший побеждает. Боги непоследовательны, а судьба (что обнаруживается постфактум) предопределена без их участия. Зевс намеревался помогать троянцам, но уступаем мольбам Нестора. Он также воспринимает просьбу Аякса не губить ахейцев в ночном штурме, который намеревались предпринять троянцы. Все это меняет обстоятельства, но не меняет судьбы.
Боги влияют на второстепенные детали. Приам полагает, что тело Гектора в течение 9 дней издевательств над ним не подверглось тлену, потому что Гектор не забывал приносить жертвы богам. Но эти жертвы не отвратили его гибели от руки Ахилла. Афина отводит копье Гектора от Ахилла, но не спасает Ахилла от смерти в скором будущем – от стрелы Париса. Афродита спасает Париса и, накрыв облаком, уносит от яростного Менелая. Но не предотвращает гибели Париса от отравленной стрелы Филоктета.
Боги могут и не заметить обращенных к ним просьб. Зевс исполнил просьбу Ахилла отогнать троянцев от кораблей, но не исполнил просьбу оставить Патрокла невредимым. Афина не приняла молитвы троянок даровать победу их мужьям. Мольбы Одиссея Зевсу вернуть его домой долго оставались неуслышанными.
Оказывается, молить можно только по поводу того, о чем боги уже приняли решение. И очень редко они меняют это свое решение. К тому же, надо знать, о чем просить. Без определенной информированности о ситуации просить богов бесполезно. Пока для киклопа имя Одиссея – «Никто», он бессилен в своих проклятьях, но как только Одиссей, считая, что находится в безопасности, называет свое настоящее имя, мольбы Полифема доходят до Посейдона, и Одиссею приходится прочувствовать всю опрометчивость своего поступка – объявления своего имени.
Люди – как минимум собеседники богов. Богообщение у Гомера – дело обычное. Чего не скажешь о классических греках, которые религиозный ритуал отделили от истории, а за богообщение принимали собственные суеверия. Целая коллекция таких суеверий сопровождает повествование Плутарха. У Гомера отношение к знамениям более чем скептическое. Гадатель не может предсказать своей гибели, а Гектор и вовсе пренебрегает окровавленной змеей, брошенной орлом во время битвы перед троянским войском. Эти приметы он даже объявляет не имеющими отношения к воле богов.
У Гомера боги невидимы, но они небестелесны. Видеть богов – почему-то очень опасно. Тем не менее, простые смертные имеют с богами общих детей, и от этого никакого вреда для себя не получают. Боги воюют вместе с людьми, и даже получают раны в бою. Минос – собеседник Зевса, другие боги присутствуют на свадьбе Пелея и Фетиды, Афродита вручает свадебное покрывало Андромахе (что не защищает ее от злосчастной судьбы). Как выглядят боги, никто толком не знает, хотя богообщение, судя по числу общих со смертными детей, достаточно часто. Боги появляются среди людей обычно в виде странников. Или, если точнее, проявляются – в незнакомых странниках или в знакомых достойных людях. И лишь немногим народам дозволено видеть богов – феакам, киклопам и диким гигантам. Причины такой избирательности неясны. Поскольку феаки набожны, а киклопы знать не знают богов (за исключением Полифема, которому рассказали, что он сын Посейдона, но знание его об этом нетвердо).
Самое поразительное в гомеровских богах – это их вполне человеческие пороки. Зевс становится центром семейных склок, и при всем своем величии чуть было не лишается власти, ибо надоел другим богам. Афина постоянно морочит ему голову и без стыда признается перед Одиссеем в своей лживости: «Ведь оба с тобою// Мы превосходно умеем хитрить». Хитроумный Одиссей, выдумывающий небылицы для людей, – аналог Афины среди богов.
Поколение героев
У Гомера немного сведений о культовом почитании погибших воинов, но имеется изобилие косвенных признаков героического культа. Археологические данные подтверждают реальность таких культов, начиная с VIII в. до н.э. Было бы опрометчиво считать, что эти культы имеют исключительно «литературное» происхождение, а не отнесены к реальным событиям, которые отражены в гомеровских поэмах. Тем не менее, эти культы явно рождены не в момент, когда герои совершали свои подвиги, а многие столетия спустя – когда имена покоящихся в могилах героев были прочно забыты, отчего эти имена присваивались захоронениям достаточно произвольно.
Представление о герое является одной из древних и характерных черт греков и отразилось в специфических религиозных действиях, отличных от ритуалов, посвященных богам. В этом смысле отделение «времени богов» от «времени героев» является вовсе не метафорой, а вполне очерченной границей между историческими эпохами. «Илиада» и «Одиссея» отражают полностью сложившиеся героические культы, остававшиеся неизменными вплоть до V в. до н.э. – до наступления «классической» эпохи. Культ героя представлял собой трансформированное почитание предков, консолидирующего демос вокруг прославляемых типовых фигур, заменивших многочисленные семейно-родовые культы.
Можно предположить, что «Илиада» и «Одиссея» приобрели законченный вид именно в связи с завершением формирования культа героев, и стали одним из его возвышенных выражений к VIII в. При этом на героическом культе остался отпечаток местной традиции более древних времен, свидетельствующий о локальности его возникновения. Например, описание шлема Мериона из клыков дикого вепря или башнеподобного щита Аякса – отражение реалий микенских времен. У этому же времени относятся «златообильные» Микены, «крепкостенный» Тиринф, «песчаный» или «приморский» Пилос, «великий» Кносс, которые во времена широкого распространения «Илиады» уже представляли собой забытые руины. Греки не испытывали смущения от того, что в их любимом эпосе оружие сплошь медное, а герои разъезжают на вышедших из употребления колесницах. Они прекрасно понимали, что это другие времена – «времена героев», в которых мир был другим. И одновременно это – их мир, который они узнают по многим признакам, включая культы богов и героев. Две реальности совмещаются в эпосе через оставленный без упоминания культ героя (за исключением похорон Патрокла с признаками глубокой архаики). И сами поэмы Гомера – тоже своего рода культ.
«Илиада» и «Одиссея» свидетельствуют о своеобразной конкуренции героев и богов, а также конкуренции групп богов, выраженной через деяния героев. Переживания героев и богов зачастую параллельны: Ахилл и Аполлон в «Илиаде» охвачены гневом (menis), который оборачивается мором для ахейцев (мотив «черной смерти» – эпидемии). Наблюдается также внешнее сходства героя и бога: оба изображаются с длинными волосами, как не прошедшие посвящения юноши (kouroi) или не подлежащие такому посвящению неприкосновенные лица (иностранцы), чья вечная юность имеет свой символизм в фигуре, чертах лица и уборе волос. Аналогичным образом героям «Махабхараты» пяти Пандавам соответствуют божества – Дхарма, Вайю, Индра и близнецы Ашвины. Это не только параллельные богам фигуры, но и их дети.
То же самое мы видим в Геракле, сыне Зевса. Лучший из героев (aristos) оказывается сыном величайшего из богов. Статус Геракла замечателен тем, что он по рождению ближе всего к богам. Другие герои лишь возводят к богам свою родословную. Они отделены от богов несколькими поколениями. Фактически это означает отделение реальных событий греческой истории от событий общей индоевропейской истории. Геракл оказывается не просто лучшим, а старшим из героев. Дюмезиль показывает, что Геракл ближе к индоевропейской традиции, чем Ахилл и Одиссей, которые представляют как бы расщепленный образ Геракла – две группы его характеристик.
Если считать, что становление культа героев относится к гомеровским временам (конец II тыс. до н.э.), то к этим же временам следует отнести и героев «Илиады» и «Одиссеи», а рождение Геракла – еще поколении ранее. Но реальность, отраженную в древнегреческих образах богов, следует искать еще раньше – в начале-середине II тыс. до н.э. Затем их сменяют герои, сражавшиеся под Троей (и в этом событии отражены разные эпохи), получившие века спустя наименование «полубоги» (hemi-theoi у Гесиода). Гомеровские «герои» более жестко противопоставлены «полубогам», имеющим этот статус по рождению. «Герои» уже не вписываются в прежний мифический сюжет, а разрывают его.
Герой вклинивается в отношения богов и вмешивается в их конфликты. Суд Париса вносит раздор между превознесенной им Афродитой и оскорбленными Герой и Афиной. В этом сюжете обозначен общий принцип равновесия: при многобожии хвала без хулы не существует. Восхваляя Афродиту, тем самым хулишь Геру и Афину. Гера предлагает пастуху Парису верховную власть, Афина – воинское могущество, Афродита – любовь женщины, которую полюбит Парис. Выбирая любовь Елены, Парис пробуждает и направляет против себя власть и военное могущество, восстающие против совершенной таким образом хулы. Порождаемые хвалой/хулой конфликты могли уравновешиваться только формированием общегреческого пантеона. При этом конкуренция между сакральными центрами и святилищами продолжала сохраняться. И могла быть ослаблена только общегреческим культом героев, который отодвигал богов на второй план.
Предопределенность сюжета Троянской войны – в решении Зевса избавить Землю от тяготящих ее поколений героев. Вражда (eris) должна вспыхнуть уже от самого предложения Парису что-то выбрать. Хула в адрес богов в этом случае неизбежна. Так и битва Пандавов позволяет уменьшить число героев, заполнивших Землю. Фактически здесь повторяется сюжет о низвержении титанов, которые и могут быть постобразами Пандавов и конкурирующих с ними героев.
В результате сходства в греческом эпосе герои и боги противостоят друг другу. Антагонизм сопровождается культовым симбиозом, образуя мифический сюжет. Притом что гнев Аполлона убивает сына Ахилла Пирра (Неоптолема) в своем собственном святилище, он прославляется как основной культовый герой Дельф. Поверженный враг бога подчиняется ему в культовом действе.
Прослеживается аналогия между гомеровским гимном «К Гераклу», напоминающим молитву, и началом «Одиссеи». В прославлении Геракла имеется сюжетная связка: скитания-страдания-подвиг. Аналогичная связка отнесена и к Одиссею. В обоих случаях подвиг связывается с претерпеванием разного рода бед. Причем это не разовое событие, а разнообразный сюжет – целая эпопея мытарств превращает сюжет в героический. Politropos – определение Одиссея и как «хитроумного», так и «многопретерпевшего». Также и в смысле «оборотистого», способного выкручиваться из любой ситуации. В каком-то смысле он повторяет более простодушного Геракла.
В гимне деяния Геракла именуются как «отчаянные». Аналогичной характеристикой наделяются самые кровавые деяния Ахилла в «Илиаде». Герой оказывается в некотором смысле аморальным и преступным. Его оправдание лишь в том, что он готов жертвовать собой ради славы, чем отличается от обычного человека. Ахилл утверждает, что все богатство, которое можно добыть в Трое или в Дельфах, не стоит его жизни. При этом он готов пожертвовать жизнью ради kleos aphthiton – «нетленной славы». Парадоксально, но слава – вовсе не связана с представлением о вечности, а материальное благосостояние и «возвращение домой» (nostos) определяет именно вечность жизни. Личное бессмертие в греческой архаике связано с материальным благополучием. Эпитет «благословенный» (olbioi) относится к бессмертным героям и представляет собой форму «богатства» – olbos.
Срок жизни (aion) становится неопределенно долгим, если герой возвращается домой. Аion для Ахилла связан с материальным достатком, который наступает в результате такого возвращения. Для нетленной славы Ахиллу приходится пожертвовать своим сроком жизни. Вечное и безвестное для героя не столь дорого, как слава, отразившаяся в «Илиаде».
Сюжетом «Илиады», отражающим понимание бессмертного статуса героя, является история с гибелью вождя ликийцев Сарпедона, сына Зевса, сражавшегося на стороне троянцев и убитого Патроклом. Аполлон по воле Зевса забирает его тело, чтобы поручить близнецам Сну (Hypnos) и Смерти (Thanatos) и перенести его на родину. Там родные и друзья должны провести обряд погребения, соорудив гробницу и стелу, «ибо таковы почести мертвым».
В данном случае применяется глагол tarkhuo – «устраивать погребение, хоронить». Происхождение этого слова имеет малоазийские корни – как и ритуал для героя и понимание его прижизненного и посмертного статуса. В ликийском языке trqqas – эпитет для бога, сокрушающего дурных. Главный бог лувийского пантеона – бог грома Tarkhunt (бог грозы, ликийский Trqqas, аналогичный Зевсу, этрусский Тархон, Tarchon (Tarco) – прототип царского рода Тарквиниев, происходящих от лидийцев, переселившихся в Италию), в хеттском языке прилагательное tarhu– означает «завоевывающий, победоносный», та же форма присутствует в именах божеств. Все это означает общий индо-иранский корень, перешедший в греческий язык. Тем самым смысл глагола tarhuo может означать также переход в божественный статус.
Чтобы получить этот статус, непременно надо быть перенесенным в свой demos – в Ликию, где только и возможно учреждение культа, «почесть» (time), которая полагается богам. При этом time полагается Сарпедону по его царскому достоинству уже при жизни. Царь – культовая фигура в своем demos. Но чтобы стать «бессмертным», он должен, подобно Ахиллу, отказаться от возвращения домой живым.
Сарпедон говорит, обращаясь к своему соратнику Главку, что почести (time) – такие как особое место на пиршестве, отборное мясо и полные чаши, а также выделение священного надела земли (temenos) с прекрасными виноградниками и хлебородной пашней – это награда за то, что они стоят в первых рядах воинов и приносят с собой подлинную силу и славу. В этом отрывке «Илиады» просматривается несколько пластов реальности – общинная и мифическая. Социальная роль царя – быть в первых рядах и доказывать свою славу в битвах, за что полагается и особый имущественный статус. Мифическая роль – быть богоподобным символом бесспорного превосходства над соплеменниками. Если учесть, что эти слова приписываются Сарпедону постфактум, то можно предположить, что социальная роль со смертью отпадает, а мифическая превращает героя в божество, чья слава подобна божественной, но зависима от демоса, учредившего культ. Имущественный статус переносится в ритуал: герою жертвуют отборные куски мяса, а temenos в данном случае означает уже «священный участок, святилище». Time у героя есть еще до смерти, а после смерти, попадая в эпос, он получает kleos – посмертную славу. В эпосе и культе то и другое становится «нетленным».
Божественное перемещение тела героя – один из важных мифологических сюжетов. И Сарпедон дает свое имя скале, откуда Борей похитил Орифию. Кроме того, сам Сарпедон, получив тяжелую рану (как своего рода намек на будущую судьбу), приходит в себя от порыва северного ветра Борея. Основа имени героя sarp– соотносится с harp– («хватать», отсюда «гарпия»). По одной из версий мифа, гарпии – дочери Борея. И они могут быть исполнителями воли Зевса и Аполлона, перенося в данном случае не душу, а тело героя.
Согласно Гесиоду, люди «золотого века» умирали «как бы объятые сном». Сон и смерть – состояния почти тождественные. Люди «золотого века», погибая, получали «царский почетный дар», geras – особый род time. Поколение «серебряного века» было погублено Зевсом по причине того, что оно не воздавало должного time олимпийским богам, а потому оказалось не способно выполнять роль служителей (therapon) бессмертных, приносить им жертвы и тем самым отождествляться с ними. Уклонение от уподобляющего богам служения ведет к гибели. Тем самым, смерть героя не минует, но уподобление божеству все же сохраняется в посмертной славе – культе. Посмертное бессмертие – получение kleos aphithon в эпической поэзии. Бессмертным не стать, если не умереть.
Герой связан с определенным символизмом – с опознаваемыми символами, приметами, позволяющими сопоставить человека с героическим сюжетом и именем, известным из эпоса. Знак (sema) может быть открыт родным и близким героя (philoi). Например, Одиссея, изменившего облик, узнают по шраму на ноге его престарелый отец, няня и верные пастухи. А Пенелопа опознает и «понимает» (anagignosko) его по одежде, подаренной ею самой. Неузнанный пастухом Евмеем Одиссей, принявший облик бродяги, получает от того указание не слоняться вокруг дворца, чтобы его кто-нибудь не покалечил и «следить за такими вещами». Одиссей отвечает, что он понимает указание (gignosko), потому что способен узнавать, о чем идет речь (noeo). Бытовой характер указания сопряжен с совсем небытовым ответом Одиссея. Но этот ответ не обращает на себя внимания пастуха, который лишен noos. Слушатель поэмы, напротив, получает иллюзию способности к распознаванию знаков. Он-то знает, в чем дело.
Эти внешне обыденные признаки на самом деле создают возможность самого эпического сюжета: герой отмечен sema именно для того, чтобы его можно было узнать. Так же может быть отмечен и любой другой человек, но он не попадает в эпос, остается за пределами памяти певцов. Остаются только признаки героя.
Зачастую Зевс подает знак, подлежащий толкованию, в виде молнии. Когда Одиссей молит Зевса дать ему знак, что он одолеет навязчивых женихов своей жены, Зевс посылает молнию и вкладывает «пророчество» в речь рабыни, мелящей зерно. Ее речь обозначена словом epos и содержит мольбу к Зевсу наказать женихов, которые делают ее труд нестерпимо тяжелым. Поэзия становится sema, а ее смысла распознается с помощью noos.
Зевс в «Илиаде» диктует свою волю мановением головы. Гера корит его, что он не высказывает смысла этого символа с помощью epos. Зевс отвечает, что «слово» (muthos) он хранит в своем noos. При этом «Илиада» как раз отражает эпическое воплощение воли Зевса – sema его noos.
Зевс наделяет sema тайным смыслом – это священные символы, какими бы обыденными они ни казались. Sema Зевс посылает ахейскому войску: змея пожирает восемь птенцов и их мать. Прорицатель Калахас опознает в этом знаке грядущее разрушение Трои. Приам видит посланную Зевсом птицу и полагает этот символ добрым знаком для себя: он может без опасения идти к ахейским кораблям.
В «Одиссее» прорицатель Феоклимен предпочитает покинуть пир женихов, усмотрев в их безудержном смехе дурной знак: «злая судьба близится к вам». Предводитель женихов – Антиной (Anti-noos – противоразумный) не видит знаков, которые говорят о скорой его гибели от руки Одиссея.
Некоторых людей эпос наделяет (через богов) способностью замечать (noeo) знаки, а значит – и толковать их. В грудь прорицателей, пророков (mantis) Зевс вкладывает истинный noos. Семантика – sema-mantis – пророческое толкование символов с помощью noos. Сам Аполлон пользуется мантическими способностями: например, узнает (gignosko) в пролетевшем вороне сына Зевса (Гимн Гермесу). И все же знаки богов и случайные события смешиваются, отчего суеверия приводят к ошибкам, и воля богов видна лишь в развязке любого сюжета.
Узнавание символов – noos – происходит от индоевропейского корня *nes-, «возвращаться к свету жизни». В греческом neomai означает просто «возвращение», производное от него nostos – «возвращение домой», а другое производное – noos. На примере Одиссея хорошо видно, что его способность к noos приводит к nostos. Понимая знаки, он находит путь домой даже вопреки воле Посейдона и опасности «забвения» (lethe) – как в случаях с лотофагами и Киркой.
Sema – это исходно не только «знак», но и символ могилы или гробницы – земляной курган или надгробие. Собственно, это «знаки» становятся приметами, структурирующими пространство. Дороги прокладываются от знака к знаку, от знака дороги ветвятся в разные стороны, знаки становятся поворотными столбами на соревнованиях колесниц. Это не только пространственная метка, но и kleos – реальное воплощение славы героя, прославленное в поэмах вместе с его деяниями.
Обратный пробег колесниц называется neomai. В Немейских одах Пиандра содержится тот же термин во фразе: «богач и бедняк возвращаются (neomai), пройдя мимо Смерти». Sema в виде поворотного столба – это знак Смерти, могила. Но также sema – это знак возможной жизни после смерти или оживления. Noos пророка Тиресия сохраняется в его душе (psukhe). Это свойство, позволяющее psukhe воссоединиться с телом, вернуться к жизни. Или иметь возможность познания после смерти как у Тиресия – и это его исключительное свойство, позволяющее Одиссею в Аиде беседовать с мудрецом.
На мюнстерской гидрии колесница Ахилла мчится вокруг знака над могилой Патрокла, рядом бежит сам Ахилл, верху парит psukhe Патрокла и возвышается символ могилы Ахилла и Патрокла – маяк у Гелеспонта, «чей блеск виден издалека» («Одиссея»).
Война: ужас и блеск
При всей красочности описаний военных событий Гомер – не сторонник войны. И он морально оказывается не на стороне ахейцев, которые по справедливости требуют вернуть Елену и похищенные богатства, а на стороне троянцев. Также и Геродот рассматривает причину вражды по поводу похищения Елены как пустяковую, не стоящую кровопролития. Что же является причиной правоты Приама, который отказывается возвращать Елену ахейцам? Во-первых, Елена ужа давно замужем за Парисом, и их брак – по любви. Во-вторых, причина распри выглядит лишь поводом, истинное же намерение ахейцев – грабеж, а не справедливость. И это подтверждается многократно не только в ритуальном присвоении военных доспехов поверженного противника, но и в страстном захвате воинской добычи (например, в выкупе, который обещают за сохранение жизни некоторые троянские воины, или в выкупе тела Гектора за равный вес золота).
Гомер изображает вождей троянцев и ахейцев в эпической традиции – богоравными. Но параллельно возникает крайне критическая оценка. Капризы Ахилла и глупая надменность Аламемнона доходят до сатирического изображения. Возможно, здесь отразилась конкуренция между Аттикой и Пелопоннесом, и Гомер был на стороне гераклидов, в его времена подчинивших себе прежние ахейские царства, возглавляемые героями Троянской войны. Кроме того, «Илиада» становится источником знаний о пресечении множества ахейских родов, и Афины оказываются бесспорной ахейской столицей.
Как гражданин и поэт Гомер – противник войны, как воин и автор эпоса – не может не представлять войну в блеске подвигов и деталях военного дела. Он наверняка имел прямое отношение к войне и лично участвовал в битвах. В «Илиаде» он детально описывает движение войск и поединки, в которых доходит до натуралистических деталей.
Пример деталировки боевой тактики: Тевкр натягивает лук за щитом Аякса, затем тот убирает щит, и в противника летит смертоносная стрела. После чего Тевкр снова скрывается за огромным щитом. Другой пример: ахейцы решают передать большие щиты сильнейшим воинам и выдвинуть их вперед в критический момент сражений вблизи их кораблей. Вопреки доводам некоторых исследователей, в «Илиаде» все сражения происходят сомкнутым строем. Если брошенное копье минует свою цель, то оно обычно находит другую жертву – вплотную стоящего воина.
Судя по «Одиссее», Гомер часто обращается к образам, почерпнутым из сельского труда, изредка – из занятий охотой, но он вовсе не увлекается деталями мореплавания, не описывает оснастки судов и не детализирует действий гребцов и кормчего. Как описатель поколения героев, Гомер, безусловно, является поэтом воинского сословия. И даже в хитроумном Одиссее мы видим, прежде всего, воина («Одиссея» предполагает знание его подвигов в «Илиаде»).
По гомеровским поэмам мы можем реконструировать порядок сражения и отметить элементы ритуального характера, которые сохранились до времен классических, когда поединок предварял общую схватку, а в редких случаях заменял ее.
Первая из битв, изображенных в «Илиаде» прерывается в самом начале, потому что Гектор намерен обратиться к Агамемнону. И тот останавливает своих воинов. Гектор предлагает поединок между Менелаем и Парисом, который должен прекратить войну. Победителю достанется Елена и увезенные ею из Спарты сокровища. И это вызывает полное одобрение с обеих сторон, которые скрепляют устную договоренность священными клятвами, для чего из Трои прибывает сам Приам. Гомер тщательно описывает детали ритуала: Агамемнон раздает ближайшим сподвижникам клочки срезанной шерсти жертвенного животного, молится богам, режет ягнят и раздает вино для возлияния богам. Приам уезжает с тушками ягнят в Трою. Гектор и Одиссей бросают жребий в шлем и определяют, кому из участников поединка первому нападать. Воины с обеих сторон кричат и потрясают копьями.
Поединок строго регламентирован. Сначала Парис бросает копье, но его наконечник сгибается, сталкиваясь со щитом Менелая. Затем Менелай бросает копье, которое пробивает щит и панцирь Париса, но Парис отклоняется и остается невредим. Дальше в ход идут мечи. Обмен ударами Гомер опускает, фиксируя только результативное действие: меч Менелая разбивается о шлем Париса. Парис оглушен, и Менелай тащит его в свой стан, уцепившись за шлем, ремень которого душит героя. Затем, ремень разрывается или развязывается (конечно, при помощи божественного вмешательства) и Менелай падает. Ахейцы его поднимают, и он бросает оставшийся в него в руках трофей своим воинам. А сам подхватывает копье с намерением вновь вступить в бой. Но Париса перед ним уже нет. И Агамемнон объявляет Менелая победителем. Остается получить от троянцев Елену и богатства. Вероломное нарушение троянцами священных клятв (впрочем, троянская стрела пущена в Менелая по воле богов) приводит к продолжению войны.
Дальнейшее описание поединков уже не предполагает никаких священных ритуалов: они возникают у Гомера один за другим в гуще сражений. Гомер наверняка видел и соответствующие эпизоды, и ранения, и смерть, которые он описывает. Копье, пробившее бедро Сарпедона, волочится за его телом, когда его второпях выносят с поля боя. Патрокл бьет копьем противника в рот, поддевая его как на вилах. Отлетевшая от удара Диомеда голова Долона продолжает шевелить губами. Аякс отсекает голову противника и швыряет в пыль как мяч. Копье Идоменея, опрокинувшее Алкофоя, продолжает трепетать от ударов его сердца. Копье Аякса, сразившее Эномая, с трудом вытаскивается из кишок. Пронзенный противник Мериона бьется на земле вокруг его копья. От удара Менелая, угодившего в переносицу, у Писандра выпадают к его собственным ногам кровавые глаза. Стрела Мериона пробивает мочевой пузырь и лобковую кость врага. В нескольких эпизодах копье «врывается в мозг», пробивая медный шлем и черепную кость. От удара копьем в затылок, его острие проходит через рот, и павший воин сжимает это острие зубами. У пронзенного в живот вываливаются внутренности, и он пытается удержать их руками. От удара меча в шею голова воина повисает на коже. Павшие воины в предсмертной муке царапают пальцами землю.
Условия, в которых происходят эти схватки «один на один», предполагают определенную традицию: в сражении один воин мог вызвать другого, и окружающие не вмешивались, не стремились помочь кому-то из сражающихся, пока победитель не повергал своего противника. Это правило не всегда соблюдается в точности, но оно определенно присутствует в «Илиаде». Вполне возможно, вожди были отмечены внешними признаками, и искали друг друга на поле боя, а остальные воины перед ними расступались. Но в критической ситуации не до церемоний, и сражение у кораблей ахейцев уже не предполагает поединком один-на-один.
Гомер эмоционально – со сражающимися героями, проявляющими мужество и воинскую доблесть; но рассудительно он – против войны, поскольку хорошо знаком с ее последствиями. Именно поэтому столь противоречивы фигуры Ахилла и Агамемнона, которые рисуются прекрасными в сражении, но за пределами сражений вперед выступают дурные качества их характеров.
Чудовищные зверства Ахилла Гомер описывает без какой-либо симпатии. Труп Гектора без всякого почтения брошен рядом с трупом Патрокла. Погребальный костер Патрокла поглощает 12 пленных троянцев, которых Ахилл убивает лично. После чего Ахилл волочит труп Гектора вокруг могилы Патокла и бросает его на берегу моря. Зверства Ахилла вызывают возмущение даже у Аполлона – не самого милосердного из греческих богов. Что касается Агамемнона, то критика в его адрес вполне земная: его не только критикуют, но и прямо оскорбляют Ахилл, Диомед и Терсит. И даже он сам соглашается с тем, что совершает непростительные ошибки.
Гомер на стороне Гектора, который являет образцы мужества и верности своему народу. В нем нет никакого зверства, нет заносчивости и капризности. Так, он знает, что Аякс сильнее его, и (по воле Зевса) уклоняется от столкновения с ним в битве. Потому что его забота – не о личной славе, а о том, чтобы все войско сражалось и видело своего лидера и его победы в поединках.
Противоречив не только Гомер, но и Зевс. Ибо он ответственен за войну, развязанную между ахейцами и троянцами. Именно Зевс решил сократить численность людей, от которой изнемогает Земля. И тот же Зевс дает отповедь Аресу за бесчинства войны. Это противоречие между Зевсом хтоническим и Зевсом антропоморфным. Чудовище порождает войну, и сама война – нечто чудовищное или же само чудовище. Все это не может быть мило антропоморфному богу, в которого превращается Зевс.
Мудрый Нестор, прославленный воин, крайне негативно относится к тем, кто желает войны: «Ни очага, ни закона, ни фратрии тот не имеет,// Кто междоусобную любит войну, столь ужасную людям». Одно дело война как необходимость, и совсем другое война – ради каких-то иных целей, кроме защиты от врага. Поэтому участие Ахилла в войне из чувства мести делают его из героя извергом. И это противоречие – правда жизни, которая угадывается во все эпохи и делает Гомера близким людям разных времен и народов.
Ахейцы, как и троянцы, не хотят воевать и страшатся смерти, и одновременно рвутся в бой «как молодые волки», и даже бахвалятся своим зверством. Хтонические образцы привлекают и отталкивают одновременно. В них – ужас и прелесть гибельной природы.
Гектор – совершенно другого типа герой. Это образец патриотизма, который заставляет страшиться не войны, а военных ошибок при защите родины. В этом смысле Гектор более цельный, но и более простой персонаж. В фигурах же Ахилла и Агамемнона угадывается будущее греческой трагедии – столкновение противоречивых мотивов поведения. Ахилл чрезвычайно жесток, но рад иногда «пощадить того, кто молит о защите». Он капризен и высокомерен, но трогательно любит мать, возлюбленную, друзей. Он доходит до безумства после смерти Патрокла, но он сопереживает Приаму, пришедшему за телом сына. Агамемнон – одновременно и яростный воин, и трусливый полководец, готовый то бежать на кораблях, то отчаянно сражаться. И без Одиссея и Диомеда он вряд ли был бы способен поднять ахейцев на битву. При этом именно Агамемнон сожалеет о пролитой крови и страшится поражения своего войска.
Геродот и историческая этнография
В «Истории» Геродота изложение настолько детски-наивно, что книга «отца истории» читается легко, а местами весело. Расскажет что-то Геродот, а потом тут же припишет: вот этому я не верю. Потом что-то добавит. И снова: а вот этому я уже совсем не верю. Он все время отвлекается на какие-то посторонние вопросы, не структурирует свои наблюдения. Как будто это отрывочные дневниковые записки: сколько написал за день – столько и получилось связанного текста.
Геродот, как и другие греки, наивно верит, что у всех народов одни и те же боги, только они называют их поразному и иногда путают роли богов. Те же боги у египтян, у персов, у скифов: Зевс, Аполлон, Артемида… При этом сам Геродот, в сущности, не верит ни в каких богов. Определенный пиетет у него только к египетским богам. Он как-то даже побаивается их называть, чтобы не задеть священное. Но в целом все его изложение обходится без богов. Если он о них и упоминает, то либо в связи с описанием святилищ, либо с какими-то местными сюжетами, подобными фольклору. Геродот отказывается верить в существование одноглазых людей, но без критики передает историю с золотоносным муравьями, которых в Индии грабят местные золотодобытчики, а потом быстро улепетывают, бросая на прокорм бросившимся в погоню муравьям своих верблюдов.
Греческие боги – это боги негреческой культуры. Они сплошь заимствованы. Как заимствованы и сочинения Гомера, к реалиям классической Греции не имеющие никакого отношения и скорее сформировавшие их, или их формальную религиозность. Это привитая на дикий корешок культура – микенская в своей основе, дополненная стилем мышления и самовыражения греков. Многие свои города микенские ахейцы сожгли в междоусобицах (предтроянские времена Геракла), а потом дорийцы в «темные века» сожгли то, что осталось. И на развалинах цивилизации грекам пришлось слушать истории бродячих поэтов. Из этих историй они по-своему восстановили тот мир, о котором грезили в гомеровских поэмах. Так из детских сказок вырастают целые культурные народы.
Геродота почему-то считают историком. Между тем вся его «История» – это скорее этнография, расцвеченная пересказами слухов и местных преданий. При этом разделение на главы явно позднее – скорее всего, проведенное пару сотен лет позднее. Никаких признаков «звучания» имен муз, указанных в главах, просто не просматривается. Поставленная в начале текста цель – выявить причины войн эллинов и варваров – по тексту вообще не преследуется. Скорее всего, это поздняя вставка – в угоду политической конъюнктуре.
«История» Геродота – это скорее путевые записки, сделанные во время поездок в Египет и Вавилон. При этом Геродот в наименьшей степени интересуется событиями в Элладе. Его привлекает относительно удаленная периферия, и он пытается ее описать. Хорошо знакомое его интересует не так глубоко.
Очень интересно описание Персидской Империи, и отдельно – похода Дария I в Скифию. Из описания прямо следует, что Персия вовсе не была единой и прочной. Она все время находилась в состоянии расколов, заговоров, завоеваний и отпадений больших территорий. Пока персы были народом-войском, они были непобедимы. Как только они стали опираться на наемников и союзные армии, империя стала рыхлой. Именно это и было причиной того, что эллинам удалось от нее отбиться (но также и в силу ряда исторических случайностей), а потом Александру Великому удалось так быстро ее сокрушить. Собственно, поход Александра ничем не отличался от подобных же бесчисленных походов во внутренних войнах самой Персидской империи.
Поход в Скифию Дария I порой представляют как авантюрный и приписывают скифам тактику партизанских наскоков с заманиванием вглубь территории. Из текста Геродота следует совершенно иное. Скифы не могли сравниться с войском персов, и отступали именно по этой причине. Примерно как Кутузов отступал перед войском Наполеона. Это было вынужденное отступление, а вовсе не хитрая тактика. По мере отступления скифы набирали войско, а также втягивали родственные племена в конфликт с Дарием. Впрочем, далеко не всегда успешно. Иные родственники встречали скифское войско во всеоружии и гнали его прочь. Тем не менее, скифы постепенно смогли собрать столь многочисленную армию, что Дарий его устрашился – ночью перед решающей битвой, не погасив костры, снялся и ушел. При этом скифы, славные своей мобильностью, странным образом не могли его догнать. Зато их отрядам удалось его перегнать, и они попытались уничтожить переправу через Дунай. Уговорить охрану моста они не смогли, что говорит о малочисленности скифского авангарда. Потом основное скифское войско почему-то снова «не смогло» найти Дария, который, якобы, двигался по местности, где были засыпаны и отравлены колодцы.
Если бы Дарий победил, это отразилось бы в придворных сочинениях. Если бы он проиграл, то эллины с удовольствием рассказали бы об этом в своих преданиях. Получается, что не было ни поражения, ни победы. Но почему же тогда было бегство? И почему беглецов не удалось догнать хваленой скифской коннице? Разгадка тут такова: скифская конница была ничтожна перед армией Дария. А встало перед ним войско пешее – из лесостепной зоны, составленное из осевших на землю скифов и их северных соседей. Вот куда на самом деле отступали скифские передовые отряды – туда, где была оседлая часть их цивилизации. Перед мобильным войском Дария кочевники вынуждены были бежать. А сам Дарий бежал не от кочевников, а от земледельцев.
Конечно, Геродот не писал историю. Прежде всего, у него нет никакой хронологии. Масса ошибок выявлена как древними, так и современными историческими исследованиями. Зато у Геродота много уникальной информации, пусть изложена она хаотично и некритично.
Геродот, обретаясь при дворе македонского царя Александра I, конечно, не свободен от предвзятости. Служба обязывала. И все же никто его не заставлял так подробно и с таким пиететом описывать Египет и Азию и почти подобострастно говорить о царе Ксерксе. Проперсидская роль Македонии может быть тому оправданием, но конечная победа эллинов должна была повернуть ход мысли Геродота. Нет, не повернула. Вообще Геродот эллинов никак не жалует. Собранные им отрывочные сведения тем и хороши, что не обработаны. Из них с очевидностью следует: никакой солидарности в противостоянии варварам у греков не было, общая культура не означала взаимной поддержки.
Фермопилы. Конечно, следует прославлять не только 300 спартанцев, сложивших здесь свои головы. Геродот пишет о 4000 трупов эллинов, оставшихся на поле боя. Может быть, он еще и не посчитал несколько сотен спартанских илотов и периеков. То есть, битва была большая, по меркам Эллады – крупнейшая. Спартанцы просто бились до конца, отказываясь отступить. Одни союзники были ненадежны, и их царь Леонид постарался отправить куда подальше. Другие хоть и остались, в конце битвы начали сдаваться (правда, тут Геродот мог лукавить и выдавать сдачу части войска за сдачу конкретной его племенной части).
Платеи. Из сообщений Геродота ясно, что Элладу спасли спартанцы. У них 5000 гоплитов, у афинян 800. У спартанцев 35.000 легкой пехоты, у афинян не более 1000. Остальные союзники под видом запланированного отступления просто разбежались. Да, спартанцы могли отступить, поскольку воевать за других было не в их правилах. Но афиняне накануне объявили, что перейдут на сторону персов, если им не помогут. При этом обоснование их позиции – дважды сданные врагу без боя и сожженные Афины. Эвакуация афинян на Саламин не позволила им собрать сильное ополчение. Зато потом, после отражения варваров, со Спартой афиняне воевали с полным напряжением сил. При этом именно чванливые афиняне называли персов «варварами», а спартанцы называли просто «чужестранцами». Легкая ирония в слове «варвар» постепенно перешло в презрение и ненависть.
На море афинский флот был самым многочисленным и обеспечил победу в Саламинском проливе. Но тут курьез – роль афинского лидера Фемистокла, который все время сносился с персами. Геродот пишет о прямой измене Фемистокла, который посоветовав персам окружить флот эллинов, отрезав им путь к отступлению. Но исход битвы был в пользу греков, и Фемистокла эллины, намеревавшиеся отступить, признали мудрым. Потом, правда, на него завели судебное дело. И выяснили что Фемистокл вымогал деньги у сдавшихся персам слабых островных государств эллинов. Ну и куда же бежал от суда Фемистокл? Конечно, к персам!
Геродот историком не был, и свое творение «Историей» не называл. Многое в этой «Истории», увы, подправлено переписчиками. Об этом, например, свидетельствуют строки Фукидида, который утверждает, что Геродот не называл персов «варварами». Но в тексте Геродота, который дошел до нас, он такие характеристики допускает, хотя и редко. Сам термин «варвар» приобрел высокомерный и уничижительный оттенок лишь после побед над персами. Самоуверенность эллинов потом была наказана Филиппом Македонским. Ну а самоуверенность персов – Александром Македонским.
Описания Египта и очерк незначительного периода истории Персии непосредственно перед греко-персидскими войнами у Геродота образовались из пересказов. Хотя считается, что Геродот побывал не только в Ионии, но и в Сардах, исследователи однозначно указывают на то, что он не знал персидского языка.
Собственно исторический кусок сочинения Геродота – это всего лишь описание нашествия Ксеркса. Это современные Геродоту события. Поэтому он подробно касается состава персидских и греческих войск по племенам и по численности, хотя численность персов невероятно преувеличена. Геродот приводит не прямые данные, а расчеты, прикидывая, сколько воинов умещается на кораблях. Если греков Геродот считает сотнями, то персов – десятками и сотнями тысяч. Слава греков как бы увеличивается тем, что против них выступали полчища общей численностью в 5 млн. человек, которые выпивали целые реки.
В действительности достаточно подробное описание стратегического поведения полководцев Ксеркса говорят о том, что они вовсе не собирались «задавить массой». Они действовали осторожно, и их целью было подчинение Афин, а не разорение греческих земель. И только обстоятельства войны привели к тому, что Афины были сожжены – в порядке карательной экспедиции против вероломных подданных.
Можно не сомневаться, что значительного численного перевеса Ксеркс не имел. Его целью было расквитаться с афинянами за сожженные Сарды. Это надо подчеркнуть: инициаторами войны были именно Афины. Афинский отряд поддержал поход ионийских городов на Сарды и разорил их. Ксеркс несколько лет готовился к ответной экспедиции, но предварительно быстро расправился с ионийцами, которые не смогли объединиться и разбежались по своим городам после поражения в генеральном сражении. Ионию персы привели к покорности быстро и решительно. Зачинщикам бунта не поздоровилось, но дополнительных обременений на ионийские города наложено не было. Именно поэтому в походе Ксеркса участвовало множество эллинов. И даже после переправы войска персов (с союзниками) через Геллеспонт к ним продолжали присоединяться эллинские племена.
Бравурное описание победы эллинов над варварами, перекочевавшие в учебники, игнорирует важнейшие обстоятельства войны.
Во-первых, цели войны были достигнуты: Афины наказаны. Пелопоннес Ксеркс штурмовать, скорее всего, и не собирался. Такая перспектива у него была, если бы удалось объединить прочие эллинские племена под персидским владычеством. Тогда под руководством персов можно было бы начинать эту войну. Но поскольку склонить афинян к союзу так и не удалось, эти планы были отброшены. Здесь проявилась осторожность персов: ведь практически вся материковая Эллада шла за ними. Если бы не спартанцы, победы под Платеями не могло бы состояться. А если бы не афиняне, то не состоялось бы самой войны.
Во-вторых, уход Ксеркса из Эллады был обусловлен вовсе не военными поражениями. Победа эллинов в морском сражении у о. Саламин серьезных поводов для оптимизма им не давала. Ее значение явно преувеличено. Скорее всего, силы были примерно равны. При этом персидскому флоту пришлось отступить по тем же причинам, по которым Ксеркс с большей частью войска заторопился вернуться в Азию. Необходимо было срочно подавить восстание в восточных провинциях Персидской империи. Морские силы нужны были в этот момент для того, чтобы не позволить ионийским городам вновь поднять восстание, пользуясь тем, что силы персов отвлечены на восток.
Уходя из Эллады, Ксеркс оставил там сильную армию Мардония. Ее численность Геродот также очень сильно преувеличил. Скорее всего, в битве при Платеях силы персов и эллинов были приблизительно равны. Иначе Мардоний не стал бы отступать из сожженных Афин на местность в Беотии, где мог эффективно использовать свою конницу. И не медлил бы в течение нескольких дней, чтобы начать сражение.
Начало битвы было связано с тем, что персам удалось перекрыть противнику поступление продовольствия и подкреплений, а также засыпать источник воды. К реке невозможно было подойти из-за меткости персидских лучников. По этой причине эллины решили отступать. Их боевой порядок рассыпался: малые отряды союзников отделились от войска и в битве приняли участие только уже после того, как ее исход был решен. Афиняне также предпочли отделиться от основной силы – спартанцев. Даже в лагере спартанцев возникли разногласия. И все союзное войско начало беспорядочное отступление. Вот тогда Мардоний бросился вперед. На свою погибель.
Успех эллинов в битве при Платеях обусловлен не их стратегией, а исключительно выучкой спартанского войска. Неслучайно Геродот многократно подчеркивает роль спартанцев как спасителей Эллады. Остальные племена греков серьезной роли в битве не сыграли.
Войско Мардония управлялось гораздо хуже, поскольку состояло из разнородных отрядов, включая те, которые принадлежали к ненадежным племенам, участвующим в волнениях – в восточных провинциях и в Египте. Фактически свой маневр знала только персидская конница, которая и наносила наибольший урон эллинам. Но плотный строй спартанцев умело отбивал ее атаки. Остальное войско наступало беспорядочно, и лишь отряд персов в 1000 человек, которым командовал лично Мардоний, был серьезной силой. Распыленное на мелкие отряды войско персов наткнулось на плотный строй спартанцев, которые смыкали ряды и проходили сквозь персидские порядки, как нож сквозь масло. Легкая пехота под прикрытием фаланги осыпала персов градом стрел, дротиков и камней. Легкое вооружение персов, удобное в прочих случаях, здесь оказалось непригодным. Когда побежали персидские союзники (включая эллинов), персидские порядки расстроились окончательно.
Персы прекрасно знали, что победа им не гарантирована. Именно поэтому ими был заранее создан укрепленный лагерь, куда они и попытались отступить. Но беспорядочное бегство и отсутствие общей организации (Мардоний погиб) не позволили персам закрепиться. Кроме того, на исход битвы повлиял предательский уход сильного отряда Артабаза, который ревниво относился к лидерству Мардония и предпочел не рисковать, а быстрым маршем отправиться к Геллеспонту и ретироваться в Азию.
Ничтожные цифры потерь эллинов, которые приводит Геродот, безусловно, касаются только гоплитов. Поскольку цифры приводятся точные, то речь идет о списках, с которыми Геродот мог быть ознакомлен. Общие потери эллинов составили несколько сот человек (большая их часть, вероятно, – легкая пехота), то потери персов никак не больше нескольких тысяч (и большая их часть приходится на завершение битвы, когда войско начало разбегаться). Следовательно, численность войска Мардония никак не больше нескольких десятков тысяч воинов.
Повествование Геродота прерывается, можно сказать, на полуслове. Последний эпизод – незначительная битва при Микале, в которой эллины уничтожили небольшой отряд персов, высадившихся в Ионии со своих кораблей. Этот эпизод столь же преувеличен, как и Марафонская битва, в которой персы пытались отвлечь основные силы от Афин и быстро занять город, но потерпели неудачу: афиняне успели вернуться, быстро преодолев марафонскую дистанцию. Скорее всего, «марафонский пробег» тогда осуществило все войско. Неудача персов и в этом случае, как и при Микале, не имела для них большого значения.
Опасения за судьбу Эллады были не напрасными. Разгром ионийских ополчений показал эллинам, что их разобщенность может привести к тому же: первое же поражение может отдать Элладу в руки персам. Именно поэтому спартанцы попытались привлечь на свою сторону тирана Сиракуз, который имел морскую и сухопутную армию, которая могла сравниться со всеми остальными союзными силами эллинов. Но договориться не удалось. Тиран готов был применить свои силы, только если все союзные войска эллинов будут подчиняться ему. Или хотя бы только морские силы.
Первая фаза компании была полностью выиграна персами. Фермопильское ущелье, несмотря на мужество спартанского отряда царя Леонида, отстоять не удалось, и персы прорвались в центральную Грецию. Преимущество в морской битве у мыса Артемисия было утрачено, и греческий флот отошел к Афинам. Поражение флота Ксерска при Саламине серьезной роли не сыграло. Он добился своего: Афины были захвачены и сожжены, цели войны достигнуты. Поражение войска Мардония при Платеях можно списать на самодеятельность полководца, который хотел славы и владычества над Элладой. Но, вместо того чтобы дипломатией продолжать склонять эллинов к проперсидской позиции, которая во всех эллинских городах была достаточно сильна, решил показать свою силу во всем блеске военной победы. Ему настойчиво советовали ограничиться дипломатией, но Мардоний жаждал битвы.
Стратегическим просчетом Ксеркса стали проблемы с продовольствием. Рассказы Геродота о выпитых реках – явное преувеличение. Оно свидетельствует о том, что у войска была недостача питьевой воды, а вовсе не о его несметной численности. Геродот также упоминает о голоде в персидском войске. Ксеркс не учел крайне скудного существования греков, которые едва могли прокормить самих себя. Войско персов было обречено на бескормицу и поэтому сильно ослабло к битве при Платеях.
Притом что персы вынуждены были уйти из Эллады, проперсидская линия там все же победила. После Пелопонесских войн Афины и Спарта поочередно утратили надежды на гегемонию, и гегемонами стали сначала проперсидская Беотия, а потом проперсидская Македония. Александр Македонский не собирался править эллинами и по эллинским обычаям. Ему хотелось быть царем Персидской империи. Его победа над Дарием может рассматриваться как аналог междоусобицы. Эллины не подчинились персам, но и сами персов вовсе не сломили и не подчинили себе.
Полис и демос
Уже у Гомера место рождения (или жительства) – неотъемлемая часть представления любого героя, которая подобна современной фамилии. Незнакомца всегда спрашивают, откуда он родом (полис) и кто его родители. При этом предполагается, что вместе с принадлежностью к полису возникает цивилизованное отношение к страннику, которому всегда следует помогать. «Дикость» же проявляет себя в незнании богов, отсутствии стыда перед ними и пренебрежении законами гостеприимства.
Без полиса (общественного очага) человек – не просто «варвар», а никто. Или идиот – асоциальный тип. Отсюда – утверждение об особой роли полиса, которое становится загадкой современной науки, уговаривающей себя признать уже само слово «полис» священным.
Есть две альтернативные точки зрения на греческий полис. С одной стороны, древнегреческое самосознание очень конкретно и предметно, можно сказать, во всем телесно. Так говорит Шпенглер. С другой стороны, мы воспринимаем Античность по сохранившимся литературным источниками, и эти источники позволяют нам сказать, что полис жил словом и выражал себя в слове. В какой-то мере сам был словом – политическим дискурсом на агоре. Так говорит Пьер Видаль-Накэ. Но есть также и пограничное пространство – пространство мифа. Миф конкретен в своей сюжетной истории. Он нетеоретичен. Теории придаем ему мы – те, кто исследует миф, собственно, формируя мифологию. Но миф также есть логос, ибо в нем – пространство смыслов, передаваемых в словесной форме, но воспринимаемых не только или даже не столько через слово, сколько через чувствование, разлитое в древнегреческой культуре.
Видель-Накэ полагает, что греки были людьми бесхитростными, что их культура предъявляет живые оппозиции, не зашифровывая их, как это нам хорошо известно по собственной культуре: буквальное понимание культурных текстов чаще всего ведет к ошибке. Действительно ли древние греки не «шифровали» свою культуру? Скорее всего, это не так. Очевидное не оглашается и не объясняется. Поэтому для нас античные тексты и культурные образцы в любом случае становятся зашифрованными. Очевидное для греков неочевидно для нас. Наши бытовые привычки и их привычки очень различны. Но точно также они различны и в сравнении с варварами.
Для варваров греки были «зашифрованным» народом. Действительно, персы не могли видеть в спартанцах, встретивших их в Фермопилах, не только воинов, но даже мужчин. Лазутчик доложил, что эти люди приготовляются к сражению очень своеобразно: расчесывают свои длинные волосы и натирают маслом обнаженные тела. Разве, с точки зрения перса, это были воины? Когда в битве спартанцы доказали, что они – образец для воинов, то персы были озадачены.
Считается, что греки были такие оригиналы, что им непременно надо было жить в городах-государствах, а территориального государства они, якобы, и не знали. Это совсем не так. Спарта, Беотия, Аркадия, Аттика – это территориальные государства, а вовсе не город-государство. При этом государства могли бы сливаться в более крупные образования. Почему этого не состоялось? «Разделяй и властвуй» – персидская политика задолго до римлян. В нашей истории междоусобицы по большей части – результат ордынской политики. Разлад в едином культурном пространстве – вовсе не от властолюбия царей, князей и народных собраний, которые, якобы, были такие безумцы, что непременно хотели резать друг друга. Это влияние соседних империй в условиях ослабевания их мощи, не позволявшей прямо завоевать соседей, зато достаточной, чтобы подкупом и угрозой не позволять явиться своему могильщику – новому гегемону.
Афинский полис, который мы считаем чем-то классическим, в Древней Греции был исключением – как бы обнаженной идеей полиса, которая нигде больше настолько не была «чистой», чтобы претендовать на образец практического устройства жизни. Это исключение скорее выдуманное, поскольку и в самих Афинах «идеал» был достигнут фрагментарно и в разное время. В Аттике разница между рабами и земледельцами была едва различимой: землевладельцы обрабатывали свои наделы вместе с рабами. И едва сельские демы получили представительство в Афинах (реформы Солона и Клисфена), как нагрянула Пелопонесская война, и их земли были брошены на разграбление (этим решением прославил себя демократ Перикл).
В Спарте же города как такового не было. Спарта – это сросшиеся деревни, где городское центр едва обозначен. При этом вся земля была не частной, а общественной, но разделенной между homoioi. И там горожане не могли спрятаться за стенами и бросить сельских жителей на произвол завоевателей. Соответственно между городом и деревней не было тех противоречий, которые Афины могли себе позволить, лишь финансируя охлос за счет разбойничьей морской монополии.
Проблемы полиса были разрешены лишь экспансией в Азию. Иначе полноправным гражданам негде было бы реализовать свои права. Они были вправе быть гражданами, убивая варваров и складывая свои головы на полях сражений. У такого полноправия были и свои теоретики, вроде Исократа. Собственно, образование гоплитского сословия было идеальной формой гражданственности лишь в условиях мира и локальных и кратковременных сваток с соседями. Пелопонесская война положила этому конец, и гоплит на поле боя стал конкурировать с более мобильным легким пехотинцем, который был менее прихотлив относительно своего статуса, но как сословие более перспективен. Пелопонесская война отменила ритуальное гоплитское сражение между фалангами. «Партизанская» война, косой строй, смещение ударной группы с правого фланга на левый – все это убило не только правила войны, но и прежнее представление о гражданстве.
Гражданские права и обязанности у греков невозможно понять и осмыслить без военных. Полис и война – вещи нераздельные. Но это была война по правилам, и пока она была таковой, гоплит (с VII века) был гражданином, но как только гоплит оказался жертвой «партизан», а потом вместе с массами лишенных имущества жертв войны был превращен в часть массы, выплеснувшейся из греческого мира в Азию, о гражданских правах можно было забыть.
Народность, проявившаяся в «партизанских» методах войны ополчения, победила аристократизм гоплитской гражданственности, как только сражение перестало быть коллективным состязанием. Военная хитрость растоптала древнюю бесхитростность, идеальный полис остался лишь идеалом Античности, который на своих копьях эллины принесли в Азию и превратили в мировую идею.
Демос любого греческого полиса – это набор родовых общин, с которыми так основательно вела борьбу афинская аристократия. Но идеал родового членения любого политического единства так и не удалось преодолеть. Он отражен в «Илиаде», где мудрый Нестор предлагает построение войска перед сражением по фратриям и филам, что определит боеспособность каждой единицы. Ему же Гомер относит высказывание о том, что человек, не включенный во фратрию, находится «вне закона и очага».
Аристотель писал, что полис не мыслим без деления на филы (phule). Также как слово polis, phule указывает на антропологическое родство. Но логично также считать, что племенной характер деления со временем заменился на общинный, административный. Ионийские города традиционно делятся на четыре филы, дорийские – на три или четыре. Каждая фила делится на фратрии. Согласно утверждению Ж.Дюмезиля, три римские трибы соответствовали трем этническим группам: латинян, этрусков и сабинян.
Филы дорийских городов называются в античных источниках в неизменном порядке: Dumanes, Hulleis, Pamphiloi. При этом распределение государственных постов между филами было равным и подчиненным ротационным правилам, более сложным, чем прямая очередность: последовательности меняли, используя все возможные перестановки очередности. Тем не менее, памфилы имели некоторые ограничения: они не допускались к некоторым ритуалам с публичными жертвоприношениями. Если появлялась четвертая фила, то она также обычно была выше памфилов. Название «памфилы» семантически связаны с самим термином «фила». То есть памфилы – это «собственно народ», граждане, находящиеся за пределами остальных фил.
О том, что остальные филы – не совсем народ, говорит надпись с острова Кос, в которой указано, кому посвящены жертвы трех овец от каждой филы: от Hulleis – Гераклу, от Dumanes – Anaxileia (народу царей: anak(t) – «царь», laos – «народ, воинство»), от Pamphiloi – Диметре. Получается, что фила потомка Геракла – народ-завоеватель, фила царей – ранее царствующий народ, а почитатели Деметры – это «собственно народ», неизменное местное население. Для Спарты две первые филы определяют двоецарствие (думаны с течение времени получили ахейскую династию), а поклонение Артемиде – древнейший сельский (земледельческий) культ восточного происхождения.
О лидийском происхождении культа Артемиды Орфии свидетельствуют «лидийские шествия» в Спарте, а также «танец лидийских девушек» в торжествах в честь Артемиды в Эфесе. В данном случае речь, очевидно, идет не об иностранцах, участвующих в культе, а о чужестранном компоненте культа, связанном, например, с мифом о рождении Артемиды.
В Спарте каждая из трех фил делилась на девять фратрий. Скорее всего, в каждую фратрию входили представители каждой из фил, что упрощало систему военной организации, соединяя родственные и социальыне связи. И это новшество в сравнении с более ранними временами, упоминаемыми Гомером: когда войско строили по филам и фратриям.
В отличие от Спарты, Афины были поистине «многонацинальны». В них первоначально было четыре филы (Geleontes, Aigikoreies, Argadeis, Hopletes), поделенные каждая на три фратрии, а фратрии делились далее на тридцать «родов» (gene). После реформы Клисфена полис был разделен на 10 фил, а число демов в каждой трети филы было сокращено до десяти. Филы стали только территориальными единицами, земли которых распределялись между фратриями. Территориальный и родственный признаки были сложно перепутаны – до такой степени, что трудно понять, как вообще можно было управлять Афинами при столь сложной административной организации. Это была переходная форма к индивидуальному гражданству, о котором мечтал Аристотель, полагая, что деление на филы и фратрии мешает государственному управлению. Он приветствовал увеличение их числа (а значит, снижение их значимости и способности существовать отдельно от остального населения Афин).
Идея общего гражданства в Греции не сложилась даже на уровне полиса. О чем свидетельствуют специальные празднества воссоединения фратрий: Apella – в Спарте, Apatouria – в Афинах. Само существование этих празднеств говорит о том, что множество прочих событий в жизни полиса происходило «по фратриям» – даже если граждане собирались вместе в Народном собрании. Из этого следует, что родовая структура общества, скорее всего, вообще неустранима – ее нельзя нивелировать никакими усилиями, если не желать нанести обществу непоправимый ущерб. Выведение «новой исторической общности», как показала практика последующих эпох, совершенно невозможно.
Мужчины и женщины, любовь и смерть
Мир Гомера – мужской, но в нем отчетливо видны признаки матриархата: как в главном действующем божестве Афине, так и во множестве женских персонажей, без которых гомеровский эпос совершенно немыслим. Властные функции есть не только у божественных Калипсо и Кирки, но и у земных женщины – от амазонок, до супруг героев и царей, побуждающих своих мужей к действию.
В отличие от гомеровских времен, греки классические почти не знают женских исторических персонажей. Считанные единицы из них имеют что-то сверх упоминания имени. В классификации пифагорейцев женское ассоциировалось с дикостью (но также и с бесконечностью, темнотой, левым и четным).
Полис вырастает из «мужских союзов», а женское правление выглядит в нем настолько нелепо, что служит поводом для комедийных сюжетов («Лисистрата» и «Женщины в народном собрании» Аристофана). Тем не менее, критские законы (Гортинская «конституция») предполагали, что свободная женщина могла выйти замуж за раба, спартанские девушки наравне с юношами участвовали в спортивных состязаниях. Но нигде женщина не имела гражданских прав. Это считалось настолько же невероятным, как полис рабов или власть чужестранца над греками.
Если брать пример Афин, то женщина там имела статус, аналогичный статусу раба. Просто раб выполнял часть самых тяжелых домашних работ, замещая женщину. Но при этом стоит сказать, что Афины как воплощение рафинированной идеи полиса, являются в греческом мире не правилом, а исключением. Правило в отношении женщин было не столь жестким, как у афинян. Аристотелю принадлежит смутное определение: «И женщина бывает хорошая, и даже раб, хотя, быть может, первая и хуже [мужчины], а второй и вовсе худ».
Отношение к женщинам у Гомера, да и в любом традиционном обществе, двояко. В нем присутствует некий мистический (хтонический) страх, соседствующий с подозрением женщины в причастности ко всякого рода злу. Начиная от Пандоры, опрометчиво выпустившей в мир все страдания людские, греческое предание содержит множество персонажей, на которых переносится вина за страшные последствия и подозрения в проявлении какой-то скрытой злонравной природы. Елена становится причиной Троянской войны, погубившей множество героев (хотя при этом она считается просто орудием богов), раздор в ахейском войске возникает из-за прекрасных пленниц Хрисеиды и Брисеиды, Клитемнестра убивает своего мужа – царя Агамемнона вместе с наложницей Кассандрой, которую тот привез из Трои. Даже Пенелопа – невольная виновница убийства женихов и войны на Итаке. Гекуба и Андромаха – не столько виновницы несчастий, сколько знак несчастья вообще, знак того, что любовь несет с собой несчастье. У Гомера есть только один непорочный образ – царевна Навсикая, которая не становится причиной какой-либо беды, поскольку ожидаемое сватовство Одиссея не состоялось, и герой отправляется на родную Итаку. Непорочность связана с незавершенностью наметившейся, было, истории.
Сирены одновременно прекрасны и ужасны. Калипсо и Кирка не так прекрасны, как Елена, зато страшны своим колдовством. Афина в хтонически громадном явлении – крайне опасна, а в антропоморфном виде одновременно приносит мудрость тем, кому покровительствует, и несчастье тому, кто действует против ее воли.
Эротизм у Гомера и архаических греков – крайне сдержанный, почти не ощущаемый. Гомер лишь упоминает, что Зевс почивает рядом со златотронной Герой, Парис – с Еленой «на кровати сверленой», Одиссей – в своих покоях с Пенелопой, а ранее – со сладострастной Калипсо в укромном уголке пещеры. Но при этом нет никакого намека на скабрезность или порнографию. И последующая традиция выставления в предметах искусства обнаженной натуры совершенно нехарактерна для микенских греков. Гомеровские «прекраснолодыжные» женщины явно носят длинные одеяния. Не говоря уже о «длинноодеждных» троянках.
При всей телесности картин гомеровского эпоса, они лишены всякой сексуальности. Брачное ложе Зевса и Геры целомудренно покрыто золотым облаком. Афродита после встречи с Архизом лишь сияет «красотой нетленной» своих ланит. При этом в отношениях мужчины и женщины у Гомера нет не только эротизма, но и никакой романтики. Это эпически-сдержанная форма, в которой любовь может быть только возвышенной. А вот последствия любви – вполне катастрофическими.
Единственный случай у Гомера, несколько продляющий отношения между мужчиной и женщиной за определенную грань – это история прелюбодеяние Ареса и Афродиты. И в этом случае попавшиеся в сети Гефеста любовники выглядят комически, и боги хохочут над ними. И снова мы не замечаем никакой непристойности. Максимум эротизма – это высказывание Гомера о теле совершающей омовение Геры – «будящее страсть». Куда свободнее Гомер в описании ее наряда: платье в узорах, золотые застежки, пояс с сотней кистей, серьги «с тутовой ягодой сходные», белое «как солнце» покрывало и «красивого вида подошвы».
Одеяния гомеровских женщин скорее напоминают изображения на микенских фресках, чем известные скульптурные изображения классического периода. Женщины eydzonos и callidzonos – «прекрасноподпоясанные», bathydzonos – «глубокоподпоясанные» – туго затянутые в поясе; bathycolpos «с глубокой грудью» – возможно с глубоким вырезом или высоким корсетом; tanypeplos – одетые в обтягивающие фигуру платья, а также eyplocamos, calliplocamos – «с прекрасными косами».
В «Одиссее» есть загадочное место, которое трудно интерпретировать: «И они прошли мимо потоком Океана и мимо Белой Скалы (Leukas petra) и мимо Ворот Солнца и мимо Области Снов (demos oneiron)». Пояснений на счет того, что значат все эти символы в античной литературе, практически не существует. Но для древнего грека эти символы были очевидными, не требующими пояснения. Это был путь душ убитых женихов Пенелопы в подземное царство. И каждый умерший проходил его, совершая символическое плавание по маршруту, указанному в «Одиссее». И первая примета этого пути – Белая Скала. Вполне возможно, что речь шла не об убийстве, а об изгнании. Тогда Белая скала – о. Левка, где упокоились тела Ахилла и Патрокла. При этом его локализация в Черном море ошибочна. По логике этот остров находится между Итакой и Пилосом.
«Врата Солнца» – pulai – гомеровский Пилос, Pulos. Правитель Пилоса Нестор, Nestor – «тот, что возвращает к свету жизни». Слова от корня *nes– относятся к теме восхода солнца, нового расцвета жизни, а также к «возвращению домой». Пилос – это граница, вход в Подземный мир. Или Врата Солнца, если понимать, что из этого подземного мира иным доводится возвращаться (как и из дальнего путешествия, из которого не ждут возвращения). Оттуда же встает солнце после ночного небытия.
Гермес, провожая в Аид умерших женихов, имеет статус «проводника снов» (Гимн к Гермесу). Понятно, что смерть подобна засыпанию. За Солнечными Вратами начинается Область Снов, куда улетает psukhe умирающего человека. Но откуда в этой системе символов Белая Скала? Ведь это – некий символ, предвещающий вступление за Врата Солнца. Когда смерти еще нет, но она неизбежна.
Символ Белой Скалы находится у Менандра, описавшего, как Сапфо бросается в исступлении страсти к Фаону со скалы, «что сияет издалека». Локализация скалы – Левкадийский мыс (о. Левкада), на который прямо указывается в поэме «Левкадия». Данный отрывок в своем описании острова и мыса приводит Страбон. Здесь же он описывает святилище Аполлона и древний культ – сбрасывание преступника в море с белой скалы. Странный обычай привязывать к телу казнимого крылья и даже птиц говорит о том, что возможность взлететь – одно из ожидаемых событий. И лодки, ожидавшие внизу, могли не только подобрать тело погибшего, но и помочь выжившему выбраться из воды. Ненайденный, разумеется, считался унесенным богами.
В античной лирике имеется также поэтическая строка Анакреонта: «Опять, прянув в воздух, вниз с Белой Скалы лечу я в седые волны, опьяненный страстью». В драме Еврипида «Циклоп»: «Я спятил бы, когда бы не отдал все стада Циклопов за то, чтобы выпить одну чашу (вина), а потом прыгнуть с белой скалы в соленую пучину, опьяненным, со смеженными веками. Кто не радостен, когда пьет, тот безумен».
Логично предположить, что прыжок со скалы первоначально был казнью за прелюбодеяние (или иные преступления «от любви»), и выживший считался искупившим вину. Позднее, несчастная любовь (в случае Сапфо) привела к возникновению обычая: прыжка со скалы, который либо губит смельчака, либо дает ему непередаваемое ощущение полета, дополняющего восторженное и трагичное чувство, охватившее его душу. Наконец, прыжок со скалы становится уже просто дополнением к питейному ритуалу, актом радости и торжества. Вероятно, уже не столь опасным, как изначально.
Таким образом, женихи Пенелопы вполне могли быть подвергнуты казни за прелюбодеяние – сброшены со скалы в море. После чего умершие проходили Врата Солнца и попадали в Обитель Снов. Судя по всем, этот обычай древнее греческой цивилизации, коль скоро о нем имеются столь редкие свидетельства. Но он наверняка исходил из минойской культуры, где прыжок со скалы был рискованным спортивным развлечением – наряду с прыжком через быка, детально отраженном на критской фреске и на золотой печатке. А в древнейшем мифологическом придании такой поступок стал уделом богов.
В так называемой «гробнице ныряльщика» (Посейдония, Южная Италия) имеются картины симпосия, финалом которой является прыжок ныряльщика – то ли просто прыжок со скалы от пьяного восторга, то ли прыжок в запредельное – иной мир.
Это изображение, которое относится к V в. до н.э., напоминает фигурку минойского ныряльщика – «прыгуна из Кносса» (слоновая кость, ранее покрытая золотом).
Согласно сборнику мифологий Птолемея Хенна (ок. 100 г. н.э.), первой со скалы Левадского мыса бросилась сама Афродита – из любви к Адонису. Причем, богиня последовала совету Аполлона Эрифия (в святилище в «кипрском Аргосе»). Неясная аргументация такого способа избавления от любви указывает на Зевса, который именно на этой скале ищет убежища от страсти Геры. Каким же образом? Возможно, тоже бросаясь со скалы, чтобы загладить вину за преступную любовь, которая постоянно охватывает Зевса и вызывает гнев Геры. Птолемей перечисляет тех, кто прыгал со скалы: одни в результате прыжка погибали, другие выжили и избавлены от сердечных мучений.
Павсаний рассказывает, что «около моря есть так называемый Прыжок Главка» – скала, названная именем простого рыбака, который, прыгнув со скалы, приобрел дар пророчества. Что прыжок и даже ныряние в море носило у греков характер сакральный, говорит другая цитата из Павсания: «Из женского пола нырять в море могут только чистые девушки». И тут же приводится рассказ о некоей Гридне с отцом, которые отрывали якоря у флота Ксеркса у г. Пелиона. Почему по традиции не сохранилось имени отца? Вероятно, прыжок в море в основном был уделом именно женщин, девушек. У греческой истории есть множество сюжетов, когда прыжок со скалы либо приводил к тому, что боги уносили смельчака в свои чертоги (то есть, налицо священная смерть), либо сберегали им жизнь и получали в дальнейшем их покровительство.
В античной литературе существует множество вынужденных и добровольных прыжков со скалы. Страбон упоминает, что со скалы прыгали не только преступники, но и влюбленные. Причем, первым прыгуном по доброй воле он упоминает некоего Кефала, одержимого страстью к Птереладе. Основатель Лампсака Фокс бросается с «Белых Скал» на берегу Смирнского залива, неподалеку от Фокеи. Эгей бросается со скалы в одноименное море. Дионис прыгает в море из страха перед Ликургом («Илиада»). Ликомед сталкивает Тесея в море со скал о. Скирос. Сам Тезей сталкивает Скирона со «Скироновых скал», которые (судя по «Описанию Эллады» Павсания) до этого назывались Молурида и были посвящены Левкотее, Белой Богине. С этой скалы Левкотея бросилась в море со своим сыном Меликертом. На вершине Молуриды стояло святилище Зевса Афесия («Отпускающего»). Далеко не все прыжки со скалы, как мы видим, связаны с любовными страстями.
В парфении лаконца Алкмана, содержится сравнение танцующей и поющей в хоре Агесихоры с прекрасным конем посреди пасущейся живности. Причем с конем из снов «из-под низа скалы» (или, в другой интерпретации – «из крылатых снов»). Сравнение становится понятным – сны под скалой связаны с прыжком со скалы, а вовсе не с отдыхающими под скалой в полуденный зной. Внизу скалы – сны, схожие со смертными, которые суждено увидеть тому, кто от любовных страданий решается прыгнуть вниз.
Но причем тут конь? Здесь также имеется связка с любовными страстями, причем божественными, а оттого бесстыдно-физиологическими. В схолиях к Ликофрону и к Пиандру содержится миф о рождении коня Скифия, который порожден из семени Посейдона, извергнутого во время сна на скалах Колона в Аттике или на фессалийских скалах. Прозвище коня – Скиронит (Скальный). Ему приписывается также первый прыжок со скалы. Тем самым, конь оказывается символом сексуального влечения, следствием которого является прыжок со скалы. Мифологический сюжет лишь переставляет местами некоторые детали. Конь «из-под низа скалы» – Скиронит, летящий чудесный потомок Посейдона. Ему уподобляется «окрыленный страстью», летящий с Белой Скалы.
Божественное женское начало в древнем мифе активно и столь же опасно. Оно несет и любовь, и смерть. В «Теогонии» богиня зари Эос похищает Тифона и рождает Мемнона – царя эфиопов, затем – Кефала и Фаэтона, которого похищает Афродита. В «Одиссее» Эос похищает героя Клита. Там же содержится упоминания о похищении Ориона. Каждый раз подобное похищение связано со смертью либо в начале, либо в конце сюжета.
Граница, за которой начинается мир мертвых – недоступное пространство за пределами реки (potamos) Океан, окаймляющей Землю. Образ мировой реки-Океана как границ, внутри которой протекает жизнь, присутствует и в поэмах Гомера, и в «Теогонии» Гесиода. В «Илиаде» Океан обозначает край щита Ахилла. Согласно «Илиаде» солнце встает из Океана и садится тоже в Океан, дающий начало всем рекам. Правда, реки впадают в Океан. Поэтому логичнее говорить о том, что они находят там свой конец, а не начало. Лишь «обратное» (надо понимать, противоестественное) течение Океана может поменять логику: в мифе начало и конец меняются местам, устье становится по значению истоком.
По мифологии Океан – отец ряда больших рек. Одна из мифических рек – Эридан, которая имеет сходство с самим Океаном. У Эсхила пораженный молнией Зевса Фаэтон падает в Эридан, что совершенно аналогично заходу Солнца в Океан. Кроме того, дочери Солнца были превращены в тополя на берегах Эридана. В «Одиссее» тополя ассоциируются с Океаном и границей царства мертвых. Преемство определяется связкой – Фаэтон – сын Гелиоса, Эридан – сын Океана. Разница лишь в том, что героический сюжет представляет однократное событие, божественно-космический – многократное (восход и заход Солнца). Земное начало в герое заключено в смертной матери, породившей его. Женское начало в данном случае становится причиной гибели героя, который забывает, что он – сын смертной.
Эос и Афродита именуются дочерьми Зевса, когда описывается сцена похищения возлюбленного. Можно предположить, что похищение происходит ради Зевса или именем Зевса – точно так же, как боги похищают Ганимеда для Зевса, чтобы его красотой ублажать олимпийцев. Кони Эос, которых дает ей Зевс, зовутся Ламп и Фаэтон (то и другое – «сияющий»), при этом дочери Гелиоса называются теми же именами в женском звучании. Гелиос, входит, является прародителем коней, первым Конем. В мифологическом символизме это также первоначало Любви.
Всюду похищение связано со словами «подхватить, схватить, взять». В гомеровском «Гимне Афродите» сюжет с похищением богами Ганимеда сопровождается формулой «порыв ветра подхватил». Эта формула повторяется и в других эпизодах гомеровских текстов. О пропавшем Телемахе Пенелопа говорит, что его «подхватили порывы ветра», Телемах о своем пропавшем отце говорит, что его «подхватили хваткие ветры, Гарпии». Прося у Артемиды смерти, Пенелопа просил Артемиду унести ее дух (thumos) порывом ветра (thuella) и погрузить в «потоки текущего вспять Океана» (то есть, совершить путь Солнца). Примером для ее формулы служит судьба дочерей Пандарея, которых «взяли (anelonto) порывы ветра», а Гарпии (harpuiai, «хваткие ветры») «подхватили» (anereipsanto) их.
Смерть для человека, таким образом, связана с порывом ветра, который уносит дух, потом погружает в Океан, подобно Солнцу, а потом перемещает в подземный мир (где Солнце бывает ночью). Смертный проходит этот путь однократно и остается в подземном мире. Тем самым следование за Солнцем-Любовью – это путь смерти. Пенелопа просит смерти от Артемиды – от ее «нежных стрел». А вот когда ветры «подхватывают», смерть мучительна («Одиссея»).
В «Илиаде» говорится, что коней Ахилла родила от ветра Зефира гарпия Подарга («яркая, быстроногая»). Гарпия при этом «паслась» у побережья Океана. То есть вблизи царства мертвых. Диоскуры имеют эпитет leukopoloi («яркие кони»), у них есть конь Harpagos («хваткий») и сын Podapge («яркий, быстроногий»). В Спарте существовало сообщество жриц-левкиппид («яркие лошади»), связанных с культом Елены.
Жеребец – символ жениха во многих древнеиндийских ритуалах. Следы этой традиции прослеживаются и у греков. В «Фаэтоне» Еврипида конем (polos) Афродиты именуется жених – герой свадебной песни (гименея) Гимен, который должен получить «новое ярмо» от дочери Зевса.
Любовь и Смерть связаны в мифологических персонажах. Дочерей Пандарея боги сохраняют, Афродита намеревается устроить их брак, но они унесены Гарпиями. Эос похищает и сохраняет Ориона, но он находит смерть от Артемиды. При похищении Клита Эос «подхватывает» его (губит), но для того, чтобы он смог стать бессмертным. То же проделывает Афродита с Фаэтоном. При этом Афродита имеет культовый эпитет «Черная» (Павсаний), связанный с подземным миром – как черная Кера, олицетворяющая неизбежную погибель.
Гомеровские греки страшатся смерти. Ахилл высказывает это вполне недвусмысленно: «С жизнью, по мне, не сравнится ничто». Потому богатства можно потерять, а потом нажить, а жизнь назад не воротишь: «не поймаешь, когда чрез ограду зубов улетела». И утешение можно найти лишь в идее «вечного возвращения» – жизнь возвращается, как возвращается листва у деревьев весной. Судьба определяет жизнь и смерть, а потому беспокоиться не о чем – ни о собственной жизни, ни о жизни других. Смерть приходит как судьба, и никто не волен ее отвести. Страх смерти может быть моментальной слабостью того, кто знает о неотвратимости судьбы.
У греков нет Рая, нет упокоения души. «Острова блаженных» – это не то место, где положено быть всем душам. Это лишь аналог Олимпа, куда доступ не дозволен даже самым великим героям. Поэтому Ахиллу и Патроклу после смерти приходится отправляться на «Острова блаженных». А куда деваются остальные герои? Они направляются в Аид и там влачат жалкое существование – как «уставшие». Печальное зрелище этого места представляет в своих рассказах Одиссей.
Аид – место вовсе не в глубине земли. Оно – на дальних пределах морских путей, подобна обычной земле, но населена бестелесными душами, которые в большинстве своем способны вступить в общение со смертным, лишь когда напьются крови. Одиссей им такую возможность предоставляет, и ему открывается крайне жалкая картина. Умершие помнят о своих близких, любят их, но это лишь недолгий момент, пока они насытились кровью. Потом они снова «устают» и прекращают на что-либо реагировать.
Здесь, как ни странно, оказывается и Ахилл, и Геракл, которому надлежало быть на Олимпе вместе с богами, и Орион, который одновременно охотится где-то на небесах. Два мифических пласта соединены воедино.
Столь долгое существование концепции безрадостного Аида загадочно и противно человеческому рассудку. Позднее у пифагорейцев в их космогонии никакого Аида вообще не было – души пребывали где-то в космосе и то и дело залетали на Землю, приобретая тела людей. Потом снова отлетали. Эта концепция жизни и смерти более радостна, и в ней есть настоящее «вечное возвращение» – бессмертие души, о котором знал Сократ, и это знание позволило ему с надеждой отойти в мир иной.
Рабы полиса и людоеды «золотого века»
Принятое сегодня понимание рабства в Древнем мире кардинально отличается от того, на которое указывают источники. Труд раба и труд свободного отличались незначительно. Сельский труженик Аттики формально мог иметь политические права, но не был в состоянии ими воспользоваться – он трудился вместе со своими рабами на своем земельном наделе и не имел свободного времени для участия в Народном собрании.
У Гомера даже цари исполняют самую простую работу. Ахилл с Патроклом начинают жарить мясо для гостей – послов Агамемнона, пришедших уговаривать их принять участие в битве. Царевна Навсикая полощет белье вместе со своими прислужницами. Это семейная стирка, в которую попадает белье царя Алкиноя и братьев Навсикаи с их женами. При этом братья распрягают мулов, когда Навсикая возвращается после стирки. Одиссей и вовсе занимается земледелием – пашет землю, а его отец вместе с рабами трудится в саду и огороде. Также Одиссей участвует в строительстве своего дома и изготовлении супружеского ложа.
Статус раба в гомеровском эпосе достаточно разнообразен. От униженного невольника, который выполняет самую тяжелую работу, до домашнего слуги, который сам может обзавестись рабами. При этом именно покупка человека определяет, что он – раб. Свободный бедняк может быть в гораздо худшем состоянии – и это хорошо видно на примере Одиссея, прикинувшегося бродягой. Вместе с настоящим бедняком Иром он подвергается насмешкам женихов Пенелопы, у которых приходится выпрашивать пищу. Нищенство бедняка бывает куда более унизительно, чем труд раба. О горькой доле бедняка свидетельствует Ахилл в своей беседе с Одиссеем при встрече в Аиде. Агамемнон описывает свой статус царя не в противопоставлении с рабом, а в сравнении с бедняком. Из слов Одиссея, рассказывающего очередную вымышленную историю, богатство определяется не дворцами и драгоценностями, а числом рабов: «С чем хорошо нам живется, за что нас зовут богачами». Другие богатства Одиссей обобщенно называет «все остальное».
Раб в гомеровскую эпоху – один из основных товаров. Со специфическим свойством – определять богатство человека. И это свойство раба сохранилось до римских времен: раб был не основной производительной силой общества, а своего рода символом могущества. Неволя одних демонстрировала силу воли других.
Рабом грек становился, когда не мог себя защитить – попадал в руки к пиратам или оказывался серди побежденных в войне. Если у него не было родственников, способных выкупить его, рабство было неизбежным. Но положение в условиях рабства зависело от того, кто являлся хозяином раба. Стандартных прав и обязанностей у раба нет – их определяет хозяин. Поэтому у Одиссея свинопас Евмей имеет собственное жилище, распоряжается хозяйским скотом, имеет своего раба и общается со свободными как с равными (целуется при встрече). Нянька Одиссея старая Евриклея занимает в его доме вполне привилегированное положение и не страдает от своего рабского положения. Но гнев хозяина для раба страшен. Так, Одиссей, убедившись в неверности раба Мелантия, тут же убивает его, а неверных служанок-рабынь казнит повешением.
В положение раба может попасть и доселе богатый и знатный гражданин. Такова участь пленников Трои. Гектор, предвкушая свою гибель, жалеет Андромаху, которая станет невольницей и будет ткать для других людей и носить им воду. Мучительно в данном случае не исполнять тяжелый труд, а осознавать свою несвободу, свое унижение.
Рабовладение классической эпохи использует для раба термины doylos, oiketes и andrapoys. Лишь второй термин однажды встречается в гомеровском эпосе, но скорее всего, за счет поздней вставки. У Гомера рабы обозначаются как dmos, рабыни – как «женщины», amphipolos – старшая прислужница госпожи. Различие в терминах говорит не столько о различии в статусе раба, сколько о масштабах распространения рабства и доле рабов в населении греческих полисов. Гомеровские греки не знают массового рабства, которое позволят гражданам Афин благоденствовать и заниматься политическими склоками. Массовое рабство приходит только с затяжными и разорительными войнами.
Термин «раб божий» в пилосских глиняных табличках обозначает не невольников, а свободных людей, занятых на сельских работах вблизи дворца, который одновременно являлся и храмовым комплексом (так же, как и прообраз Пилосского дворца – Кносский дворец на Кипре). «Раб божий» – это добровольный храмовый труженик, получающий надел земли, чтобы служить божеству, и одновременно – добывать себе пропитание.
Из тех же пилосских табличек следует, что рабами в полном смысле слова являлись в основном женщины и дети. Занятие этой достаточно немногочисленной группы (всего около полутора тысяч человек или менее – в силу того, что записи могли быть сделаны в разное время) – сезонные сельхозработы (например, обмолот зерна) и домашний труд
Возможно, до сих пор недооценено значение паразитической функции полиса, которая в Афинах приобрела наибольшее значение в сравнении с другими полисами. Фактически в Афинах Перикла статус раба и статус свободного земледельца отличались незначительно. А численность рабов-невольников была сравнима с численность формально-свободных граждан и метеков.
Афины предпочли включить в состав граждан полиса свободных греков-земледельцев. Но это мало что им дало. Труд был столь же тяжел, как и ранее, а участвовать в политике землепашцам было недосуг. В Спарте илотия – более эффективный и честный институт. Илоты получали землю, а часть урожая отдавали гражданину-воину, который защищал страну, рискуя жизнью, а в условиях мира участвовал в народных собраниях и исполнял прочие гражданские обязанности. Фактически илотия – это договор между землепашцем и воином. Поэтому в Спарте не было городской черты и городских укреплений. Афины же, когда решался вопрос, защищать ли город или территорию, бросали селян на произвол судьбы: Перикл предпочел спасать только часть демоса, но не воевать с врагом в поле. Собственно, Афины и не были для этого приспособлены: они предпочитали контролировать морские пути и сражаться на море. Эта стратегия потерпела в итоге полный крах, а Платон продумывал свое идеальное государство, решительно отказавшись от создания военно-морской силы.
Граница сельских владений греческого полиса – это граница между возделанной земледельцами территорией и дикой природой, где живут варвары, а еще дальше – мифические существа и боги. Полис и демос – закон и традиция общины – центр, вокруг которого формируется пространство цивилизации. Далее – зона труда земледельцев с общинными поселениями и пограничье, с которым связаны обязанности эфебия и криптии. Образно можно сказать: в полисе царит Гермес, на границе – Дионис. Или в другом варианте – Афина и Артемида.
Если земледелец Эллады – ее униженный кормилец и герой, то ремесленник – ее безвестный герой, созидатель цивилизации, которая не отдала ему должное и ничем его не прославила. Потому что ремесленник не вписался в мыслимый полисный идеал. Он мог быть рабом, иностранцем-метеком, свободным гражданином. И потому его место в полисе было неопределенным, указанным лишь ситуацией – большим строительством, работой крупной мастерской и т.д. Полис думал о войне и столкновении партий в борьбе за власть, но не о своей экономической основе, и даже не имел аналогов слова «труд». И только Платон, размышляя об идеальном государстве, вдруг вспомнил о ремесленнике и фактически создал проект государства ремесленников. Профессиональный ремесленник был подобен бродячему музыканту или актеру. Его называли поначалу демиургом – приятелем других бродяг, а в классическую эпоху – «технарем» (technites), как называли позднее и актеров. Ремесленник рассматривался как хитрец, изобретающий способы облегчить свой труд. В противовес земледельцу (georgos), который в поте лице добывал свой хлеб. Земледелец был аналогом гордого гоплита, а «технарь» – аналогом юнца, ищущего приключений, устраивая засады на зверей и людей. Война и земледелие – благое и уважаемое занятие для всех граждан, а вот разные ухищрения – дело общедоступное, а потому низкостатусное. Когда «хитрецы» оказались необходимы для борьбы на морских театрах войны (проектировали и строили корабли, были гребцами и навархами), гоплитский полис прекратил свое существование. Выразилось это даже в стиле греческих источников, где вместо яркости и образности устного слова стали доминировать канцелярские обороты.
Одиссей прячется от Полифема под брюхом овна
Труд как системное преобразование природы не был свойственен грекам. Подобные ориентации им были приписаны в эпоху Просвещения, которой нужен был идеал, обоснованный древностью. Между тем, образец гражданственности был связан с обладанием недвижимым имуществом, которое гарантировало верность своему полису. Напротив, люди свободных профессий всегда были под подозрением, поскольку всегда могли переселиться в другой полис. Это касалось и ремесленников, которые обеспечивали преимущество греческих городов над варварской периферией.
Рабства нет только в мире «золотого века», который грезился где-то в далеком прошлом греков, а Гомером показан в приключениях Одиссея. Нечеловеческий мир «золотого века» открывается Одиссею после войн, грабежей, пира у фракийского племени киконов и отплытия к мысу Малея – все это реальные факты домифического мира. Пересмотрев множество «ненормальностей» сохранившихся островов «золотого века», Одиссей возвращается домой – к привычным несправедливостям от ужасных образов незапамятных времен.
В мире Кроноса людей как таковых нет – ни единого человека, кроме самого Одиссея и его спутников. Нет здесь и земледелия. В гостях у Кирки Одиссей не находит следов «трудов смертных», у лестригонов не видно ни дымка от домашнего очага, ни быков, ни работников в поле, у Калипсо на острове растет виноград, но он дикий. Всюду Одиссея и его спутников обильно кормят, но это пища богов, а не людей. Здесь нет жертвоприношения – забоя животных, выращенных людьми, а потому закланье баранов у циклопа происходит совершенно «не по правилам», и Зевс его отвергает. Циклоповы бараны живут сами собой, земля сама – без пахоты и сева – дает зерно, виноград растет сам и не требует ухода. На фоне этой благостности райских кущ – людоедство, сыроядение (бараны пожираются целиком – с костями и внутренностями) и безбожие. Полифем не отделяет от поедаемого животного доли богов и заявляет, что циклопы не нуждаются в Зевсе.
Идеал греков – «золотой век» – не связан с трудом. Хлебные нивы кормили прежние поколения людей (не родственных грекам, как они считали) без вложения труда. При этом нравы «золотого века» отражены в греческой мифологии. Легендарные существа, живущие на «островах блаженных» или удаленной мифической периферии – это существа одновременно наивные и ужасные. Они не вполне люди. Потому что греческое понимание человека – тот, кто не поедает себе подобных.
«Золотой век» в преданиях противопоставлен нищете последующих времен. А современность – нищете, которая преодолевается вовсе не трудом, а полисной организацией общества. Что демонстрирует: полис образовался воинским сословием, а не земледельцами, которые были низведены до уровня рабов. Завоеватели учредили полис, не заботясь о его экономической основе, а потом признали эту основу только в труде земледельца, который не может никуда унести свою землю, а потому прикреплен к полису как невольник.
Полис декларировал себя как логос культуры, отделяющей человека от дикости. Элевсинские мистерии приписывали открытие земледелия Афинам. С этим открытием связывались представления о «золотом веке» – веке вегетарианского питания и жизни без труда, когда поля родили сами собой достаточно урожая. Освоение земледелия спасло человека от гибели: он понял, что надо делать с землей, переставшей родить так, как это было в «золотом веке».
Доктрина цивилизация-варварство сложилась в древней Греции только в результате победы в греко-персидских войнах и стала обоснованием первенства греков перед другими народами. В прежние эпохи это первенство было не столь выражено: оно оставалось локальным и условным. Гомер называет «варварами» только соседствующих с ионийскими греками карийцев. При этом именно от карийцев исходит идея гоплитского доспеха. Геродот видел в варварах всего лишь иные обычаи: «Подобно тому как небо в Египте иное, чем где-либо в другом месте, и как река у них отличается иными природными свойствами, чем остальные реки, так и нравы и обычаи египтян почти во всех отношениях противоположны нравам и обычаям остальных народов». Более того, по Геродоту, многие греческие боги происходят из Египта. Получается, что периферийный для греков мир варварства был одновременно и миром богов. По крайней мере, варвары были территориально ближе к богам, обитавшим в недоступных мифических землях. И только у Эфора (IV в. до н.э.) вполне очерчиваются признаки дикаря: он может быть и чистым вегетарианцем, и людоедом. Обе эти разновидности Эфор обнаруживает у скифов.
Славному греческому полководцу Мильтиаду не было ведомо превосходство над другими народами. Поэтому до Марафонской битвы он добросовестно послужил персидскому царю. Впрочем, и в последующие эпохи служба персам в их сатрапиях не была для греков под моральным запретом, их за это не объявляли варварами. Граница «грек-варвар» пролегала совершенно в другом месте. Подлинный варвар – это раб. Поэтому Аристотель определяет варвара как природного раба – рожденного для рабства. Именно в классический период греческой истории сложилась концепция эллинизма, предусматривающее не культурное, а расовое разграничение с варваром. В то же время, эта концепция целиком и полностью связана с концепцией полиса, сформулированной в тот период, когда полис как таковой из реальности стал отвлеченным идеалом. В полисе социальная иерархия предусматривала две ключевые категории: свободных граждан и рабов. Одна категория без другой не существовала. Гомеровские «рабы» были только слугами. Их место определялось «пришлым» происхождением – позицией вне ойкоса, но вовсе не отсутствием свободы. Только реформы Солона, определившие, что афинянин не может быть рабом, и вернувшие из рабства соотечественников, проданных за долги, разграничили понятия «раб» и «господин» (гражданин). В V в. до н.э. это разграничение еще смутно, и нет серьезных различий между фетами (зависимыми сельскими тружениками) и рабами-чужестранцами, купленными на рынке у купцов.
У Платона мы можем прочесть рекомендацию, которая побуждает противодействовать любым попыткам создания этнических корпораций и землячеств среди иноземных работников: «Чтобы рабы лучше подчинялись, они не должны быть между собой соотечественниками, а, напротив, должны, по возможности, больше разниться по языку».
Подлинная гражданская свобода может быть осуществлена четким проведением разграничительной линии между соотечественником и чужеземцем. И только это выводит из состояния дикости. Рабство означает не только свободу не для всех, но и вообще понимание свободы – ее отличия от рабства. Выход из дикости без рабства невозможен. Но это также путь, на котором право на свободу имеет каждый, и в конечном итоге свобода обретается всеми.
Кронос, пожирающий детей, разрешает людоедство. Зато Зевс – отцеубийство. Но все остальное (включая рабство), несомненно, выше мечты о возвращении в «золотой век», в котором сосуществовало тотальное вегетарианство и тотальное людоедство, а боги и люди жили вместе и препирались меж собой. Из «золотого века» греки мечтали только о сытости и праздности. И понимали, что без всего остального
Эллада – музей античных древностей
Книга Павсания, греческого историка римских времен, «Описание Эллады» – удивительное сочинение человека, которому свыше было послано богатство для совершения путешествия по «местам боевой славы» эллинов, которые уже сошли с исторической арены, но следы их деяний еще хорошо сохранились (II век нашей эры). Павсаний, будучи сам лидийцем, все видел собственными глазами, а местные сказания записывал, многократно их перепроверяя и выражая сомнения в истинности тех, которые были противоречивыми. Главная его заслуга – генеалогии правителей городов-государств, которые позволяют уверенно сказать, что пустых «темных веков» в истории Эллады не было, а генеалогии корреспондируются меж собой, и по ним мы можем составить вполне приемлемую хронологию. Она также отчасти подкреплена хронологией по Олимпиадам, что позволяет сопоставить генеалогии с историографией других античных источников.
Сочинение Павсания почти идеально: он следует определенному маршруту и подробно его описывает. В крупных пунктах автор останавливается надолго и описывает не только достопримечательности (архитектуру, скульптуру, живопись), но и местную историю. Причем, в случае пересечения местных историй во время войн, он дает краткую ссылку, позволяющую понять, что местный эпос – вовсе не выдумка для того, чтобы охмурить «туриста». При этом Павсаний не пишет лишнего – например, практически не повторяет Геродота. Он очень скромен в описании культов, и не лезет, подобно современным журналистам, в «святая святых». А порой и просто заявляет, что не будет сообщать подробности таинств.
Павсаний дает понять, насколько глубока была в Элладе традиция спортивных состязаний, которые составляли одну из наиглавнейших сторон жизни древних греков – наряду с религиозными культами и войнами. Герои-олимпийцы ценились не менее полководцев. Хотя и тогда были факты фальсификации спортивных побед – и несколько таких фактов Павсаний приводит, упоминая имена «антигероев», которые покупали себе славу или пытались добыть ее бесчестным путем.
При всей своей «демократичности», а оттого – недоброжелательности к «тираниям» и Спарте, Павсаний выше всех воинских подвигов ценит подвиги спартанцев в Фермопилах и под Платеями. Лучшим полководцем в межэллинских столкновениях он считает фиванца Эпаминонда. Но только потому, что полагает, что тот своей победой над Спартой способствовал общеэллинскому объединению. В действительности же это была лишь кратковременная гегемония Фив, разрушившая вполне реальное объединение Эллады под властью спартанцев, которое наверняка не дало бы Филиппу Македонскому покорить греков.
Павсаний не числит среди поражений спартанцев битвы при Мантинее. Хотя упоминает о битве при Левктрах, где поражение спартанцев выразилось в том, что они отступили после гибели своего царя. И о пленении изможденных голодом спартанцев, блокированных на о. Сфактерия. История Павсанию была хорошо известна. Возможно, она не так хорошо известна современным историкам, которые стремятся всячески принизить военное искусство спартанцев их правлением, представленным как прообраз «тоталитарных режимов».
Важно знать, что Эллада была разрушена не только завоеваниями (Павсаний осуждает ужасные расправы римлян, которые уничтожали греческие города, оккупированные македонцами, срывая их до основания), но и пресловутым «синойкизмом», которые концентрировал население в крупных центрах, порой насильно стягивая туда население, чтобы быстро мобилизовать его для войны. В частности, Эпаминонд потребовал объединения аркадян в Мегалополь для противостояния спартанцам. При этом многие родные города аркадян были разрушены. И все равно Мегалополь был взят спартанцами и разрушен. Правда, потом восстановлен. Точно так же погибли великие Микены. Никакое внешнее завоевание их не разрушило. Их разрушил Аргос, когда переселил к себе жителей Микен и Тиринфа. Опять-таки для войн, прежде всего, со Спартой.
Из описаний Павсания мы знаем, что значительная часть греческой скульптуры была деревянной, зачастую с вставками из слоновой кости или мрамора (лица, ступни, кисти рук). Конечно, деревянная скульптура до нас не дошла. Другая часть греческого искусства – медные статуи – также по большей части утрачены. Скорее всего, в силу дефицита меди. Мы можем лицезреть в основном мраморную скульптуру и в основном в римских копиях.
Павсаний недвусмысленно пишет о том, что мода на «обнажение» богов – это удел поздних греков. Судя по Гомеру, никаких обнаженных богов в принципе греки не знали, и сами обнажаться не имели привычки. Напротив, они носили достаточно длинные одеяния, в особенности женщины. И только в постклассический период начали обнажаться участники спортивных состязаний – им так проще было соревноваться. Известные нам скульптурные образцы – в основном греческие спортсмены.
От Павсания нам известно, какие виды состязаний предпочитали греки. Прежде всего, это бег. Простой бег, двойной (туда и обратно), более поздний – «длинный» бег, бег в гоплитском вооружении («бег со щитом»). Самые популярные виды состязаний – боевые: борьба, кулачный бой, панкратион (борьба и кулачный бой совместно), а также включающий их пентатл (пятиборье). Затем – различные виды состязаний на колесницах (одна, две, четыре лошади в упряжках) и верхом. Отдельно проводились состязания юношей («мальчиков»), где победители прославлялись не менее, чем во взрослых состязаниях. Причем юношеский возраст определялся очень просто – по отсутствию бороды (или щетины – все равно).
Павсаний очень подробно описывает народы Эллады, а также отчасти Сицилии, Италии и Азии (прежде всего, Ионии). Он три или четыре раза мельком упоминает евреев, не обращая на них почти никакого внимания – этот народ для него не был значимым даже в сравнении с очень небольшими племенами Эллады. Он просто замечал разницу в качестве каких-то товаров местного производства.
Очень важна бесхитростность сочинения Павсаний. Оно совершенно искренне, местами сухо. Никакого морализаторства, которым сильно испортил свои изыскания Плутарх, додумывавший историю для удовлетворения своих задач поучения. К сожалению, не сохранилось иллюстративного материала, которым дополнили сочинение Павсания последующие историки и этнографы. Поэтому мы лишены знания того, как выглядели очень многие герои архаической и классической Эллады.
***
Гомер – это радостная, светлая, энергичная культура, воплощенная в эпосе. Геродот, Фукидид и Ксенофонт – это последовательная взрослая рефлексия греков, пытающихся понять свой исторический путь и свою цивилизацию. И это время трагедии. Сократ – это открытие нравственного закона, совершенно непонятного публике и высмеянного комедиями Аристофана. Павсаний – это путеводитель по музейным залам, где блуждающим взглядом осматривают остатки прежнего богатства культуры и слушают скучного экскурсовода.
Геракл исторический и Геракл мифический
Одна из загадок древней истории: почему Геракл не принял участия ни в одном значим событии, современником которого был? На Калидонской охоте его не было. Тесей, Ясон, Нестор, Диоскуры – были. С аргонавтами он поплыл, но потом на стоянке к назначенному сроку не вернулся, и Бореады потребовали отплытия. За что потом были убиты Гераклом. Фиванская эпопея тоже прошла мимо Геракла, хотя в ней участвовали многие герои. Наконец, под Трою он не отплыл, хотя в поход собрались даже враждовавшие меж собой греки, а у Геракла был личный опыт взятия Трои. Почему же Геракла нигде не было? Ответ: он был всем врагом – своеобразным «ангелом смерти» для ахейцев. Его друга Тесея изгнали из Афин не случайно.
Геракл был ни с кем и против всех. Его биография насыщена убийствами и разорениями. При этом он стал любимейшим персонажем древних греков. Правда, в другую эпоху – после ужасного провала «темных веков». Нет ли тут исторического закона, который изуверов и врагов превращает в героев по прошествии времени? Оказывается, важен масштаб, а не моральная оценка поступков. Мораль признает исключительность того, кто обрушил на народы ужасную катастрофу, – соглашается не укорять того, кого сочтет выше других. И только нравственность тихио и вкрадчиво заставляет усомниться в том, что гений и злодейство могут быть заодно.
Разные Гераклы
Несмотря на характеристику Геракла как мифологического героя, его действия как исторического персонажа вполне хорошо просматриваются, а сказочные сюжеты украшают облик самого популярного героя античных преданий не настолько, чтобы скрыть его реальные черты.
Геракл – это не имя, а прозвище. Гераклов было множество. Иные античные авторы насчитывали их десятками. Самый известный нам Геракл звался (или прозывался) от рождения Алкидом – по имени своего деда, царя Тринфа. Это подобие фамилии. А исходное имя Геракла было забыто – как по его собственной воле, так и по воле его родителей.
Прозвище «Геракл» означает «прославленный богиней Герой». То есть, просто «герой». В мифе Гера по ошибке покормила младенца Алкида грудью, невольно став его приемной матерью. А потом пыталась его убить, подослав ему в колыбель змей. Но Геракл змей задушил, хоть и был еще младенцем. Этот миф, скорее всего, просто приближает Геракла к богам с самого его рождения. Но само прозвище «Геракл» было связано с последующими его подвигами.
Из других Гераклов наиболее заметным является упомянутый Павсанием Геракл Идейский. Это более ранний персонаж, который привез эллинам гиперборейскую маслину, а также учредил Олимпийские игры и за какие-то свои заслуги получить прозвище «Защитник». Он принадлежал к числу идейских дактилей (куретов) – критских жрецов, обитавших на горе Ида (или же на горе Ида во Фракии, откуда они переселились в Элладу и на Крит). Дактили – пальцы (др. греч.). Возможно, это прозвище было дано жрецам, коих было пятеро, и их функции каким-то образом напоминали функции пальцев человеческой руки. С ними связаны умения пользоваться огнем, обрабатывать металлы (включая железо), с письмом («эфесские письмена») и музыкальным ритмом. Так вот, один из дактилей-куретов, и звался Геракл.
Павсаний указывает на путаницу: храм, в котором Геракл определил быть жрицей одной из дочерей Феспия, которая отказалась с ним сойтись, был посвящен Гераклу как богу. Сам себе назначить жрицу Геракл никак не мог. Поэтому Павсаний рассуждает, что это был храм идейскому Гераклу.
Геракл-младенец душит змей, а его брат Ификл бросается к матери
У Павсания также есть пример именования Гераклом одного из ливийцев, который организовал заселение Сардинии. Его звали Сард, но египтяне и ливийцы называли его Гераклом.
Поскольку Ификл – спутник Геракла во многих его подвигах, то существует гипотеза, что под именем Геракла в истории действуют два брата-близнеца (или единоутробных брата): Алкид и Ификл. Вполне возможно, что Одиссей, посетив Аид, видит тень одного Геракла – Ификла, а тем временем на Олимпе наслаждается обществом богов другой Геракл – Алкид.
Рождение и первые деяния
Алкид-Геракл по мужской линии происходит от Персея – отца Алкея, деда Амфитриона, по женской – от Пелопа, отца Лисидики, ставшей матерью Амфитриона. Причем Пелоп – старший предок, прежний правитель Пелопоннеса, а Персей – наследник царя Аргоса, который возвысился, вероятно, за счет успеха персеидов (Алкей и его пять братьев) в противостоянии с многочисленными пелопидами. Персей, согласно мифу, лишился прав на Аргос, потому что на играх при метании диска случайно убил своего отца. Поэтому уступил трон и правил во второстепенном Тиринфе. Правда, с течением времени захватил Микены, сделал их мощной крепостью и своей столицей. Вступив в борьбу за Аргос, убил царя Прета, но сам был убит его сыном Мегапенфом.
Таким образом, Геракл родился в обстановке сложной конкуренции между постоянно формирующимися кланами близких родственников, претендующих на власть в Микенах, Аргосе, Тиринфе и близлежащих территориях. А на склоне лет ему пришлось пережить реванш пелопидов – когда контроль над Пелопоннесом получили Атрей, затем его сын Агамемнон, затем его внук Орест. Правда, их гегемония тоже была недолгой – Элладе гомеровских времен почти сразу после Троянской войны пришел конец. И главной причиной тому послужили претензии на власть детей Геракла и их союзников из Средней Греции.
Как персеид, Геракл мог рассчитывать на царское достоинство. Но его отец Амфитрион убил своего дядю – Электриона, царя Тиринфа, своего тестя. Возможно, в результате распри, возникшей между его отцом Алкеем и Электрионом в борьбе за царские полномочия. Или же после кончины Алкея Амфитрион оспаривал трон у Электриона и третьего брата – Сфенела. Так или иначе, Амфитриону пришлось бежать в Фивы, где он стал полководцем и героем, и где родился Геракл, которому в отцы определили Зевса. Возможно, по традиции, когда одному из сыновей намеревались предоставить больше прав, чем первенцу. Либо, когда с рождением было связано какое-нибудь знамение, важное для поднятия престижа рода.
Геракл убивает своих детей
Греки считали, что Геракл рожден в отсутствие Амфитриона, и тот является лишь его приемным отцом. Отчего Геракл не переставал быть персеидом, поскольку его мать Алкмена была двоюродной сестрой своего мужа. Насколько это продвигало его к царской власти – неясно. По женской линии такая передача была под вопросом, несмотря на множество проявлений матриархата в обычаях эллинов. Вполне возможно, что статус сына Зевса как раз затруднял приобретение царского титула, и даже вводился с этой целью: почетное звание в обмен на первородство.
Первое же юношеское деяние Геракла стало причиной его изгнания. Из ненависти к музыкальным занятиям он убил своего учителя музыки Лина, брата Орфея. Причем, разбил о голову учителя кифару. Отбыв наказание жизнью в лесу, он возвращается в Фивы, чтобы принять участие в войне вместе с Амфитрионом – против минйцев из беотийского Орхомена.
Отец Геракла погиб в битвах с соседями, но явно не в войне с минийцами, как указывает Псевдо-Аполлодор. Это была какая-то другая война – уже без Геракла, который после победы над минийцами поднял руку на отца и своих детей, за что и был изгнан. Мать Геракла Алкмена после смерти мужа вышла замуж за Радаманта – брата критского Миноса. Радамант, хоть и был законодателем и слыл справедливым судьей, был изгнан с Крита и поселился в Беотии. Фигура Радаманта оставлена античными источниками без особого внимания, как и судьба Алкмены в браке с ним. Известно лишь, что она прожила долгую жизнь и умерла по пути в Фивы из Аргоса (или, скорее, из Тиринфа). Сыновья Геракла хотели похоронить ее там, где похоронен их дед Амфитрион и дети Геракла от жены Мегары – в Фивах. Но по оракулу им пришлось похоронить Алкмену в Мегарах.
Войны и безумства Геракла
Минийцы были сильным противником. Это автохтоны, которые прежде победили фиванцев и на 20 лет обложили их «стобыковой» данью. Также минийцы – участники знаменитого похода аргонавтов за золотым руном. Впоследствии они переселились на Пелопоннес, и там спартиаты приняли их как равных, предоставив землю и позволив им жениться на спартанках. Правда, Геродот осуждал их за нехорошие нравы и вздорное требование доли царской власти. Что, вероятно, было поводом для серьезных конфликтов в Спарте.
Начало войны Фив с минийцами было отмечено беспрецедентным оскорблением минийских вестников, прибывших с требованием дани. Геракл отрезал им носы. В другом эпизоде войны Геракл ночью пробрался в стан минийцев и связал упряжь их лошадей. Надо полагать, это фатально сказалось в момент нападения фивян: минийцы были не готовы к битве. Фивяне позднее построили два храма: Гераклу Обрезывателю носов и Гераклу Связывателю коней. Также одно из преданий гласит, что Геракл тайно проник в Орхомен и поджег дворец царя, а начавшийся пожар уничтожил город до тла. Также одно из свидетельств говорит о военной хитрости Геракла, который отвел воды реки Кефис на равнину, где и увязла конница минийцев.
Война была упорной и довела минийцев до полного истощения, отчего царь Эргин решился заключить мир. Фивяне же ради победы обратились к древнему ритуалу человеческого жертвоприношения – в жертву богам были принесены дочери знатного гражданина Антипойна. Позднее точно так же ради победы афинян над пелопонесцами принесла себя в жертву Макария, дочь Дейяниры и Геракла. Афинянам было предсказано, что победу они одержат только если умрет кто-то из детей Геракла.
Фивяне в результате войны избавились от дани, Эргин был убит, а минийцам пришлось платить Фивам вдвое большую дань.
Вероятно, к тому же времени относится и победа Геракла над дриопами (асинами), которые жили неподалеку – у Парнаса. Геракл взял их город, и дриопам пришлось бежать сначала на вершину Парнаса, потом на кораблях отправиться на Пелопоннес, где царь Еврисфей дал им землю в Арголиде.
В Фивах Геракл первый раз женился – на Мегаре. Фиванский правитель Креонт в награду за доблесть Геракла, ставшего теперь известным героем, выдал за него свою старшую дочь. Согласно мифу, Гера, постоянно проявляющая враждебность к Гераклу, наслала на него безумие, и он поубивал своих детей от Мегары и пытался убить своего отца Амфитриона и своего племянника и его детей. Афина, согласно мифу, остановила его, бросив камень ему в голову, после чего Геракл заснул. Снятие налета детской фантазии с этой истории позволяет видеть реальность: Геракл совершил страшное преступление. И не волей оракула отправился он в рабство к Еврисфею, правившему в Микенах, а бежал туда – на родину своих предков, к своим царственным родственникам. И он не отослал свою жену Мегару, полагая женитьбу на ней дурным знаком, а сам был отвергнут как убийца детей.
Алкид-Геракл не только бежал в Тиринф, но вынужден был сменить имя. Только теперь у него образовалось общеизвестное прозвище – Геракл. Миф же, смягчая образ героя, основанием для перемены имени объявляет веление оракула.
Складывание мифологии о Геракле
Мифология составлена из космогонии и теогонии – удела философов и поэтов, хтонизма – образного ряда, порожденного психикой, а также из героических историй сказочного характера, рассказанных с детской непосредственностью. Перетолкованию, полезному для истории, подлежат только сказочные сюжеты – за ними может скрываться истина, замещенная фантазией. Примерно такими сказками занимал Одиссей феаков, рассказывая о своих приключениях. В том же духе составлены и многие сюжеты с участием Геракла – в особенности его 12 подвигов. В каждом из таких подвигов сказочные элементы оправдывают жестокие деяния Геракла или подменяют их.
Павсаний рассказывает, как складывается мифология взаимоотношений героя и богов. Изображение борьбы Геракла с Аполлоном за треножник, оказывается, имеет простое истолкование. В Дельфах жрица отказала ему в вещании по поводу убийства им Ификла – своего брата (здесь у Павсания ошибка – речь должна была идти об убийстве Ифита в Тиринфе, а Ификл пережил Геракла и даже доставил его матери Алкмене голову тиранившего Геракла Еврисфея). Геракл со свойственной ему необузданностью схватил храмовый треножник и вынес из храма – это его по-детски продемонстрированная месть. На что жрица изрекла: «Да, из Тиринфа Геракл совершенно другой, чем канопский» (Каноп – главный порт Египта). Она сравнила Геракла с его тезкой – «египетским Гераклом», скорее всего с Гераклом Идейским. Устыдившись своего поступка, Геракл Фивский, прибывший тогда именно из Тиринфа (изгнанный туда за свое преступление), вернул треножник, за что получил одобрение жрицы и указания оракула. Дельфийский храм Аполлона в поэтических переложениях этой истории превратился в самого Аполлона, а простая и почти бытовая ситуация – в дерзновенное состязание героя с богом.
Геракл с Кребером и Гермес
Точно так же Павсаний оспаривает реальность существования трехглавого пса Кербера, которого Геракл, якобы, вывел из Аида. Павсаний предлагает каждому убедиться, что в пещере, откуда Геракл вывел страшного пса, нет никакой дороги под землю, и что разумному человеку даже проверять не нужно, есть ли там какое-то обиталище богов и душ умерших – его там не может быть. Ссылаясь на Гекатея Милетского, Павсаний предлагает другую версию истории, полагая, что «псом Аида» могли называть змея. И вот этого-то змея Геракл и смог притащить в Тиринф. Описания «пса» не существует, а потому данное предположение вполне реалистично. И только в позднейшем сочинении Гесиода «пес» превратился в трехглавую собаку. У Гомера же описания Кребера не существует.
Сюжет с грабежом и убийством в мифе оправдывается очень просто: стада, которые похищает Геракл, оказываются собственностью ужасного трехглавого великана, пастухом этих стад служит мерзкий гигант с отвратительной двуглавой собакой. Всех их Геракл убивает – к удовлетворению слушателей мифологических преданий, которые и сами при случае не прочь поживиться за счет чужих стад.
После битвы с орхоменскими минийцами в знак победы Геракл поставил изваяние льва. Отсюда пошло позднее утверждение, что Геракл задушил льва. Возможно, Геракл в период своего изгнания убил льва из лука (и такая оговорка есть у Павсания), а в дальнейшем непробиваемая львиная шкура (на службе у Эврисфея Геракл, якобы, задушил неуязвимого для его стрел льва) стала вторым атрибутом Геракла наряду с его знаменитой дубиной. Тем не менее, считается, что до VI века в греческом искусстве львиной шкуры у Геракла нет ни на одном его изображении. Скорее всего, она появилась вследствие неверного толкования значения изваяния, возведенного после победы над минийцами.
Развитие образа героя требует введения его фигуры в сюжеты с ранее известными мифическими персонажами, созданными на основе реальных исторических персон. Так, образ Геракла помогает формировать великий изобретатель Дедал, который вынужден был вместе с сыном Икаром бежать с Крита от гнева Миноса, впервые использовав для своих суденышек парус. Именно паруса позволили им уйти от весельного флота Миноса. Но кораблик Икара перевернулся, и он утонул. Геракл же случайно оказался на безымянном островке, куда волны вынесли труп Икара, и похоронил труп юноши. Здесь из мифологического сюжета исчезает полет Икара и Дедала на крыльях, и сюжет становится более реалистичным, зато Гераклу достается дополнительная линия судьбы – связь с известными героями прежних мифологий. При этом плавание под парусом искусственно удревняет историю, поскольку Минос – знаменитый талассократ, и уж парусом он пользовался наверняка не позднее Дедала.
Тем же манером к величию героя приобщен человеколюбец Прометей, которого Геракл, якобы по воле Зевса, освободил от цепей, а орла, терзавшего прометееву печень, убил. В этом мифе – превращенная история с походом Тесея и Перифоя в страну феспортов (Эпир), где они потеряли войско и попали в плен. Их держали прикованными цепями. И освободить их смог лишь Геракл. Причем, этот поход также был мифологизирован: якобы Тесей и Перифой пытались похитить не царицу царя феспортов, а саму владычицу Аида Персефону. Точнее, это попытался сделать Перифой, и за это был в Аиде прикован к камню. Тесей отправился за ним, но без помощи Геракла выйти из Аида он не смог. Геракл освободил Тесея, но вытащить Перифоя не хватило даже его безмерных сил.
Мифология греков – это не только приукрашивание своей истории, но и «употребление» древних сказаний и их хтонических персонажей. Олимпийские боги усмиряют не только разных ужасных существ – обитателей бессознательного – но и свой собственный хтонизм, который сохранялся даже в антропоморфных божествах (по Геродоту грекам богов дали пеласги, а также восточные народы – Аполлон, Артемида, Арес и другие происходят от более древних восточных аналогов).
Еврисфей прячется от Геракла в амфоре
Бессознательный страх загоняет Еврисфея в амфору, когда Геракл приносит ему тушу убитого вепря. Хотя реальному Еврисфею достаточно было приказать не пускать Геракла на порог дворца. Миф же требует разрешения психологического беспокойства. Поэтому фигура Ефрисфея обретает комические черты. Смеясь или описывая ужасный конец негативных персонажей мифов, греки расставались со своими страхами.
Чтобы освоить незнакомую территорию, надо было избавиться от страха сильнопрофилированной местности, которая пугала обитателей равнин, пришедших на Пелопоннес. Отсюда подвиги Геракла – добытые в лесу ужасный вепрь, страшный бык, лев с непробиваемой шкурой, плотоядные кони… Расправившись с ними в мифе, греки очищали себя от бессознательных страхов (неслучаен обряд очищения после убийства не на поле брани). А возможно, обозначали тем самым и уничтожение тотемов местных племен.
Мифологизация Геракла, скорее всего, произошла в период переселения дорийцев, а для ахейцев он был просто завоевателем, разорившим множество городов и убившим множество воинов, царей, женщин, детей. Дорийцы приспособили Геракла к своим мифологическим запросам. Но мифологизация героев была и у гомеровских греков. Подавление хтонических существ требовало молодой энергии, и ее демонстрировали герои, превратившихся в богов, которые были вечно молоды, пока не начали устаревать – тогда греческое искусство начало снабжать богов-мужчин бородами, а богов-женщин возрастом.
Служба у Еврисфея
Куда было Гераклу бежать из Фив? Разумеется – к родственникам, которые правили на Пелопоннесе. И он обращается к своему двоюродному брату Еврисфею, который в то время правил в Микенах, а также владел Тиринфом. У Еврисфея Геракл становится полководцем и совершает множество подвигов, ставших любимейшими эпизодами античной мифологии.
В мифологии Еврисфей представляется жестоким правителем, который пользуется требованием оракула, заставляющим Геракла исполнить невыполнимые приказания. Геракл же, как подобает герою, успешно с ними справляется. Часть заданий связана с охотой на опасных животных, с которыми никто другой не мог справиться. Но истории с дикими животными – лишь сказочный мотив, отвлекающий внимание от реальных деяний Геракла, представляющих собой грабительские походы. Именно грабительские, поскольку задачи завоевания в тот период никто перед собой не ставит.
Соперничество Геракла и Эрикса на Сицилии по поводу быков Гериона – отражение единоборства в войне. Еврисфей велел Гераклу пригнать ему стадо быков (коров) трехглавого великана Гериона. Где-то на краю земли Геракл убил сначала пастуха и пса, стерегущих стадо, а когда его нагнал Герион – то и его. Затем Геракл очутился в Сицилии, где краденое стадо смешалось со стадом царя Эрикса, и единоборство предполагало ставку: все получает победитель. Как цивилизованные люди, герои состязались между собой в пентатле (пятиборье), и Геракл выиграл во всех дисциплинах. А в последней (борьбе или панкратионе) поднял Эрикса и ударил его оземь, убив насмерть. Коровы тем временем разбежались, и Гераклу стоило больших усилий их собрать и доставить в Микены. Павсаний философски отмечает: «люди в те времена выше всего ценили стада коров».
Геракл сражается с Герионом
Еще одна история с таким же детским приемом отвлечения внимания – с золотыми яблоками Гесперид. Значение этих яблок неясно, у них есть лишь мифологическая функция приданого Геры. Для нас они означают просто «богатство» или «золото», которое Геракл должен был завоевать во время похода в Ливию. Конечно, грабеж надо чем-то прикрыть. И возникает история о том, что хранительницы яблок Геспериды были похищены разбойниками, а явившийся герой их спас, перебив стражу и тут же получив эти самые яблоки в награду. Такой оборот дела явно надуман: в этом случае никакого смысла хранить яблоки не было, ибо они лишались какой-либо священной функции. Скорее всего, Геракл просто захватил и ограбил святилище Геры, доставив его богатства в Микены.
В многочисленных версиях этой истории Геракл чем только ни занимался, где только ни побывал. Он убивает злобных пигмеев в Эфиопии и доходит до Репейских (Уральских) гор. Но все это – приключенческий роман античных времен, реальная основа которого – грабительские походы.
Вероятно, Геракл был участником большого похода в Египет, который подобен (или неверно датирован) отраженному в Карнакской надписи (1219 г. до н. э.). Ахейцы здесь выступают под именем «акайваша», а поход напоминает поход на Трою – в большой коалиции, собранной ливийцами. В «Одиссее» один из рассказов упоминает беспрерывные грабительские экспедиции ахейцев: «Девять там лет воевали упорно мы, чада ахеян». В последнем походе пелопоннесские разбойники были разбиты, пленены и обращены в рабство.
История с плотоядными конями фракийского царя Диомеда – тоже из разряда детских. Негативное отношение к Диомеду должно возникнуть именно потому, что он скармливает своим буйным коням ни в чем не повинных людей. Раз так, то коней Гераклу не зазорно будет похитить, а попытавшихся остановить похитителя убить вместе с их царем. Диомед ограблен и убит, кони в Микенах, но из-за своей буйной натуры никому не нужны и отпущены в лес – на растерзание диким зверям. А Геракл ходит в героях – усмирил таких ужасных коней! Причем, накормив их до отвала плотью своих хозяев.
Если считать мифических кентавров просто всадниками, то племя этих всадников не было дружественно Гераклу. Но были у него в этом племени друзья. Прежде всего, кентавр Хирон – его учитель. Во время службы у Еврисфея Геракл заглянул к кентаврам, и «дежурный по кухне» Фол стал угощать его вином. Остальные кентавры, возвратившись в свое логово, были возмущены, что кто-то так запросто пьет их вино. И набросились на Геракла и Фола. Геракл отогнал их горящими головнями из очага, а потом стал поражать стрелами из лука, пока не загнал в пещеру. Ворвавшись в пещеру, он пустил стрелу и попал в ногу оказавшемуся там Хирону (по другой версии, стрела прошла навылет через тело другого кентавра и на излете ранила Хирона). Стрелы были отравлены ядом гидры, поэтому Хирон, учитель Геракла, отправился в Аид. Ну а простодушный Фол «уронил на себя» стрелу Геракла, которую из любопытства подобрал. И тоже, разумеется, умер.
Столь же наивен рассказ об амазонках – племени с сохранившимся матриархатом, где мужчины наверняка были, но командовали всем женщины. Не амазонки напали на Геракла, а он осадил их город Фемискиру – ради сказочного приказа добыть пояс царицы Ипполиты (или Меланиппы). Взять город Гераклу удалось с помощью предательства Антиопы, которая влюбилась в спутника Геракла юного Тесея, сына афинского царя Эгея. По другой версии царица была похищена, а когда амазонки бросились к кораблям Геракла ее спасать, герой ее просто убил. Или отпустил, а она умерла от горя или от позора. Наверняка нападение на амазонок было предпринято в союзе с Афинами (присутствие Тесея неслучайно), поэтому амазонки собрали войско против Афин и основательо потрепали еще не очень известный город. Потом они появились под Троей и сражались против ахейцев.
Геракл сражается с кентаврами
Геракл сражается с амазонками
По той же схеме сформирован миф о конюшнях в Элиде, которые Геракл предложил вычистить в обмен на награду – царь Авгий должен уступить ему десятую часть скота. (У Павсания речь идет о загаженности навозом не только конюшен, а прямо-таки всей страны!) Якобы, Геракл придумал уловку: направил на конюшни воды реки, изменив ее русло (как это он уже делал в Беотии, чтобы помешать передвижению конницы минийцев). Авгий отказался выполнять условия спора, поскольку задание выполнено не трудом, а хитростью. По своему вздорному характеру Геракл решил, что за это он должен Авгия убить, а его страну разорить. Но, как пишет Павсаний, «в войне с Авгием Гераклу не удалось прославить себя никакими подвигами: так как дети Актора были в цветущем возрасте и отличались смелостью, то союзники Геракла не раз обращались ими в бегство». И Геракл снова идет на уловку: он устраивает засаду и убивает этих замечательных воинов – сыновей Актора, когда они направлялись священным посольством на Истмийские игры во время установленного перемирия. Убийство было тайным, и к его раскрытию жена Актора Молина приложила большие усилия. Но ее претензии к аргосскому Тиринфу, где жил Геракл, были отвергнуты. В результате Элида навсегда отказалась от участия в Истмийских играх: атлеты опасались «проклятия Молины».
Вместо раскаяния в убийстве и святотатстве, Геракл собрал войско и опустошил Элиду, перебив всех мужчин. Страну и плененного Авгия он отдал Филею – сыну Авгия, который требовал, чтобы отец исполнил обязательства по спору об очищении конюшен, но был изгнан царем. Элейцы обязались приносить жертвы Гераклу как герою или богу. С этого момента возникли ритуалы, первенство в которых позднее пытались приписать себе жители Марафона. Как мы видим, происхождение почитания Геракла не очень достойно.
Геракл принимает участие в походе аргонавтов, но на стоянке на острове Кеос почему-то не возвращается на борт корабля. Можно сказать, Геракл дезертировал. И лишь в позднем мифе сообщается, что впоследствии он убил Бореадов, которые предложили больше не ждать Геракла. Это отражает своеобразную «хтоническую» кровожадность героя, в которой возникла необходимость в эпоху классических греков, не знавших зверств греков гомеровских. Зверства из окружающей жизни перешли в сказания и литературу. Правда, в классическую эпоху они повторились в бесконечных войнах и деяниях множества безвестных «гераклов».
Убийство Ифита и разорение Пелопоннеса
Геракл постоянно безумствует, совершая «случайные» убийства не только посторонних лиц, но и друзей. Именно эти безумства стали причиной изгнания Геракла Еврисфеем, чье царское достоинство было поставлено под вопрос не только ужасным разорением соседей, но и бесконтрольностью действий Геракла.
Одно из самых гнусных убийств, совершенных Гераклом, – убийство юноши-виночерпия, который чем-то не угодил герою, только что вернувшемуся из Ливии с яблоками Гесперид и бурно отмечавшему свой успех. Юноша-виночерпий Киаф был убит ударом одного пальца за ненадлежащее питье, которое он принес в кубке. Мифология не осуждает за это Геракла. Остается лишь отстраненное восхищение: «Надо же, одним пальцем убил!» Но современники Геракла и царь Микен, видимо, были другого мнения.
Чашу терпения Еврисфея переполнило убийство Гераклом аргонавта Ифита, известного также тем, что именно он подарил Одиссею знаменитый лук, из которого тот потом убил женихов Пенелопы.
Геракл и Афина
Причины конфликта связаны с появлением Ифита у Геракла в качестве просителя за своего отца царя Еврита, с которым Геракл сильно повздорил. Где правил Еврит, точно неизвестно – на Эвбее, в Фессалии, в Мессении или в Аркадии. Геракл участвовал в состязании, устроенном царем среди женихов его дочери Иолы, и победил в стрельбе из лука. Или же считал, что победил, ибо сам Еврит также участвовал в соревновании. А он был известен как блестящий лучник. Может быть, он объявил, что если пустит стрелу удачнее Геракла, дочь останется при нем. Так и получилось. Разгневанный Геракл крадет у Еврита кобылиц (или быков) и отправляется с ними в Тиринф (в Микены Еврисфей его уже не пускает). Ифит пытается посредничать между сторонами: безуспешно пытается уговорить Еврита отдать дочь Гераклу, а потом отравляется к Гераклу за быками. И пришедший в ярость Геракл сбрасывает Ифита со стены Тиринфа.
Один из мифов гласит, что за убийство Ифита Геракл был продан в рабство лидийской царице Омфале, а вырученные деньги получили дети Ифита. В «рабстве» Геракл хорошо устроился – вместо походов, войн и поединков он исполнял женскую работу и обслуживал свою госпожу. Эта версия наиболее фантазийна – в духе восточных сказок и выдумок хитроумного Одиссея.
По другой версии Геракл попытался откупиться от Еврита за смерть сына, но царь виру не принял. И тогда Геракл продолжил безумствовать – прибыл к Евриту с войском и убил его и его сыновей на глазах у Иолы.
На этом безумства Геракла не кончились. Он отправился в Спарту для очистительного ритуала, который оправдает перед богами его убийство Ифита. Но там его не приняли – что и говорит о весьма неоднозначном отношении современников к любимому герою эллинов. Раздосадованный холодным приемом, Геракл устроил драку с сыновьями царя Гиппокоонта. При этом погиб племянник Геракла Ойон-Эон (сын брата Алкмены). Сам Геракл получил тяжелое ранение в ногу и едва смог скрыться в горах. Там местный целитель уврачевал ему рану. И по законам мифа это был бог Акслепий – ведь все медики немного боги.
Разумеется, Геракл не простил обиды. Он организовал поход в Спарту, убил Гиппокоонта и его сыновей (10 или 12 из 20). Власть в Лаконике была передана прежде изгнанному Тиндарею, затем перешла его зятю Менелаю, женившемуся на Елене. Позднее Гераклиды объявили эту землю своей, поскольку, якобы, Геракл отдал ее Тиндарею лишь на сохранение. Этой примитивной уловкой было оправдана война, разорившая Пелопоннес в «темные века».
Подобная же история связывает попытку ритуального очищения Геракла с Пилосом – у царя Нелея (по другой версии Нелей успел бежать и стал инициатором первого массового заселения Ионии, но здесь, вероятно, путается Нелей сын Кодра из Афин с пилосским Нелеем), который отказался его принять в силу приятельства с Евритом. И тогда Геракл напал на Пилос и убил Нелея и его 11 сыновей, с которыми был связан дружественными клятвами. (Источники указывают на ритуал – стоя на кусках разрубленной туши кабана. Аналогичным образом женихи Елены клялись по воле Тиндарея на частях разрубленной туши жертвенного коня.) Позднее Гераклиды и на эту землю претендовали, утверждая, что она была отдана Гераклом Нестору только для сохранения.
Во многом аналогична история с захватом Трои – еще до троянского похода ахейцев. Снова имеем сказочный предлог и грабительских поход: убит царь Лаомедонт и все его сыновья, город разграблен. История отягощена намерением Геракла убить Теламона, который первый ворвался в город. Тот выжил лишь потому, что быстро начал собирать камни, приговаривая, что строит алтарь Гераклу-Победителю. Единственный спасшийся сын Лаомедонта – Приам, будущий царь и герой гомеровского эпоса. Приам направляет к ахейцам посла Антенора, который требует вернуть сестру троянского царя Гесиону, отданную Гераклом Теламону в качестве приза. После неудачи миссии Антенора в Спарту направляется Парис, где совершает ответный ход: похищает Елену и сокровища ее мужа Менелая. Таким образом, Геракл становится причиной раздора ахейян с Троей, закончившегося крахом многих династий с обеих сторон и микенской цивилизации в целом.
Все эти деяния Геракл совершил уже не на службе Еврисфея, а будучи сам правителем Тиринфа, куда его прогнал микенский царь. Править ему пришлось недолго: безумства Геракла настроили против него не только близлежащие народы, но и население города. При поддержке Еврисфея Геракл был изгнан. Но куда ему было бежать? В Фивах помнят его убийство детей, Спарта, Пилос, Элида разорены, в Микенах ему места нет. Остались Афины, где могли помнить его союз с Тесеем. Но время Тесея закончилось – его правление пало. Геракл становится никому не нужным скитальцем.
Смерть Геракла
Сначала Геракл отправляется в Аркадию – в Феней, где он в последний раз прославил себя – вырыл глубокий канал для предотвращения наводнений, затапливавших город. Может быть, это единственное доброе дело Геракла. Затем гонимый Геракл переселился в фессалийский Трахин, где царствовал его племянник Кеик. Но задержался недолго, и оставил там своих детей, которым позднее пришлось бежать под защиту Афин. Может быть, Гераклу было сподручнее скрываться от мстителей без детей.
Последнее пристанище Геракл нашел в Калидоне – глухой глубинке Средней Греции. Там он посватался к дочери Ойнея Деянире. При сватовстве ему пришлось победить одного или нескольких соперников, которые выведены в мифе в виде многоликого бога Ахелоя. Здесь же произошел случай с кентавром Нессом, который перевозил людей через реку на спине. Он усадил на себя Деяниру, а Геракл последовал вплавь. Согласно мифу Несс попытался похитить Деяниру, но Гераклу удалось убить его стрелой с большого расстояния. Умирающий Несс посоветовал Деянире собрать его кровь как приворотное зелье. Однако зелье оказалось смертельным, и смоченный им хитон отравил Геракла – заставил его от боли самому броситься в костер.
Если попытку похищения Деяниры можно представить себе реальным фактом, то все остальное – выдумка. Геракл умер в возрасте около 50 лет и был предан огню своими друзьями или сыновьями на горе Эте. Много лет понадобилось, чтобы его деяния были мифологизированы и эллины озаботились вопросом «Куда подевался Геракл?» и выяснили обстоятельства его смерти.
Геракл, Деянира и Нес
Рождение Геракла, судя по датировкам правлений царей Тиринфа, относится к последней трети XIII в. до н.э., падение Трои – к рубежу XIII и XII вв. (датировки Эратосфена – 1184/ 83 гг. до н.э., Геродота – 1260 г. до н.э., Паросской хроники – 1209 г. до н. э.). Получается, что Геракл умер, скорее всего, в полном забвении. И забвение это было связано с его неучастием в Троянской войне. Или наоборот: изгнание Геракла послужило причиной его неучастия в Тронской войне. К тому времени его дети стали более известны и более опасны для жителей Пелопоннеса.
Гераклиды захватывают Пелопоннес
После человеческого жертвоприношения (умерщвления Макарии, дочери Геракла) афиняне и Гераклиды уверились в возможности победы над пелопоннесцами. Престарелый Еврисфей в этой войне был разбит и убит Гиллом, старшим сыном Геракла, который принес матери его голову. Алкмена выколола у нее глаза, что было ничем не оправдано: существенного вреда Еврисфей Гераклу не принес, а его преследование детей Геракла никакой жестокостью не отмечено. Впрочем, Павсаний считает защиту афинянами Гераклидов легендой. Действительно, Афины от войны с Пелопоннесом ничего в итоге не получили.
Скорее всего, Гераклиды просто были кстати, когда Афины намерились утвердить свою гегемонию на Пелопоннесе. Афиняне разбили Еврисфея, а Гераклидов использовали в качестве претендентов на правление в пелопоннесских городах – для обоснования своего вторжения. Это привело к краху персеидов, которым Геракл нанес столько вреда, несмотря на родственные связи. Их место заняли пелопиды, начиная с Атрея. Атрей (по Фукидиду), оставленный управлять в Микенах на время похода против Гераклидов, после смерти Еврисфея захватил власть, пользуясь своим правом как пелопид.
Первое вторжение Гераклидов было прекращено чумой. Гераклиды вернулись в Аттику, поселившись в Марафоне, где Гераклу, по видимому, уже возносили молитвы как богу. Второе вторжение кончилось для Гераклидов печально. Объединенное войско Пелопоннеса остановило их у Истма – у перешейка, отделяющего полуостров от материка. Следуя традициям своего отца, Гилл предложил противнику поединок. Против него выступил царь Эхем (Эхемон) из Тегеи (Аркадия), который и убил Гилла. И Гераклиды на длительное время оставили Пелопоннес в покое.
Минула Троянская война, пал Агамемнон, изгнан его сын Орест. При Тисамене, сыне Ореста, Пелопоннесская коалиция распалась, и афиняне с Гераклидами снова вторглись в Пелопоннес. Первым их требованием была уступка Аргоса, поскольку права персеидов рассматривались выше, чем права пелопидов, к которым относился и Тисамен. Вторым требованием была уступка Спарты – поскольку она была отдана Гераклом Тиндарею «на сохранение». То же самое было сказано и о Мессении, которая, будто бы, была вручена Нестору «во временное пользование». В результате войны Тисаемн был изгнан из Аргоса и ушел с войском в Ахейю. Из Мессении были изгнаны нелеиды – им пришлось удалиться в Афины, где они стали родоначальниками Пэонидов и Алкмеонидов – влиятельных аристократических кланов. Нелеиды отняли власть у Фимента, последнего царя из рода Тесея – власть перешла к Мелансу. Данное обстоятельство указывает на непрочность союзнических отношений Гераклидов с афинянами. Афины просто не могли в тот момент выступить против многочисленных дорийцев, составивших армию вторжения на Пелопоннес.
Дорийцы были прежде незнакомы с ахейскими племенами, и культурные различия стали на долгие столетия причиной распрей. Они начались по поводу прав на Арголиду и Мессению. Гераклиды же, которые в этих распрях значимой роли уже не играли, отправились дальше – на Сицилию и на Сардинию. Тут они тоже предъявили свои права от имени Геракла. На Сицилии они были разбиты, а в Сардинии смогли лишь основать поселение.
Гегемония Гераклидов не сложилась. Их цели были скорее грабительскими, чем завоевательными. Пришедшие с Гераклидами дорийцы серьезно изменили этнокультурный ландшафт Пелопоннеса, что привело к бесконечным конфликтам, в которых микенская цивилизация была окончательно разорена, и прошло немало времени, прежде чем ахейцы и дорийцы смогли жить бок о бок без войн.
***
Геракл – один из самых жестоких персонажей античной истории. Именно с его деятельностью, а не с набегами амазонок, связан первый тяжелый кризис Пелопоннеса в конце XIII в до н.э. Некоторые исследователи полагают, что это кризис, порожденный неудавшимися претензиями Гераклидов, привел к смене гегемонии персеидов на гегемонию пелопидов. Последовавшее возвышение Агамемнона сделало возможным общеэллинский поход на Трою, исключавший Гераклидов из коалиции. Ослабленные многолетней войной ахейцы вновь были атакованы Гераклидами – во главе дорийских племен. Чем и закончился микенский период истории Древней Греции.
Не могут не изумлять масштабы разорения ахейской Греции накануне Троянской войны. По данным археологии, в Беотии были разрушены 22 из 26 поселений, в Арголиде 17 из 27 (в поход на Трою корабли выставили только 9 центров), в Мессении 46 из 56 (на Трою свои корабли отсюда также послали только 9 центров). Всего из 600 ахейских центров уцелели 156.
В совокупности это – деяния Геракла и Гераклидов и их союзников. А вовсе не «неизвестных пришельцев», как пишут некоторые авторы. «Варварская керамика» того периода – скорее результат производства рабов для личного потребления или местных сельских общин, изолированных в результате войн, а не следы вторгшихся иноплеменников. Своеобразный тип мечей и смычковые фибулы, разумеется, «пришли» с севера – с дорийцами. Павсаний недвусмысленно указывает на вторжение Гераклидов совместно с дорийцами – через Истм, где жители Пелопоннеса соорудили мощное укрепление для отражения нашествия. Предположение о том, что в нашествии могли участвовать киммерийцы и фракийцы разумно, но подтверждающих археологических материалов и намеков в источниках слишком мало. Более вероятно, что такие нашествия могли происходить в так называемые «темные века».
Трудно понять, почему фигура Геракла полностью исключена историками из реальных событий периода, предшествовавшего Троянской войне. При этом насыщенные мифологией сочинения Гомера являются для них важным источником. Геракл оказался выброшенным из истории вместе с мифологией. И это ошибка. Используя различные источники, очищая их от сказочных элементов, мы можем реконструировать события, связанные с фигурой Геракла – также, как и с Троянской войной. И даже если под этим именем действуют несколько персонажей, мы получаем ценный материал об истории Эллады.
Одиссей и другие
между мифологией забвения и авантюрным романом
Приключения Одиссея – это аналог сказок, которые народы вкладывают в память детям, передавая их из поколения в поколение. Чудесные сюжеты перемежаются с элементами реальности. При этом чудеса всегда связаны вопросами жизни и смерти, любви и ненависти. Поэтому сказочные повествования у многих народов сходны.
Гомеровская «Одиссея» отличается тем, что в ней исходный миф пересказан почти профанным языком и покрыт напластованиями искажений и вставленных сказочных сюжетов. Мифы и реалии «Одиссеи» имеют мало общего с известной нам истории Древней Греции. Скорее, это отголоски погибшей микенской цивилизации, чьи предания стали у эллинов просто популярной литературой, перетолкованной в устном изложении для целей воспитания и сохранения культурной памяти. Платон прав: Гомер привил грекам ложное представление о богах. К счастью, греки невсерьез воспринимали как Гомера, так и многих богов – за исключением тех, которым поклонялся род каждого из них. А это чаще всего – один бог (богиня), одно святилище. И только попадание в другие греческие полисы требовало поклониться иному богу в его святилище. Политеизм греков – скорее следствие слияния нескольких родов со своими религиозными традициями, при этом поклонение «своему богу» было основным, а остальным лишь отдавалась дань уважения.
Время Гомера
История Эллады после Троянской войны требует реконструкции, чтобы не представлять ее пустым местом и «темными веками». Более известные нам периоды древнегреческой истории «с высоты птичьего полета» выглядят как постоянная смена гегемоний на фоне беспрерывных войн, в которых союзы между городами-государствами заключались и распадались, а военная удача склонялась на ту или другую сторону очень быстро. Примерно такой же рисунок истории мы вправе ожидать и в период, который нам интересен: быстрая смена гегемоний.
Источники говорят об этом, но в целом скупо, чтобы даже общая картина исторического процесса ясно сложилась. Между тем, полумифологические персонажи истории Эллады действуют вполне как люди, а мифологический фон почти всегда легко отделим от реалистичного сюжета.
Мы видим бесспорную гегемонию талассократии Миноса. Минос – гегемон не только в Элладе, но и практически на всем побережье Эгейского моря. Континентальный гегемон – Еврисфей, которому служит Геракл. При этом Геракл – вовсе не бесспорный герой, который всюду побеждает. Попытка его схватки с сыновьями Гипокоонта – сына царского дома Спарты, который захватил власть в Мессении, кончаются плачевно. Геракл вынужден скрываться в горах и лечить тяжелое ранение. Позднее, он устраивает засаду на сыновей Гипокоонта и убивает большинство из них.
Следующее поколение сменяет гегемонию – происходит реванш Аттики под руководством Тесея, приютившего у себя Гераклидов – сыновей Геракла, изгнанных из Аргоса. Талассократия разрушена, гегемония Микен и Аргоса пала.
Троянская война и общеэллинская экспедиция в Илион выглядит не обособленной операцией, а финальным аккордом – цитадель талассократии переместилась в Трою. Вполне возможно, вместе с сокровищами, которые эллины хотели разграбить. Поездка Менелая и других ахейских вождей на Крит, во время которой Елена с Парисом сбежали в Трою, могла сопровождаться и военными аргументами, ибо дележ наследства почившего критского царя требовал подкрепления родовых прав силой.
Замысел Агамемнона свершился – Троя после длительной войны пала. Но это была катастрофа также и для ахейцев, которые не только разругались меж собой, но потеряли практически всю свою элиту (героев, начиная с Ахилла) и почти всю армию. Так, «Одиссей» сохранил в войне все свои 12 кораблей, но все их потерял на пути домой. Из 60 кораблей Менелая пристали к берегу Египта лишь 5, а сколько кораблей добралось до Лакедемона, мы не знаем. Кроме того, разрушился и общеэллинский союз: все государства обособились друг от друга. Неслучайно на Итаке никто не интересовался судьбой Одиссея – власть без него давно переделили. Также разделили сферы влияния и на Пелопоннесе. Наступил короткий мир, отраженный в «Одиссее» – в картинах благоденствия Пилоса и Спарты.
Недолгое объединение Пелопонесса под властью Ореста сменилась следующим этапом: победами заявивших свои права на правление ахейскими городами Гераклидов. Гераклиды, победив Тисамена, сына Ореста, вновь делят полуостров. Они разрушают Микены и Пилос. Начинается массовой бегство населения из Пелопоннеса и образование ахейских центров в Ионии. В дальнейшем этот процесс подкрепляется непрекращающимся переселением на Пелопоннес дорийских племен. Центрами организации переселения на анатолийской побережье становятся Афины и Аргос. В этот период (XI-IX вв. до н.э.) отсутствует общеэллинский гегемон, крупнейшие культурные центры находятся в упадке, происходят локальные междоусобицы.
Возвышение Спарты становится результатом ее относительной замкнутости и отказа от расточительных устремлений к гегемонии – вплоть до времен, когда начинается противостояние с Аргосом, потом – с укрепившимися Афинами. Фактором возвышения Спарты стал также захват Мессении, лишенной после многолетней войны устойчивой власти (VIII в. до н.э.).
Мессенцы были поддержаны аркадянами и аргосцами, спартанцы – коринфянами. И далее в архаический период вновь возникают непрочные союзы городов, беспрерывно распадающиеся и ведущие к неожиданным победам и поражениям претендентов на новую гегемонию – вплоть до римского покорения Эллады.
Для кого написана «Одиссея»
Сюжет «Одиссеи» напоминает повесть с хронологическим повествованием. На этот сюжет нанизаны рассказы участников – в основном главного героя. Чудесные спасения Одиссея в духе мифологии: «Невозможно, но я так хочу. Невозможно спастись, а я спасаюсь. Все погибли, а я выжил. Должны были убить, а я сам всех перебил». Эти «хотения» реализуются как в сказочных, так и в бытовых фрагментах гомеровской поэмы – интересных или знакомых для слушателей. Для мореходов: муж не вернулся из далекой страны, а так хотелось, чтобы вернулся! Был рабом на Крите, а так хотелось это же время провести в объятьях богини! Друзья просто побросали оружие и были перебиты, а так хотелось, чтобы они стойко сражались! Герой умер, а так хотелось, чтобы он воскрес! Враги растащили богатство, и справедливо было бы их наказать!
Как и в «Илиаде» мы видим полное отсутствие в «Одиссее» чего-либо напоминающего письменность, включая какие-либо принадлежности для письма, буквы и так далее. Второй признак – наличие повторов, свойственных устным сказаниям. «Рано рожденная вышла из тьмы розовоперстая Эос» – этот рефрен в начале каждого дня «Одиссеи» напоминает присказку «Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается». Это своеобразная разбивка сюжета на временные отрезки, заполняющая устойчивой формулой зазор между ними. В русских сказках они соответствуют разнородным разрывам во времени, в «Одиссее» – перерыву на ночь. Кстати, в «Одиссее» ничего не делается ночью. Ночью все спят. А днем – в основном разговаривают и едят.
Одиссей и сирены
Интересная деталь: в «Одиссее» нет негативных характеристик «от автора». Все, даже ведущие себя непотребно женихи Пенелопы, – богоравные, разумные и так далее. И лишь в характеристиках, вложенных в уста Телемаха, их поведение осуждается. Даже богини Кирка и Калипсо, когда называются «ужасными», то в этом подразумевается сила их чар, а вовсе не внешность.
Основной сюжет, расписанный подневно, – это путешествие Телемаха в Пилос и Спарту и обратно и путешествие Одиссея от острова Калипсо до родной Итаки. Лишь иногда однотипные действия сжимаются, но всегда указывается, сколько дней прошло между значимыми для повествования событиями. Пока Одиссей плывет на своем плоту в море, ничего не происходит. Поэтому Гомеру приходится лишь обозначать длительность этого путешествия.
Мы видим скрупулезное описание реалистичных бытовых деталей, куда вкраплены элементы чудесного, но не невозможного. Чудесное как бы скрыто за тканью реальности и вмешивается в нее так, чтобы не обнаружить себя и остаться тайной, ведомой только главным героям – Одиссею и Телемаху. Более отчетливо сказочное (если его отделить от чудесного) – невероятное, даже с точки зрения публики, очарованной рассказами Одиссея. Публика верит и не верит одновременно, и это ее развлекает. Одиссей прекрасный рассказчик.
И все же целостная поэма такого размера немыслима без записи. Даже если она поздне распалась на устные песни, то собрана заново она были в форме, близкой к исходной – письменной. Из одной письменной традиции сюжет был через устную форму транслирован в новую письменную традицию.
Где же лежал путь приключений Одиссея, о котором он повествует? Обычно считается, что все его путешествие – выдумка. Или же что оно – за пределами рационального, вне известного эллинам мира. Между тем, для неопытного мореплавателя, который не может ориентироваться по звездам и не знает очертаний берегов, все места будут таинственными и опасными. Но опишет он эти места так, что они вполне могут быть узнанными осведомленными слушателями.
У Павсания указано, что в Мегариде прибрежная скала была названа в честь Афины-Эфии (в образе утки-нырка). Вспоминая гомеровский сюжет, можно предположить, что Ино в образе нырка, которая помогла (помогла ли?) Одиссею выплыть к острову феаков, – как раз из тех мест. Догадку подтверждает местное предание, что именно здесь Ино бросилась в море, именно здесь море выбросило на берег ее труп, и она здесь похоронена.
Вполне вероятно, что и остров циклопов был где-то поблизости, поскольку в соседней с Мегаридой земле Коринфа Павсаний обнаруживает алтарь, где приносятся жертву циклопам (киклопам). Здесь же поклонение Посейдону – одно из самых распространенных. А где Посейдон, там и киклопы! Ведь Полифема, с которым столкнулся Одиссей, считали сыном морского бога.
Сирены также могли быть поблизости. Мимо них пролегал и морской путь Ясона, отправившегося за золотым руном. И тогда экипаж легендарного «Арго» спасла песня Орфея, затмившая божественные голоса сирен. Побережье о. Эгины, как отмечает Павсаний, очень опасно подводными скалами, что приводит к гибели кораблей. Здесь, похоже, погиб после Трои Аякс Ойлид, здесь же могли плыть и Одиссей, и Ясон.
Скорее всего, и феаки – вовсе не отдаленно живущее племя, а очень даже близкое к Итаке. Идеальное правление феаков напоминает Крит в период расцвета – так как о нем мог слышать Одиссей из местных преданий. Потом его пересказ трансформировался в описание некоего идеального государства.
Можно сказать, что перед нами дневниковая запись, но никак не миф или сказка. И в то же время она содержит мифы – в виде вставленных рассказов. И сказку – в виде желаемого завершения основного сюжета. Желаемое (месть женихам) становится литературным вымыслом. На это указывает особое сладострастие, которым автор сопровождает сцену уничтожения женихов Пенелопы.
«Одиссея» написана «глазами» Телемаха и Одиссея. Если Одиссей не видел, как лестригоны расправляются с командами кораблей, которые рискнули войти в их бухту, он не живописует этой картины. Он просто бежит, сломя голову, чтобы не попасть в плен кровожадному племени. То, что Одиссей или Телемах видеть не могли, Гомер не домысливает. За исключением дел божественных – диалогов богов меж собой. Надо отметить, что греческая мифология вся состояла из потока частных вымыслов и переиначиваний мифологических преданий. Греки постоянно выдумывали мифологические сюжеты – творили желаемый ими мир богов, отыскивая в них некую духовную истину, которая кристаллизовалась в более или менее устойчивых образах и сказаниях.
«Одиссея», очевидно, незаконченное произведение. В ней не разрешается вопрос о возможной мести родственников убитых Одиссеем, Телемахом и их верными рабами. А это не только жители Итаки, но и соседних островов. Можно сказать, что в одночасье родовые кланы этих островов лишились самой блестящей молодежи. Зная, что массовое убийство не пройдет без отмщения, Одиссей предлагает разыграть свадебную процессию, чтобы из своего дома добраться до дома отца невредимым. И эта операция удается. Но неизвестно, как все-таки отнеслись итакийцы к резне в доме Одиссея. Разрешение противоречия имеется в очевидно добавленном фрагменте, не имеющим отношения к Гомеру.
Также остается без завершения предсказание, которое сулило Одиссею избавление от бедствий, только если он пойдет по свету с веслом на плече. Остановиться ему предлагалось лишь среди народов, которые не знают моря и мореплавания. Опознавательный вопрос, который должен был услышать Одиссей: о том, зачем он несет на плече деревянную лопату. Вот тогда весло должно было быть вкопано в землю, и на этом Одиссей мог считать, что полностью рассчитался с богами по своим долгам. Но это уже другая история. «Одиссея» обрывается, а ее эпилог нам известен из противоречивых постгомеровских произведений.
Павсаний предполагает, что народ, не знающий моря, – это эпириоты, жители Эпира. Они, как утверждает Павсаний, ранее жили в Фессалии, а после общеэллинской экспедиции под Трою решили сменить место жительства. Действительно, Фессалия хоть и просторная равнина, но отрезанная от моря горной грядой, и от этого подверженная «потопам» – наводнениям при сильных ливнях, которые направляют в долину огромные потоки воды с окружающих гор. Но помыслить, что живущие рядом с мореходами эпириоты никогда не видели весла и «не знают моря» (да к тому же еще и соли) – совершенно невозможно.
Одиссей пускает стрелы в женихов Пенелопы
Кстати, вкопанное весло – это знак могилы. Именно так попросил устроить его могилу спутник Одиссея, которому довелось упасть с крыши дома Кирки, где он после пиршества решил прикорнуть и в результате оступился и сломал себе шею. Возможно, весло, воткнутое в землю, – это знак не конца странствий, а конца жизни.
Злой Одиссей
Одиссей до Троянской войны – добрый правитель своего острова. После войны – по сути дела, пират. В его рассказах как само собой разумеющееся поминается нападение на страну киконов (где Одиссей и его спутники, занявшиеся грабежом, получили решительный отпор), потом грабеж повторяется в истории с циклопом Полифемом – в общем-то мирным скотоводом. Заканчивается все плохо – съеденными священными овцами и коровами Гелиоса, что привело к гибели последнего корабля и последних спутников Одиссея – Зевс такого безобразия не стерпел, хотя и мог снизойти до положения морских странников, которые застряли на острове Тринакрия и мучились голодом. Собственно, их там удерживала буря, которая стихла как раз в тот момент, когда стада священных животных были употреблены в пищу. Но стоило Одиссею выйти в море, как Зевс ударил в его корабль молнией.
Судя по сообщению Гомера, численность голов в стадах Гелиоса – 700 штук. Число спутников Одиссея – заметно менее 50. Месяц они питались запасами с корабля и выловленной рыбой. Потом шесть дней ели священных животных. Каков мог быть ущерб стаду за это время? Скорее всего, очень незначительный. Десяток-другой голов, не более. Но Гелиос не стерпел, а Зевс не простил. Предсказание Кирки, о котором Одиссей предупреждал спутников, свершилось. Все они погибли. А Одиссею предстояли новые скитания.
Ослепление Полифема
Заметим, что здесь снова можно видеть достаточно слабую морскую подготовку Одиссея и его спутников. Они не могут плыть без попутного ветра. А целый месяц ветры дуют либо с востока, либо с юга (Евр и Нот), а по отношению к Итаке Одиссей со спутниками находится где-то в западной части Средиземного моря. Они также слабо приспособлены не только к ловле рыбы, но и к ее употреблению в пищу. Им хочется мяса, и они решаются на святотатство, несмотря на запрет Одиссея, объяснившего, чьи это стада. Голод пересиливает трепет перед богами.
Что Полифем сожрал несколько спутников Одиссея – фантастическая выдумка, чтобы оправдать наглый грабеж. Вряд ли Полифем мог быть каннибалом. В его хозяйстве овцы и козы, и он пьет молоко и ест сыр. Греки же предпочитают свиней и коров, чье мясо они в течение всего повествования беспрерывно едят, запивая вином. Лишь однажды в сюжете появляется какое-то иное блюдо: запеченная в желудке кровь, перемешанная с жиром – нечто, напоминающее похлебку спартанцев, вкусовые свойства которой за пределами Спарты как-то не слишком ценили. Молоко и сыр встречаются в «Одиссее» лишь когда Менелай рассказывает о своем пребывании в Ливии. И там в перечне пищевого изобилия (рациона Полифема, добавленного к эллинскому) вино не встречается.
Полифема спутники Одиссея не только ослепили, но и ограбили: сгрузили всех его коз и овец на свой корабль, отплыли подальше, да еще и насмехались над искалеченным. Что Полифем – сын Посейдона, и тот мстит Одиссею за обиду, является неподтвержденной причиной его злоключений. Полифем, взывая к Посейдону, вовсе не уверен, что тот – его отец. В его словах сомнение: «Если я впрямь тебе сын и хвалишься ты, что отец мне…».
Если увидеть за фантастическим рассказом Одиссея реальность, то она такова: он со спутниками напал на Полифема, который убил нескольких нападавших, защищая свой дом. Но его одолели и ослепили, а потом ограбили, присвоив себе все его стадо и обрекая его на мучительную голодную смерть. Да еще потешаясь над его безнадежным положением. За что? В «Одиссее» вполне ясно указано, что Полифем пренебрежительно отозвался о законах гостеприимства, которые диктует Зевс. Зевс ему не указ, его божество – Посейдон, от которого до Полифема дошли слова о том, что он его сын. Одиссею со спутниками плевать на Посейдона – они хохочут, когда Полифем призывает Посейдона покарать обидчиков. Тут явно произошла встреча разных «конфессий». Гомер передает историю этой встречи, но причину конфликта приводит фантазийную.
При возвращении на Итаку переодевание Одиссея в нищего старика разумно. Его на Итаке мало кто помнил, друзья уже давно о нем забыли. И он мог опасаться, что ситуация так изменилась, что явление царя будет без радости встречено новым властителем. Гомер умалчивает о том, что за 20 лет Итака без правителя никак обойтись не могла. Это нереально и, вероятно, неправда. Зато Гомер настойчиво и в разных ситуациях повторяет сюжет об участи Агамемнона, который прибыл домой после долгой войны и был убит вместе со сподвижниками во время пира собственной женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом. Нечто подобное могло произойти и с Одиссеем. Он не был уверен ни в своем народе, ни в Пенелопе. Все его приготовления и хитрости объясняются именно этим.
Народу было бы спокойнее, если бы Одиссей умер. Телемах, обратившись к народу за помощью против обнаглевших женихов, пожиравших его достояние, поддержки не получил. И потом, когда женихи были убиты, Одиссей боялся народа, который такое массовое убийство могло возмутить до крайности: ведь Одиссей уже не числился их царем. Скорее всего, Одиссею пришлось убить и нового царя, который среди женихов должен был добиваться руки Пенелопы, чтобы закрепить законность своей власти, отодвинув в сторону Телемаха. Но почему новый правитель не убил Телемаха? Скорее всего, потому что тогда Пенелопа не пошла бы за него, и статус правителя оставался бы временным и ненадежным: кто-то мог бы его оспорить.
Разгадка истории Одиссея – в эпизоде с луком, который Пенелопа предложила женихам натянуть (накинуть тетиву). Она заведомо знала, что они не справятся, а потому и сказала, что выйдет замуж за того, кто исполнит ее задание. Почему женихи не справились? Они были так маломощны в сравнении с Одиссеем? Навряд ли. Они просто не знали, как натягивать лук. Находим у Павсания: «…у эллинов, за исключением критян, не было в обычае стрелять из лука». Почему Одиссей смог натянуть лук? Ответ напрашивается сам собой: он обучился на Крите или у критян! Неслучайно две из правдоподобных историй Одиссея (названных Гомером ложными и обусловленными хитростью Одиссея) относятся как раз к Криту. Одиссей многие годы провел не у Кирки и Калипсо, а на Крите!
Успешно натянуть лук – значит, добиться максимального натяжения тетивы. То есть, тетива, подогнанная под лук, должна соответствовать его наибольшему изгибу. Но чтобы лук не превратился в дугу, его изгиб в целом незначителен: лук очень упруг при небольшой кривизне изгиба. Что требует определенной уловки: натягивать лук надо, выстраивая в одну линию три точки – опоры одного конца лука о землю, места приложение силы (второй конец лука) и центр тяжести человека, который прикладывает усилие. Кажется, что проще всего упереть лук в землю одним концом и что есть силы давить сверху на свободный конец. Но это означает, что любое смещение точки приложения силы сорвет всю операцию: лук выскользнет из рук. Уловка состоит в том, чтобы центр тяжести максимально приблизить к точке приложения сил или даже разместить ниже нее – фактически повиснуть на дуге лука как на ветке дерева. Для этого его можно оплести ногой в нижней части и всем весом повиснуть на верхней, и тогда успех гарантирован – усилие будет максимальным и точным. Скорее всего, именно эту уловку и применил Одиссей. Возможно, Одиссею показал, как натягивать тетиву, подаривший ему лук Ифит.
Одиссею свойственна невероятная жестокость, которая в мире Гомера – проявление героизма. Притом со слов Телемаха известно, что Итакой Одиссей правил очень разумно и справедливо, никого не обижая. Но по возвращении в своем доме он устроил страшную резню (и, вероятно, многих убил стрелой, пущенной из лука), а неверных рабынь попросту повесил – всех, кто был замечен в связях с женихами Пенелопы. Эту кровавую историю Гомер рассказывает в подробностях. Порицания за избыточную жестокость не просматривается. Почему? Потому что Одиссей ведет себя как герой – в понимании Гомера и его слушателей. Как добрый правитель он никому не интересен. А вот когда он герой Троянской войны, то должен поступить именно как герой – проявить невиданную мощь, которая стоит жизни многим людям (по разным источникам женихов набирается несколько десятков).
Кстати, почему Одиссей не взял с собой лук в рискованное путешествие – во время похода на Трою? Ведь он мог использовать лук в схватках с врагами в Трое, а также в последующей истории, когда ему не раз приходилось хвататься за рукоятку меча. Почему он не использовал лук – оружие, доказавшее свою эффективность? Одиссей просто не умел им пользоваться, как и остальные его спутники и жители Итаки. Натягивать тетиву – умел, а пускать стрелы точно во врага – нет. Когда же он овладел луком? Это могло произойти во время многолетнего военного похода. Или же после – во время пребывания на Крите, где Одиссей (согласно рассказанным им «ложным» историям) мог быть и рабом, и богачом, и наемником, и гостем.
По мере повествования характеристики Одиссея у Гомера меняются в сторону все больших сомнений в честности его рассказов. Если феаки были заворожены его историей о фантастических существах, обворожительных и опасных богинях и страшных людоедах, и лишь сказали, что он, конечно, не врет, как другие, а говорит истинную правду о своих скитаниях, то по прибытии на Итаку встретившая Одиссея Афина прямо называет его лжецом. Одиссей, пытаясь скрыть свое имя и лицо, рассказывает о том, что прибыл с Крита – вполне правдоподобный сюжет. Там он кого-то убил и ограбил, и это выглядит куда как более правдиво, чем рассказы о циклопах, богинях, сиренах, Сцилле и Харибде.
Плутарх из неизвестных источников приводит историю, завершающую биографию Одиссея. Якобы состоялось обвинение Одиссея родителями убитых женихов, третейским судьей был избран царь Эпира. Приговор суда: 10 лет изгнания из Итаки, которой будет править Телемах, получая от наследников убитых женихов возмещение, покрывающее ущерб, нанесенный ему во время затянувшегося сватовства к Пенелопе. Далее, вероятнее всего, Одиссей находится при дворе царя Эпира и продолжает воевать. Разумеется, там он заводит новую семью, которую бросает, когда приходит пора возвратиться домой. А на Итаке уже правит Пенелопа. Телемах же изгнан как возможный убийца Одиссея – согласно предсказанию оракула. Послегомеровские сказания находят его то зятем у Нестора, то мужем Кирки, то мужем ее дочери, от руки которой герой и погиб, убив прежде Кирку. Это уже совсем смутные сведения, которым верить нельзя.
По одной из версий, смерть от руки сына не минует Одиссея – его по ошибке убивает прибывший на Итаку сын Кирки Телегон. Он не узнает отца и не знает, что он на Итаке. И начинает грабить. Одиссей вступает с ним в схватку и погибает (вспомним, что это – прямое повторение истории с убийством Эдипом своего отца). По одной из версий Одиссей только ранен, а умирает от горя, узнав о гибели Кирки и Телемаха.
Другие источники называют иные места упокоения Одиссея – либо в Эпире, либо в Этрурии. В Эпире он был, скорее всего, стратегом, а в Этрурию осуществлял набеги.
Елена Прекрасная
Отдельный сюжет в «Одиссее» – это воспоминание Менелая о взятии Трои. Менелай с Одиссем и другими данайцами сидят в троянском коне и слышат, как Елена бродит вокруг и окликает их по именам голосами их супруг. И Одиссей с трудом удерживает товарищей, чтобы они не отозвались и не выдали себя.
Либо Елена глупа, либо находится в смутном состоянии сознания, либо намеренно пытается обнаружить засаду ахейцев, но почему-то не прямым образом, указав на них, а так, чтобы они сами себя выдали.
Судя по оценкам Елены она – одна из умнейших женщин Эллады. Она не глупа. Может ли она сознательно желать разоблачения замысла строителей Троянского коня? Вроде бы нет. Если бы так, она бы выдала Одиссея, когда он проник в Трою, переодевшись в рубище нищего. Но она, напротив, способствует его разведывательной миссии – принимает его тайно в своем доме и ублажает как дорогого гостя. Об этом она рассказывает на пире Менелая Телемаху. А также очень откровенно признается в том, что отправиться в Трою с Парисом-Александром она решила под воздействием какого-то помутнения. И никто ее не неволил. Когда Троя была осаждена, Елена вдруг почувствовала тоску по родине. Но, видать, чары в тот момент еще не развеялись, и Елена чуть не погубила Одиссея и его спутников своим поведением у Троянского коня. При этом «Одиссея» не только умалчивает о причинах такого поведения, но и не называет поведение Елены странным.
У Павсания пересказано местное аргосское предание о том, что Елена была замужем за Тесеем. И родила от него дочку. Когда Тесей отлучился из Афин на очередную войну в Эпир (или в Аид – выручать своего друга), Елена была возвращена своими братьями Диоскурами в Лакедемон, а дочку каким-то образом отдала своей сестре Клитемнестре, которая была уже замужем за Агамемноном (возможно, передача дочери сестре состоялась по пути через Микены в Спарту). Звали дочку Ифигенией, и, согласно мифу, она была принесена в жертву Артемиде, чтобы та прекратила безветрие, и флот ахейцев мог отправиться к Трое. В последний момент Артемида подменила Ифигению теленком и унесла ее в Тавриду. По другой версии она была обещана в жены Ахиллу, и тот спас ее, отправив в Скифию, где она приносила жертвы как жрица в храме Артемиды. Но вполне вероятна и человеческая жертва. Века спустя мессенцы решились принести девушку из знатного рода в жертву, чтобы была обеспечена победа в войне со Спартой. И предание, изложенное Павсанием, говорит о том, что мессенский герой Аристомен убил свою собственную дочь, и эта жертва была принята богами.
Елена была накануне похода отправлена Тесеем из Афин в соседние Афидны, где ее и захватили Диоскуры, вернули в Спарту и устроили состязание женихов, в котором Елена сама выбала в мужья Менелая. Каков был смысл высылки Елены из Афин? Конечно, Елена была Тесеем принуждена к замужеству насильно, поскольку у него уже были до нее две жены – амазонка (недостоверное упоминание у Плутарха) и Федра, родившая ему двух сыновей (здесь отельная трагедия с непреодолимой влюбленностью Федры в пасынка Ипполита). По известным нам преданиям, Елена была похищена Тесеем в 10 или 12 лет во время священнодействия в храме Артемиды-Орфии. Прошло немало лет, прежде чем братья Диоскуры ее освободили. Причем «освобождение» тоже скорее напоминает похищение – в союзе с врагами Тесея, которые устроили переворот, и он вернулся в Афины, когда там уже правил Менесфей (двоюродный брат, у которого с Тесеем был общий дед по отцу – Эрихтоний). Тесей бежал на о. Скирос, где у его отца Эгея ранее были земли, но там был убит местным царем. А Менесфей возглавил 50 афинских кораблей во время похода на Трою, а также был с Одиссеем в Троянском коне (согласно Павсанию).
Непонятно также, зачем Диоскурам было прихватывать с собой мать Тесея Эфру. Может быть, это был шантаж? Скорее всего, Эфра просто по обычаю стерегла Елену, и им пришлось бежать от переворота, происшедшего в Афинах. Тесею не было никакого смысла вывозить их из своего города.
Что Ифигения была отдана сестре Елены – понятно, но почему она вообще была отдана? Нежеланный ребенок от принудительного брака? Но в тот момент Ифигении было уже не менее 8-10 лет. Опасения за то, что Менелай отнесется к падчерице недружелюбно? Опасение, что Тесей скорее пойдет воевать за дочь, чем за изменившую ему жену? Просто следствие характера Елены, в котором не было привязанности к детям? Ведь она покинула и другую дочь – Гермиону, когда бежала с Парисом. А потом и детей от Париса, которые так «удачно» погибли перед тем, как Елена вернулась к Менелаю.
Как мы видим, похищение Елены происходило дважды и в сходных ситуациях. Совпадает отлучка мужа и брошенная дочь. Возможно, удвоение истории – просто дань эпической традиции, в которой всегда множество аналогов и сходных ситуаций. Или же следствие совпадения обстоятельств – обычая и характера самой Елены. Очевидно сходство между ее похищением-освобождением Диоскурами и похищением-бегством с Парисом. Античное предание говорит, что Гермионе на момент бегства матери было девять лет. Примерно в том же возрасте была брошена и Ифигения. Причем мать так и не забрала ее к себе, хотя отношения между братьями Менелаем и Агамемноном были дружелюбные. Правда, отношения Агамемнона и Клитемнестры, возможно, уже были далеко не безоблачными.
По одной из версий, Агамемнон убил первого мужа Клитемнестры Тантала и их новорожденного ребенка. Клитемнестра, правда, в браке с Агамемноном родила трех дочерей и сына Ореста, который потом и отомстил ей за убийство Агамемнона. Но все это уже другая история. Здесь же проблема, скорее всего, в Елене, чья репутация не была безоблачной. О ней поэты писали злобные стихи. Правда, с опаской, поскольку Елена славилась магическими способностями, и ее образ в «Одиссее» вполне соответствует этому. Благостный настрой Менелая, так легко простившего измену Елены, настораживает. При этом он сам рассказывает о неадекватном поведении Елены рядом с Троянским конем, когда она чуть не раскрыла замысел данайцев. Похоже, что Менелай к тому моменту был под полным контролем пятидесятипятилетней красавицы.
Елена с Парисом либо прибыла в Трою через три дня, либо после длительного визита в Египет. Первая версия более основательна, поскольку поединок Париса и Менелая явно относится к началу Троянской войны, а к ее развязке Парис не только лично сражается в рядах троянцев, но и руководит ими как полководец – наравне с Гектором и другими героями. Как искусный лучник, он убивает Ахилла, а потом погибает сам от стрелы, отравленной ядом. Елена же после почти двадцатилетнего «пленения» спокойно отправляется с Менелаем в Спарту, но по пути их корабль заносит на Крит, в Ливию и Египет. Восемь лет путешествий – почти столько же, сколько скитался Одиссей. Получается примерно девять лет на каждый период: замужем за Тесеем (в Афинах), замужем за Менелем (в Спарте), дважды по 9 за Персеем (в Египте и Трое), и снова замужем за Менелаем (период странствий). 9 – магическое число, которое у Гомера измеряется в днях, годах, быках и так далее. Это древняя магия, которая регулирует жизнь людей настолько, насколько они сами в нее верят.
О кончине Елены есть только родосское свидетельство (Павсаний), что после смерти Менелая Елена была изгнана Никостратом, сыном Менелая от рабыни, который пытался захватить власть. На Родосе ее приняла Поликсо, жена Тлеполема, бежавшая с мужем из Аргоса после случайного убийства. К тому времени Тлеполем уже погиб в Троаде или же скитался, подобно Одиссею. По преданию Поликсо умертвила Елену, ревнуя к мужу, который был когда-то среди женихов Елены (а кто из героев не был в это роли?) и погиб по ее вине – по общему мнению, именно из-за Елены была развязана Троянская война, на которой сложили головы многие цари и герои.
У Менелая не оказалось наследников, поэтому на короткое время Спарта присоединилась к гегемонии Ореста, сына Агамемнона (Гермиона, дочь Елены, стала его женой). А затем, пришли Гераклиды, началось массовое переселение на Пелопоннес дорийских племен, а с ними пришли новые герои и новая история. У дорийцев были свои цари и свой порядок управления. Они не могли признать прав на царскую власть внебрачных потомков Менелая, поэтому полномочия получил другой ахейский род, разделивший правление с дорийским вождем. Впрочем, предание гласит, что царские династии Спарты пошли от одного корня, уходящего вглубь микенской эпохи.
Пенелопа
Жена Одиссея Пенелопа противопоставлена Елене Прекрасной как принципиально иной гомеровский персонаж. Пенелопа остается только литературной героиней, а Елена получает собственный культ, распространенный на Пелопоннесе – святилища и изваяния.
Верность и добропорядочность Пенелопы начинается с момента ее замужества. Ее отец Икарий – сын правителя Мессении, изгнанный вместе с братом и поселившийся Акарнании – приморской области как раз недалеко от Итаки. Скорее всего, с Одиссеем он был хорошо знаком, но отдать ему свою дочь в жены вовсе не торопился. Пенелопу он решил выдавать замуж не просто так, а почему-то непременно в Спарте, устроив к тому же состязание в беге. Павсаний описывает дистанцию, память о которой здесь сохранили в течение тысячелетия – настолько значимой оказалась эта страница биографии Одиссея, который и победил в состязании. Примечательно, что никто из эллинов, сохранивших это предание, не оспаривал место проведения забега, хотя множество других эпизодов гомеровской истории были предметом тяжб. В данном случае мы имеем дело скорее с культурным феноменом: значимо оказалось не событие, а гомеровские поэмы, возвысившие Одиссея и Пенелопу до такой степени, что место их встречи было зафиксировано на века.
Икарий, вероятно, не ожидал победы Одиссея. Он рассчитывал, что дочь будет жить где-то неподалеку, и это позволит ему вернуться в родовые земли и даже хотя бы отчасти восстановить свою власть. Может быть, ему приглянулся лаконский жених. Но Одиссей эти планы разрушил, и Икарий начал упрашивать его остаться в Спарте. Одиссей отказался и отправился в путь. Икарий нагнал супругов, упрашивая остаться теперь уже Пенелопу. Та безмолвно опустила покрывало на лицо. И этот жест смирения и стыда за отца запал в душу эллинам.
Долготерпение Пенелопы – главное ее достоинство, прославленное в «Одиссее». Но если Одиссей, действительно, без вести пропал на 20 лет, то в течение этого времени уж как-нибудь можно было расспросить тех, кто ездил в Пилос и Спарту, не видел ли кто мужа? Или прямо послать туда корабль с гонцом – разузнать у вернувшихся из-под Трои воинов, куда подевался Одиссей. Зачем надо было ожидать, когда вырастет Телемах, и сможет сам обратиться к прежним сподвижникам Одиссея? Вероятно, долготерпение было связано с определенным статусом царицы или с тем, что ее не только последние три года осаждали женихи. Ее ожидание было одновременно и заточением.
Ответ на вопрос, почему Пенелопа пассивно ожидает мужа, проясняет картина посттроянской жизни ахейцев. Это картина беспрерывных переворотов. Вспомним, что Менелая нет в Спарте еще много лет после Трои. И правит кто-то другой. Такой срок страна не может оставаться без правителя. Агамемнон, вернувшись из Трои, тут же был убит женой и ее любовником. А затем Орест восстанавливает справедливость – убивает убийц. Правда, при этом за убийство матери его (его душу) терзают Эринии – до конца жизни.
Скорее всего, и на Итаке кто-то правил в отсутствие Одиссея. И правителю (или правящей группе) невыгодно было, чтобы какие-то вестники выясняли судьбу Одиссея. Именно поэтому миссия Телемаха, отбывшего в Пилос, а затем в Спарту, была тайной и вызвала не только гнев у женихов Пенелопы, но и прямой сговор с целью убить сына Одиссея по возвращении – независимо от того, что ему удастся узнать. Их затея потерпела провал, но намерение дошло до организации засады.
«Одиссея» показывает действие неписанного брачного закона для царя – в данном случае царя Итаки. Вдова царя интересна женихам тем, что через нее наследуется статус царя. Отсюда и наплыв соискателей руки Пенелопы. Вдова обязана выбрать кого-то из женихов, от выбора она отказаться не может. А пока не выбрала – не может отослать претендентов восвояси. Поэтому они располагаются в ее доме и пиршествуют за ее счет. Женихи готовы к состязанию за руку и сердце Пенелопы. Но она оттягивает решение вопроса, объявляя, что будет ткать саван для своего отца – тоже неписаный закон, исполнению которого женихи противиться не могут. Пенелопа делает вид, что постоянно ошибается в том деле, которое является для ахейских женщин хорошо знакомым – ей приходится постоянно распускать сотканную часть полотна. Пока женихи не начинают бунтовать и не уличают Пенелопу в обмане. Саван приходится завершить.
Пенелопа в своем собственном доме находится в такой же ловушке, как и сам Одиссей – в руках нимфы Калипсо, не позволяющей ему вернуться домой. Здесь мы видим более прозаичное повторение сказочного сюжета. И состязание в стрельбе из лука, которое Пенелопа объявляет для женихов, по сказочной закономерности совпадает с возвращением Одиссея. Разумеется, Одиссей выигрывает состязание, ибо только он знает, как натянуть тетиву и как поразить мишень из «седого железа». Он вторично добивается Пенелопы, вслед за чем свершает свою жестокую месть женихам, которые обычай все-таки переступили – не оказали почтения жилищу царя и его супруге, а посягнули на то и другое.
Через 20 лет, когда Одиссей вернулся, Пенелопа не узнает его в лицо и не верит, что это ее муж. Телемах, который его помнить не мог, просто поверил, что перед ним его отец. А Пенелопе надо было шрам на ноге показывать, да еще рассказывать о своеобразно устроенном брачном ложе, в основании которого – мощный ствол дерева, вокруг которого Одиссей построил свой дом. (Тоже очень непонятная затея с этим стволом.) Что должна была думать Пенелопа о человеке, который прикинулся нищим, а потом перебил всех женихов? Кому, кроме Одиссея, все это надо было? И кому по силам? И вот после бойни сидит утомленный Одиссей весь в крови и грязи, а Пенелопа не верит своим глазам и задает ему каверзные вопросы. Может быть, потому что 20 лет сильно изменили Одиссея, а в течение этого срока в дом Пенелопы не раз приходили самозванцы?
Версии судьбы Пенелопы различны. В отличие от гомеровской версии, они предполагают, что Пенелопа все-таки уступила домогательствам одного из женихов. За что Одиссей ее либо убил, либо отправил к родителям в Мантинею в Аркадии. Экстравагантная версия, как уже было сказано, – что сын Одиссея от Кирки Телегон убил неузнанного отца и женился на Пенелопе, а Телемах – на Кирке. Версия вполне водевильная, но для гомеровских ахейцев она реалистична. Пенелопа, как мы видим по изложению Гомера, не увядает, даже когда ей за сорок. Ну а Кирка – богиня, и время над ней не властно. Поэтому поколение их детей, да еще когда дело касается царских полномочий, не против таких мезальянсов.
На этом исторический очерк образа Пенелопы исчерпывается, остается литературный образ – женский роман, в котором изображены пронзительные сцены тоски, ожидания, бессильных слез, наконец, неверия в вернувшееся вместе с мужем семейное счастье. Образ Пенелопы обеспечил «Одиссее» значительный успех у женщин Эллады и чувственно переживался в последующие эпохи, сделав поэму Гомера бессмертным произведением европейской цивилизации.
Морская история
Начало повествования «Одиссеи» обнаруживает главного героя в плену у Калипсо, которая удерживает его на своем острове, а тот тоскует по родной Итаке, проливая слезы. Слезы и прочие проявления эмоций – скорее всего, лишь метафоры. Герой, проливающий слезы, – не самая убедительная картина, чтобы подчеркнуть его мужество перед лицом испытаний.
Калипсо, «богиня в богинях», живет с Одиссеем «в гроте глубоком, желая, чтоб сделался ей он супругом». Этот грот мало чем отличался от пещеры циклопа (из последующего рассказа скитальца мы узнаем об этом злоключении, которое по времени было ранее), и нимфа Одиссею была уже давно не мила. С ее острова он не мог никуда отлучиться, а ложе с богиней делил поневоле. Почему-то эту неволю он терпел очень долго, пока не решился построить плот и отправиться в море.
Пока Одиссей проливал слезы на острове у Калипсо, Афина в образе достойного торговца Мента (Ментоса), «тафосцев властителя», сообщает Телемаху, что его отец «томится под властью свирепых, диких людей». Получается, что у богини забвения в подчинении люди – мало чем отличающиеся от лестригонов или циклопов, о которых в «Одиссее» будет рассказано позднее. Можно сказать, что плен Одиссея – это сочетание нескольких уловок богини забвения и усилия ее слуг. Или же просто лукавый рассказ. Прославленное хитроумие Одиссея, быть может, состоит именно в том, чтобы придумать остроумный сказочный сюжет. Непреодолимые чары Калипсо требуют того, чтобы самом Зевс вторгнулся в сюжет и отдал распоряжения на счет бедного Одиссея.
По протекции Афины Зевс принимает бескомпромиссное решение: Одиссея вернуть домой. Но зачем-то через остров феаков. Зачем? Может быть, чтобы щедро одарить. А может быть, это было единственное средство обойтись без усмирения Посейдона, чинящего препятствия Одиссею. Вердикт Зевса таков: принять Одиссея должны «феаки, родные бессмертным; и будет// Ими оказана почесть ему, как бессмертному богу». И домой с подарками: «Меди и золота дав ему кучи и кучи одежды,// Сколько б он ввек не привез из-под Трои, свою получивши // Долю добычи…».
Гермес по заданию Зевса летит к Калипсо, и тут между делом в его объяснениях всплывает странная подробность. Оказывается, Афина, что принимает такое деятельное участие в судьбе Одиссея, сама является причиной его злоключений. После разрушения Трои ахейцы провинились перед Палладой. «При возвращеньи, однако, они раздражили Афину; // Ветер зловредный и волны большие она им послала…». При этом путь Одиссея от лотофагов до Калипсо из повествования почему-то исчезает и возникает только в рассказе самого Одиссея, который он поведает своим благодетелям феакам. А пока Гермес сообщает Калипсо то, что она и без него должна бы знать: ветер, заказанный Афиной, отнес суда ахейцев, все его друзья погибли, а он оказался пленником на острове нимфы.
Вторая подробность ситуации выясняется уже не Гермесом, а самой Калипсо: она начинает причитать, что боги не дают богиням быть со смертными мужами. И не раз для последних это заканчивалось смертью. Разрушить планы богини забвения, как выясняется, могут только сами боги – по прямому указанию Зевса, которого к этому решению подталкивает Афина. При этом корабль Одиссея расколол молнией именно Зевс, одновременно убив его спутников. Получается, что Афина и Зевс лишь компенсируют нанесенный вред, и тем самым становятся «спящими богами», которые свое решение обращают вспять и уравновешивают прежнее решение новым. Правда, между их противоположными решениями пролегает целая человеческая жизнь. Калипсо же стремится к необратимому решению, обещая Одиссею бессмертие – в обмен на забвение родины и семьи. Одиссей предпочитает покинуть богиню забвения и вернуться к родным – собственно, стать не безвестным богом, а известным героем, бессмертным в людской памяти.
Калипсо покорна Зевсу, и исполняет все, что от нее требуют: помогает Одиссею построить прочный плот, дает ему необходимые припасы, загружает на плот богатые подарки, снабжает попутным ветром. Но вот Посейдон, возвращаясь из страны эфиопов, в которой он был по оставшейся неизвестной надобности, оказывается не в курсе воли Зевса. Как будто Афина и сам Зевс не знали, кто все время чинил препятствия Одиссею в возвращении домой, и не ведали, что ему придется вновь оказаться в морской стихии, подвластной Посейдону. Тот, увидев раздражающего его смертного, разгневался и устроил бурю – уже на подходе к стране феаков. Одиссей, захваченный чудовищным штормом, почему-то начинает винить в этом Зевса – как будто тоже не в курсе того, что Посейдон является его главным недоброжелателем. Зевс и Посейдон на деле оказываются одной личностью – по крайней мере, в отношении организации сложностей для Одиссея они выступают синхронно.
Богини забвения своими чарами вольно или невольно уберегали Одиссея от гнева Посейдона. И даже Афина его хотела спасти. А вот Зевс с Посейдоном как будто составляли одну многогранную личность, на словах милостивую к Одиссею, на деле – жестокую (как и в «Илиаде» – Зевс помогает троянцам, а когда спит, то против них действует Посейдон, выступая под личиной того или иного героя). Божественные братья оказываются на стороне циклопов, грозя безвестной смертью. И Одиссей сожалеет уже, что не пал под Троей, прославив себя, как другие герои. Ему сулят абсолютное забвение, а не вечное блаженство, которое исходило от богинь. И не вечную славу, как другим героям, сложившим головы под Троей.
Спасает Одиссея снова женское божество – морская принцесса Ино, которая ранее была смертной, а теперь, пребывая в пучинах и обладая божественным статусом, сжалилась над Одиссеем. При этом забвение снова – одно из условий: Одиссей должен покинуть свой плот и бросить свою одежду, используя лишь какое-то странное покрывало Ино, которое на берегу феаков надо непременно бросить в море, и не оглядываться. То есть, предстать перед феаками без каких-либо внешних признаков прежней жизни – лишенным одежды и любого имущества. Все дары Калипсо тем самым аннулировались. И Калипсо тоже оказывается «спящим божеством» – итог ее деятельности лишен необратимого результата.
Посейдон, разрушив полностью плот Одиссея, злорадно усмехнулся и отправился по своим делам. Ветры же остановила Афина, почему-то оставив лишь дуновение Борея – северного ветра. Нет бы сразу доставить Одиссея в землю феаков или уж сразу на Итаку! Афина дозволила могучим волнам носить Одиссея еще два дня, пока сама собой не иссякла сила Борея, и Одиссей не смог сам добраться до желанного берега. В последний момент, когда Одиссей уже отчаялся избежать гибели от волны, несущей его на скалы, Афина придала ему силы. Но тоже как-то не сразу спасла, а поставила на грань смерти, дав волне накрыть героя, вцепившегося в скалу, и снова отбросить в море. Фактически он выбрался на берег сам, и поддержки богов как-то по этому фрагменту поэмы не заметно.
Только выбравшись на берег, Одиссей вспомнил о том, что должен был сделать с покрывалом Ино. Условия он выполнил, как будто знал другие сказания, где по законам жанра невыполнение какого-нибудь абсурдного правила сулило в дальнейшем огромные неприятности. «Не оборачиваться» – одно из таких условий, которое присутствует во многих мифологических сюжетах. Правда, оно часто нарушается. Оборачиваться нельзя, но и не обернуться невозможно – с фатальными последствиями. Но для Одиссея все обошлось.
Вся история с Калипсо, Ино в образе птички-нырка, Афиной, Зевсом, Посейдоном выглядит простым переложением обычной морской истории, которая снабжается поэтическими образами. Заброшенный на остров кораблекрушением моряк некоторое время нежился в объятьях туземной красавицы, но потом построил плот и отправился в путь. Был захвачен бурей, разметавшей связанные бревна, с трудом добрался до другого острова, а чтобы выплыть, вынужден был сбросить с себя всю одежду. Вот и все – никакие божества для этого сюжета не нужны, они лишь украшают простейший сюжет, лежащий в основе этой части истории Одиссея.
Можно сказать, что вся история «Одиссеи» с первой песни по восьмую предполагает за богами роль эпитетов, будучи просто историей Телемаха, Пинелопы и самого Одиссея. Без какого-либо богоприсутствия. С восьмой песни начинаются «байки» в духе Синдбада-морехода. Здесь – все богатство мифологии, сдобренной некоторыми бытовыми подробностями – рассказ Одиссея феакам о своих фантастических приключениях (9-11 песня). И только потом все возвращается к бытовому сюжету, где богоприсутствие вновь становится необязательным, и история с женихами Пенелопы завершается эпической резней.
Одиссей, Афина и Навсикая
Острова забвения
Ключевой элемент похождений «Одиссеи» – это балансирование на грани жизни и смерти в различных ситуациях «забвения». Сам же сюжет возвращения после странствий имеет реалистичную бытовую подоплеку, ничем не отличающуюся от литературных сюжетов от древности до современности.
Первая остановка флота Одиссея в неведомых странах – это обиталище лотофагов, о которых, собственно, ничего не известно. Кроме того, что они жуют пищу забвения – клевер, называемый греками «лотос». Это растение, вероятно, обладающее наркотическими свойствами – наподобие листьев коки, которые в Колумбии коренное население с незапамятных времен употребляет для поднятия тонуса. Сподвижники Одиссея также решаются вкусить местной экзотики – попробовать, что это такое жуют местные жители. И впадают в забвение – не хотят уже никуда плыть. И их чуть не пинками загоняют обратно на корабли.
Это простейший вариант забвения – смущение рассудка каким-то природным или искусственным снадобьем. Без всякой мифологии, без всяких чудес и без присутствия богов.
Точно так же – без всяких чудес своим снадобьем утешает Телемаха, Писистрата и других прекрасная Елена в доме Менелая.
Снадобье бросила быстро в вино им, которое пили,
Тонут в нем горе и гнев и приходит забвение бедствий.
Если бы кто его выпил, с вином намешавши в кратере,
Целый день напролет со щеки не сронил бы слезинки,
Если бы даже с отцом или с матерью смерть приключилась,
Если бы прямо пред ним или брата, иль милого сына
Острою медью убили и он бы все видел глазами.
Некогда было то средство целебное с действием верным
Дочери Зевса дано Полидамной, супругою Фона,
В дальнем Египте, где множество всяческих трав порождает
Тучная почва – немало целебных, немало и вредных .
Нет сомнения, лотофаги живут где-то близ Египта. Надо отметить, что именно в Египет занесла буря и корабли Менелая – можно сказать, в одно время с кораблями Одиссея. Вероятно, ветер дул в одну и ту же сторону, когда греки возвращались из-под Трои. И Менелай тоже постранствовал после этой бури немало – немногим меньше, чем Одиссей. Вот только жена, скорее всего, в этих путешествиях была рядом с ним. И дом его не осаждали женихи – как дом Одиссея и Пенелопы. Кроме того, с «богиней забвения» – в данном случае обладательницей зелья Полидамной (усмиряющей многих) встречается сама Елена – до времени уберегая мужа от соблазна забытья и бездумного веселья.
Вообще, «Одиссея» в первых ее песнях кажется вовсе не повествованием о фантастических приключениях царя Итаки, а историей злоключений его сына Телемаха, а также Менелая, который довольно длинно рассказывает о своей судьбе после похода в Трою. Здесь божественная часть сюжета практически невесома – Афина оказывается воплощена во вполне земные персонажи, прежде всего в друге Одиссея Менте (Ментесе), который потом сопровождает Телемаха в Пилос. Никаких откровений от Мента не исходит – только разумные рекомендации юному Телемаху.
Второй пункт забвения – в известном сюжете с циклопом – куда более опасен. Здесь ловушка захлопывается для всех сразу. Хотя, сюжет не исключает, что некоторые спутники Одиссея остались снаружи. Но они ничего сделать не могут. Циклоп, заваливший камнем вход в пещеру, оказывается владельцем это «утробы» страны забвения. И сразу же раздирает двух моряков и пожирает их. Для них забвение состоялось в полной мере. Остальным приходится задуматься – остаться ли живыми консервами в обиталище циклопа, или все-таки что-то предпринять. При этом циклоп как будто знает, что убивать его никто не станет, потому что только он может распечатать вход в пещеру. Поэтому он выпивает принесенное в дар вино и заваливается спать. Получается, что Одиссей сотоварищи попадает в ситуацию полного забвения для внешнего мира с перспективой быть съеденным на обед странным одноглазым монстром, который оказывается еще и родственником Посейдона, а значит – находящимся под его покровительством. Попадание в его пещеру – все равно что попадание на дно моря: оно означает безвестную гибель.
Одноглазость циклопа – весьма примечательная черта, причины которой в древнегреческой культуре никак не объясняются именно в силу того, что это явление из другой культуры, многие элементы которой греки в свою историю не взяли. Между тем «унарность» (См. об этом в книге А.Л.Антипенко. Мифология богини, М., 2002) – одна из черт мифологии, которая прослеживается от Египта до циклопа. Унарный бог Египта Мин, которого иногда связывают с историей походов Рамсеса II и детородной функцией, которую вместе с воинами на многие годы унесла вдаль от родных очагов армия фараона. Нанюхавшись какого-то специфического лотоса (вероятно, того же, что жевали лотофаги), Мин имел невероятную потенцию и обслуживал множество жен, чьи мужья ушли за фараоном, и тем самым восстановил армию для будущих походов. Здесь унарность представлена в самом обостренном виде – одноногости и однорукости. Фактически налицо фаллический символ в образе человека, приближенного к богам. Кстати, его характеристики в древних текстах – «чернокожий» и чужестранец.
У циклопа унарность сохраняется только на один глаз. В остальном он – просто непостижимый дикарь, который живет в одиночестве. И даже непонятно, где его родители, жена, дети, есть ли они вообще.
Циклопу приписаны отсутствие каких-либо законов (по крайней мере – законов гостеприимства, которые были так очевидно нарушены в отношении спутников Одиссея, даже несмотря на напоминание, что чужестранцам покровительствует Зевс), отсутствие земледелия (вот уж дикость!), отсутствие каких-либо признаков мореплавания (дикое для морских разбойников, коими являлись греки). Разумеется, циклопу с эллинами и разговаривать нечего; может быть, он даже не понимает, что ему говорят эти двуногие скоты, забредшие в его пещеру. Все это определяется как ущербность. В сочетании с властью над пленниками это выглядит ужасным нарушением привычных норм жизни. При этом, согласно Гомеру, лишенный зрения циклоп Полифем – «богоравный». Такую оценку в поэме дает ужасному людоеду сам Зевс, отвечая на просьбы Афины войти в положения Одиссея, тщетно стремящегося на Итаку.
Отметим, что предания о циклопах, о которых пишет Павсаний, представляют их как строителей крепостных стен и как авторов искусного изображения Медузы Горгоны.
Не вполне понятно, зачем циклопу было открывать вход в пещеру, если там должна быть почти полная темнота, а его ослепление никак не прибавляло ему контроля над действительностью снаружи пещеры – он все равно ничего не видел. Еще менее понятно, откуда вообще взялся циклоп, если ему надлежит вместе со сторукими охранять Татрар, чтобы оттуда не сбежали заключенные – титаны, низвергнутые олимпийскими богами. Циклоп оказывается двойственным – с одной стороны, участником телегонии, с другой – просто кривым гигантом. Кстати, Одиссей сотоварищи его сородичей не видели, а потому все рассказы о том, что в округе живут другие циклопы (то есть, тоже одноглазые) – просто домысел.
Известным способом выскользнув из пещеры циклопа, Одиссей, тем не менее, вовсе не избегает «страны забвения». По сути дела, его дальнейшие странствия – это освоение всех возможных форм забвения, поскольку Посейдон решает: не бывать Одиссею дома, не достигнуть родных берегов. Уж если это и случается, то через многие годы и в результате покровительства многих богов. А вот спутникам Одиссея повезло меньше – все они погибли. По сути дела, рассказ Одиссея именно об этом. Он отвечает на расспросы родственников его друзей: «Ну а мой-то как сгинул?»
Заметим, что фантастическая история с уловкой, побудившей Одиссея затеряться среди овец циклопа, как две капли воды похожа на уловку Менелая, когда он застрял на острове Фарос близ Египта, куда его отнесла буря, и команда помирала от голода, дожидаясь ветра. Тогда к нему явилась богиня Эйдофея и рассказала, как схватить морского бога Протея, ее отца, подвластного лишь Посейдону. Этот старец, как оказалось, имеет странную привычку отдыхать иногда на острове среди тюленей. Так вот в тюленей и должны были обрядиться Менелай и три его верных спутника, чтобы схватить бессмертного и добиться от него нужного им ветра. При этом так замаскировавшись, чтобы Протей, пересчитывая тюленей, не смог обнаружить охотников. Когда Протей был изловлен, он дал Менелаю очевидный совет: не ждать ветра в сторону Пелопонесса, а использовать ветер в сторону Египта, где принести жертву богам. А там уж все разрешится.
Третья остановка – и снова шанс забвения для всех. Одиссею в стране лестригонов интуиция подсказала, что в бухту с узким проходом заплывать не надо. Она ему, может быть, напомнила пещеру циклопа. И он пристал к неудобному побережью. А вот все, кто решил заплыть в водную «утробу» – в бухту, пошли на корм дикарям. Поскольку кое-кто из тех, кто решил поискать гостеприимства у аборигенов, все же выжил и добежал до единственного спасшегося корабля, мы знаем, что представляли из себя лестригоны. И они оказываются подобны циклопам: пашен у них нет, но они постоянно заготовляют дрова и дым вьется над их поселением. Здесь прямое взаимодействие с несколькими лестригонами может быть источником для описания их жизни – придуманной, но все же на какой-то реалистической основе.
Несчастных спутников Одиссея встречает крупная девушка, которая ведет их в селение, где навстречу выходит мать – «величиной с гору». Потом появляется ее муж – что-то еще более ужасно-крупное. И уж он-то ведет себя как циклоп: одного из посланцев Одиссея просто сразу съедает. Двое других убежали, но лестригоны потом выловили всех, кто высадился в бухте, и унесли готовить себе жуткий ужин. Забвение выражается в безвестной кончине от рук людоедов. И это снова самая примитивная форма забвения – бесследная.
Впрочем, до лестригонов была еще остановка на плавающем острове Эола, где все процессы замкнуты на себя, и помощь от «отдыхающего бога» – это лишь замкнутый цикл: Эол может дать попутный ветер, но с ним навязывает еще и мешок с ветрами, который никак нельзя открывать, но все же его по закону жанра открывают, когда родная Итака совсем близко. И Одиссей, унесенный ветрами, вновь оказывается у Эола. Цикл замыкается, приводя мореплавателей к исходному пункту. Одиссею этот глупый мешок не был нужен, и он мог бы внушить своим спутникам, что его развязывать нельзя. Но обстоятельства таковы, то без этого мешка с острова Эола не отплыть, а внушить, что мешок следует оставить в покое, тоже, как оказалось, никак невозможно. И даже выкинуть мешок в море – тоже не вышло, и даже мысли такой не возникло. Весь сюжет запрограммирован «отдыхающим богом», который сам есть воплощение забвения: его сыновья и дочери женятся меж собой, и им нет нужды в контактах с внешним миром. Возможно, это модель идеальной Атлантиды, которую создает Посейдон в «унарном» варианте – когда женщин как будто нет вовсе или же их присутствие не принимается во внимание. Такое государство неизбежно должно стать образом забвения – исчезнуть в реальном мире и стать миражом в мире сказаний и мифов.
Наконец, с приключения на острове Айайе (Ээе) открываются новые формы забвения – в присутствии богини. Опять дымок над лесом… Бежать бы Одиссею, но надо попытаться узнать, как добраться домой. И «через не могу» разведка отправляется к отдаленному жилью. Немудрено, что командир отряда Еврилох, вспоминая любезных людоедок, предпочел сбежать, а не принять приглашение войти в дом. И он был прав: кто воспользовался приглашением, получил угощения, а с ними – добавленное в вино снадобье забвения (привет от лотофагов), которое обращает людей в животных. Дальше Одиссей внимает рассказу вернувшегося Еврилоха и бросается к жилищу Кирки, обнажив меч. Меч – на бессмертную богиню? Как и во многих других случаях это выглядит несколько потешным.
Здесь смешивается бытовой и божественный сюжет. В божественном Гермес дает Одиссею противоядие, он является Кирке подготовленным к ее хитрости, зелье его не берет, и он добивается возвращения своих спутников из скотского состояния в человеческое. В бытовом сюжете пленники, впавшие в бессознательное состояние, спрятаны, а герою Кирка ответствует: да вот они – в образе свиней, жующих желуди. Как же еще должны выглядеть люди, утратившие память? Наивный Одиссей верит и признает невероятное за реальное, а с этим – и божественный статус Кирки. Наутро проспавшиеся спутники вылезают из укромных мест, и подтверждают, что ничего не помнят, лишь смутно чувствуя, что были в скотском состоянии.
Но нас интересует феномен забвения, который существует только в божественном сюжете, принятым как данность в греческой культуре. Забвение – от снадобья богини, действие которого можно снять только специальным ритуалом с участием героя. По русской сказке: «накормила, напоила, спать уложила», да еще, быть может, перед сном «баньку истопила». Правда такая последовательность могла возникнуть не только от доброжелательного правителя, но и от Бабы Яги – людоедки.
В «Одиссее» все точно так же, но в дополнение – брачная связь с солнечной богиней (Кирка – дочь Солнца, из ее дома Солнце восходит). Отсюда – формула воскресения к новой жизни, возвращение из скотского состояния. И одновременно географический фактор – крайняя восточная дислокация. В отличие от лестригонов, у которых близко сошлись «путь дня и путь ночи», – крайний север.
Получается, что Одиссей вполне сознательно употребляет зелье Кирки, рассчитывая на противоядие, а потом, когда его уже готовы отвести в свинарник, потрясает богиню воинственным видом и полным отсутствием действия ее злокозненной приправы к вину. Почему бы Одиссею не обнажить меч сразу и не принудить Кирке снять чары с его друзей? Получается, что одна лишь воинственность ничего не дает – нужно пройти ритуал посвящения. Этот ритуал – брак с богиней забвения. И тогда богиня смерти (забвения) обращается в богиню жизни (возрождения). Ритуал брака – это горячая ванна, натирание оливковым маслом и облачение в новые одежды. В общем-то – ничего экстравагантного, за исключением того, кто предоставляет эти услуги.
Омовение и новые одежды – часть не только сказочного, но и бытового сюжета. Именно такими почестями ублажают Телемаха в доме у Нестора в Пилосе:
Вымыла гостя меж тем Поликаста, прекрасная дева,
Нестора младшая дочь, Нелеева славного сына,
Вымывши, маслом блестящим она ему тело натерла,
Плечи же гостя одела прекрасным плащом и хитоном.
Видом подобный бессмертным богам, из ванны он вышел
И, подойдя, возле Нестора сел, владыки народов.
Далее Телемаха и его спутника Писистрата, сына Нестора, точно так же встречают в Спарте:
Оба пошли и в прекрасно отесанных вымылись ваннах.
Вымыв, невольницы маслом блестящим им тело натерли,
После надели на них шерстяные плащи и хитоны.
Выйдя, уселися рядом они с Менелаем Атридом.
Это повествование сопровождается рассказом Елены о проникновении Одиссея в Трою, где его никто не узнал, но узнала Елена: «его я обмыла и маслом натерла, платьем одела».
Таким образом, нет ничего необычного в самом ритуале. Вместе с тем, избавление от усталости в символическом выражении означает избавление от смерти, смертельной усталости, а новые одежды – признак новой жизни, обновления тела. Все это отражено и в ритуале Элевсинских мистерий – сначала омовение в море, потом шествие с корзинками с угощением и новой одеждой, сопряженное с веселыми шутками над сильными мира сего – в порядке преждевременно наступившего опьянения, к ночи – вступление за ограду святилища, где в полной темноте (при погашенных факелах) свершалось «то самое», что не разглашалось – брак верховного жреца с жрицей Деметры. И трапеза с возлияниями. После чего наутро осталось лишь облачиться в новые одежды и почувствовать себя вновь рожденными.
Точно так же после «свинячьего» образа возрождаются к новой жизни спутники Одиссея – они помолодели, стали красивей и даже выше ростом. Русские любители бани часто используют эту формулу: «Как будто заново родился». Те из одиссеевых друзей, что остались на кораблях (включая пугливого Эврилоха) почти насильно были приведены к Кирке. Таким образом, идея забвения побеждает, поскольку сулит обновление – в прямом противоречии с сюжетом о кратком визите к лотофагам, где от забвения пришлось избавлять тоже насилием.
Казалось бы, на этой «оптимистической ноте» можно было бы закончить странствия Одиссея, но компилятивный характер поэмы вынуждает повторить в разных форматах посещение страны забвения – вплоть до забвения самого надежного, смертельного для всех друзей царя Итаки. И продолжение сюжета как нельзя более мрачное – почемуто Одиссею надо выполнить рекомендацию Кирки побывать в Аиде, чтобы побеседовать с умершим уже прорицателем Тиресием. Кирка оказывается не всесильной и не всемудрой, поэтому путь на Итаку от нее непрямой. Точно так же, как Афина, вместо того, чтобы сообщить Телемаху о судьбе отца, начинает наставлять его, чтобы тот поехал в Пилос и Лакедемон – и расспросил тамошних правителей. Неужели богине, дочери Зевса, который прямо исполняет все ее просьбы, трудно дать утешительную информацию? Нет, Афина не может этого сделать. Так же, как и Кирка не может вместо Тиресия дать Одиссею нужные наставления. Таковы правила общения между бессмертными и смертными. И таковы греческие боги – они не всесильны, их сила выражена лишь в определенном аспекте.
В результате даже поддержка Афины вовсе не гарантировала возвращение на родину спутников Одиссея. Все они погибли.
И, с точки зрения богов, поделом им. Ведь, вопреки запрету Одиссея они съели священных коров Гелиоса Гиперионида. Получается, что Посейдон всего-то создавал для них забвение в динамике – полное приключений и опасностей, а вот от Гелиоса к каждому из спутников Одиссея, несмотря на все старания героя, приходило забвение полное – безвестная смерть («Гарпии взяли бесславно»). Посейдон лишь удержал Одиссея и его друзей бурей, которая не позволила выйти в море. Чтобы не умереть с голоду, они вынуждены посягнуть на священных коров, причем, на очень малую часть стада. И получилось, что они лишь отсрочили свою смерть – коварство Посейдона побуждает людей к святотатству, а Зевс не может оставить преступление людей против богов без жестокой кары.
Царственная тирания Писистрата
Перешагнув через эпохи обратимся к персонажам, которые не считаются мифологическими, хотя в их судьбах мифология играла огромную роль и образы мифа отразились на них столь мощно, что до наших дней мифологизация остается существенной часть восприятия реальных исторических деятелей.
Слово «тирания» в сочинениях древнегреческих авторов не определяет однозначно осуждаемый строй управления. Тирания – всего лишь единоличная власть нединастического происхождения и альтернатива демократии – народному правлению, понятому как правление привилегированного слоя граждан, наделяющего властными полномочиями тех или иных лиц в процессе политической борьбы – иногда вплоть до гражданской войны.
Вероятно, Писистрат выглядел примерно так
Происхождение афинского тирана Писистрата, вероятно, связано с ахейский (мессенский) царской династией Нелеидов, изгнанных из Пилоса дорийцами. В гомеровской «Одиссее» упоминается Писитрат – сын царя Нестора, сопровождающий сына Одиссея Телемаха в Спарту. Отец ахейского Писистрата связан с Гераклом, от которого то ли получил власть над Пилосом, то ли просто был пощажен Гераклом, который Пилос разрушил. Нестор привел эллинской флот в 90 кораблей для участия в Троянской войне, по преданию прожил «три человеческих века» и умер глубоким старцем, оставаясь храбрым и рассудительным воином. Еще один Писистрат был архонтом-эпонимом в Афинах в 669/668 г. до н. э.
Возможно, два этих Писистрата – родственники Писистрата-тирана (ок. 602—527 до н. э.). Кроме того, его внук также звался Писистратом. Скорее всего, это было родовое имя. Во всяком случае, этот Писистрат считается происходящим именно от царского рода. И еще – родственником законодателя Солона, который был старше его на 30 лет. Родовые земли Писистрата и его предков (наряду с родом Филаидов – возможно, прежних соправителей) – окрестности Марафона на восточном побережье Аттики, отделенные от Афин горным массивом.
Афинская тирания Писистрата считается особенной, потому что она была «ранней» или «старшей». На самом же деле, ее особенность состоит в царственности. «Власть народа» устранил не мятежник, а уважаемый гражданин, который был полководцем в успешной войне с мегарцами, завоевал Нисею (единственный удобный мегарский порт) и совершил «другие замечательные подвиги», а также происходил из рода древних афинских царей. Нисею при помощи третейского суда спартанцев пришлось вернуть в обмен на о. Саламин, из-за которого и произошла война. Афины тогда представлял Солон – идейный противник Писистрата, который курьезным образом поддержал его славу воина, а в дальнейшем уступил Писистрату первенство в реализации своих же собственных законодательных установлений.
Как всеми уважаемый и почитаемый герой, Писистрат включился в политическую борьбу, использовав противостояние «партии города» (прибрежные жители), созданной и родовым кланом Алкмеонидов во главе с Мегаклом (сыном Алкмеона), и «крестьянской партии» во главе с Ликургом (сыном Аристолаида). Писистрату удалось заручиться поддержкой части сельского населения Аттики, а потом – получить защиту граждан после разыгранного или реального покушения на его жизнь. Созданный отряд дубинщиков позволил Писистрату захватить Акрополь, а потом подчинить себе и все Афины. Он не нарушил порядка государственных должностей, не изменил законы и властвовал «справедливо и дельно» (Геродот). Фактически тирания прекратила войну партий и сползание к гражданской войне. И народная поддержка Писистрату была обеспечена: отряд дубинщиков – скорее символическая сила, она не могла оппонировать народу, в котором было множество хорошо вооруженных групп.
Географические названия, связанные с Писистратом: Афины, Элевсин, Нисея, Саламин, Марафон
На время тирания была прервана объединенными силами Мегакла и Ликурга. Но как только они изгнали Писистрата, распря между ними продолжилась. Мегакл предпочел пригласить Писистрата в союзники, предложив ему в жены свою дочь, а также восстановление тирании, которую требовал народ. Для возвращения Писистрата была придумана уловка с театрализованным представлением: въезд тирана в город предвещался появлением повозки с богиней Афиной – одетой в ее полное вооружение статной и привлекательной женщиной по имени Фия (которая впоследствии стала женой сына Писистрата Гиппарха). Может быть, театральное искусство в ту пору было для афинян внове, и они поразились зрелищем, веря почти всерьез, что видят именно Афину, которая благословляет Писистрата на возвращение в Акрополь. Но, скорее всего, само сознание людей – как древних, так и современных – устроено так, что театральность в утверждении власти непременно должна присутствовать. Точно так же, как и древние люди, граждане современных государств, даже будучи в частной жизни злыми насмешниками власти, редко публично выступают против ее ритуалов, приобретающих священное значение.
Писистрат и Фия въезжают в Афины (современный рисунок)
Внешность и сегодня имеет серьезное значение для политики. «Свой» выглядит вполне определенно, и выход за рамки нормы становится либо карикатурой на «своего», либо прямым проявлением «чужого». У древних греков подобное отношение к правителю было еще более глубоким, замешанным на религиозном чувстве. Греческий стандарт красоты был для правителя мерилом его близости к богам. Идеальная красота признавалась божественной, и ее носитель мог становиться даже почитаемым наравне с богами. Писистрат был, как можно предположить, именно эталонно красив, а потому и почитаем как близкий богам. Он также нашел для подкрепления своего статуса афинянку Фию, которая в облачении Афины выглядела именно Афиной, спустившейся с Олимпа. И даже если Писистрат – не Зевс, а Фия – не Афина, их близость к богам греками принималась как очевидная – исходя из внешности.
Для афинян захват Акрополя символически утверждал власть Писистрата как лица, приближенного к богам и обладающего некоторыми божественными чертами. Точно так же что-то сверхчеловеческое чудится нашим современникам, когда некто, благодаря формальной процедуре, смысл которой трудно постигнуть, а порядок исполнения трудно проверить, утверждается в резиденции правителя государства.
Когда Писистрат въехал в святилище богов, он в глазах афинян уподобился этим богам, а также древним царям Аттики, которые правили городом именно отсюда. Он подчинил себя Афине, но одновременно получил ее покровительство. Фактически Писистрат стал царем, и имел на это родовое право, которое теперь подкрепилось священной санкцией. Принося жертвы богам в пританее – священном очаге, он продолжал династический ритуал, более недоступный никому.
Возможности утверждения царской власти в условиях, когда демократические институты уже утвердились в Афинах, немало способствовала популярность гомеровских поэм, ставших общеэллинским достоянием вместе с определенной моделью устройства власти и общества.
Гомер
Солон
Гомер противостоял Солону, мудрость которого никто не отрицал, но его законы он сам никак не мог сделать основой жизни Афин. Это было доступно только царю, который в духе Гомера давал народу основные правила жизни. Гомеровский эпос формировал идеальный образ правителя – воителя и отца народа. Военные подвиги и законодательство были продиктованы гомеровской архаикой, которой никто не смел противостоять – до тех пор, пока она не поблекла от частого употребления и не стала просто культурным фоном, красивыми словами о предках.
Все творчество античного периода – постоянный поиск аналогий в священном или просто древнем. Классический образец – Плутарх, давший сравнительные жизнеописания. У греческого поэта Пиндара события современности непременно связаны с какими-то событиями в прошлом и мифологической зависимостью между ними. Подобный прием нередко применяется и в современном творчестве. Скажем, в стихах Пушкина греческая мифология, которая уже не переживалась как реальность, присутствует весьма часто. Само творчество способствует обращению к древним и священным сюжетам. Антропоморфные боги греков до сих пор служат подспорьем в поисках нужных образов и затрагивают архетипы общественного сознания. Поэтому нет ничего удивительного в прямых аналогиях между Зевсом и Писистратом, которые наблюдались в аттической вазописи.
Фрагмент украшения Гекатомпедона
Институт выборов, который уже невозможно было отменить, при тирании Писистрата временно отошел на второй план, а его власть была обретена альтернативным путем, который греки также считали законным. Это была власть свыше – за нее ратовали боги. И достаточно было некоторых признаков богоприсутствия (что выражалось также в личной харизме Писистрата – его внешности и манере поведения), чтобы признать его законным правителем.
Общепринятым среди историков считается, что Писистрат тонко играл на архаических преданиях и, по сути, сознательно морочил афинянам головы, принуждая принять свою власть с помощью своеобразной «идеологии» и «пропаганды». Идеология навязывалась в виде почитания богов, в ряд которых входил и Писистрат, а пропаганда выражалась в сюжетах, которые распространялись, прежде всего, в вазописи, где образ тирана совпадал с образами богов.
Действительно, Писистрат вернул афинянам уважение к культу Афины (степень секуляризации демократического общества была еще не столь глубока): прибавил к празднику Великих Панафиней, которые он проводил особенно пышно, масштабные спортивные состязания, а также построил новый храм на Акрополе (Гекатомпедон – «стофутовый», предшественник Парфенона). Уже сами эти действия говорят скорее не об «идеологии», а о прямом переживании мифологии самим Писистратом, без сомнения почитавшим Афину как свою личную покровительницу. Ассоциация его персоны с Гераклом, а также с Зевсом, вовсе не была наигранной. Так видел себя сам Писистрат, так видели его граждане Афин. Магнетизм мифологии вызывал переживания текущей жизни в связи с мифом, а прямым аналогом мифических персонажей был именно Писистрат. Ведь точно так же наши современники приписывают своим правителям самые выдающиеся качества, порой доходя в этом, с точки зрения рационального взгляда на действительность, до полного абсурда.
Афина рождается из головы Зевса. Зевс атрибутирован перуном в руке и фигурой Афины, появляющейся из его головы
Пробуждение мифа в условиях царства (царственной тирании) – естественно, ибо царская власть всегда сближается с божественной. И не «пропагандой», а состоянием умов следует объяснять особенно возросшую популярность в аттическом искусстве времен Писистрата сюжетов с Гераклом и Зевсом. Царь на земле служит образом бога на небе. Собственно, все божества того периода в изобразительном искусстве приобретали облик Писистрата – Зевс, Дионис, Аполлон, приравненный к богам Геракл.
Культ Аполлона для Писистрата был значим своей непубличностью. Ему тиран начал строить масштабное святилище в Элевсине, а элевсинские мистерии превратил в собственно афинские. Также он провел очищение посвященного Аполлону острова Делос – перезахоронил всех покойников из пределов видимости храма. Эта акция была исполнением дельфийского оракула, который также санкционировал возвращение Писистрата в Афины после краткой опалы. Скорее всего, культ Аполлона сближал Писистрата с аристократией, сплоченной различными культами.
Суд Писистрата и суд Зевса. Возможно, справа изображен Писистрат в окружении богов. Писистрат атрибутирован скипетром. У Гомера цари – «скиптродержавные» – получают символы власти и законы непосредственно от Зевса, порождаются им в своем статусе – «богом рожденные», «богом вскормленные» и «богоподобные».
С Элевсином Писистрата связывает еще один мифический герой – Триптолем, который получил от Деметры (в компенсацию за погубленного то ли брата, то ли отца) запряженную драконами колесницу (вазопись изображает его без драконов, в более поздних вариантах – как молодого человека, сидящего на колеснице с крыльями) и первые хлебные злаки и научил людей земледелию. Также его считали изобретателем плуга. Его культ связан с первой пахотой, которая приписывалась трем разным участкам. Понятно, что иконографический облик вновь обретшего популярность Триптолема оказался схож с другими богами – на странном троне с колесами (что, вероятно, связано с Элевсинскими мистериями) сидит все тот же бородатый мужчина. Благодетель Триптолем оказывался по облику и, соответственно, образу своих благодеяний схож с Писистратом.
Возрождение культа Триптолема было следствием «гомеровской идеологии» – особого почтения к древности, отраженной в бессмертных эпических произведениях. Писитрат занимался делами сельских демов не из каких-то экономических соображений и не с целью склонить земледельцев к своей поддержке, а потому что ему близок был образ царя Одиссея, не чуравшегося сельского труда. В целом древний идеал гражданина представлял собой воина-земледельца, в некоторых греческих городах сельских труд для гражданина был просто обязательным, а Солон учредил цензовый статус собственников земли.
Триптолем: слева – 550-530 гг. до н.э., справа – ок. 470 г.до н.э.
Культовый статус земледелия способствовал увеличению сельского производства при Писистрате. Из Аттики вывозили, прежде всего, оливковое масло и чернофигурную керамику, вытеснившую коринфские изделия. Немало способствовала товарообмену чеканка монеты. Изображение Афины на монетах стало средством, напоминающим гражданам, кто является их покровителем и кому покровительство оказано прежде всего – самому Писистрату.
Почитание Писистратом Диониса восходило к древнему сюжету о победе его предка Меланфа над беотийским царем. Эта победа позволила обрести царский статус в Афинах. В мифе Дионис является помощником Меланфа.
Покровительство власти Писистрата со стороны Диониса отмечено утверждением праздника Великих Дионисий, возведением святилища на склоне Акрополя, реакцией общества на это – распространившимися дионисийскими сюжетами в вазописи, где облик Диониса отличался от Зевса или Геракла только сюжетно или с помощью атрибутов. Возможно, внешность Писистрата, приближенная к некоему идеальному стандарту, играла свою роль: тиран был в представлении афинян похож на богов – какими они их представляли, а все боги на аттических вазах оказывались похожими на Писистрата.
Подтверждая свою миссию царя-воителя, Писистрат обеспечил Афинам статус морской державы. Он снарядил военные корабли и отвоевал ранее утраченный Сигей у Митилены (крупнейшего города на Лесбосе) – это был важнейший стратегический пункт, позволявший контролировать морской торговый путь в Черное море. Как царь, он посадил там правителем своего сына Гегесистрата. Позднее в ходе экспедиции на кикладский остров Наксос и установления там дружественной тирании Лидамида, был покорен также Делос.
Как отец народа, Писистрат прославил себя помощью бедным – ссудами для поддержки земледелия. Позднее Аристотель решил, что это политический трюк – попытка занять земледельцев, чтобы они меньше уделяли внимания общественным делам и не приходили в город. Также Аристотель увидел в одной из речей Писистрата намерение не допустить созыва народного собрания. Распуская народное собрание, Писистрат призывал всех заняться своими делами, а общественные оставить ему. Но точно такими же словами заканчивается в изложении Гомера народное собрания на Итаке: «Вы ж разойдитеся, люди, и каждый займися домашним делом». Позднее в том же духе высказывался Перикл. Поэтому формулу можно считать сакральной, ставшей потом идеоматической – звучавшей при закрытии собрания.
Аристотель рассказывает о случае, когда земледелец, не зная, кто перед ним, посетовал, что получает с каменистого участка только муки и горе, и то обязан десятину от них отдавать тирану. После чего Писистрат освободил его от всех повинностей. В другом месте Аристотель рассказывает о том, что Писистрат был обвинен одним из граждан в убийстве. И тиран лично явился в суд для оправданий. Обвинитель же испугался и не пришел. Подобные истории – своеобразный жанр народного предания, выражающий восхищение правителем, его великодушием и снисходительностью.
Народное отношение к Писистрату идет гораздо дальше. Аристотель передает оценку правления Писистрата – «время Кроноса». Действительно, установление десятины с любых доходов – один из древнейших обычаев, связанный вовсе не с налогами в пользу государства, а с жертвой богам, чье присутствие среди людей обозначает царь. Царю – значит, богу. Культовые и государственные нужды не разделены. Поэтому десятина Писистрата была жертвой самой Афине и другим богам. Но Афине – прежде всего. Она надзирала за людьми не только из храмов, но и с монет Писистрата. Мало того, Писистрат и вел себя как посланник богов «золотого века». Он снял охрану со своих полей и садов и позволил любому пользоваться их плодами. Уравнивающие материальное положение акции власти – это отзвук «века Кроноса».
Аристотель был щедр на положительные характеристики личности Писистрата. Хотя тиранию как форму правления считал наихудшей. И здесь нет противоречия. Потому что тирания в данном случае ничем не отличалась от царства – от монархии, которую Аристотель почитал как наилучшую форму правления. А в сочетании с демократическими и аристократическими институтами, которые как раз при Писистрате сохранялись, – и вовсе идеальной. Таким образом, даже в глазах глубокого аналитика Аристотеля Писистрат выглядел скорее царем, чем захватчиком власти.
У Писистрата по части харизмы постоянно появлялись конкуренты – олимпийские герои. Один из них – родовитый Мильтиад – был удален из Афин, возглавив поход во Фракию, где основал (захватил) Херсонес Фракийский и стал царем. Другой – Кимон, брат Мильтиада – победив однажды на Олимпийских играх, был также по какой-то причине изгнан из Афин. Но победив второй раз, он посвятил свою победу Писитстрату, и заслужил возвращение в Афины, тем самым уступив свою харизму тирану.
Вотивная табличка "Прекрасный Мегакл", конец VI в. до н.э.
Возможно, конкуренция в борьбе за место вблизи олимпийских богов, стала причиной того, что Писистрату пришлось в третий раз добиваться власти, снова подтверждая свой статус воителя, которому потворствуют боги. Установившийся альянс Мегакла и Писистрата рухнул под воздействием суеверия. Писистрат стал воздерживаться от близости со своей женой – дочерью Мегакла, чтобы не обратить на свой род проклятье, отягощавшее род Алкмеонидов (все девять архонтов были из этого рода, когда при подавлении мятежа Килона в 640 г. до н.э. у алтарей в храме Афины было перебито множество людей). Мегакл пришел в ярость, вновь объединился со своими противниками, и Писистрату пришлось бежать не только из Афин, но и из Аттики. В Эретрие (на о. Эвбея) он стал собирать силы и пожертвования, более всего опираясь на помощь фиванцев. Наемники прибыли из Аргоса, добровольцы из Наксоса (где, очеивдно, Писистрата почитали именно как царя, а не завоевателя).
Выступив из Эретрии в Аттику, войско Писистрата заняло Марафон, и там к нему присоединились сторонники из Афин и из сельских демов. Афинские горожане двинулись против Писистрата в составе городского ополчения. У святилища Афины Паллены противники сошлись; более организованное войско Писистрата воспользовалось беспечностью афинян, увлекшихся завтраком и игрой в кости, и обратило их в бегство. Всадники Писистрата под командованием его сыновей, настигая бегущих, убеждали их разойтись по домам и не бояться ответственности.
Паллена – западный из трех мысов полуострова Халкидика в Эгейском море (ныне мыс Кассандра), где по преданию произошла битва между богами и гигантами. Афина перенесла оттуда гору для благоустройства города Афины, где и было построено ее святилище. Скорее всего, гора близ Афин была чем-то похожа на гору в Паллене, чем и было обусловлено название – по одноименному храму в Халкидике.
Так Писистрат легко овладел Афинами в третий раз. Но теперь его правление стало более суровым: харизма была подорвана, и для компенсации этой потери пришлось ввести в Афины наемников и обложить сборами граждан и серебряные рудники, доходы от которых ранее распределялись между ними. Также Писистрат взял заложников из семей знатных афинян, сопротивлявшихся ему, и сослал их в Накосос. Алкмеонидам и другим противникам Писистрата пришлось отправиться в изгнание.
Храм Зевса Олимпийского
Тирания перестала быть царственной в силу столкновения с демократическими законами, которые подрывали сакральность власти, прежде всего, в глазах олигархии, которая не брезговала любыми средствами для разложения нравов и противодействия царству. Несмотря на все это, Писистрат остался в истории как добрый и успешный правитель, при котором Афины испытали невероятный расцвет. После его смерти в в 528/7 г. до н. э. правление перешло к его сыновьям – Гиппию и Гиппарху, а их единокровный брат Гегесистрат продолжал править в Сигее.
Фукидид пишет о соправлении братьев, а также о том, что они пошли на снижение налога – взимали уже не десятину, а пять процентов со всех доходов. Эти средства шли на продолжение масштабного строительства в Афинах. Был достроен и обновлен храм Афины на Акрополе, завершилось строительство в Элевсине большого зала для посвящений, на агоре был возведен алтарь двенадцати богам и построен «девятиструйный» колодец. Также был проведен водопровод, и началось сооружение храма Зевса Олимпийского.
Симонид
Анакреонт
Аристотель упоминает в качестве формального правителя Гиппарха, занятого преимущественно развитием искусств, а в качестве реального – Гиппия, его старшего брата.
Писистратидам удалось длительное время сохранять мир с аристократией, среди архонтов числился будущий реформатор Клисфен из рода Алкмеонидов. Что означает возвращение Алкмеонидов из изгнания. Также в Афинах жил Мильтиад, сын Кимона, которому была предоставлена возможность заменить своего погибшего брата в Херсонесе Фракийском, куда Писистратиды направили его с боевым кораблем.
При Писистратидах чернофигурная вазовая роспись сменилась более выразительной краснофигурной. Возможно, это была своего рода «секулярная революция» – краснофигурные изображения отступали от традиционных мифологических сюжетов и представляли бытовые сцены. Приверженцы традиций продолжали изготовлять и использовать изделия с чернофигурными изображениями мифического содержания, склонные к новаторству – краснофигурные с бытовыми сюжетами.
Гармодий и Аристогитон. Головы скульптурам возвращены произвольно – из имеющихся безымянных фрагментов.
Писистратиды продолжили укрепление канона декламирования гомеровских поэм, распространяли нравоучительные строки, устанавливая на дорогах геммы с начертанными на них выражениями (об этом упоминается в платоновском диалоге «Гиппарх»). В Афины были приглашены знаменитые поэты Симонид и Анакреонт, был обласкан и приближен поэт-орфик Ономакрит. Последнее свидетельствует о покровительстве орфической секте, усиление которой представлено в искусстве изображением всевидящих глаз божества – пантеистического Зевса. Позднее, будучи разоблаченным в исправлении орфических пророчеств, Ономакрит был изгнан Гиппархом, но после изгнания самих Писистратидов, примирился с ними и даже сопровождал их к Ксерксу с целью организации похода против Афин.
При Писистратидах Афины продолжали процветать, если бы не заговор «демократической общественности».
История с мятежом Гармодия и Аристогитона в 514 г. до н. э. приводится Геродотом и Фукидидом, которые сетуют на отсутствие у афинян знания, что на самом деле учинили заговорщики. Фактически они были возведены в ранг героев в более поздние времена, когда режиму демократии надо было осудить царственную тиранию и представить ей какую-то славную альтернативу. Между тем, для такого прославления, как следует из практически идентичных рассказов Геродота и Фукидида, нет никаких оснований.
Похоже, мы имеем в древней истории образец заговора, который теперь назвали бы деянием «голубого лобби». Гармодий и Аристогитон были любовниками. Повод для восстания, который пытаются найти античные историки, лежит либо в образовании «любовного треугольника», либо в заговоре группы, образовавшей «сексуальное меньшинство». Первая версия явно не проходит, ибо Гиппарху как продолжателю дела своего отца невозможно было нисходить до элитарных извращений «золотой молодежи», да и женат он был почти что на Афине (на Фие, столь ярко исполнившей ее роль). Кроме того, эту версию устранят определенное свидетельство об обиде на Писистратидов со стороны Гармодия, чью сестру по какой-то причине лишили почетной роли (возможно, роли Афины) на празднике Великих Панафиней. Сюжет, переданный античными историками, больше склоняет ко второй версии. Впрочем, у нее также есть слабое место. Дело в том, что у одного из главных заговорщиков (точно неизвестно, у какого) была возлюбленная – гетера Лаэна. Тем самым, гомосексуальная версия подвергается сомнению. Так или иначе, заговор – дело малочисленной секты, которая никем не была поддержана.
В процветающих Афинах заговор мог исходить только от ничтожного меньшинства. Поэтому, собственно, он и не удался. Гармодий и Аристогитон, намереваясь убить Гиппия, испугались, что заговор раскрыт, и лишь случайно столкнувшись с легкомысленным Гиппархом, убили его. Гармодий был схвачен на месте и убит (возможно, самим Гиппием), Аристогитона нашли позднее и после пыток, во время которых не без успеха пытались узнать имена заговорщиков, тоже убили.
Гиппию, который уступил культовую часть власти своему брату, трудно было продолжать править в прежнем духе, и он провел массовые аресты и казни. Скорее всего, это привело к повторному бегству из Афин рода Алкмеонидов. Опасаясь нового заговора, Гиппий создал под Афинами свою укрепленную резиденцию. В поисках влиятельных союзников, на силу которых он мог опереться, Гиппий выдал свою дочь за Гиппокла – тирана малоазийского города Лампсака, имевшего связи с персидским царем. Тем не менее, в 513/12 г. до н. э. золотые рудники во Фракии были захвачены персами, и пришлось повысить налоги.
Алкмеониды попытались воспользоваться падением популярности Гиппия, и вторглись в Аттику с сильным вооруженным отрядом. Но были наголову разбиты. Вторая попытка вторжения привела к укреплению мятежников в местечке Лепсидрии в горной местности, но оттуда Алкмеониды были выбиты войском Гиппия, нанесшим олигархам тяжелый урон.
После этих поражений Алкмеониды сменили тактику, используя свое влияние в Дельфах, где они выстроили красивейший храм. Подкупив Пифию, они раз за разом сообщали спартанцам, что те должны освободить Афины. И спартанцы, наконец, уступили «воле божества». Определенную роль в этом обмане сыграло и опасение дельфийских жрецов, связанное с масштабным строительством культовых сооружений в Афинах, грозящее Дельфам утратой их статуса главного святилища Эллады. Храм Зевса Олимпийского должен был стать самым большим культовым сооружением. Неслучайно после изгнания Гиппия строительство было прекращено, а достроен храм был лишь римским императором Адрианом. Демократы же предпочли использовать детали храма для сооружения стен, связывающих Афины с портом Пирей.
Первое вторжение спартанского отряда, прибывшего на кораблях, было отбито фессалийской конницей, подоспевшей на подмогу Гиппию. После чего спартанцы по суше отправили к Афинам большое войско во главе с царем Клеоменом, который обратил в бегство фессалийцев, вместе с Алкмеонидами захватил город (тогда не имевший серьезных укреплений) и осадил Гиппия в Акрополе. Миссия спартанцев окончилась бы неудачно, если бы не случайность – к ним в руки попали дети Гиппия, который пытался отправить их в безопасное место. Гиппий сдался в обмен на обещание неприкосновенности его семье и имуществу, и отправился к своему брату, правившему в Сигее.
В 506 году в Афинах вспыхнуло восстание против олигархии Исагора – ставленника спартанцев, и у Гиппия возник шанс вернуться. Спартанцы решили, что восстановить свое влияние в Афинах они смогут, утвердив у власти Гиппия, в правление которого у Афин со Спартой были прекрасные отношения. Тем не менее, поход не удался, поскольку союзники спартанцев под разными предлогами отказались от участия в нем. Гиппию пришлось вернуться в Азию, где он пытался склонить к походу на Афины лидийских сатрапов Персии, а затем – персидского царя Дария I. У персов с Гиппием также были прекрасные отношения. Но поход на Афины персы предприняли лишь в 490 г. до н.э., когда афинские послы обещали царю «землю и воду» (с целью создать союз против Спарты), а народ, направивший их, отказался признать их полномочия. Гиппий, будучи уже старцем, ведет персидские корабли в знакомые ему воды Марафона, где при высадке персидское войско терпит сокрушительное поражение. В том же году Гиппий скончался или же, возможно, был умерщвлен – по подозрению в сдаче планов персов афинянам.
Царственная тирания была свергнута не народом, а изменниками и внешними силами. При тирании не было никаких войн: ни между Афинами и Спартой, ни между эллинами и персами. Тирания Писистрата и Писистратидов была уважаема всеми соседями и превратила Афины в крупнейший культурный, культовый и хозяйственный центр Эллады. Взамен величественному правлению пришла олигархия, ловко использующая демократические порядки для своей пользы и склонившая всю Элладу к масштабным и изнурительным войнам.
Необузданная демократия
Порочный проект аристократии
Утратив царскую власть, Афины неизбежно перешли к столкновению аристократических группировок, что неразумно расширило возможности демоса, который сам стал источником олигархических режимов – выделил из своей среды демагогов и втянул в свою орбиту наиболее циничные и властолюбивые круги прежней аристократии. Баланс между царем, аристократией и демосом нарушился, и взамен этому балансу пришли перевороты, утверждавшие тиранию, олигархию, охлократию. Причем, пока традиции не были окончательно растоптаны, тирания подразумевала как раз восстановление баланса – старательное копирование царской власти. Но в силу подрыва лояльности верховному арбитру как со стороны аристократии, так и со стороны демоса, «старшая тирания» как метод правления была доступна только наиболее талантливым правителям. Поздняя тирания была уже прямой узурпацией, и слово «тиран» приобрело резко-негативный смысл.
Демократия, как следует из истории Древней Греции, была следствием деятельности не «демократов», а аристократии, решившей устроить жизнь без монарха. При этом демократия утверждалась не демосом и не его большинством. Земледельцы традиционно находились в стороне от политических буйств, доступных праздным горожанам Афин. Позднее именно эти слои выступали в поддержку олигархии как альтернативы демократии. Потому что аристократия уже не была способна сплотиться и сформировать республику, а демос был разобран аристократами на враждующие партии.
Вместе с военным поражением Афин в конце V в. до н.э. олигархия стала популярна, именно потому что демократические партии возглавлялись древней аристократией, многократно продемонстрировавшей, что уже не в состоянии управлять государством .
Путь к «необузданной демократии» (термин Плутарха), как ни парадоксально, открыли спартанцы, решившие, что приобретут в лица Афин более надежного союзника, если помогут афинским аристократам свергнуть Писистратидов, опиравшихся на демос (510 г. до н.э.). Склонность поддерживать аристократические группировки, сыграла со спартанцами дурную шутку: в противостоянии с «демократической тиранией» они поддержали тех представителей аристократии, которые были намерены использовать демос в своих личных интересах.
После падения Писистратидов в борьбе за власть столкнулись аристократические группировки Клисфена и Исагора. При этом Исагор был спартанским проксеном, и сумел использовать настроения демоса, не желавшего более политических передряг и войн, чтобы быть избранным архонтом-эпонимом – фактически «президентом» Афинской республики. А Клисфен, также будучи обязан Спарте своей политической карьерой (ему помогли возвратиться из изгнания), просто не мог выдвигать свою кандидатуру, потому что вторично занимать эту должность закон запрещал, а свою возможность побыть «президентом» Клисфен уже исчерпал в те времена, когда эта должность находилась в тени тиранов.
Что же предпринял Клисфен? Пошел напрямую на нарушение закона, обращаясь к демосу, и предлагая на высшую должность в Афинах подставное лицо – своего родственника Алкмеона. И демос, увлекшись риторикой реформатора, через год избрал его архонтом-эпонимом. Что само по себе свидетельствовало о кризисе: законы о высшей власти были нестабильны и не исполнялись. Алкмеониды, потомки знатного рода входцев из Пилоса, возглавляемые Клисфеном, извечно были источником нестабильности и стремились к захвату власти. Причем, в основном разыгрывая карту «полисного патриотизма», который противопоставлял Афины всей остальной Элладе.
В ответ Исагор обратился к Спарте – своего рода гаранту от захвата власти в Афинах частью аристократии, подбивавшей демос к смене правителей. При этом использовал также и религиозный мотив «нечистоты» Алкмеонидов – с давних пор лежащей на этом аристократическом роде проклятии за массовое убийство у алтарей во время мятежа Килона в 630 г. до н.э.
Клисфен бежал из города, но прибывший в поддержку Исагора спартанский царь Клеомен неумно умножил число своих противников, приговорив к изгнанию семьсот семейств и самовольно утвердив в качестве высшего органа власти «Совет Трехсот». Не без участия Алкмеонидов в городе вспыхнуло восстание. Климен с его отрядом и Исагор со сторонниками были вытеснены из Афин, которые вернулись «на демократический путь развития».
Мы видим, что налицо историческая случайность, связанная с личными качествами и частными ошибками ведущих деятелей того периода. При этом опыт «демократического правления» не стал даже для самих афинян каким-то образцом, поскольку фигура Клисфена и содержание его реформ не были интересны никому ни тогда, ни в последующие эпохи. Реформы были настолько ничтожны, то не о чем и говорить.
Клисфеновский передел административного деления Афин (новая система десяти фил) – не уникальное событие в Древней Греции. А больше ни о каких новых законах ни Геродот, ни Аристотель не упоминают. Получается, что изменения носили не правовой, а скорее, психологический характер. Демос осознал свою значимость – зависимость от него лидеров аристократических кланов. А сами аристократические кланы начали борьбу за то, чтобы демос поддерживал именно их и не поддерживал их противников.
К реформам Клисфена причисляют также создание «Совета Пятисот» (вместо «Трехсот»), коллегии стратегов (как противовес архонтам, которых чуть позднее и вовсе стали избирать по жребию) и закон об остракизме. Но, скорее всего, эти реформы были уже следствием того механизма саморазрушения, который был запущен в противостоянии Исагора и Клисфена. Остракизм, начавший действовать через 20 лет после реформ Клисфена (может быть, он и был оформлен вследствие этих реформ лишь позднее) стал ключевым завоеванием демоса, инструментом, которым демос подтверждал свою значимость и осознавал свое существование. И одновременно уничтожал государство, которое за столетие было приведено к полному упадку. Ведь остракизм – это не мера наказания за преступления, а способ реализовать «недовольство» наиболее авторитетными афинянами, которое могло иметь самые разные причины.
Аристид
Голосование черепками (остраконами) предполагало не решение большинством голосов, а достаточным их числом (пусть и меньшинством) – хватало 5000 голосов против любого влиятельного лица, чтобы его отправили в изгнание на 10 лет. При этом в голосовании участвовали и неграмотные афиняне – за них на остраконах выскребали имена будущих изгнанников те, кто был обучен письму. Так, известен анекдотический случай, когда полководец, марафонский герой Аристид по просьбе другого гражданина начертал на черепке собственное имя. Аристид был изгнан, но возвращен из изгнания досрочно в связи с греко-персидским нашествием и впоследствии командовал афинским отрядом в битве при Платеях. В тот период здравый смысл перед лицом смертельной опасности еще напоминал афинянам, что спасти их могут только лучшие – как раз те, кого они систематически изгоняли.
Можно предположить, что клисфеновское расширение числа фил с 4 до 10 включило в число граждан значительное число жителей Аттики, что в целом снизило значимость сложившихся отношений патроната между аристократами и демосом. Резко расширившийся численно демос и разрыв родовых связей новыми границам фил «атомизировали» общество, что сменило технологию завоевания власти: авторитет стал цениться гораздо меньше, чем способность убедительно говорить и много обещать. Скорее всего, именно поэтому остракофории стали настолько жестокими: новым гражданам не было жалко аристократов, заслуг которых они не знали и не ценили.
В реформе Клисфена есть что-то от «пролетарской революции» – кто был ничем, тот станет всем. Ощущение того, что негражданин «стал всем», могло быть вызвало только расправами над прежними хозяевами жизни. Реально же этими чувствами управляли организаторы переворота, выступавшие от имени расширившегося демоса. Нет сомнений, что «демократические институты» (Народное собрание, выборы стратегов, принцип равенства перед законом) были использованы верхами общества в своих целях, а осознавший себя как фактор политической борьбы демос требовал для себя все более значимой роли, подрывая основы государства. Собственно, это теперь и называют «политической революцией». Хотя в «классовом» смысле ничего не изменилось: править продолжала аристократия – силой, деньгами и риторическими средствами принуждая граждан следовать ее интересам. Не случайно реформы были приняты без борьбы – аристократия была их инициатором и точно знала, как управляться с демосом в новых условиях.
Аристократия «демократическими реформами» проложила дорогу к своей могиле – в течение века апелляции к демосу свели на нет силы аристократических родов, которые ранее опирались на родственные и дружеские связи, а также на первенство в отправлении культов. В демосе выросли свои лидеры, которые научились у аристократов убалтывать экклесию (Народное собрание). Вместе с «демократизацией» афиняне утрачивали и какие-либо исторические перспективы для своего полиса. Мощь демократии замещала мощь государства – точно так же паразит усиливает себя за счет своего носителя, но убивает себя вместе с носителем.
Впечатляющие историков «демократические» правила жизни в действительности были симптомом смерти. Остракизм систематически уничтожал лучших, но вовсе не снимал остроты политической борьбы, как это до сих пор некоторым кажется. Вместо царственной тирании пришла тирания охлократическая, вместо открытого правления аристократии – тайные интриги гетерий и борьба между ними в духе гражданской войны.
Мильтиад
Дебаты в Народном собрании приводили к нестабильной политике: верх брала то одна партия, то другая. И другие полисы и иностранные державы могли воспринимать это как двуличие Афин и неспособность быть последовательными в исполнении своих обязательств. Именно так «демократия» изумила персов, которым афинские послы дали «землю и воду» (признание подчинения), но потом Афины отказались от этого решения. Разумеется, персы предприняли шаги, опираясь на «недемократическую» партию – сторонников изгнанного «демократами» и живущего при персидском сатрапе Артафене бывшего тирана Гиппия, сына Писистрата. Уставший от демократии демос даже избрал лидера этой группировки Гиппарха архонтом-эпонимом (имя Гиппарха было говорящим – такое же имя имел брат Гиппия, убитый во время мятежа и бывший фактическим соправителем). Планам возвращения Гиппия готовы были способствовать и спартанцы. Главой антиперсидской и антиспартанской партии в этот период был Фемистокл – незаконнорожденный сын незнатного афинянина. После того как он был избран архонтом-эпонимом, речи о замирении с Персией и Спартой уже быть не могло. Наверняка Фемистокл, будучи незнатного происхождения, толком не имел даже возможности предпринять какие-то дипломатические шаги, поскольку не был включен в кинические отношения. Да и его популярность в Афинах была связана как раз с заносчивой демонстрацией готовности к войне. На поверку – совершенно нелепой и стоившей Афинам полного разорения родного города.
После появления на политической арене Мильтиада, знатного афинянина, который три десятка лет был тираном Херсонеса Фракийского, возник шанс вернуться к «царственному» порядку управления, смиравшему демократов и олигархов. Мильтиад был изгнан персами и вынужден возвратиться на родину. Афины вновь приблизились к состоянию «царственной тирании». Яркая фигура знающего себе цену правителя и полководца была противопоставлена «демократическим силам» и раздробила афинскую политию: разделение прошло по двум основаниям (отношение к Персии и отношение к Спарте), образовав четыре непримиримых группы. Мильтиад занимал проспартанскую, но антиперсидскую позицию, Фемистоклу одинаково чужды были и Персия, и Спарта. Гиппий готов был мириться с теми и другими, а Алкмеониды (Ксантипп) – союзничать с Персией, но воевать со Спартой. Партийная борьба оказывалась для афинян значительнее, чем последовательная внешнеполитическая позиция.
Мильтиад сыграл роковую роль в греко-персидских войнах: по его инициативе были убиты персидские послы. Возможно, одновременное убийство послов в Спарте также было как-то связано с этой инициативой и предполагало формирование афино-спартанской антиперсидской коалиции. Но демократия в Афинах не могла быть последовательной. Возвышение партии Фемистокла сорвало все перспективы достижения союзных отношений со Спартой. И спартанцы предпочли отдельно от Афин загладить свою вину перед Персией – отправили к царю своих послов, предполагая для них смертную казнь. Афины подобных попыток не предприняли. Зато в 490 году разбили персидский экспедиционный корпус, высадившийся при Марафоне.
Казалось бы, Мильтиад как главный организатор победы при Марафоне, – уже готовый «царственный тиран». Но расшалившийся демос в Народном собрании объявил ему: «Когда ты, Мильтиад, в одиночку побьешь варваров, тогда и требуй почестей для себя одного». Заслуга полководца была нивелирована высокомерием полисного коллектива, упивавшегося возможностью ставить на место даже самых заслуженных людей. Через год Мильтиад за неудачную экспедицию на о. Парос был по инициативе антиспартанской партии Ксантиппа приговорен к астрономическому штрафу и как государственный должник исключен из политической жизни. От полученной раны он скончался, а долги выплачивал его сын Кимон.
После разгрома группировки Мильтиада, который была обусловлен даже не задачами борьбы за власть, а только демократическими настроениями, Афины стояли перед необходимостью воевать на два фронта и лишились возможности дипломатического маневра. Смерть Гиппия разорвала связи Персией, смерть Мильтиада – со Спартой, и Фемистокл занялся подготовкой к неизбежной войне.
Дальнейшая демократизация была связана с повышением роли «четвертого сословия» – неимущих фетов, служивших гребцами. Программа Фемистокла по созданию сильнейшего флота укрепила сплоченность этого сословия и значительно повысила его роль в Народном собрании. Под влиянием гребцов аристократический институт архоната сошел на нет: архонтов стали избирать по жребию. Что в глазах афинян было более справедливым, чем проводить выборы. Но без выборов архонат лишился всякого авторитета.
Фемистокл
Демократия сама себя опровергла в самом своем сокровенном принципе – выборной системе. Вместо выборов активизировались остракофории, которые обеспечили Фемистоклу фактически единоличное правление – охлократическую тиранию. При этом демос принимал Фемистокла в роли разорителя собственного города, но не принял его как спасителя: после Саламинской битвы, победа в которой была обеспечена за счет программы Фемистокла, построившего флот, (ну и, разумеется, за счет спартанского руководства, от которого теперь невозможно было уклониться), его звезда стремительно закатилась. Демос искал своих настоящих спасителей и вернул их из изгнания. И не Фемистокл, а они собирали ополчение, чтобы противостоять персам: Аристид, Ксантипп, Кимон.
Кимон, сын Мильтиада, стал главным флотоводцем союзного спартанско-персидского флота, провел несколько удачных военных операций и стал популярен не только в Афинах, но и в Спарте (в том числе и за счет действий против изгнанного спартанского царя Павсания). Фемистокл же, заявивший о себе только политическими интригами, в этот период потерял всякое влияние. Через 10 лет после Саламина он уже никого не интересовал и был отправлен в изгнание просто как раздражающая всех персона. А затем состоялся заочный суд об измене с вынесением смертельного приговора. И Фемистокл бежал в Персию, завершив свою биографию фактическим признанием всех подозрений на его счет: воровство, неоправданные репрессии, заговор, измена. Все это было одновременно и торжеством охлоса, все еще считавшего себя демосом.
Реалии греко-персидских войн выдвинули в лидеры Афин личность, совершенно противоположную Фемистоклу, который всюду искал выгоды для себя и не хотел ни с кем делить власть или союзничать. Правление Кимона – прославленного воина, флотоводца – перекликается с правлением Писистрата. Он убрал ограду своих владений и предоставил право всем без исключения пользоваться растущими там плодами, готовил обеды для всех желающих, по его приказу спутники менялись платьем с бедняками и делились с ними деньгами. Афиняне видели, что «золотой век» возвращается, и что в чести теперь аристократизм, а не манеры уличных проходимцев. Сын тирана и внук царя представлял Афинам совсем не тот образ правления, который они видели от Фемистокла.
Кимон построил Длинные стены, связавшие Афины с Пиреем, обустроил Академию – впоследствии ставшую излюбленным местом для Платона и его учеников, а Расписная стоя стала местом, где возникла школа философов-стоиков. Следуя образу правления Писистрата, Кимон окружил себя скульпторами, живописцами, философами, драматургами, вновь поднимая авторитет Афин как культурной столицы Эллады.
Кимон
Несмотря на уникальную победу над персами при Эвримедонте (в один день было захвачено 200 персидских триер, а потом разгромлено сухопутное войско персов и спешащий им на помощь флот финикийцев), афиняне, привыкшие к безобразным интригам, позволили убедить себя в том, что участие Кимона в Третьей Мессенской войне – это действие, враждебное Афинам. И Кимон был подвергнут остракизму, как и многие его достойные предшественники, составившие славу Афин. Предварительно Кимону пришлось предстать перед демократическим судом по обвинению во взятке, которую, якобы, он получил от царя Македонии – чтобы избежать завоевания. Но на этот раз Кимон был оправдан. Когда же в Спарте произошло страшное землетрясение, и восстала Мессения, Кимон, рискуя всем, принудил афинян согласиться на оказание помощи своим союзникам, с которыми только что плечом к плечу сражались против персов. «Народная» партия, разумеется, была против. И воспользовалась тем, что спартанцы после ряда неудач в войне с мессенцами решили отказаться от помощи и отправили афинское войско домой, афиняне решили изгнать Кимона (461 г до н.э.).
Союзничество со спартанцами было не единственным поводом для остракизма. Демократические «политтехнологи» предполагали распространении грязной клеветы. И такая клевета появилась и разрослась в головах афинян. При довольно свободных нравах, царивших в Афинах, против Кимона было выдвинуто обвинение в сожительстве со своей сестрой Эльпиникой, а также в пьянстве. Образ врага после разгрома персов афиняне перенесли на спартанцев, а также на благоволившего им Кимона.
Кимону еще раз удалось недолго послужить Афинам – когда лидер «демократов» Перикл поставил полис на грань поражения. Кимон был досрочно возвращен из изгнания (жил у себя на родине в Херсонесе Фракийском), заключил мир со Спартой и возглавил общегреческую экспедицию на Кипр. Умирая от раны или от болезни, Кимон приказал флоту отплыть, не оглашая факт его смерти. И под руководством уже мертвого полководца греки одержали еще две победы – морскую и сухопутную.
Что теперь называют «становлением демократии в Афинах», на самом деле было глубоким кризисом афинского образа жизни. Демократизация постоянно поворачивала афинян на гибельный путь, а сворачивать с него удавалось, лишь когда реальную власть брали в руки люди, помнившие царское правление, готовые к союзам с единоплеменниками из Пелопоннеса и не разменивавшие свои силы на грязную межпартийную борьбу, которой так увлекался охлос.
Перикл. Надежный путь к катастрофе
Мифологизированная афинская демократия стала образцом через две тысячи лет, а имя Перикла – символом демократии, которая, будто бы, в своих основополагающих установках не изменилась с древнейших времен. Правда, возникает вопрос, почему Платон и Аристотель считали демократию худшей формой власти? И почему в сюжетах изобразительного искусства Древней Греции не отыщешь тему демократии? Почему образ Перикла известен для нас одним лишь бюстом – явно идеализированным, а не портретным изваянием?
Известность и слава Афин в древности в наши времена сильно преувеличена. Гомер практически не знает ничего об Афинах. «Илиада» почти ничего не знает про афинских героев, сами Афины упомянуты лишь в каталоге кораблей – наряду со всеми греческими городами, представленными в походе на Трою. Упоминания в «Одиссее» отрывочны: Афины указаны как конечный путь следовании Тесея и Ариадны (Ариадна на этом пути убита Артемидой), как исходный пункт путешествия Ореста в Аргос – ради мести убийцам отца. С основным сюжетом поэмы Афины никак не связаны, никаких возвышенных слов, которые Гомер относит к Трое, Спарте, Пилосу, Аргосу, Микенам, нет. Из чего следует, что для греков гомеровского периода Афины были малоизвестны и малозначительны. Это обстоятельство скрадывалось тем, что в гомеровских поэмах значительна Афина – покровительница города, который поднялся до гегемонии в те времена, когда остальные города греков были разорены междоусобной войной.
Заметим, что другие греческие города не имеют совпадений с именами богов. Удача такого совпадения возвысила как статус самой богини, так и статус поэм Гомера, ставших общегреческим достоянием благодаря тирану Писистрату. Лишь канонизация текста при Писистрате не позволила политикам-демократам подправить Гомера в своих целях. Зато это без труда сделал Еврипид, который в одной из своих трагедий приписал Афинам больше кораблей, чем Гомер, а количество кораблей Аргоса, напротив, снизил.
Перикл
В чем, собственно, выразился «демократизм» Афин, и чем режим управления в Афинах существенно отличался от режима управления в других греческих городах? Единственный институт, который создает существенное отличие – остракизм: возможность изгнания любого гражданина путем голосования по принципу «нравится-не нравится». В остракизме афинский демос нашел себя, вошел во вкус и стал соучастником политической борьбы между аристократическими кланами, которые использовали демос, стремясь провести голосование в нужное время – так, чтобы избавиться от опасных конкурентов.
Получается, что афинский демос стал заметным явлением на голосовании «против», а не на голосовании «за». Изгнание «слишком влиятельных» удовлетворяло сладострастному чувству мести демоса возвысившимся «лучшим». Афиняне куда охотнее участвовали в голосованиях по такому поводу. Выборы в магистраты их волновали в меньшей степени. Выбивание аристократии гасило внутренние конфликты только поначалу – покуда остракизм не стал средством расправы по политическим мотивам. И подавленный, было, стасис (состояние распри) продолжился. К нему прибавились авантюры по всем направлениям. Экономический расцвет, заложенный в период тирании Писистратидов, был убит этими авантюрами и непоследовательностью «демократии». Отсюда – война с Персией, со Спартой, безумная экспедиция на Сицилию. И крах.
Принцип выбивания лучших был применен даже к Мильтиаду – организатору победы под Марафоном. Его не изгнали, но по итогам неудачной экспедиции на Парос приговорили – уже на смертном одре – к огромному штрафу, который полностью смог выплатить только его сын Кимон, да и то, лишь женившись на дочери богатейшего афинянина.
Обратимся к ключевой фигуре афинской демократии – к Периклу.
Перикл предстает в образе воителя, но военное дело для него никогда не было главным или даже существенным. Он очень гордился своей победой над Самосом, но заметной роли в истории эта победа не сыграла, а стратегически означала уничтожение союзника. А также показала другим союзникам, что может быть с ними. Перикл, скорее, – образец политического оратора и интригана. Его героический образ – одна из уловок «политтехнологии». Статус стратега и облик стратега в классической герме с надписью «Перикл» (на статус стратега указывает сдвинутый на затылок боевой шлем) лишь подчеркивали личную мужественность и служение общему делу. Без этого нечего было и думать о том, чтобы получить поддержку афинян.
Успех Перикла-политика состоит в своеобразном поведении: он не был по-аристократически надменен и не скатывался к популизму – как вожди народных партий. Срединная позиция в сочетании с ораторским искусством давала ему возможность опираться как на аристократию, так и на народ. Кроме того, в определенный момент Перикл решился на довольно жесткие самоограничения в личной жизни: отказался от каких-либо родственных и клановых контактов, превратившись в исключительно публичную личность. Он не посещал дружеские обеды и торжества родственников, предпочитая всем частным связям публичную политику и отсутствие обвинений в преследовании частных интересов. У него не было друзей не только среди аристократов, но и среди граждан. Его друзьями были бесправные неграждане-метеки. Он даже расстался со своей женой, которая находилась в родственной связи с Алкмеонидами – могущественным аристократическим кланом, и предпочел общество гетеры Аспасии.
Любовь афинян к Периклу сильно преувеличена. Его уважали, как уважает охлос своего хозяина, выдвигая на любую критику вопрос: «А кто вместо него?». Уважение предопределялось статусом и влиянием. И никто не мог так заговорить афинян, как это делал Перикл. Прозвище «Олимпиец» означало, что Перикл вел себя достаточно обособленно и независимо от общественного мнения, а с трибуны метал молнии и гремел громом. Общество платило ему тем же: он не тиран, но по положению «как бы тиран» на страже демократии – формальных учреждений, в которых демос может высказать свое мнение и заткнуть за пояс любого аристократа. Кроме Перикла, который был гарантом того, что право помыкать «лучшими» у демоса будет сохраняться. Он же обеспечивал сохранность некоей границы, за которую демосу не стоило переступать.
Народность Перикла (лидерство в «народной» партии) была для него не целью, не убеждением, а выгодой. Перикл не мог искренне быть с демосом, главное «умение» которого состояло в радостном участии в остракофориях. Этим способом из Афин в период детства Перикла был изгнан сначала его дядя по матери, Мегакл, а потом и его отец Ксантипп. Единственной их виной была принадлежность к родовому аристократическому клану Алкмеонидов, в порядке борьбы с которым и был введен остракизм. Юный Перикл, скорее всего, входил в созданную Кимоном коалицию аристократических родов, направленную против Фемистокла. Таким образом, он не мог не быть противником «народных партий». Но тонкое понимание выгоды в политической борьбе привело его на роль лидера именно этих партий.
На народ в Афинах всегда опиралась часть аристократии, которая пыталась использовать малоимущих граждан для свержения своих противников. Можно сказать, что Перикл случайно попал в «народную» партию и боролся против проспартанской группировки аристократов, понимавших пользу для себя и для Афин общеэллинской солидарности. Перикл с этого момента и на всю оставшуюся жизнь остался патриотом только Афин, но ни в коем случае не Эллады. Перикл признавал для Афин (и для себя лично) только роль гегемона, для других греческих городов – только подчиненную роль сателлитов.
Перикл по объему исторической информации не превосходит других известных личностей того же периода. Но чепрез века сведениям о Перикле придана особая ценность, и обсуждение его деятельности стало большим политическим заказом наших дней. Известность Перикла исходит вовсе не от греков и даже не от афинян. Его фигура выдвинута на первый план греческой истории нашими современниками – теми, кто под греческую историю подвел идеологическую доктрину. И кому роль Афин чем-то напоминала роль мирового гаранта и защитника демократии наших дней. Хотя и в древности, и теперь подобного рода «гаранты» используют силовые и риторические средства лишь для того, чтобы успешнее грабить других.
Авантюризм Перикла проявился с юных лет, когда ему довелось встать во главе «народной» партии и использовать антиперсидские настроения для роста своей популярности. Он не только осуществил за свой счет постановку трагедии Эсхила «Персы», но и совершил демонстративное нарушение морской границы с Персией (установленной по Кимонову миру). Персы этой экспедиции предпочли не замечать, а Периклу она принесла известность и славу у антиперсидски настроенных граждан Афин (никаких других настроений после греко-персидских войн у них и не могло быть).
Гениальность Перикла сильно преувеличена. Его авантюризм очень быстро привел к военному противостоянию Афин на два фронта: против Пелопоннеса и Персии. Правда, у Афин были достаточно сильные военные союзники – Аргос и Фессалия, а отчасти также Мегары. Но самым лучшим союзником Афин был их военно-морской флот, обеспечивавший стратегическое преимущество, заложенное еще Фемистоклом, столь удачно пустившим доходы от серебряных рудников на постройку кораблей. (Кстати, это был акт явно недемократический: афиняне лишились доходов, которые привыкли распределять меж собой.) Но такое положение дел не могло оставаться неизменным: для содержания флота нужны были огромные деньги, которые Афины через Делосский союз вымогали у своих союзников – мелких и слабых греческих государств.
Полтора десятка лет Перикл пожинал славу великого реформатора и успешного политического стратега. Следующие полтора десятка лет – ужасы поражений, а в финале – крах афинской гегемонии. «Век Перикла» завершился для Афин самым катастрофическим образом. Стратегия безумного экспансионизма без консолидации греческого мира – вот в чем проявились авантюризм и несостоятельность политики Перикла.
Перикл начал свое правление с массированной экспедиции в Египет (460 г. до н.э.), куда были отправлены 200 кораблей и 20-тысячное войско. Наверняка, с тайной мыслью переподчинить сбросивший персидское владычество Египет себе. И эта вполне прагматическая задача была провалена распылением сил – подчинением острова Эгины и принуждением к союзу Беотии, Фокиды и Локриды.
Перикл не известен, ни как воин, ни как стратег, хотя должность стратега он неоднократно занимал. Он руководил незначительной морской экспедицией против Спарты, участвовал в сражении против спартанцев при Тангаре на границе Беотии и Аттики (неизвестно, простым воином или стратегом), которая закончилась поражением (457 г до н.э.).
Заносчивость – главная черта афинских граждан «века Перикла». Они самоуверенны и высокомерны. В особенности по отношению к своим политическим противникам, которым отказывают в общем деле на пользу Отечеству. Так, изгнанному Кимону сторонники Перикла не позволили стать в фалангу для участия в сражении со спартанцами при Тангаре. Не потому что Кимон был сторонником мира со спартанцами, а потому что он – политический противник, которому не положено стяжать воинскую славу вместе с властвующей партией Перикла. Только после поражения Перикл выступил с предложением вернуть Кимона из изгнания – только Кимон был способен договориться со спартанцами о мире.
Египетская экспедиция закончилась катастрофой, а замириться со Спартой пришлось при посредничестве Кимона, с поражения и изгнания которого Перикл и начал свою политическую карьеру. Затем Кимона удалось отправить в очередную заморскую экспедицию – биться с персами за Кипр. Где он и сложил свою голову. А Перикл заключил с персами мирное соглашение (Каллиев мир).
Обезопасив Афины со стороны Персиий, Перикл предпринял попытку мирного утверждения афинской гегемонии, предложив провести съезд эллинских городов, посвященный сожженным в греко-персидских войнах храмам, исполнению обетов по защите от варваров и установлению мира на море. Спарта отвергла такой путь, поскольку он требовал однозначного признания первенства Афин во всех общегреческих делах, а также, очевидно, вылился бы в череду острых взаимных претензий.
Вспыхнувшая против спартанско-беотийского союза война закончилась поражением афинян в битве при Коронее (447 г. до н.э.). Из своего поражения Перикл не извлек уроков, предпочитая вновь добиваться гегемонии Афин за счет ограбления зависимых городов. Попытавшаяся выйти из Афинского союза Эвбея была принуждена к прежним отношениям силой, но Мегары отпали от Афин и вернулись в Пелопонесский союз. Затем Периклу пришлось вступать в тайные переговоры со спартанскими эфорами, чтобы те вернули двинувшуюся в Аттику армию во главе с царем Плистонактом. С помощью денег удалось заключить шаткий Тридцатилетний мир. Вместе с тем, поражение Перикл использовал для финансового давления на подчиненные города: касса союза была перенесена с о. Делос в Афины, что развязывало Периклу руки для свободного обращения с со средствами, собираемыми с подчиненных союзников.
Мирную передышку Перикл использовал для подготовки к войне с Пелопоннесским союзом, и при этом не стеснялся откровенного грабежа союзников. В союзных государствах начали появляться клерухии – поселения афинян, которые вынуждены были покидать родину из-за перенаселенности, а заодно использовались как военная сила против любых попыток союзников проявить самостоятельность. Неудавшуюся экспансию на юг (поражение в Египте), Перикл развернул на северо-восток: поставил под контроль поставки хлеба из причерноморских территорий, захватил полуостров Херсонес (Галлиполи), а также ликвидировал в Афинском морском союзе привилегированный статус Самоса – второго по силе участника Афинского союза, который в этот момент конфликтовал из-за спорных территорий с Милетом. Установленная Периклом на Самосе демократия, продержалась ровно до отбытия войска афинян, и Самос пришлось осаждать всеми имеющимися силами в течение девяти месяцев. Также Перикл начал нарушать Тридцатилетний мир, организовав экспансию в западном направлении – при колонизации Южной Италии. Он всячески противился панэллинскому статусу колоний, требуя решающего влияния Афин. Заключая союзы с южно-италийскими колониями, Перикл вмешивался в традиционно спартанско-коринфскую зону влияния. Чем, безусловно, ускорил возобновление войны.
Аспасия
Периклу показалось, что Афины вновь обрели силу, которую никому не сломить, и мир со Спартой был нарушен – в 433 году афиняне поддержали Керкиру в противостоянии с Коринфом – союзником Спарты. Затем осадили союзный Коринфу город Потидею. Одновременно Афины начали экономическую войну против Мегар, проявивших самостоятельность. Подчиненные Афинам города обязаны были воспретить у себя торговлю мегарскими товарами. В ответ Афины получили наступление на своих союзников: Фивы осадили Платеи. Попытки спартанских послов не допустить войны закончились плачевно: все требования Спарты были отвергнуты.
Перикл лично постарался ускорить начало войны с целью нейтрализовать усиление своих внутриполитических противников. Он надеялся, что против Спарты сработает его коварный пан: пока неповоротливые участники Пелопонесского союза будут собирать свои армии, афинский флот может стремительно появляться в любом месте пелопонесского побережья и разорять прибрежные города, а также грабить торговые суда, осуществляя морскую блокаду. Перикл не учел одного: неизбежной перенаселенности Афин в случае сухопутного вторжения Спарты и ее союзников в Аттику. В 430-429 гг до н.э. в Афинах разразилась ужасная эпидемия, и политическая карьера Перикла закончилась. Вместе с его жизнью – болезнь, поразившая Афины, погубила и его, и его семью.
Во всей этой истории мы не видим никакой «демократии». Может быть, что-то разумное было в той политике, которую Перикл проводил на благо афинян? Демократизм Перикла свелся в основном к установлению выплат за исполнение общественных функций – судьи и другие должностные лица стали получать мистофории. Демократичностью в данном случае считается возможностью для малоимущих граждан занимать должности. Но также и всякого рода авантюристам, которым в таком случае демократия очень удобна и выгодна. Второе нововведение Перикла – возможность избираться в архонты зевгитам – третьему сословию афинян (мелким землевладельцам, по сути – подавляющему большинству имевших гражданские права в Афинах, которое до этого, впрочем, имело возможность избираться в стратеги). Наконец, Перикл ввел закон о гражданстве, по которому дети неафинян не имели права становиться гражданами. Подтверждение гражданства должно было быть представлено как по отцовской, так и по материнской линии. Считается, что этот закон был неудобен аристократии, которая заключала браки через традиционные ксенические связи. Этот недемократичный закон, впрочем, Перикл очень демократично нарушил, упросив афинян принять решение о предоставлении гражданства своему внебрачному сыну от милетянки Аспасии. Наконец, Перикл восстановил судебные коллегии по демам, которые существовали при тиране Писистрате.
Вот и все, что привнес Перикл в государственное устройство Афин. Масштаб его реформ, как мы видим, ничтожен, их значение несущественно и какого-то заметного «демократизма» мы в них обнаружить не можем. «Демократизм» на самом деле был по форме выдумкой, а по сути – хаосом, к которому пришли Афины, превратив демос в охлос, а демократические институты, присущие традиционным формам правления, – в имитацию. Смешно читать утверждение историков о том, что в результате реформ Перикла «демос взял власть в свои руки». Демос, напротив, отдал власть демагогам, которые втянули его в войну с трагическим финалом, а на лучших людей Афин обрушили бессистемные репрессии.
Демократии в ее «афинском» смысле сопутствует коррупция и моральное разложение – это «век Перикла» подтвердил очень основательно, и на примере ближайших сподвижников реформатора. Да, Периклу пришлось восстанавливать пришедший в упадок город, получая средства на это от подневольных союзников. Ласкающий глаз Парфенон и весь комплекс зданий Акрополя – это деяние Перикла. На возведении которых немало нажились подрядчики. Среди них оказался и скульптор Фидий, которого заподозрили в присвоении золота, отпущенного на огромную скульптуру Афины, и заключили в тюрьму, где он и умер. На излете своей жизни Перикл и сам получил обвинения в произвольных тратах союзной казны, которая расходовалась на ведение войны. А в начале войны со Спартой Перикл предпринял внешне очень патриотичный, а по сути очень хитроумный, план – отдал свои владения, которые должны были подвергнуться разорению, государству.
Может быть, Перикл был образцом нравственного поведения, и тем самым завоевал авторитет у сограждан? Напротив, его противники не давали забыть о том, что он сожительствует с чужестранкой Аспасией, брак с которой не мог быть официальным. Но ради этого сожительства Перикл бросил свою жену и уже взрослых детей. Аспасия была обвинения в нечестии, но под личным давлением Перикла суд ее оправдал.
Перикл «прославился» святотатством, причиной которого была ненависть афинян к спартанцам. Когда фокидяне захватили Дельфы (вместе с общеэллинской сокровищницей пожертвований святилищу), спартанцы его освободили и вернули жрецам. Но как только спартанское войско вернулось в Лакедемон, Перикл отправился в Дельфы с афинским войском и вернул святилище под контроль своим союзникам фокидянам. Захват Дельф Афинами (через союзников) фактически означал противопоставление общеэллинскому патриотизму, присвоение одним городом общего очага греческой цивилизации.
Знаменитая «надгробная» речь Перикла, которую пересказывает Фукидид, многое говорит как о Перикле, так и о «демократии». Формально Перикл прославляет Афины и граждан, которые отдали свои жизни за родной город – принесли в дар ему свою жизнь. При этом Перикл (в изложении Фукидида) допускает интересный оборот: он хвалит павших героев за то, что они отказались от наслаждения богатством, а также от надежды разбогатеть (сохранив жизнь). Отсюда следует, что главным ориентиром афинского общества и его лидера Перикла в мирное время было именно богатство и наслаждение от обладания этим богатством. Тем самым, нравственный поступок в глазах этого общества может быть только коллективным и совершенным в условиях крайней опасности для полиса в целом. Это своего рода патриотизм эгоистов, которые идут на все, чтобы отстоять свое право на социальные условия, обеспечивающие им (их наследникам) богатство и наслаждение – «афинскую мечту». Это совершенно иной мотив, в сравнении с тем, который проявляли гомеровские герои. И Перикл решительно отдает предпочтение героизму соотечественников, приравнивая его к героизму гомеровских времен. И предлагая славить современных героев, отставив в сторону предания Гомера.
В превосходной характеристике Фукидида, единственного из древних, кто дает Периклу высочайшую оценку и выделяет его из ряда политиков того периода, содержится намек на общее состояние дел в «демократических Афинах». Фукидид говорит о том, что Перикла ценили за несомненную неподкупность. Из этого следует, что «подкупность» – это извечное подозрение на счет политика, которое было присуще афинянам.
Что касается других авторов, то такие авторитеты, как Платон и Аристотель, вовсе не видели какой-то особой значимости Перикла. Напротив, причисляли его к ряду демагогов, виновных в деградации демократии. Лишь склонный к фантазированию Плутарх стал продолжателем позитивной мифологизации фигуры Перикла. Кстати, ему же принадлежит двусмысленное утверждение, что Перикл был внешне похож на тирана Писистрата, и это затрудняло ему политическую деятельность, ибо афиняне, якобы, боялись тирании. Скорее всего, Плутрах был введен в заблуждение идеализированной скульптурной презентацией внешности Перикла, которая была для Греции универсальной, а оттого сходны были лики не только политиков и героев, но и богов. Но даже если представить, что Плутарх не ошибался, то его заявление следует истолковать, исходя из судьбы самого Перикла: гражданам Афин он мог напоминать «золотой век» Писистрата, и это было явно на пользу Периклу. Увы, его поступки далеко не всегда соответствовали божественному облику.
Алкивиад и абсурд демократии
Политическим преемником Перикла можно считать Алкивиада, который воспитывался в его доме, будучи сыном близкого друга Перикла, погибшего в битве при Коронее, и двоюродным племянником Перикла (двоюродного брата матери Алкивиада). В личности Алкивиада авантюризм «народного» политика проявился в таком масштабе, который был неведом даже Периклу. И его усилиями гегемония Афин приходит к окончательному краху.
Пример Алкивиада – это уже пример не столько демократизма, сколько извращенной формы патриотизма, которая при других обстоятельствах могла бы объясняться проблемами, связанными с неразделенной любовью к Родине, а в данном случае – ущербностью афинского полиса, где патриотизму, как это ни покажется кому-то странным, места не было. Собственно слово «патриотизм» у греков не существовало, но существовала установка «сражаться за Отечество», исходящая еще от гомеровских героев и вложенная в уста троянца Гектора.
Мы прекрасно знаем, что Отечество не ограничивается территориальным признаком. Оно также связано с определенной традицией и родовыми связями, которые притягивают человека и возбуждают в нем чувство ответственности и желание защищать родной полис от врагов. Если же полис погружен в кризис, смуту, захвачен неизвестно откуда взявшимися демагогами и проходимцами, то в чем может быть выражена любовь к Отечеству? Куда подвигнет патриота «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»? Если традиция растоптана, если родовые связи подорваны, что должно было связывать древнего грека со своим полисом? Остаются только имущественные интересы и привилегии гражданина? Но это может входить в противоречие с задачей восстановления «аутентичности» условий жизни, идентичности сложившемуся образу Родины. Какими путями?
Афины свой «полисный патриотизм» получили от Солона – от его призывов покорить о. Саламин, которые он облекал в поэтическую форму. Вторая война, призывы к которой повысили популярность Солона, – Первая Священная война за контроль над Дельфами и их сокровищницей. Реформы Солона получили популярность, скорее всего, благодаря именно этой – удачной – экспансии. Провались она – и не было бы ни реформ Солона, ни его славы, вписанной в историю Древней Греции. От Солона деградация афинского общества пришла к Периклу, а от Перикла – к Алкивиаду.
Продолжая авантюристические традиции «века Перикла», Алкивиад выступал против Никеева мира, потом создавал новую антиспартанскую коалицию, которая потерпела поражение в битве при Мантинее (418 г. до н.э.). Он ратовал за организацию афинской экспедиции на Сицилию, где должна была возникнуть новая «кормовая база» для продолжения противостояния со Спартой и ее союзниками.
Понятна горячность молодого политика, убеждавшего сограждан в необходимости новой войны и возможности быстро покорить разобщенные сицилийские полисы. Притом что демократия не предоставляла для Афин никакой стратегии, многие умудренные мужи не рисковали брать на себя ответственности и выглядеть «непатриотично», критикуя авантюру Алкивиада.
Призывая покорить Сицилию, масштабности затеи Алкивиад добился, но от своих противников получил решение об отзыве в Афины для судебного разбирательства. Прекрасно зная, что такое «демократический суд», Алкивиад предпочитает отправиться не на родину, а в Спарту. И там приобрести влияние своими весьма дельными советами по тактике войны с Афинами.
Мог ли Алкивиад из «местечкового» патриота стать патриотом Эллады, могло ли это проявиться в приверженности «проекту Спарты», который спас бы Отечество Алкивиада, распространившись на Афины? В такой трансформации, которая могла быть логичной в других случаях, не хватает акта личного страдания и борьбы за общеэллинскую солидарность. Здесь мы видим только уклонение от «демократического суда», который готов был вынести молодому политику смертный приговор.
Афины в тот момент представляют собой нечто, подобное пиратской республике, которая уже не может жить без грабительских экспедиций. Но сам Алкивиад – участник и инициатор такой экспедиции. В его голове еще нет ничего общеэллинского, никакого понимания столкновения «проектов» – Афинского рабовладельческого и Спартанского аристократического. Но столь же мало привязан Алкивиад и к чисто политическому явлению афинского общества. Оно – только инструмент власти удачливых демагогов, одним из которых стал Алкивиад. А со Спартой его связывает статус проксена (гостеприимца, чужестранного представителя интересов полиса).
При определенных условиях Алкивиад мог использовать свои таланты и связи как инструмент для того, чтобы поход на Сицилию не состоялся. Так же и в истории с Никиевым миром: если бы спартанцы вели переговоры о мире с Алкивиадом, то он, скорее всего, был бы сторонником мира. Но коль скоро эту привилегию получил Никий, то Алкивиад стал его противником – в порядке агональной традиции, которая была столь распространена в Древней Греции с микенских времен.
Доказывая себе, друзьям и врагам свою высшую харизму, Алкивиад яростно принялся за дело против мира со Спартой, подмяв под себя общественное мнение. Получив должность стратега, он нашел пути к коалиции с Аргосом, а потом также и с Мантинеей и Элидой. Новая антиспартанская коалиция сложилась только благодаря энергии Алкивиада – блестящего оратора с божественной внешностью и царственными манерами. В его облике афиняне увидели нового Писистрата, нового Перикла, а союзники – бесспорного лидера. Враги же – крайне опасного конкурента, которые грозил своей харизмой сломать «демократические порядки», при которых всякое мнение получало своих сторонников, любой абсурд мог дать выгоду. Именно это и было причиной возбуждения судебного преследования Алкивиада – если бы ему удалась Сицилийская экспедиция, в Афины приехал бы уже не стратег, а готовый тиран. И повторился бы «золотой век» Писистрата – в мире со Спартой и Персией, на беду всем политическим демагогам. Но история пошла иным путем. Коалиция была наголову разбита спартанцами при Мантинее, а война в Сицилии обошлась без Алкивиада.
Быть может, Алкивиад всегда считал себя выше Афин, которые давно не были теми Афинами, которые расцвели при «старшей тирании» Писистрата. Алкивиад, действительно, по своим способностям мог быть лидером общеэллинского масштаба. Он с детства с готовностью исполнял общественные функции, получил прекрасное образование, был блестящим спортсменом и храбрым воином – причем сподвижником Сократа, который спас его от смерти в битве у стен Потидеи, а он потом спас Сократа в битве при Делии. Упряжки Алкивиада победили на Олимпиаде, заняв три первых места. После чего его популярность распространилась на всю Элладу.
А что, собственно, афинская демократия представляла для активного политика? Скорее поток абсурдных решений, доходящих до безумия. Одно из них коснулось лично Алкивиада. Против него и Никия возбудил остракофорию демагог с говорящим именем Гипербол. Он убедил афинян, что следует изгнать либо Алкивиада, либо Никия. Ибо они «стали слишком влиятельными», собрав вокруг себя соответственно сторонников и противников экспедиции на Сицилию. Абсурдную форму демократии в данном случае Алкивиад и Никий обратили себе на пользу – в результате были изгнаны не они, а сам Гипербол. Причем, подтолкнув противников к некоему шаткому союзу, позволившему соблюсти баланс интересов. С этого момента остракофории прекращаются – абсурд стал слишком очевиден. Но не прекратился абсурд в иных формах. Никий смягчил свою позицию, присоединившись к Сицилийской экспедиции, возможно, зная, что его соперник Алкивиад не получит от нее той славы, на которую рассчитывал. Славу должен был снискать Никий. Его расчет оказался верен только в том, что он добился единоличного командования афинскими силами на Сицилии. Но через два года эти силы были разгромлены, а сам Никий, до этого не знавший поражений, казнен победителями.
Во времена Алкивиада Афины решили покорить нейтральный Милос. И так тяжко им было осаждать Милос, что после победы Афинское народное собрание очень демократично решило перебить все мужское население Милоса, а женщин и детей продать в рабство. Причем, включая тех, кто составлял проафинскую «партию». Это в высшей степени абсурдное решение приписывают Алкивиаду, но он не мог к этому иметь отношения, поскольку для его честолюбивых планов оно не имело никакой ценности. Если только его противники не выступали бы против. В этом случае Алкивиад был бы решительно «за». Но мы не имеем сведений о его позиции, а абсурдное решение «афинского народа» вписано в историю грязной страницей.
Столь же абсурдным было решение Народного собрания Афин о руководстве Сицилийской экспедицией – из трех стратегов, которые были поставлены во главе, двое находились в жестоком противоречии: Алкивиад был яростным сторонником экспедиции, а Никий – противником, призывавшим к осторожности и предрекавшим провал предприятия.
Наконец, полным абсурдом был отзыв Алкивиада из экспедиции по подозрению в осквернении священных герм (изваяний Гермеса) как раз накануне отплытия флота к Сицилии. Хотя эта выходка могла быть предпринята только противниками экспедиции – чтобы охватившее афинян недоумение и стремление непременно разобраться и выявить виновников привело к задержке. Афиняне почему-то решили, что это была пьяная выходка молодежи, ну а инициатором такого рода выходок не смогли назначить никого, кроме Алкивиада. Якобы, несколько рабов и метеков видели, как Алкивиад и его друзья занимались осквернениям священных изваяний.
Алкивиад был блестящим оратором и мог все измышление опровергнуть, а флот, который он возглавлял, подкрепил бы его успех так, что уже никакие решения без Алкивиада в Афинах не принимались бы. Поэтому флот отправили в плавание, отложив судебную тяжбу. Флот отплыл. В Италии и на Сицилии начались успешные операции. И в этот момент за Алкивиадом послали специальный корабль, предложив явиться на судилище – без своих сторонников, без флота. Алкивиад на одной из стоянок вместе со своими ближайшими друзьями скрылся, а в Афинах его заочно приговорили к смерти и конфисковали все его имущество. Понятно, что и в очном порядке он получил бы такой же приговор.
Алкивиад
Объявившись в Аргосе, Алкивиад принял спартанских послов и пообещал помочь спартанцам своими советами. Как общеэллинский герой-олимпионик, Алкивиад был радушно встречен в Спарте. И дал спартанцам совет, который в итоге решил исход Сицилийской экспедиции Афин. Он предложил направить в Сиракузы небольшой отряд во главе с опытным полководцем Гилиппом. Именно этот отряд обучил граждан Сиракуз военному делу, их поражения сменились победами, и война завершилась полным уничтожением афинского войска вместе с кораблями. Столь же точный совет, как победить малыми силами, Алкивиад предложил и в отношении Афин. В результате спартанцы отказались от массированного летнего наступления в Аттику, которую они могли разорять, но не умели взять афинских стен. Вместо этого была захвачена крепость Декелея, постоянно угрожавшая Афинам и связывающая ее силы.
В этот период Алкивиад стал истинным спартанцем, полностью переняв образ жизни спартиатов – коротко остригся, начал купаться в холодной воде и питаться традиционными спартанскими лепешками и кровавой похлебкой, которую с презрением отверг бы, если бы жил в Афинах.
Алкивиад мог считать себя выше не только Афин, но и Спарты. Но далеко не все здесь готовы были это принять. Алкивиад был втянут в родовую склоку, поскольку ему приписали соблазнение жены царя Агиса II, которая, якобы, родила от него Леотихида. Замысел получить сына-наследника престола выглядит абсурдным: если бы Леотихид был признан законным сыном царя, он получил бы царство, но это ничего не дало бы Алкивиаду. Если бы Леотихид не был признан сыном царя, то он не получил бы царства, и Алкивиад не имел бы никакой выгоды. В результате царь на словах не признал Леотихида своим сыном (ибо тот был зачат во время его отсутствия), а Алкивиад в Спарте оказался нежелательной персоной. Свидетельство о данной истории исходит от Плутарха, который склонен к путанице и выдумкам. Она может быть зеркальным отражением истории с другим Леотихидом, который жил почти за столетие до своего тезки и стал царем, убедив спартиатов, что его конкурент Демарат – незаконнорожденный.
Спарта уже без советов Алкивиада заключила союз с персидским царем Дарием II и в обмен на отказ от претензий на ионийские города греков получила средства для строительства флота, который в итоге и победил афинян на море. Алкивиад смог быть только успешным исполнителем этой стратегии – взбунтовал против Афин все ионийское побережье. Вот только возвращаться в Спарту уже не было возможности: там готовилось его убийство. И Алкивиад предпочитает снова сменить подданство – он становится советником персидского сатрапа Тисаферна.
Очарованный вновь перевоплотившимся Алкивиадом, восточный владыка принял его совет сократить помощь спартанцам и играть на балансе интересов между Спартой и Афинами. После чего Алкивиад решил, что можно попытаться вернуться на родину, где политическая обстановка резко изменилась: все противники Алкивиада показали свою полную недееспособность. Алкивиад же мог принести мир, опираясь на своих гостеприимцев в Спарте и в Ионии. Условием возвращения он поставил ликвидацию демократии и установление режима власти немногих. Разумеется, с собой во главе. Фактически речь шла о тирании, формально – об олигархии.
Афинский флот, базировавшийся на Самосе, активно поддержал Алкивиада. Но демократия была свергнута без его участия: утвердился олигархический «Совет четырехсот» – достаточно многочисленное (в духе Солона) собрание, чтобы отказ от демократических привычек не ощущался слишком остро. Флот отказался подчиняться – скорее всего, не по причине демократических убеждений, а вследствие того, что расчет на привилегии от нового правления не оправдался.
Алкивиада призвали командовать мятежным флотом. Куда деваться: если его противники за мир со Спартой, то ему приходится выступать против и продолжать войну. Парадоксальным образом Алкивиад получил решение о своем возвращении из изгнания от тех, кто сверг «Совет четырехсот» и восстановил демократию. Желая олигархии и тирании, Алкивиад, в силу абсурдности процессов, происходивших в Афинах, стал лидером «новой демократии». И энергия Алкивиада снова начала склонять чаши весов истории: Афины стали побеждать, и Спарта оказалась на грани поражения. Неожиданное появление кораблей Алкивиада у Абидоса, где афиняне терпели поражение, изменило финал сражения, и спартанский флот был разбит наголову.
И тут Алкивиад чуть не оказался жертвой своей самонадеянности: желая предстать перед своим другом и покровителем Тисаферном в блеске победителя, он вместо восхищения получил тюрьму, откуда ему чудом удалось бежать и вновь приступить к руководству афинским флотом. Последовал цикл блестящих побед на море и на суше – не только над спартанцами, но и над персидским сатрапом Фарнабазом, вступившим со спартанцами в союзные отношения. Алкивиад установил контроль за черноморскими проливами (и, соответственно, поставками хлеба), затем вернул в подчинение Афинам Халкидон, заключил соглашение с Фарнабазом и покорил Византий.
В Афинах он был встречен всенародным ликованием – действительно, сыграв роль спасителя. Но судьба еще раз повернулась к Алкивиаду спиной. Опрометчиво уступив командование флотом Антиоху (с наказом не вступать в сражение), Алкивиад получил возбужденное недовольство полиса: Антиох, ослушавшись приказа, потерпел поражение. В результате Алкивиад лишился должности стратега-автократора (единоличного военного лидера) и был заменен привычными 10 стратегами. История учит, что демократия постоянно награждает непричастных и преследует невиновных.
Абсурд демократии еще раз сыграл с Алкивиадом злую шутку. На пике своего могущества он потерял все – вынужден был вновь отправиться в изгнание. И на авансцену вышел Лисандр – спартанский флотоводец, который не оставил Афинам шансов на победу. Алкивиад же в это время довольствуется руководством небольшим отрядом наемников, помогающих фракийским царям расширять их владения. Последняя попытка Алкивиада помочь афинским навархам была встречена высокомерной грубостью. Его советов не послушались, и через несколько дней афинский флот был полностью разгромлен Лисандром. После чего последовала сдача Афин (404 г. до н.э.) и было установлено проспартанское правление 30 тиранов.
Тем временем, обманутый и ограбленный фракийцами Алкивиад бежал к Фарнабазу. Там он дожидался момента, когда афинские тираны доведут ситуацию в городе до нестерпимой, и тогда ему в который уже раз мог представиться случай оказаться лидером «народной» партии. Но это мешало планам Спарты и Лисанда, который видел себя вождем всей Эллады, и Алкивиад был для него ненужным конкурентом. Фарнабаз получил из Спарты письмо, в котором его убедили в необходимости умертвить Алкивиада. И восточный владыка почел за лучшее исполнить это указание. Алкивиад погиб в отчаянной схватке с убийцами.
Из всей этой поучительной истории, достойной авантюрного романа, следует, что патриотизм немыслим в условиях абсурдного государственного устройства и произвольной конкуренции политических сил. Вместе с метаниями, обусловленными этой конкуренцией, неизбежны и метания талантливых личностей, способных вести за собой массы граждан и воинов. Алкивиад был слепком с афинской демократии, которая сама изменяла тому Отечеству, от которого она отвернулась.
Афиняне, потеряв себя после Писистратидов, больше не нашли для свого города ничего, кроме беспрерывных военных авантюр, мятежей и несправедливых судов, один из которых приговорил к смерти Сократа. Талантливый и энергичный народ был погублен негодными государственными порядками. И это о многом говорит нам, русским людям.
"Пир" и учение об Истине
Диалог Платона «Пир» целиком посвящен осмыслению сущности Эрота – того божественного содержания, которое греки могли ощущать или понимать в том, что они называли любовью. «Пир» – один из самых известных диалогов Платона, который таит в себе много загадок и отличается «нетипичностью» – рассуждениями, подобными соревнованию. Это даже не диалог, а своего рода «агон» (соревнование) мудрецов, каждый из которых представляет даже не свое собственное понимание любви, а такое понимание, которое могло бы захватить слушателей, отдающих предпочтение именно представленной «версии» эротизма.
Слово «пир» (dais) в древнегреческом языке образовано от глагола daiomai («разделять, распределять, выдавать долю»), означающего правило равного распределения пищи (мяса ритуальной жертвы) на общей трапезе – древнейшего уравнительного обычая. Иносказание в названии произведения Платона может быть связано с определенным балансом смыслов и воздаянием почестей лучшему, что было принято на пиру. Победитель в каком-то состязании получал награду в виде мяса. В данном случае победитель соревнования в искусстве риторики получает в награду признание его позиции истинной или хотя бы победившей в «агоне». При равных возможностях изложить свою позицию этот «приз» на симпосие достается Сократу, но каждый участник симпосия тоже получил свою долю признания – в силу своих способностей. Без поражения собеседников Сократа не было бы победы самого Сократа.
Тайна авторства
«Пир» Платона – произведение загадочное. Прежде всего, тем, что оно маскируется под легкий литературный жанр и скрывает автора за несколькими пересказами. Да и сам смысл «Пира», который должен концентрироваться в речи Сократа, скрыт множеством деталей, введенных в повествование на потребу публике.
«Пир» начинается с рассказа о последнем источнике истории о симпосие: Аполлодор по прозвищу «бесноватый» рассказывает о своей встрече с Главконом, который интересуется о бывшем когда-то пире у Агафона, на котором свои «речи о любви» держали Сократ, Алкивиад и другие. Причем информация к Аполлодору попала как-то уж очень кружным путем – от «одного человека, который ссылался на Феникса, сына Филиппа».
То есть, инициатива описания пира исходит от Главкона, а сам рассказ передается от лица Аполлодора. Причем не по его инициативе, а по «наводке» некоего неназванного лица. О чем и вовсе можно было бы не поминать. Такой подход призван сказать: автор текста (Платон) тут не причем, и даже не он проявил интерес к рассказу. Но кто такой Главкон? Скорее всего, это брат Платона, который по одной версии старше Платона, по другой – младше. Скорее всего, именно от него Платон получил сведения о пире. Главкон рассказал брату то, что услышал от Аполлодора.
Кроме того, оказалось, что пир состоялся давным-давно. То есть, собственно, уже и не актуален вовсе. И даже сам хозяин, организатор пира Агафон давно уже покинул места, где произошла эта история. Причем в то время сами приятели – Аполлодор и любопытный Главкон были еще детьми. «Во времена нашего детства» – вот когда состоялся пир, который вызывает непонятно откуда взявшийся интерес. Агафон тогда тоже был молод – только что получил награду за свою первую трагедию и отмечал это событие.
Об Агафоне (ок. 448-397 г. до н.э.) нам известно только то, что он был сторонником отказа от изображения классических мифов в трагедии и использовал выступления хора как обособленные от сюжета артистические номера. Аполлодор как последователь Сократа (469-399 г. до н. э.) должен принадлежать примерно к тому же поколению, что и Агафон, а Главкон моложе Аполлодора лет на 20. Получается, что молодой Главкон интересуется у Аполлодора о давно минувшем событии его детства, а молодой Платон записывает это событие. Но в реальности «Пир» создан не двадцатилетним (или около того) Платоном, а Платоном зрелых лет.
Сократ не раз беседует с Главконом в «Государстве» Платона. Также Ксенофонт приводит эпизод, в котором Сократ и Платон отговаривают юного Главкона (которому не было и 20 лет) от попыток выступать в Народном собрании и претендовать на управление государством. Сократ, чтобы отвратить Главкона от честолюбивых замыслов, начинает задавать ему прагматичные вопросы о дополнительных доходах и расходах государства (увеличении первых и сокращении вторых), а также о соотношении сил с потенциальными противниками государства, у которых Главкон намеревался поживиться чем-то. Главкон оказывается полностью обескураженным: он не обдумывал эти вопросы. Он не знает ничего ни о бюджете государства, ни о его военном состоянии, ни о состоянии стражи, которая охраняет поля от воровства, ни о производстве в серебряных рудниках, ни о запасах хлеба или об урожае. Поэтому его стремление к пользе государства оказывается совершенно необоснованным. Сократ советует незадачливому юнцу попробовать улучшить хозяйство его дяди, прежде чем претендовать на улучшение 10.000 хозяйств, за что он справедливо был подвергнут насмешкам. Но оказывается, что Главкон и дядю не может уговорить слушаться своих советов! Куда же ему уговорить всех афинян слушаться!
Но оставим эту тему, заметив, что Главкон совсем юн, но уже знаком с Сократом. А его беседа с Аполлодором произошла ранее, чем диалог, отраженный в «Государстве». Сколько же лет Главкону? 15? Тогда и Платону (428-347 гг. до н.э.) примерно столько же.
Платон
Учитывая годы жизни Платона и тот факт, что с Сократом они познакомились лишь около 407 г., понятно, что беседа об управлении государством состоялась в последние годы жизни Сократа, а разговор Главкона с Аполлодором – еще ранее. Сюжеты, описанные в «Государстве» и в «Пире», – это события рубежа веков. А произведения, их описывающие, датируются 370-360 гг. до н.э. То есть, по прошествии 30-40 лет! Нет сомнений, что множество деталей пира были либо придуманы Платоном, либо взяты из письменного источника. Первое характеризовало бы его дурно, и такое Платон вряд ли допустил бы. Второе говорит о тайне записей бесед Сократа и каком-то обязательстве не разглашать их в течение длительного срока и предоставить право разглашения именно Платону. Вполне возможно, это обязательство связано с принципами пифагорейской секты, к которой могли быть причастны и Сократ, и Платон.
Но самое интересное, что в «Пире» упоминается сын Главкона, пытавшийся понравиться Сократу. Значит, он уже находился в возрасте юноши или молодого человека, а сам Главкон был уже зрелым мужем. Нам придется признать, что это «разные Главконы» или что Платон перепутал (возможно, намеренно) Главкона и сына Главкона. Но в «Пире» на этот счет не дается никаких разъяснений. Единственная историческая личность, подходящая на роль отца поклонника Сократа – стратег Афин Главкон, занимавший в 441-440 гг. эту должность, наряду с Периклом. Но по возрасту это мог быть разве что дедушка поклонника Сократа. Если, конечно, в своей речи в «Пире» Алкивиад не поминает очень отдаленные времена, когда сын стратега Главкона и он сам были очень молодыми людьми. Но, судя по контексту, этого не могло быть. Можно сказать, что Главконы нас запутали, а Платон не потрудился разъяснить, о ком шла речь. Хотя это одна из ключевых фигур при определении источника информации о симпосие, которая так тщательно передается в начальной части текста. «Пир» вообще очень подробный текст, в котором автор пытается не упустить ни одной детали.
В «Пире» указывается, что организатор торжества Агафон на момент пересказа отдаленного события еще жив, хотя и уехал из этих мест. Судя по датировке смерти Сократа и Агафона, Сократ тоже должен быть еще жив (он умер два года спустя после Агафона). Причем Платон знаком с Сократом достаточно давно! Почему бы не дать пересказ в интерпретации самого Сократа? Ведь он никуда, судя по всему, не уехал, иначе об этом было бы сказано, как и в случае с Агафоном. Значит, Платон мог общаться с Сократом. Но либо не захотел, либо этому воспротивился сам Сократ. Либо консультация с Сократом просто скрыта от читателя. Например, по той причине, что Сократу к тому времени власти запретили смущать людей своими речами, и всякое его произведение попадало в список экстремистской литературы. Поэтому Платону и нужно отнести событие к временам давно минувшим, когда Главкон и он сам были еще мальчиками. И запутать все, что только можно.
При выяснении первоисточника информации о симпосие оказывается, что Сократ к этой истории не причастен. Это не он рассказал своему ученику Аполлодору, что там творилось. Вся ответственность за исходный пересказ лежит на некоем Аристодеме – «маленький такой, всегда босоногий», а Сократ только кое в чем подтвердил его рассказ.
Итак, Платон передает рассказ Аполлодора, который сам пересказывает свидетельство Аристодема. Причем это рассказ не для Платона, а для Главкона, который, вероятно, и поведал автору «Пира» детали состоявшегося разговора. Кроме того, когда в «Пире» дело доходит до пересказа речи Сократа, то оказывается, что он передает не собственные мысли, а то, что ему поведала некая «чужестранка» – мантинеянка Диотима. В общем-то, от Афин до Мантинеи в Аркадии не такой уж долгий путь. Тем не менее, звание «чужестранка» означает, что речь идет о представительнице другого народа, далекого от аттических греков. Так и вовсе снимается ответственность за то, что передается читателю от лица Сократа, – это пересказ пересказа, пересказанный еще трижды. При этом Аполлодор – «бесноватый», он поносит весь мир и самого себя, но только Сократ для него – вне критики. Что возьмешь с «бесноватого», постоянно выходящего из себя, поскольку всех считает достойными жалости, раз они не занимаются философией.
После всех этих путаных объяснений, снимающих всякую ответственность за достоверность пересказа, Платон переходит к рассказу Аристодема (то есть, пересказу его рассказа Аполлодором, который пересказан Платону его братом Главконом). При этом в рассказе множество мельчайших деталей, которые уподобляют его хронике, а записи речей – стенограммам.
Начало пира
Повествование о пире и беседе на нем начинается с достаточно длиной истории того, как Сократ и Аристодем появились в доме Агафона, отмечавшего свой недавний успех у публики. При этом множество деталей делают ситуацию комичной, фигуру Сократа – фигурой чудака. Все это как бы готовит читателя к тому, что ко всем последующим речам Сократа надо отнестись без особой серьезности.
Начинается все с того, что Аристодем случайно встречает Сократа «вырядившимся». Что это значит? Оказывается, Сократ умыт и в сандалиях. Вот если бы он был неумыт и бос – тогда это не вызвало бы вопроса: «Куда это он вырядился?» Имеем характеристику Сократа как босяка, который, лишь будучи приглашенным на пиршество, приводит себя в порядок.
Обсуждение вопроса, под каким предлогом Аристодему присоединиться к приглашенному на пир Сократу, также весьма любопытно. Сократ приводит в пример поговорку, которую, как он считает, Гомер исказил: «к людям достойным на пир достойный без зова приходит». Гомер предполагает, что недостойный приходить без зова не должен. Сократ полагает, что все как раз наоборот, приводя в пример явление слабого Менелая на пиру у доблестного Агамемнона. Это было в порядке вещей, значит, Гомер ошибался. Ну что взять с человека, который критикует самого Гомера!
Сократ
Доводов Сократа явно не хватает, чтобы развеять сомнения Аристодема. Аристодем самоуничижается: нет, будет скорее по Гомеру, если он без приглашения пойдет на пир к мудрецу. Сократ высказывается в том смысле, что пока дойдем, придумаем, как выкрутиться. При этом по дороге начинает все больше задумываться и отстает, а при входе в дом Агафона и вовсе куда-то исчезает. Аристодем так и является незваным гостем, как и предполагал – без всякой поддержки от Сократа и без всяких оправданий своей вольности. И тут выходит, что Сократ-то был прав. Агафон радостно приветствует Аристодема и даже сообщает, что искал его вчера, чтобы пригласить на пир. И спрашивает, почему же тот не привел Сократа?
Слуге приказано отыскать спрятавшегося где-то задумчивого мыслителя. Аристодем же принимает от раба омовение ног и располагается среди пирующих. При этом становится известным, что Сократа лучше пока не трогать – он стоит у соседнего дома и о чем-то размышляет, отказываясь куда-либо идти. Чудачество Сократа делает ситуацию совершенно комической.
Ужин начинается без Сократа, который появляется только к середине трапезы, простояв в задумчивости немало времени. Агафон зовет его на почетное место рядом с собой. И шутливо предполагает, что часть мудрости, которая завладела Сократом, перетечет и в него. Сократ же совсем недружелюбно отвечает, что такого свойства мудрость не имеет, чтобы перетекать в пустое место как вода. Но тут же поправляется: если все же подобное свойство у мудрости есть, то он скорее ожидает получить ее от Агафона. Потому что мудрость Агафона сопряжена с успехом, а сократовская – «плохонькая», «похожая на сон». Тридцать тысяч греков, оказывается, внимали трагедии Агафона! А Сократ… К нему можно отнестись более сдержанно, без восторгов – как он сам рекомендует.
Агафон понимает, что Сократ его все-таки высмеивает. И примирительно предлагает отужинать, после чего разобраться с мудростью посредством Диониса. То есть, хорошенько напиться.
Как показывает речь Павсания, последовавшая после ритуального обмена любезностями и шутками, напиваться в этой компании – дело обычное. Павсаний предлагает не напиваться на этот раз допьяна. И даже молит о передышке «после вчерашнего». Это оказывается общим мнением: упиваться никто не хочет, ибо голова, надо полагать, побаливает у каждого. И только Сократа собравшиеся оценили выше всех остальных. Одни могут пить «по капле», другие – много. И только Сократ способен и пить, и не пить. Поэтому он в любом случае будет доволен. Порешили пить «просто для удовольствия» и каждый – сколько захочет. В общем, речь идет о пьянке, и читатель должен убедиться в этом. В финале пира оказывается, что все перепились как обычно. А в начале все прикидываются, что будут вести философские беседы между чашами вина.
Врач Эриксимах, у которого тоже болела голова с похмелья, предложил заняться беседой. И сам назвал тему. При этом сославшись, что вовсе не сам ее придумал, а присутствующий здесь же Федр, который сокрушался, что гимны и пеаны и даже похвальные слова не посвящаются Эроту – такому могущественному и великому богу. Эрота не воспевают – это не порядок! Опять ситуация сводится к анекдоту: обсуждать намереваются уже почти позабытого и потерявшегося в тени Афродиты бога. Это можно расценить разве что как затею праздных людей, которые уже не знают, о чем им поговорить.
Сократ с его обычной иронией заявил, что он не смыслит ни в чем, кроме любви. И по кругу собравшиеся стали выступать с похвальными речами к Эроту.
Правда, пересказчик Аполлодор тут же оговаривается, что Аристодем не запомнил всего, да и сам он не все запомнил из пересказа очевидца. Поэтому и передает только «наиболее достойное памяти». Как удалось ему упомнить такие обширные и витиеватые тексты – остается загадкой. Как и то, почему достойное памяти настолько детально воспроизводится, не игнорируя даже, казалось бы, совершенно случайные обмены репликами.
Эрот среди древних богов (Федр)
Речь Федра, начинающая состязание участников пира, вполне традиционна и достаточно примитивна. Он говорит о происхождении Эрота – сразу после Хаоса одновременно с Геей (согласно Гесиоду). Федр ссылается на древних авторов, но, судя по дальнейшим речам, здесь их не слишком ценят. Это уже отмирающий пласт культуры. Тем не менее, Федр убеждает, что от древности исходят все блага. Собственно – нравственность: «стыдиться постыдного и честолюбиво стремиться к прекрасному, без чего ни государство, ни отдельный человек не способны ни на какие великие и добрые дела». Любовь внушает нравственное поведение.
При этом Федр допускает некое рассуждение, которое можно истолковать как гомосексуальное: достойный влюбленный – благо для юноши, для влюбленного – благо иметь возлюбленного. Это можно толковать и иначе: как отношения дружбы, симпатии, почитания, приверженности и др. Гомосексуальный момент, который здесь можно лишь подозревать, связан скорее с современными трактовками. А у греков сексуальность в мужских отношениях, как мы увидим далее, может быть лишь в порядке шутливых подтруниваний. Здесь же Федр говорит о нравственном поведении симпатизирующих друг другу «возлюбленных»: они избегают постыдного, не предают в бою, доблестны, отважны и храбры. Все это им внушает Эрот. Но о сексуальности нет и речи.
Федр не говорит об «эротизме», как мы могли бы заподозрить, перенося понимание этого термина на реалии Древней Греции. Эрот, как видно из содержания речи Федра и других участников пира, к современному пониманию того, что такое «эротизм», не имеет никакого отношения.
Федр говорит о присутствии Эрота в отношениях между мужчиной и женщиной, но это тоже у него никак не связано с «эротизмом». Он приводит пример готовности любящих умереть друг за друга: Алекстида, решившая умереть за своего мужа (сойти в Аид вместо него), удостоилась славы у людей и почестей у богов, которые даровали ей возвращение души из Аида (по разным мифологическим версиям ее отбил у Таната Геракл или Персефона возвратила ее к жизни в целях торжества справедливости).
Другой пример – из отношений между мужчинами. Мы же не станем отрицать любовь между мужчинами-родственниками, в которой нет никакого эротизма. Как и в дружбе между мужчинами, мы не признаем никакого эротизма. У греков родственные отношения, как известно, возникали вовсе не обязательно по кровному родству, но и через ритуал, который можно назвать «побратимство» или усыновление. Примерно об этом говорит и Федр, приводя в пример поступок Ахилла, который узнал, что умрет, если убьет Гектора. Но Ахилл мстит за своего друга Патрокла и принимает смерть. Боги за это отправляют его на Острова блаженных. При этом Федр утверждает, что Ахилл не был влюблен в Патрокла, поскольку был красивее и моложе его (у него «даже борода еще не росла»). В данном случае вопрос о «влюбленности» связывается, как мы видим, не с сексуальным влечением, а с отношениями кумира и поклонника. Кумир Патрокла – молод, красив, силен, отважен. При этом Ахилл чувствует ответственность «за того, кого приручил». Он любит Патрокла как своего верного друга, который старше его по возрасту.
В примерах Федра надо заметить, что присутствие Эрота ничем не подтверждено. Это лишь домысел. Федр на самом деле говорит о любви, верности, дружбе. Причем тут Эрот? Только при том, что он за все эти вопросы «отвечает» – по разумению тех, кто уже забыл все мифологические сюжеты. Ведь в приведенных Федром примерах Эрот не присутствует в явном виде. Его присутствие приходится только предполагать. Как говорится, «из общих соображений».
В речи Федра, который в другом платоновском диалоге («Федр») воспевал мужскую дружбу в противовес «влюбленности» в ее гомосексуальном варианте (и Сократ признает это банальностью и переводит разговор на тему о душе, красоте и ораторском искусстве), можно предположить, что Ахилл и Патрокл – партнеры в половых извращениях. В действительности подобная интерпретация (имевшая место уже в античности) не имеет под собой оснований. Патрокл был другом Ахиллу именно в том понимании дружбы, которая имела место у древних греков. Друг – это участник «дружины». Этот перевод греческого etaipoi в достаточной мере отражает наличие иерархических отношений в древних мужских сообществах. В дружину молодые люди (kovroi) собираются на основе родства, под которым понимается не только кровное, но и ритуальное родство, обусловленное взаимной клятвой воинов или семейным ритуальным породнением. Именно поэтому дружба «филотэс» имеет происхождение от племенного союза – «филы». И от общего корня, означающего «любовь». Ближние друзья в дружине – не просто соплеменники (etairoi), но и слуги-сподвижники своего вождя (pherapontes).
Патрокл после бегства из Опунта, где он во время игры случайно убил своего сверстника, становится членом etairoi, будучи принят в доме отца Ахилла Пелея в статусе младшего члена семьи (независимо от возраста), что выше статуса раба, но совпадает со статусом слуги, оруженосца, телохранителя. Принятие в семью означает приобщение к родовому культу, а значит – актуальное родство со всеми вытекающими обязательствами. Друг Ахилла делит с ним кров и стол, за смерть друга полагается месть, его тело ни в коем случае не оставляют врагам. Слуга может быть даже наследником своего друга-патрона: не только его имущества, но и определенного статуса в семье. Так, Патрокл в случае смерти Ахилла должен был стать опекуном его сына.
Из сказанного можно сделать вывод, что Федр не в курсе древних обычаев, отраженных в произведениях Гомера. Его рассуждения – своего рода модернизация мифологии, а с нею – и общественных отношений, в которые вносится дух упадка афинской демократии (пир – событие на рубеже 5 и 4 вв. до н.э.) вместе с гомосексуальными аллюзиями. И в наши времена такие аллюзии становятся весьма заметными, отчего текст Платона реинтерпретируется порой до полного безобразия и становится грязным наветом на античную Грецию и платонизм.
Мораль и общество (Павсаний)
После выпавших из повествования других речей слово перешло к Павсанию. Он представил версию разложения мифа: о двух Эротах. И здесь вскрывается тот факт, что Эрот отвечает за мужскую любовь и любовь к мужчине. А женская любовь и любовь к женщине – это дело Афродиты. Павсаний связывает эти два персонажа в их двойственности: «нет Афродиты без Эрота», а раз так, то и Эротов два, как есть две Афродиты – одна дочь Урана (небесная, у нее нет матери) и дочь Дионы и Зевса (пошлая). Таким образом, двум Эротам следует разная похвала (поскольку хвалить надо всех богов, то придется хвалить и пошлых Эрота и Афродиту). Правда, хвалить пошлого Эрота у Павсания как-то не получается. Само же «раздвоение» богов – очень смелый эксперимент, позволительный только с точки зрения очень давней традиции, когда чуть ли ни в каждом полисе были боги с одинаковыми именами, но с разными эпитетами (что говорит и о различии в мифологии). Можно сказать, что это «модернистский» подход к мифу, представляющий собой чистый домысел.
Павсаний говорит: «не всякий Эрот прекрасен и достоин похвал, а лишь тот, который побуждает прекрасно любить». Ему не хочется хвалить пошлого Эрота, даже если это положено по его божественному статусу. Он фактически меняет тему. Вместо обсуждения достоинств бога, он говорит о полезном и вредном, дурном и благом.
Согласно Павсанию, Эрот пошлый соответствует любви ничтожных людей. Такие, во-первых, любят женщин не меньше, чем юношей; во-вторых, они любят своих любимых больше ради их тела, чем ради души. Здесь можно снова уловить гомосексуальный мотив: пошло любить женщин не меньше, чем юношей (заметим, что речь идет именно о юношах, а не о мужчинах вообще). Тем не менее, возможна и иная интерпретация: презрение к «бабникам», которые ради женских прелестей готовы отказаться от мужского общества, мужской дружбы (которая у греков может называться «любовью»). Греки вообще слабо отличали любовь и дружбу. Особенно, когда дружба была закадычной.
Павсаний полагает серьезное отличие в генетике между небесной и пошлой Афродитой. Небесная связана только с мужским началом, пошлая – с женским и мужским в равной мере. Поэтому любовь небесная от Эрота – это любовь к юношам (то есть, дружба). Это любовь «старшая», она и «не дерзостна» и влечется умом, который больше присущ мужчинам. Павсаний даже полагает необходимым издать закон, запрещающий любить малолетних, которые еще не обнаруживают разума (а таковой возникает «с первым пушком» над губой). В особенности Павсаний беспокоится о проявлении пошлого Эрота в отношении малолетних, выступая тем самым против педофилии. Точно так же запрещено должно быть, с его точки зрения, любить пошлым образом свободнорожденных женщин (то есть, совращать). Может быть, с рабынями в Афинах не очень-то церемонились.
В целом подход Павсания может быть истолкован в духе этики «мужских союзов» – воинских сообществ, где мужская дружба создает опору общины, а потом и государства – всех его социальных элементов. Принижение любви между мужчиной и женщиной в данном случае связано именно с «плотским» характером взаимного влечения. Дружба между мужчиной и женщиной и теперь нечто редкостное и не вполне понятное. А любовь, с нравственной точки зрения, требует серьезных ограничений. В этом смысле Павсаний говорит вполне понятное нам, если провести более четкую грань между любовью и дружбой. Тогда и Эрот – просто лишний персонаж.
Если отвлечься от гомосексуальных трактовок, то речь Павсания преимущественно посвящена отличиям обычаев любви и дружбы в Афинах и Спарте от обычаев других греческих городов-государств и варварских племен. Он исходит именно из роли мужских союзов в государственном строительстве. В Афинах и Спарте обычай сложен, в Элиде и Беотии и «везде, где нет привычки к мудреным речам» просто принято «уступать поклонникам», чтобы не тратить силы на ухаживания (что мы теперь назвали бы «простотой нравов»). А вот в Ионии и у варваров это считается предосудительным. Поскольку содружества и союзы, в которых есть божественно высокие помыслы (Эрот небесный), невыгодны тираниям наряду с занятиями гимнастикой и философией. Павсаний приводит пример: союз Аристогитона и Гамодия, который сверг тиранов. Хотя, «свержение» в действительности не состоялось: заговорщики были казнены. Лишь со временем молва придала им статус тираноборцев.
Надо сказать, что ни у одного из античных авторов передача истории Аристоготона и Гармодия не только не сопровождалась присутствием Эрота, но и вообще каких-либо богов . В совершенно земной истории неудачного покушения на тирана богов нет. Причем еще Геродот и Фукидид пытались своим авторитетом переломить ложные представления афинян о том, что именно эти тираноборцы способствовали освобождению Афин от Писистратидов. Но афиняне упорно считали Гармодия и Аристогитона героями и даже учредили культ с жертвоприношениями у их гробницы. Между тем, тирания после этой истории продержалась еще четыре года. А «любовная» история здесь присутствует как некий фон, отражающий общие представления древних греков в целом и афинян в частности. Гомосексуальная интерпретация – это продукт испорченности толпы, передающей разного рода слухи и смакующей скабрезности. Современная публика все это подхватывает и усиливает.
В сухом пересказе эта история выглядит совершенно абсурдной. Что касается тираноборства, то оно в сюжете не просматривается. Заговор против тирана Гиппия был составлен из мести. Но вместо Гиппия они, испугавшись провала заговора, убили попавшегося под руку его брата Гиппарха. Одного из нападавших тут же убил телохранитель, а другой прославился тем, что под пыткой, якобы, выдавал не соучастников, а приближенных тирана. Правда, в другой интерпретации это все-таки были реальные участники заговора. Совершенно непонятно, как столь сомнительные герои могли стать у афинян прославленными личностями, а стихи о них – неофициальным гимном Афин.
Причиной заговора, согласно Аристотелю, было оскорбление сестры Гармодия (или Аристогитона) другим братом тирана – молодым и дерзким Фессалом. Оскорбление было вроде бы не таким уж тяжким: сестру Гармодия пригласили исполнять почетную роль на празднествах Панафинеях (нести священную корзину), но потом она по неизвестной причине была отстранена от этой роли. При этом Фессал сказал что-то нелицеприятное про Гармодия. К этой вполне понятной истории афиняне добавляют второй слой: отношения между Гармодием и Аристогитоном, которые, якобы, были любовниками. Но тираноборцы были родственниками – из рода Гифиреев. Назвать их «любовниками» на этом основании нелепо – «филия» имела вполне родственную основу. Скорее всего, речь все-таки можно вести только о дружбе. Аристогитон принял участие в мстительном предприятии из дружбы, а не потому, что Гиппарх «ухаживал за Гармодием», а получив отказ, оскорбил его сестру. Это явно выдумка толпы, которая не нашла иных мотивов убийства Гиппарха.
У Гармодия (по другой версии, у Аристогитона) была возлюбленная – гетера Леэна («львица»). О ней стало известно, поскольку после покушения она была схвачена, но никого не выдала. И даже, якобы, откусила себе язык (во что никто не обязн верить). Посмертное прославление верности привело к дополнению скульптурных изображений Афродиты фигурой львицы (заметим, что Афродиты в сюжете нет, от рассказа о тираноборцах она просто приобретает дополнительный атрибут). Наконец, у героев обнаружилось потомство, и оно получило освобождение от налогов и госповинностей. То есть, оба героя были женаты и имели детей. Все это исключает гомосексуальные отношения.
Установив, что Павсаний толком не знает историю Гармодия и Аристогитона (что было свойственно, согласно Геродоту и Фукидиду, всем грекам), вернемся к речи Павсания на пире.
Интересно, что Павсаний двояко относится к обычаю «отдаваться поклонникам». Здесь он явно имеет в виду именно мужские отношения. Что же в его понимании значит «отдаваться»? Передача смысла в рамках сегодняшнего контекста была бы ошибкой. Стоит понять, что нюансы отношений любви и дружбы и в современном мире сильно разнятся в разных культурах. У греков также были свои нюансы. Но однозначно приписывать им гомосексуализм – это передержка, свойственная современности, когда гомосексуальный оттенок стараются видеть в любых отношениях между мужчинами.
Павсаний, следуя своей концепции двоякости Эрота, выносит оценку сложным обычаям в зависимости от общего уровня культуры. Если даже эти обычаи считаются прекрасным, то это может быть всего лишь проявлением «косности тех, кто его завел». Таким образом, мы видим снова разворот к этической теме: общая культура создает возвышенные отношения при отсутствии эротизма, а низкая культура даже при повторении формальных ритуалов высокой все равно скатывается к телесным интерпретациям дружеских и любовных отношений. Что полностью мы можем принять при оценке того и другого в наши дни.
«Сложный» афинский обычай любви Павсаний описывает как систему поощрений и упреков со стороны общества. Влюбленность то встречает сочувствие, и тогда прощаются все ее безумства (готовность исполнять рабские обязанности, униженные мольбы, ложные клятвы), то осуждается, и отцы приставляют к своим юным детям надзирателей, чтобы они не допускали бесед с воздыхателями, а друзья и сверстники считают эти беседы чем-то постыдным. Тем самым, Павсаний, с одной стороны, признает возможность «пошлых» (гомосексуальных) влечений, а с другой – свидетельствует о том, что к ним отношение было далеко не лояльным.
То, что Павсаний считает утонченностью, мы бы расценили как крайнюю форму несдержанности. Нас бы шокировало, если мы увидели, что кого-то переживание любви побуждает валяться у дверей возлюбленной. Согласно Павсанию, это не может вызывать осуждения. Но при одном условии: подобное поведение должно быть попыткой угождения достойному человеку и достойным образом. То есть, некий морально-нравственный фон предопределяет оценку любого поступка. Кроме того, объектом влюбленности должно быть не тело, а душа. Ибо тело любит больше пошлый поклонник. Он же и непостоянен, потому что непостоянна красота тела.
Тем самым Павсаний утверждает позитивную оценку постоянства любви (дружбы) на всю жизнь. К этому добавляется избирательность: предпочтение положено оказывать одному поклоннику. Кроме того, обычай требует «испытывать» поклонника, уклоняясь от его домогательств. Позорно как быстро уступать поклоннику, так и отдаваться за деньги или политическое влияние. Эти мотивы считаются низменными, поскольку подобные мотивы преходящи и «на их почве никогда не вырастает благородная дружба». В данном случае Павсаний говорит именно «дружба».
Рассуждая о полезности «рабства ради совершенствования», Павсаний уточнят, о чем он толкует. В описанных им отношениях слово «любовь» связано добродетелями: стремлением усовершенствоваться. При этом юноша в этих отношениях стремится к дружбе со старшим партнером (представим себе устранение сексуального мотива, который у Павсания все-таки присутствует) и с целью приобщиться к мудрости, образованности и доброте. В целом «любовь небесная» требует заботы о нравственном совершенстве (и тем самым сексуальный момент у Павсания отходит на второй план).
Пантеизм (Эриксимах)
За мифической и этической интерпретациями любви следует речь Эриксимаха – пантеистического свойства, предполагающая, что Эрот присутствует всюду. При этом свою очередь говорить вынужден уступить Аристофан, которого разобрала икота, и в повествовании образуется краткая заминка с обменном бытовыми репликами. Казалось бы, совершенно излишними, чтобы сохранять их в пересказе. Скорее всего, здесь налицо скрытая характеристика Аристофана, который был поставлен речью Павсания в какое-то неловкое положение, узнав критику своего поведения в отвлеченных рассуждениях. Поэтому ему пришлось сделать паузу, чтобы собраться с силами, и чтобы его речь не стала двусмысленной. Именно это обстоятельство и предпочел сохранить Платон в своем пересказе.
Эриксимах подхватывает тему, затронутую Павсанием, замечая, что тот ее не вполне удачно закончил. Действительно, Павсаний ушел в сторону от темы, обращаясь к проблеме добродетели. Как врачеватель Эриксимах сообщает свой вывод из практики: Эрот живет «не только в человеческой душе и не только в ее стремлении к прекрасным людям, но и во многих других ее порывах, да и вообще во многом другом на свете – в телах любых животных, в растениях, во всем, можно сказать, сущем». Эрот оказывается вездеприсутствующим, причастным ко всем делам людей и богов.
В отличие от Павсания, Эриксимах обращается к природе тела: в здоровом теле здоровый Эрот. Ибо здоровое и больное непохожи, а значит, стремятся к непохожему. А дело врачевателя – «угождать хорошему и здоровому началу» и противодействовать безобразному. Врачевателю необходимо различать среди вожделений тела прекрасные и дурные, создавая нужные вожделения там, где они должны быть, и удаляя ненужные. Но этого мало. Эриксимах видит подчиненность Эроту также гимнастики, земледелия и музыки. «Музыкальное искусство есть знание любовных начал, касающихся строя и ритма». И здесь, как утверждает оратор, необходима умеренность, и тогда удастся избежать двойственности любви, о которой говорил Павсаний. Потому что всюду присутствуют оба Эрота, и их нужно принимать во внимание. Когда противоположными началами (например, теплом и холодом, сухостью и влажностью) овладевает «умеренная любовь», то они сливаются друг с другом гармонично и это приносит людям, животным и растениям пользу. И это видно на примере климата. Если же погода попадает под власть Эрота-насильника, он все губит и портит. Также и «всякое нечестие возникает обычно тогда, когда не чтут умеренного Эрота, не угождают ему, не отводят ему во всем первого места, а оказывают все эти почести другому Эроту, идет ли речь о родителях – живых ли, умерших ли – или о богах». Гадания и жертвоприношения позволяют «следить за любящими и врачевать их», гадание – «творец дружбы между богами и людьми, потому что оно знает, какие любовные вожделения людей благочестивы и освящены обычаем».
Эриксимах находит-таки единственного полезного Эрота, «который у нас и у богов ведет ко благу, к рассудительности и справедливости, – этот Эрот обладает могуществом поистине величайшим и приносит нам всяческое блаженство, позволяя нам дружески общаться между собой и даже с богами, которые совершеннее нас».
Получается, что Эриксимах приходит к монотеизму: все в мире определяется Эротом – двумя его разновидностями. Все плохое определяется «плохим Эротом», все хорошее – «хорошим Эротом». Тогда всякий смысл в прочих богах исчезает: они все зависимы от Эрота.
Сатиризм (Аристофан)
Путаная речь Эриксимаха как нельзя лучше предваряет речь Аристофана, который доводит рассуждения до абсурда, фактически насмехается над философскими и мифологическими понятиями об Эроте и обо всем предмете беседы.
Прочихавшийся Аристофан сразу начинает шутить, как и положено комедиографу, но Эриксимах предупреждает его от зубоскальства. Аристофан напускает на себя серьезность и обещает постараться не стать посмешищем. Он решительно собирается объяснить мощь Эрота, потому что Эриксимах и Павсаний об этом сказали недостаточно. При этом Аристофан забывает Федра, который начал состязание в красноречии. Хотя именно Федра Аристофан и собирается опровергнуть, представив любовь не чем-то божественным, а остаточным явлением после эпохи, когда человек был целостной личностью.
Аристофан как будто придумывает на ходу некую человеческую предысторию, когда люди были трех полов: не только мужчины и женщины, но и андрогинны, соединявшие в себе признаки обоих полов. Всем этим существам дается фантастическое описание: «тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных частей две». Передвигался андрогин свободно в любую сторону, но если торопился, то шел колесом: «занося ноги вверх и перекатываясь на восьми конечностях». И был этот «третий пол» настолько мощным, что пытался даже взойти на небо и напасть на богов. Последнее побудило Зевса к задумке, о которой Аристофан рассказывает в стиле анекдота, приводя будто бы подлинные слова Громовержца: «Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых, полезней для нас, потому что число их увеличится. И ходить они будут прямо, на двух ногах. А если они и после этого не угомонятся и начнут буйствовать, я, сказал он, рассеку их пополам снова, и они запрыгают у меня на одной ножке».
Дальнейшее изложение должно было бы проходить под хохот собравшихся: «Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как разрезают перед засолкой ягоды рябины или как режут яйцо волоском. И каждому, кого он разрезал, Аполлон, по приказу Зевса, должен был повернуть в сторону разреза лицо и половину шеи, чтобы, глядя на свое увечье, человек становился скромней, а все остальное велено было залечить. И Аполлон поворачивал лица и, стянув отовсюду кожу, как стягивают мешок, к одному месту, именуемому теперь животом, завязывал получавшееся посреди живота отверстие – оно и носит ныне название пупка. Разгладив складки и придав груди четкие очертания, – для этого ему служило орудие вроде того, каким сапожники сглаживают на колодке складки кожи, – возле пупка и на животе Аполлон оставлял немного морщин, на память о прежнем состоянии. И вот когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще от бездействия, потому что ничего не хотели делать порознь. И если одна половина умирала, то оставшаяся в живых выискивала себе любую другую половину и сплеталась с ней, независимо от того, попадалась ли ей половина прежней женщины, то есть то, что мы теперь называем женщиной, или прежнего мужчины. Так они и погибали. Тут Зевс, пожалев их, придумывает другое устройство: он переставляет вперед срамные их части, которые до того были у них обращены в ту же сторону, что прежде лицо, так что семя они изливали не друг в друга, а в землю, как цикады. Переместил же он их срамные части, установив тем самым оплодотворение женщин мужчинами, для того чтобы при совокуплении мужчины с женщиной рождались дети и продолжался род, а когда мужчина сойдется с мужчиной – достигалось все же удовлетворение от соития, после чего они могли бы передохнуть, взяться за дела и позаботиться о других своих нуждах».
От всей этой истории остались «камбалоподобные части». Из двуполых андрогинов мужской кусок охоч до женщин, женский – до мужчин. Оба куска – блудодеи и распутники. Прежде женские особи, давшие теперь женские половинки, стали лесбиянками. Распиленные пополам мужские особи влекутся к мужчинам, «им нравится лежать и обниматься с мужчинами». Аристофан дает гомосексуалистам двоякую оценку: «Это самые лучшие из мальчиков и из юношей, ибо они от природы самые мужественные. Некоторые, правда, называют их бесстыдными, но это заблуждение: ведут они себя так не по своему бесстыдству, а по своей смелости, мужественности и храбрости, из пристрастия к собственному подобию. Тому есть убедительное доказательство: в зрелые годы только такие мужчины обращаются к государственной деятельности». Тем не менее, обычай принуждает их к браку и деторождению.
Что-то здесь наблюдается сходное с современностью – с «голубым лобби» во властных структурах и «климовскими» персонажами.
Приводя данный отрывок из «Пира» в книге «Очерки античной мифологии и символизма» (в несколько ином варианте перевода), выдающийся Алексей Лосев принимает эти слова за позицию Платона и не ощущает иронии, пародии, которая превращает обсуждение в издевку над Эротом, другими богами и глупыми суевериями. И над гомосексуальными отношениями также.
Завершая свою речь, Аристофан предупредил: «если мы не будем почтительны к богам, нас рассекут еще раз, и тогда мы уподобимся не то выпуклым надгробным изображениям, которые как бы распилены вдоль носа, не то значкам взаимного гостеприимства». И просит Эриксимаха не вышучивать его речь. Действительно, Аристофан не смог выдать искрометной импровизации и стал зануден. Поэтому его размышление никого из участников пира не заинтересовало, и не было прокомментировано. Зато оно с огромным интересом воспринято в последующие века. Иным мыслителям кажется, что это и есть ключевой момент «платонизма». Платон достиг своей цели: скоморошество Аристофана обеспечило его тексту выживаемость в волнах истории, а также отвлекло подавляющее большинство читателей всех времен и народов от основных мыслей «Пира».
За все хорошее (Агафон)
Наконец, после выступлений, которые маскируют ключевые идеи участников пира, в дело вступают Агафон и Сократ.
Следуя насмешливому тону, заданному Аристофаном, Сократ и Агафон сразу перешли на ироничные похвалы друг другу: Сократ возносит хвалу мудрости Агафона, способного выступать в театре перед огромной толпой, а Агафон преклоняется перед мудростью собравшихся, которые для него гораздо страшнее большой толпы невежд. Сократ иронизирует: присутствующие тоже были в той толпе. И если бы участники обсуждения были действительно умны, то Агафон мог бы устыдиться.
По своему обыкновению Сократ стал своими вопросами заводить собеседника в логический тупик. Но вмешался Федр и потребовал возвращения к восхвалению Эрота. Агафон сказал, что он именно этим и будет заниматься в своей речи, поскольку его предшественники восхваляли не самого Эрота, а результаты его деятельности, полезные людям.
Агафону Эрот представляется самым красивым. Потому что он самый молодой. Он ненавидит старость и бежит от нее. И здесь Агафон спорит с Федром. Отношения между древнейшими богами, о которых писали Гесиод и Парменид, диктовала вовсе не Любовь, а Необходимость. Иначе боги не оскопляли бы друг друга, не совершали бы насилия. И только теперь, когда боги живут в мире и дружбе, ими правит Эрот.
Эрот нежен. Потому что «обитает в самой мягкой на свете области, водворяясь в нравах и душах богов и людей». Эрот обладает гибкостью форм, незаметно проникая в душу и так же незаметно покидая ее. Его сущность чужда всему безобразному. И у него прекрасная кожа, поскольку он живет только среди свежих цветов, избегая всего увядшего и поблекшего.
Помимо внешних признаков, Эрот славен своей уживчивостью среди богов и людей, поскольку никого не обижает, и его не обижают. Ему всегда служат добровольно. Тем самым он справедлив. А кроме того, рассудителен, подчиняя себе все страсти и обуздывая их. Эрот еще и храбр, потому что владеет Аресом через его любовь к Афродите, а значит – сильнее его. Эрот мудр; благодаря его мудрости возникает все живое. Он искусный поэт, ибо способен других делать поэтами. Эрот всем учитель: он руководил Аполлоном, когда тот открывал искусство врачевания и прорицания и искусство стрельбы из лука. Он «наставник Муз в искусстве, Гефеста – в кузнечном деле, Афины – в ткацком, Зевса – в искусстве "править людьми и богами"». Его наставления привели дела богов в порядок. Благодаря Эроту было преодолено господство Необходимости, последствия которой были ужасны.
Среди людей Эрот порождает приязнь, собирает их на дружеские собрания (заметим, что именно «дружеские») и празднества. Он терпим к добрым, чтим мудрецами, опекает благородных, обогащает удачливых, создает роскошь и изящество, приносит радости, наставляет и помогает в помыслах и томленьях, сопровождает и спасает, украшает богов и людей и руководит их жизнью.
Спорить с Сократом легко, с истиной – невозможно
Риторически прекрасная речь Агафона вызвала одобрение присутствующих, чего не было после речей предшествующих ораторов. К этой высокой оценке присоединился и Сократ, заявив, что он теперь в затруднении, и толком не знает, о чем говорить. При этом в его словах слышится ирония.
Притворно унижая себя, Сократ говорит, что ему во время речи Агафона вспомнился «великий говорун» Горгий, и он испугался, что Агафон «напустит голову Горгия» (Игра слов: имя Горгий напоминает имя Медусы Горгоны, от чьего взгляда люди обращались в камень) и превратит его (Сократа) в «камень безгласный». В притворном смятении Сократ говорит, что напрасно согласился говорить похвальное слово, потому что выяснилось, что он не сведущ в любовных делах и в построении похвальной речи. Он-то думал, что о восхваляемом предмете нужно говорить правду! И выбирать из этой правды самое замечательное, чтобы расположить все это в нужном порядке. «Оказывается, уменье произнести прекрасную похвальную речь состоит вовсе не в этом, а в том, чтобы приписать предмету как можно больше прекрасных качеств, не думая, обладает он ими или нет: не беда, стало быть, если и солжешь. Видно, заранее был уговор, что каждый из нас должен лишь делать вид, что восхваляет Эрота, а не восхвалять его в самом деле».
Этими восклицаниями Сократ как бы перечеркнул все сказанное до него – все эти пустые упражнения в славословии и натужном мудрствовании. И это, по словам Сократа, годится только для неосведомленных людей. Похвала получается красивой – и только. Интригуя собравшихся, Сократ предлагает им рассказать правду, но «на свой лад» и притом «в первых попавшихся, взятых наугад выражениях».
Получив согласие собравшихся, Сократ адресует свои вопросы к Агафону, подводя его к совершенно другому видению Эрота, чем то, которое только что прозвучало из уст самого Агафона.
Первая позиция, которой добивается Сократ – понимание межсубъектной роли Эрота. Любовь ведь предполагает не «любовь вообще», а любовь к кому-то. Если это любовь к отцу, то он является отцом кому-то. То же и мать или брат и сестра. Таким образом, Эрот – это любовь к кому-то. Агафон соглашается со всеми положениями, высказанными Сократом. А мы должны вновь обратить внимание на то, как Сократ определяет любовь. В данном случае его примеры касаются любви между родственниками.
Вторая позиция – это опровержение того противопоставления которое Агафон увидел между Необходимостью и Любовью. Сократ предложил согласиться с тем, что любят и вожделеют в том случае, когда не обладают предметом любви. Обладая какими-то свойствами, как же еще и желать их? Только в смысле сохранения этих свойств в будущем. То есть, это желание того, чего еще нет. Вожделение вызывает то, чего недостает, а не то, в чем нет недостатка. И получается что это необходимость. Агафону приходится согласиться.
Итак, у любви есть объект, а предмет ее – то, в чем испытывается нужда. Сети ловушки для Агафона расставлены. Теперь ловушка захлопывается.
Сократ напоминает, что Агафон говорил о том, что дела богов упорядочились, благодаря любви к прекрасному (ведь любви к безобразному не бывает). Значит Эрот – это любовь к красоте. Агафон соглашается. А раз так, то Эрот лишен красоты и нуждается в ней. Тогда его нельзя назвать прекрасным! Агафон попался: Эрот не может быть прекрасным. Стремление и достижение – вещи разные!
Теперь Сократу остается развернуть следствия из достигнутого понимания. Если доброе прекрасно, а Эрот нуждается в прекрасном, то он нуждается и в добре. Значит, ему не хатает доброты. Он не добр!
Агафон уже сдался и не хочет идти по пути, на который завел его Сократ. Действительно, ему теперь пришлось бы сказать, что Эрот не добр. И Сократу приходится перейти от вопросов к изложению своих представлений. При этом форма изложения – рассказ, в котором самому Сократу приходится отвечать на вопросы «мантинеянки Диотимы». Эта загадочная женщина, сведущая во многом, представлена Сократом ее достижением: во время жертвоприношения она добилась десятилетней отсрочки эпидемии чумы в Афинах. Больше ничего: «чужеземное» происхождение из Манитеи и отсрочка эпидемии.
Сократ принимает на себя исходную позицию Агафона, а Диотима становится его учителем – играет роль самого Сократа. Вместо Агафона в воображаемом диалоге Сократ провозглашает: «Значит, Эрот безобразен и подл?!» И здесь открывается суть любого процесса и напряжения – исходное несовершенство субъекта. Но при этом не всё, что непрекрасно, непременно безобразно; не все, что не мудро, непременно невежественно. Есть нечто среднее. Верное, но необъясненное, не есть ни знание (понимание), ни невежество (неведение). Так же и Эрот – не добр и не прекрасен, но при этом не зол и не безобразен.
Здесь возникает этический конфликт. Ведь общепринято считать, что Эрот – великий бог, а все боги блаженны и прекрасны. Диотима предлагает разобраться в определениях и учитывать мнение тех, кто сведущ. Ведь Эрот не отличается ни добротой, ни красотой, а только вожделеет к этим качествам. Тогда выходит, что Эрот не бог, а смертный? Действительно, Эрот – нечто среднее. Кто же? Великий гений, – отвечает Диотима. Функция гениев: «быть истолкователями и посредниками между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и вознаграждения за жертвы». Эрот – посредник!
Здесь налицо опровержение мифа, в который «верит, ибо это абсурдно». Сократ предлагает логичный вывод из исходных посылок о том, что «Эрот есть любовь». Но мифу логические противоречия неинтересны. Именно поэтому Сократ доходит до опровержения мифа: Эрот не бог. И если бы подобные измышления коснулись не такой полузабытой мифической фигуры, Сократу бы не поздоровилось. Что, собственно, и стало причиной смертного приговора афинского суда, который поставил миф выше логических выводов из его же исходных посылок.
Сократ утверждал (под видом речи Диотимы), что боги, не соприкасаясь с людьми, общаются и беседуют с ними только через посредство гениев. Благодаря им Вселенная связана внутренней связью и возможны всякие прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству.
Диотима предлагает свою версию рождения Эрота. Его зачала нищенка Пения от охмелевшего Пороса, сына Метиды, который участвовал в пиршестве богов по поводу рождения Афродиты. Поэтому Эрот стал спутником и слугой Афродиты. А вот по рождению ему достались не самые замечательные черты: «он всегда беден и, вопреки распространенному мнению, совсем не красив и не нежен, а груб, неопрятен, не обут и бездомен; он валяется на голой земле, под открытым небом, у дверей, на улицах и, как истинный сын своей матери, из нужды не выходит. Но с другой стороны, он по-отцовски тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет разумности и достигает ее, он всю жизнь занят философией, он искусный чародей, колдун и софист. По природе своей он ни бессмертен, ни смертен: в один и тот же день он то живет и расцветает, если дела его хороши, то умирает, но, унаследовав природу отца, оживает опять. Все, что он ни приобретает, идет прахом». При этом Эрот философствует, находясь между мудростью и невежеством – унаследовав промежуточное состояние между мудрым отцом и невежественной матерью. А вот богам философия не нужна: они и так мудры, и учиться мудрости им не нужно.
Ознакомившись с определением Эрота мы можем заметить, что это портрет самого Сократа! Намек на это был дан в самом начале «Пира», да и в самих словах Сократа, который говорил, что ни в чем не смыслит, кроме любви. Скрытый смысл «Пира» тем самым приоткрывается: Сократ сам выступает в качестве посредника – проводника к мудрости и любви. Не бога, но гения, жреца некоего тайного культа, существование которого теперь логично предположить.
Эрота, – говорит Сократ, – расписывают прекрасными эпитетами, полагая, что он предмет любви. А на самом деле он – любящее начало. Здесь-то Сократ (Диотима) находит совершенно иной образ Эрота в сравнении с тем, который вдохновлял других ораторов. Называя посредника «гением», они на самом деле возводят Эрота в статус героя, которому было бы недурно явиться в эпосе и трагедиях, но не в мифах. Потому что ему должны быть свойственны перипетии и страдания, устремляющие его к прекрасному, а вовсе не разнеженное существование среди цветов.
Диотима спрашивает: чего хочет тот, кто любит прекрасное? Ясное дело: чтобы оно стало его уделом. А что он от этого получит? Он будет счастлив. Как обладатель блага. Тем самым вопрос, «почему?» снимается, ибо глупо спрашивать, почему хотят быть счастливыми. Раз так, то это вопрос общепонятный. Но Диотима тут же это опровергает: почему-то об одних говорят, что они любят, а о других нет. Почему? Потому что любовью называют только одну ее разновидность, а другим дают иные названия. Диотима приводит пример творчества. В широком смысле это переход из небытия в бытие. Но далеко не всех подряд называют творцами. Музыка и поэзия именуются творчеством. Так и любовь. Не всякое желание блага и счастья называют любовью. О корыстолюбцах, атлетах, философах не говорят, что они влюблены.
Возвращаясь к своим наставлениям о любви в общем смысле, Диотима заявляет, что «искать свою половину» – это не тот ориентир, который можно было бы назвать любовью. Если в таких поисках не ожидается блага, то не будет и любви. Она приводит Сократа к мысли, что любовь – это стремление к благу, к обладанию им на вечные времена.
И здесь мысль наставительницы делает непростой оборот: в любви должно быть какое-то рвение, чтобы это была подлинная любовь. А когда таковая имеется место? Диотима отвечает: когда совершается акт рождения и одновременно разрешения от бремени. Это можно понимать в духовном или телесном смысле. В телесном плане «соитие мужчины и женщины есть такое разрешение. И это дело божественное, ибо зачатие и рождение суть проявления бессмертного начала в существе смертном».
Заметим, что здесь гомосексуальный мотив исчез полностью. Гомосексуальная «любовь» в телесном плане бесплодна, она ничего не разрешает и ничего не порождает. Более того, «неподходящее» для божественного (неподобающее) – это безобразие. Поэтому гомосексуализм, если смотреть вглубь суждений Диотимы, – это богоборчество, истинное безобразие. А значит, и в духовном плане он не может быть прекрасным, то есть – проявлением любви.
Приняв во внимание сказанное, придется не согласиться с Алексеем Лосевым, который полагал, что платонизм исключает понимание ценности продолжения рода, родительства, деторождения. Напротив, любовь в понимании Сократа – расширенное понимание родительства. Ведь из своих мыслей о прекрасном Диотима выводит, что любовь даже и не стремление к прекрасному, а стремление родить, произвести на свет в прекрасном. Почему именно родить? Потому что это «та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу». Но тогда, наряду с благом, нельзя не желать бессмертия. И тогда любовь – это стремление к бессмертию!
Вот фундаментальный вывод, который перекрывает все мудрствования собеседников Платона: любовь – это стремление быть бессмертным в цепи бесконечных порождений самого себя духовно и телесно. У людей, как и у животных, любовное вожделение означает стремление по возможности быть бессмертным, вечным. А достичь этого можно только порождением, «оставляя всякий раз новое вместо старого». И все живое постоянно меняется, что-то приобретая, а что-то утрачивая. Именно этим смертные отличаются от богов – приобщением к бессмертному, постоянным производством нового.
Следуя этому пути, можно сказать, что неизменные в своем существовании боги не могут любить. Именно это прочитывается в рассуждениях Сократа, вложенных в уста Диотимы. Точно также уникально человеческим является и стремление к бессмертной славе, которое совершенно не нужно богам. Диотима приглашает вспомнить, что ради этого люди подвергают себя опасностям, тратят деньги, сносят невзгоды и даже жертвуют жизнью. Люди жаждут бессмертия, бессмертного прославления своих добродетелей. При этом Эроту служат те, кто надеется приобрести бессмертие в деторождении (опять отметим отсутствие в сократовском понятии любви какой-либо гомосексуальности), а «беременные духовно» вынашивают свои добродетели, духовные качества. В этом случае как раз применяется слово «дружба» – как сопричастность друга к порождению творческого детища. Здесь родство душ может быть глубже, чем родство по крови, ибо дружеская связь – в общей бессмертной славе. Бессмертные «дети» – поэтические творения Гомера и Гесиода, законодательные творения Ликурга и Солона. А вот за обычных детей, «еще никому не воздвигали святилищ». Но ведь не всякому быть вровень с самыми выдающимися греками и иметь свои культы.
Телесное бессмертие ниже духовного, а потому оно доступнее в молодости. И Диотима рекомендует указывать молодым верную дорогу через любовь к прекрасному телу. Это родит прекрасные мысли, а потом – понимание, что красота у всех тел одна и та же. И тогда возникнет любовь ко всем прекрасным телам, в сравнении с которой любовь к одному отдельному телу покажется мелкой. И тогда откроется ценность красоты души, которая выше красоты тела. И когда юноша постигнет красоту нравов и обычаев, начнет рождать благие суждения, красота тела покажется ему ничтожной. Потом от нравов он перейдет к наукам, и уже никогда не пленится чьей-то частной красотой и не пренебрежет морем красоты, созерцаемым в мудрости. Наконец, ему откроется вечное – прекрасное само по себе, возвышенное над разновидностями прекрасного, божественно прекрасное. Тем самым родится истинная добродетель, а вместе с ней возникнет любовь богов.
На пути перехода от менее возвышенной к более возвышенной любви Диотима (Сократ) поминает «правильную любовь к юношам», благодаря которой можно подняться к другим разновидностям прекрасного. Впрочем, узрев истинно прекрасное, зрелый человек, по мысли Диотимы, не будет приходить в восторг от красивых мальчиков и юношей, которых греки называют «возлюбленные» и которыми у них принято было любоваться. Тем самым гомосексуализм и педофилия, будучи реальностью Древней Греции (как и современного мира), Сократом представляются как низменная «любовь», нечто от «пошлого Эрота».
Лукавый панегирик (Алкивиад)
Стоило Сократу закончить речь, как к пирующим присоединяется пьяный Алкивиад с ватагой спутников. Выглядит он легкомысленно – на голове венок из плюща и фиалок и множество лент, флейтистка поддерживает его нетвердые движения. Алкивиад требует «продолжения банкета». Он настолько нетрезв, что не замечает Сократа и садится рядом с Агафоном, увенчивая его своими лентами. Наконец, увидев Сократа, он вскакивает и вопит о том что тот устроил ему засаду «и здесь».
Претензии к Сократу абсурдны: мол, ему стоило бы делить ложе с комедиантом Аристофаном, а не с прекрасным Агафоном. Сократ тут же жалуется Агафону, что Алкивиад его одолевает своей ревностью и прохода не дает: ни взгляни на юношу, ни побеседуй с каким-нибудь красавцем. Сократ даже притворно опасается насилия со стороны безумно влюбчивого пьяницы. Причем, Сократ употребляет странный оборот: «с тех пор, как я полюбил его». Исходя из того понимания любви, которое содержится в «Пире», странность рассеивается: речь идет о близком приятельстве, дружбе.
Алкивиад, внешне не смиряясь, тут же переходит на другой тон и просит Агафона вернуть ему часть лент, чтобы украсить и голову Сократа и чтобы тот не считал, что его – победителя во всех спорах – чем-то предпочли лишь позавчера прославившемуся Агафону. Внимание его переключается на остальных присутствующих, которых он считает слишком трезвыми, а потому берет на себя руководство всеобщим пьянством. В руки ему попадает громадная чаша, и он начинает всех потчевать. Замечая между делом, что Сократу это нипочем: «он выпьет, сколько ему ни прикажешь, и не опьянеет ни чуточки».
Остановить тотальную пьянку попытался Эриксимах, сообщивший Алкивиаду замысел с речами в честь Эрота. И потребовал, чтобы тот продолжил задуманное, а за ним следующие сотрапезники. Алкивиад сначала пытается задеть Сократа: мол, что бы ни сказал мыслитель, все обстоит в любом случае как раз наоборот. А стоит при нем похвалить кого-то другого (хоть бога), он «сразу же дает волю рукам». Что поделать: не любит Сократ, когда при нем хвалят богов, не понимая в их сущности ровным счетом ничего. Он только что как раз продемонстрировал, насколько пустыми были похвалы Эроту со стороны Агафона.
– Тогда, – соглашается Эриксимах, – воздай хвалу Сократу.
Алкивиад продолжает скоморошество, притворно пугаясь Сократа, который не спустит ему насмешек. Сократ соглашается только с одним: Алкивиад будет говорить только правду. И тот принимается за дело, обещая ни в коем случае не поднимать Сократа на смех, но именно этим он и начинает свою речь.
По Алкивиаду, Сократ «похож на тех силенов, какие бывают в мастерских ваятелей и которых художники изображают с какой-нибудь дудкой или флейтой в руках. Если раскрыть такого силена, то внутри у него оказываются изваяния богов. Так вот, Сократ похож, по-моему, на сатира Марсия».
Действительно, внешность Сократа очень сходна с образами, о которых говорит Адкивиад. Тут он не отступил от правды, но эта правда в сложившихся обстоятельствах оборачивается насмешкой. Алкивиад развивает тему: Сократ дерзок, Сократ завораживает своими речами не хуже, чем Марсий своей флейтой. Причем эти речи увлекают даже в плохом пересказе! Алкивиад говорит, что у слушателей Сократа сердце начинает биться сильнее, а из глаз текут слезы, чего не происходит даже когда выступают блестящие ораторы, подобные Периклу. Дело доходит до того, что Алкивиад уже боится слушать Сократа и бросается от него наутек (что явное преувеличение, обусловленное игривым настроением Алкивиада и глубоким опьянением).
Еще одна черта, о которой говорит Алкивиад: Сократ «морочит людей притворным самоуничижением», хотя ему совершенно неважно, красив человек или нет, богат ли, обладает ли какими-то чертами, которые превозносит толпа. Все это для Сократа ничего не стоит. Может быть, Сократ, действительно видел в людях ту самую высшую красоту, которая незаметна большинству, падкому на внешние черты красоты и успеха.
Затем Алкивиад делится своими гомосексуальными переживаниями: о том, как он, поразившись «таящимися изваяниями», которые Сократ раскрыл перед ним, решил (по предположению самого Алкивиада), что тот «позарится на красоту» своего приятеля. И стал искать повода, чтобы остаться с Сократом с глазу на глаз. Он тщетно ждал, что тот будет говорить с ним «как говорят без свидетелей влюбленные». Но этого не произошло: после обычных бесед Сократ удалился. Тогда Алкивиад решил предложить Сократу совместные занятия гимнастикой и борьбой. Но опять ничего не вышло. Третья попытка – нечто вроде «ужина при свечах». Но Сократ после ужина пожелал уйти. В другой раз Сократ согласился переночевать. И тогда Алкивиад (будто бы) прямо объявил, что Сократ – единственный, достойный его поклонник, и что он не намерен ему отказывать.
В шутливых заигрываниях пьяного Алкивиада вновь подчеркивается, что имеет Сократ в виду, когда говорит о любви. И в этом эпизоде содержится ответ тем, кто непременно должен был заподозрить в учении Сократа нечто гомосексуальное. Поведение Сократа подчеркивает, что ничего такого в его учении нет и быть не может.
Сократ выходит из этого эпизода (по рассказу Алкивиада) в соответствии со своими представлениями о красоте, полученными от Диотимы. Он ответил Алкивиаду, что тот хочет обменять одну красоту на другую: предложить красоту миловидности и получить красоту мудрости, приобрести красоту настоящую в обмен на красоту кажущуюся, «выменять медь на золото». Алкивид это понял по-своему и решил прилечь с Сократом под его потертый плащ и обнять его. Сократ же просто заснул. Алкивиад был возмущен таким пренебрежением. Но и сердиться на него не мог, восхищаясь характером, благоразумием и мужеством Сократа. Алкивиад почувствовал себя одновременно и уязвленным, и полностью покоренным.
Смягчает досаду Алкивиада тот факт, что Сократ точно так же обошелся не только с ним, но и с Хармидом, сыном Главкона, и с Эвтидемом, сыном Дикола, и со многими другими. Они полагали, что поведения Сократа – это поведение поклонника, но потом выходило, что он сам становился предметом любви.
Откровенность свою Алкивиад объяснил не только выпитым вином, но и тем, что все присутствующие «укушены философией», которая терзает душу наподобие того, как тело терзает укус гадюки. Оказывается, правда, что этот «укус» дезинфицирует душу, удаляя из нее все гомосексуальные поползновения.
После свой фантазии Алкивиад рассказывает о невероятной выносливости Сократа во время похода на Потидею. Сократ отличался выдержкой во время голода. Не будучи охотником до выпивки и никогда не пьянея, Сократ при случае оставлял всех позади в этом развлечении воюющих или отдыхающих мужчин. Когда все невероятно страдали от холода и нанизывали на себя все, что возможно, Сократ ограничивался обычным плащом и легко шагал по льду босиком.
В том же походе Сократ продемонстрировал способность отвлекаться от всего ради своих мыслей. Раз он целые сутки стоял на одном месте, погрузившись в свои размышления, и оторвался от них только с рассветом следующего утра.
В битве, за которую наградой был отмечен Алкивиад, его спас Сократ, не бросив раненного на поле боя и прихватив еще и его оружие. Во время отступления при Делии, когда войско в основном рассеялось, Сократ отступал вместе с Лахетом. Алкивиад натолкнулся на них. Сократ поразил его своей невозмутимостью: враги опасались приблизиться к нему, понимая, что тот полон решимости постоять за себя.
Главное в Сократе, по мнению Алкивиада, – непохожесть на кого-либо из древних или из его современников. Для всех можно найти кого-то для сопоставления. А Сократ в своих повадках и речах уникален. Сравнивать его можно разве что с силенами и сатирами. Внешне набор сюжетов и объектов анализа выглядит примитивным: «вьючные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики», но содержательная часть божественна: речи Сократа полны «изваяний добродетели» и ведут к высшему благородству.
Сократ, разрушая последствия речи Алкивиада, заявил, что тот совершенно трезв, поскольку хитро построил свою речь, чтобы посеять рознь межу ним и Агафоном. Чтобы принудить Сократа возлюбить его одного, а самому быть единственным воздыхателем Агафона. Агафон согласился с такой трактовкой, поскольку Алкивиад пытался вклиниться между Сократом и Агафоном на пиршественном ложе. И тут же назло Алкивиаду переместился поближе к Сократу. Сократ же дополнительно обосновал такое перемещение тем, что теперь он сможет произнести похвальную речь Агафону – по круговому принципу: речь произносит тот, кто оказывается справа от того, кто свою речь закончил.
Но тут повествование прерывается, потому что вваливается толпа гуляк и пьянство стало безудержным. Прежний порядок сломался, Эриксимах, Федр и некоторые другие ушли домой, а Аристодем, передающий этот рассказ уснул. На рассвете он проснулся и увидел, что одни участники пира спят, другие разошлись, а Агафон, Аристофан и Сократ, пьют из большой чаши, беседуя под руководством Сократа. О чем шла речь, Аристодем спросоня не запомнил, да и остальных клонило ко сну. Говорили что-то про искусство: мол, оно не предполагает специализации только на комедии или трагедии. Наконец, уснул Аристофан, а потом и Агафон. Сократ же встал и ушел. Аристодем последовал за ним и зафиксировал, что Сократ провел наступивший день обычным образом и только вечером отправился отдыхать.
Разгадка «Пира»
Хронологические данные о жизни участников пира говорят, что Платон лукавил: пир как событие мог состояться только накануне пересказа. Но политическая обстановка вовсе не способствовала тому, чтобы передавать рассказ о пире как новость. Если так, то события, скорее всего, вовсе не было, потому что в нем не мог участвовать Агафон. Значит, мы имеем дело вовсе не с пересказом, а с литературной реконструкцией. Причем не самого пира (которого могло и не быть), а некоей идеи, которая скрыта за множеством бытовых деталей и отвлекающих рассуждений. Для непосвященного «Пир» – это рассказ о не совсем трезвых рассуждениях в духе текущей эпохи: лицемерного благочестия, славящего богов, в которых уже никто не верит, попыток поверить культ богов наукой (медициной), гомосексуальными шутками и прочим, в чем мы легко угадаем и свою собственную эпоху.
Не случайно для разговора о любви была взята не богиня Афродита, относительно которой в предании сохранилось множество сюжетов, а полузабытый Эрот. Это освободило автора «Пира» от необходимости соотносить идеи Сократа с мифологическими сюжетами, которые были защищены от толкований священными ритуалами. Все мифологические сюжеты на всякий случай все-таки были обсуждены. Но они не помешали изложению концепции, фактически замещающей Эрота философской теорией, носителем которой (гением) является Сократ.
Отдельного внимания достоин гомосексуальный фон «Пира», который при здравом рассмотрении почти полностью рассеивается. В «увлечении мальчиками» видится только эстетический компонент. Причем духовная красота ставится выше телесной. Гомосексуальная шутливость Алкивиада – лишь прием Платона, использованный для затенения ядра произведения.
Надо сказать, что красота для эллинов важна сама по себе и не связана с сексуальным мотивом. Так, боги похищают Ганимеда для Зевса «ради его красоты и того, чтобы он был среди бессмертных». Но точно такой же оборот речи применяется, когда Эос похищает Клита. Формула является атрибутом события – похищения. Что касается телесной красоты, то греки прекрасно знали разницу между эстетическим наслаждением и оскверняющим вожделением. Миф об охотнике Актеоне, узревшего наготу Атремиды, имеет весьма печальный конец: богиня превратила охотника в оленя, и он был растерзан собственными собаками.
Фигура Эрота не случайно отделена от Афродиты. Это отражает древнюю практику мужских союзов, где юноши проходили инициатические ритуалы, и для этого им требовался патронаж взрослых мужчин. Этот тип отношений, очень слабо представленный в современности, и при определенном настрое читатель может перепутать эти отношения с гомосексуальными. Как и отношения в военном лагере, где мужчины имеют общий стол и общий ночлег. Инициатический патронаж с течением времени трансформировался в Афинах в аристократический обычай: у взрослого неженатого мужчины должен быть «возлюбленный», у юноши – патрон, который является для него наставником и образцом высокой духовности.
Так что же хотел донести до читателя Платон? Очевидно, что все произведение связано с тем, чтобы упрятать речь Сократа в разнородные и занятные для публики рассуждения и бытовые зарисовки. В самой речи Сократа главное – отрицание богов, замещение их героями-посредниками. Ведь все, что сказано об Эроте, легко переносится на других богов. Место богов должны занять понятия, а их носителями должны стать гении, вроде Сократа. В данном случае речь идет о фундаментальном понятии прекрасного, которое освобождается от какой-либо привязки к богам. Воспринять это прекрасное можно только философским воззрением, которое дает возможность видеть недоступное большинству – некий «светомир» (термин Шпенглера) в сознании человека, замещающий действительность световым изображением красоты: прекрасное – свет, безобразное – тьма, остальное – «оттенки серого». Продуктивность жизни человека заключена в глубине видения этого «светомира», которое и реализуется его жажду бессмертия.
Совпадение портрета Эрота и портрета Сократа завершают разгадку. Не случайно подробности «Пира» представляют собой «житие» самого Сократа, за которым записывают каждый его шаг, каждое слово. Сократ описывает Эрота как самого себя, а фигуру бога просто отбрасывает, когда речь идет о понятии прекрасного.
Таким образом, мы имеем скрытое изложение учения Сократа или тайной религиозно-философской секты, в которую он входил как «жрец» и гений – носитель знания. Учение «упаковано» в легковесный текст, где гомосексуальные мотивы отвлекают от ключевой идеи. При этом «Пир» обнародован спустя несколько десятков лет после смерти Сократа, оставаясь достоянием секты. При этом Платон мог быть либо хранителем учения, либо просто ответственным за публикацию.
Элементарная логика божественного
Диалог Платона «Евтифрон» внешне посвящен рассуждениям о том, благочестиво ли возбуждать судебное преследование в отношении собственного отца. Философ Евтифрон затеял это дело в связи с тем, что его отец приказал связать убийцу своего раба (свободного гражданина) и бросить в яму, где тот и умер. Сократ, как обычно притворно унижаясь, попросил Евтифрона разъяснить ему грань между благочестием и нечестием.
Поначалу Евтифрону кажется все примитивным. И он отвечает: благочестие – преследовать судом любого преступника, нечестие – не преследовать. В качестве примера он приводит сюжет из жизни богов: Зевс заковал своего отца за пожирание детей, а тот ранее оскопил своего отца за нечто подобное.
Этим примером Евтифрон сам загоняет себя в ловушку. И Сократ, притворно недоумевая, захлопывает ее: «И вправду между богами все это было – и междоусобные войны?» А потом подводит незадачливого собеседника к тому, чтобы его рассуждения перенеслись из мира людей в мир богов. Евтифрон тут же дает определение: что любезно богам – благочестиво, что богоненавистно – нечестиво.
Сократ ведет своего собеседника в тупик, рассуждая как недоумевающий простак: а что если боги заводят распри и несогласны между собой? И по какому поводу это несогласие? Ведь если несогласие было по поводу большего или меньшего, оно бы просто разрешилось через вычисление. Отчего же боги не могут прийти к согласию и становятся врагами? Как и среди людей, несогласие среди богов связано с гранью между справедливым и несправедливым, прекрасным и безобразным, добрым и злым. Одни считают справедливым одно, другие – другое. При этом расходятся во мнениях и затевают войну меж собой. Если это возможно среди богов, то одно и то же может быть и боголюбезным, и богоненавистным, а значит, одновременно и благочестивым, и нечестивым. Что любезно Зевсу, то Кроносу и Урану враждебно.
Ссылаясь на богов, Евтифрон уже не может опровергнуть общеизвестные сюжеты. И выходит из первого затруднения просто: по поводу некоторых вопросов есть согласие. Например: что убивший несправедливо должен держать ответ. Сократ напоминает: в суде не спорят об этом. Там спорят о том, справедливо или несправедливо кто-то поступил. То же и с богами. Никто не говорит, что поступающий несправедливо не должен дать ответ. Поэтому проблема в другом: как доказать, что данный факт все боги считают несправедливым? Чаще всего нетрудно найти противоположное: одни боги (люди) нечто любят, а другие это же ненавидят.
Евтифрон все еще упорствует: что все боги любят – благочестие, что все ненавидят – нечестие. Сократ: потому ли боги любят благочестивое, что оно благочестиво? Иначе говоря, если все боги нечто считают ненавистным для себя, то определяет ли это благочестие? Ведь зачастую боги по-разному относятся к одному и тому же. Что же они любят?
И следующий вопрос Сократа: любовь к богам гарантирует ли знание благочестивого? Ведь любимое – одно, любящее – другое. «Несомое несомо, потому что его несут», а любимое, соответственно, любимо, потому что его любят. Любят же, по логике Евтифрона, потому что оно благочестиво. Но, ведь боголюбезное боголюбезно, потому что его любят боги. Одно дело любить нечто, потому что оно благочестиво, другое – потому что оно боголюбезно. Одно чувство связано с богами, другое – с людьми. Любить любимое богами – одно, любить то, что благочестиво само по себе – это другое. «Одно вызывает любовь тем, что его любят [боги], другое любят потому, что оно вызывает любовь».
Логика ведет к тому, что ориентироваться на богов невозможно. Утверждение, что за стыдом следует страх – верно, что за страхом следует стыд – неверно. Страх касается большего числа случаев, чем стыд, поскольку стыд – часть страха, но не наоборот. Также и благочестие – часть справедливого. Так какую же часть справедливого составляет благочестие?
Снова Евтифрон попадает в ловушку. Он утверждает, что благочестива та часть справедливого, которая относится к служению богам. И Сократ тут же подхватывает очередное обращение к богам, чтобы аналогией сделать его смешным: пастух служит скоту к пользе этого скота, а какая польза от набожности богам? Делает ли это их лучшими? Евтифрон вынужден ответить: нет. И поправиться: речь идет о таком служении, которым рабы служат господам.
Сократ цепляется за понятие «служба» и вопрошает: так чему же служба богам могла бы служить? Что такое производят боги, пользуясь своими слугами среди людей? Евтифрону нечего ответить, и он – в порядке своего понимания благочестия – провозглашает: благочестивое, угодное богам – это совершение молитв и жертвоприношений! Сократ: понятно, что тогда служба – это просить и давать, давать и получать. Что-то вроде торгового обмена. Но что пользы богам от даров людей? Евтифрон выпаливает на это: почет!
Сократ возвращает своего собеседника к прежней мысли. Теперь вышло, что любезное богам – благочестиво. Но ведь раньше мы уже пришли к тому, что благочестивое и боголюбезное – не одно и то же. Евтифрону, попавшемуся на противоречии, приходится капитулировать: «Я кое-куда тороплюсь». И ретироваться.
Вернемся к причине, по которой Евтифрон попал в затруднительное положение. Боги в его и Сократа рассуждениях выступают как субъект: они создают то, что называется боголюбезным. Они любят нечто – объект. Благочестивое, напротив, обязывает людей – вызывает у них любовь. Люди в этом случае выступают не как субъект, а как объект. Соответственно, боголюбезное и благочестивое – не одно и то же.
Другое рассуждение связано с соотношением справедливого и благочестивого. Справедливое шире благочестивого – оно относится только к той части справедливости, которая служит богам (так утверждает Евтифрон). Но тогда создаваемый почет богам есть то, что придется назвать боголюбезным. И мы приходим к противоречию в сравнении с предшествующим рассуждением.
Каково же разрешение проблемы, которое Сократ не объявляет, но которое следует из его рассуждения? Разрешение может быть только одно: боги подобны людям. И тогда все встает на свои места. Божественное же должно быть уникальным и универсальным: в нем не может быть противоречий. Поэтому многобожие ведет к противоречиям в нравственном отношении – боги воюют меж собой, противоречат друг другу. Поэтому от людей богам остается только «почет» – ритуалы, из которых изгнан весь смысл.
Понятия или сущности, если они нетождественны, могут либо не совпадать, либо совпадать частично, либо одно поглощать другое. Если мир божественный и мир человека перекрываются частично, если понятия о божественном благочестии и человеческой справедливости нетождественны, то противоречия неизбежны. Вот что скрывается за наигранно недоуменными вопросами Сократа.
Именно благодаря элементарной логике Сократ приходит к тому, что его недоброжелатели (включая Евтифрона) называют «сочинением богов» и «демонием». Им кажется, что логика посягает на верования, признанные незыблемыми испокон веков. В то же время, это «незыблемое» на самом деле оказывается просто лукавством, уклонением от истины, которое с понятием божественного не может быть совместимо. А если так, то привычные взгляды на божественное, присущие древним грекам, оказываются ложными.
Античные истоки русского имени
(вместо заключения)
Изыскание древних корней современных имен и фамилий – увлекательное дело, ограниченное лишь тем, что большинство русских фамилий имеет вполне прозаичное происхождение от простонародных прозвищ. Автор достаточно неожиданно обнаружил, что его фамилия дает возможность погрузиться в древность и приобщиться к античности.
Происхождение фамилии Савельев (от имени Савелий) удивительно и редкостно для русских фамилий (имен), подавляющее количество которых происходит либо от названий зверей и птиц, либо от русских слов, обозначающих качества личности или объекты и качества природы, либо взяты из Святцев, а значит – происходят от греческих и еврейских имен. Фамилия Савельев и имя Савелий совершенно иного рода.
Савелий – сегодня редкое русское имя, а фамилия «Савельев» – одна из распространенных общерусских фамилий, имеющая хождение во всем Русском мире. Среди современных 250 самых распространенных русских фамилий, охватывающих Русский мир целиком, фамилия «Савельев» занимает 116 место. В перечне адресов Санкт-Петербурга 1910 года Савельевы упоминаются достаточно часто. Известны подобные фамилии у французов (Саваль) и испанцев (Савала).
Поиски корней имени приводят нас к древнейшим временам – первоистокам человеческой цивилизации. Корень «вал» в санскрите совпадает с русскими существительными: вал = вал, вали = валик, валика = валик, и глаголами – вал = сохранять богатство, питать, одаривать, быстро идти. В древнеиндийской мифологии Вала или Бала (охватывающий, скрывающий) – помощник Пани, похитителя коров, которых он прячет в пещере. Индра разрушает пещеру Бала и освобождают коров, уничтожают его самого. Точно так же Индра уничтожает Вритру (чье имя, как считается, также происходит от корня «вал»), чтобы освободить воды.
Здесь мы видим полную аналогию славянскому Велесу – похитителю стад, «скотьему богу», который был противником Перуна-громовержца. В договоре Руси с Византией 907 года Велес (Волос по Повести временных лет) соотносится с золотом, а Перун – с оружием.
От древнеиндийского центра «вал» разошелся на север – к Руси, к скандинавам (Велес соответствует Одину, Валхалла – дворец Ваала или «дворец павших», валькирия – скорее всего, служительница Вала; Бальфур (Balfour) – шотландская фамилия), к критским народам (Беллерофонт – древнегреческий герой, победитель Химеры, основатель Милета) и к древним семитам, где Ваал (буквально: «бог, благой, владыка, великий») – эпитет богов и владык (упомянутый в египетской повести XI в. до н. э. «князь Библа Текер-Баал», Ганнибал («любимец Баала»), Балтазар, Баал-Хаммон – бог Солнца, в Карфагене – бог плодородия). Бел – в древнеармянской мифологии строитель вавилонской башни, которому противостоял родоначальник армян Хайк, убивший Бела стрелой из лука.
На Руси Велес – образ, перешедший в понимание власти. М. Фасмер предполагал связь Велеса с «велий» (великий) по той же модели, что белесый ← белый. «Володеть» – править общиной как призванный князь: «да поидете княжить и володеть нами», то есть, осуществлять власть. Велес противостоит Перуну как волость – городу, власть – господству, община – князю. В санскрите велес (волос), вала – волос, шерсть скота. Русское слово «волосы», скорее всего, некогда было связано с убранством головы общинного правителя, старосты или мудреца. Как и в других культурах, длинные волосы – признак власти (например, у Гомера в «Одиссее» – «длинноволосые ахейцы» – женихи Пенелопы). Неслучайно Велес – покровитель сказителей и поэтов. Русское слово «валить» – прямо относится к «валу» – столбообразному предмету (например, у дереву). В библейской традиции Ваал – демон, бог пыток и страданий, брат сатаны, павший архангел Уээль («спокойствие бога»). Вель – название рек на севере Руси.
Попутное удивительное открытие. В Волгоградской губернии была река Валга – от того же корня «вал». Отсюда – и происхождение названия реки Волга – это река Варуны-Вала-Ваала-Велеса-Уээля. Отметим также реку Цивиль (по-чувашски Савал) – правый приток Волги.
Теперь обратимся к значению приставки «са». В санскрите «са» – приставка в значении «с». Здесь налицо совпадение с русскими аналогами: сабхратри = собратья; Сабха = Собор, собрание; сампадана = совпадение, самья = семья или держаться вместе. «Са» – означает принадлежность к чему-либо. Са-вал – принадлежащий Ваалу, Велесу, волости и так далее. Или же – владеющий волостью, находящийся под покровительством Ваала, Велеса, Уэлля и так далее. «Са» в ведах – пространство, воздух. Можно считать, что «са» в са-вал в этом случае говорит о «духе Вала».
Интересно, что одну из валькирий звали – Свава (слышится: Савва, Савл – сопричастная Ваалу). Близостью к другим традициям слышатся имена еще двух валькирий – Труд («Сила») – дочь бога Тора и богини Сиф, и Христ («Потрясающая»).
Еще одно попутное открытие: этимология слова «сабля», которое происходит от тюркского «сабала», «шабала», означающего колюще-режущие предметы. В чувашском сабля – сабала, татарском – шабала, в черкесском языке сэблэ. В последнем случае объяснение «сэ – нож, блэ – рука» – «нож размером с руку» стоит считать случайным. Черкесский бог Шибля (бог громовержец) – тому свидетель.
Вот и сложили СА+ВАЛ – получили этимологию фамилии «Савельев». Велий – великий, Са-велий – сопричастный величию (в смысле соратника, наследника, преемника).
Можно проследить определенную иррадиацию звуковых аналогов. В Иране примечателен древний город Самал (Сенджерли) – опора позднехеттской цивилизации, завоеванный армянами, а затем ассирийцами в VIII в. до н.э. Самал>Савал – вполне возможная трансформация.
В середине VI в. до н.э. встречается царское имя «Савлий». Геродот описывает историю убийства скифским царем Савлием скифского мудреца Анахарсиса, который перенял от эллинов мистерию поклонения Матери Богов и совершил ее тайно в лесной чащобе. Савлий застал его за этим делом и убил стрелой из лука. Скифы с тех пор перестали признавать, что Анахарсис был «их мудрецом».
Вероятно, Геродот несколько исказил имя скифского царя, поскольку иных имен скифов с окончанием на «–ий» он не приводит. Зато среди греков такие имена у Геродота встречаются весьма часто. Впоследствии еще больше их у римлян и византийцев (Тарквиний, Марий, Аэций и т.д. – римские имена, произносимые на греческий манер). Русские заимствования греческих (византийских) имен: Сергий – Сергей, Алексий – Алексей. Следовательно, от греков мы должны были получить «Савлей». Но у самих греков такого имени нет. Нам остается только имя скифского царя.
У Гомера также встречается имя, до боли нам знакомое, если отбросить приставку, – Месавлий. Это раб, купленный свинопасом Итаки у тафосских пиратов. Где эти тафосцы обитали, где расположен о. Тафос – трудно сказать, их следов не осталось. Ясно лишь одно: для гомеровских греков они жили где-то далеко (другое название – телебои, «далеко живущие») и слывшие отличными мореплавателями. Максимально уделенное побережье для гомеровских греков – это побережье Черного моря. Или же палестинское побережье. Там и там в 12 в до н.э. вполне могли оказаться протоскифы, потомки которых позднее не раз врывались на пространства Передней Азии и доходили до Египта. Плененный протоскиф Савлий вполне мог оказаться на Итаке среди свинопасов царя Одиссея.
Но откуда же приставка «ме»? И приставка ли это? Судя по именам, которые распространены у гомеровских греков, «ме» – это именно приставка. Мы видим массу имен: Менелай, правитель Спарты, Ментор, друг Одиссея в Итаке, второстепенный персонаж греческой мифлологии Местор, Медонт, глашатай на Итаке, Медонтиз Афин, один из основателей влиятельной династии, Медонт – скульптор, Меланфий – пастух на Итаке, Меланфо – воспитанница Пенелопы, Меламп – пилосский богач, покинувший родину, Менетий – отец Патрокла, наконец, Мент (Ментес) – властитель тафосцев. (Кстати Мент – имя египетской богини-львицы, которая почиталась в Мемфисе и была покровительницей фараонов и богиней войны.) «Ме» в древнегреческом – «меня». То есть Ме-Савлий означает «Меня зовут Савлий».
В греческой генеалогии мы встречаем также множество имен с окончанием на «медонт» – Аристомедонт, Эвримедонт, Лаомедонт, Алкимедонт, Гипомедонт. «Медонт» у дрневних греков означает «властитель», «Медуса» – «властительница». Медуза Горгона – это просто правительница из Горгон. Бабку Одиссея звали Халкомедуса – правительница из Халкиды. Добавим также сюда и Меду – супругу Геракла.
Кроме Медонта греческая история знает просто Донта – без «ме». Точно так же, как и Савлия без «ме».
Что же означала приставка "ме"?
У греков «ме» – нечто связанное с "существом дела". Мыс Месата означает «середина» – середина пути.
В шумерской мифологии Ме – божественные силы, управляющие миром богов и миром людей. Или просто божественная сила, которая может заключаться в различных священных предметах. Ме есть во всем, что может быть ценным для человека – признаках и символах власти, произведениях культуры и искусства, моральных понятиях и так далее. С увяданием шумерской цивилизации мифологическое значение Ме, вероятно, стало бытовым, приближенным к обыденному словоупотрелению и обозначила сущность вещи, ее «дух». С течением времени понятие могло стать приставкой, означающий «священный», «уважаемый», а может быть – «законный наследник», «следующий правитель династии» или просто «сын». Ме-Савлий – сын Савлия.
Есть и другие предполагаемые пути имени Савелий из Древней Индии в Переднюю Азию.
Некоторые исследователи полагают, что у имени «Савлий» есть прототип, основанный на общеиранском *saudya– , означающем «(Ритуально) Чистый». Вряд ли скифы, столь щепетильные к ритуалу почитания богов, могли заимствовать царское имя у других народов. От древних восточных цивилизаций они вполне могли взять нечто, а потом прямо от скифов (или через греков) это имя позаимствовали славяне.
Имеется также древнейший персонаж греческой мифологии Дисавл – элевсинский пастух, принявший у себя Деметру. Ди – обычная приставка в древрегреческих слова. Возможно в данном случае от «дио» – «два». Или же «дио» – бог (в смысле Зевса – высший бог). Либо речь о «втором Савле» (сыне Савла), либо о Савле – сыне Зевса.
Древнееврейское царское имя «Саул» могло происходить от того же иранского корня – от «Сауд». Такое заимствование вполне вероятно, поскольку древним евреям никогда не доводилось достигать в своих завоеваниях северного Причерноморья или добираться до Ирана. Напротив, скифы завоевывали Переднюю Азию и прокатывались по Палестине своими несокрушимыми конными армиями. Позднее здесь проходили и персидские армии.
«Саул» – имя вполне достойное царя, если оно заимствовано от завоевателей. Иудейский Саул, впрочем, считается неудачником.
Если опираться на принятую ветхозаветную хронологию, то Саул правил примерно в 1030-1011 гг до н. э. Если эта хронология верна, то «Саул» и «Савлий» имеют общий корень – опять же на востоке. Он обнаруживается в Свейской земле, известной опять же по ветхозаветному сюжету о царице Савской. Жителей страны называют «савеи». Царство благоденствует в X-II вв. до н.э. на юге Аравийского полуострова, но савеи пришли в эту землю с севера. Об этом свидетельствуют ассирийские источники.
В дальнейшем, вероятно, у евреев появилось и народное «Савл» (в значении «желание, влечение, устремление»). Диалектный вариант «Паул» дал будущему апостолу христианства выбор, и он «из Савла стал Павлом».
Современные иудаистские трактовки имени Савел (Савелий) как «испрошенный у бога» или «терпеливый» («тяжкий труд») вряд ли можно считать правильными. По крайней мере, к «Савелию-Савлию» они отношения не имеют или являются производными от соответствующих корней.
Очевидно, имя Саул-Савел-Савлий имело не иудейское и не христианское происхождение. Так, в Литве, где язычество сохранилось дольше всего в Европе, имеется личное имя Šiaulys, от которого, как некоторые считают, происходит название города Шауляй. До 1917 года город именовался Шавли. Его название упоминается в немецких хрониках в связи с битвой при Сауле (1236) в следующих формах: Saulen (1254), terram Saulam (1348), in Saulia (1358).
Очевидно, город не мог быть назван ни литовским прозвищем, ни распространенным именем польских евреев – Шавли, Шавлий. От города – простонародные имена и у литовцев, и у евреев, но не наоборот. Город именует племя или князя, а не простака.
Воинская составляющая в исходном корне «Саул» перекочевала в казачьи войска: ясаул-есаул – в значении «помощник», «правая рука» (татарск.).
Явное созвучие с заменой «с» на «ш/щ» можно усмотреть в названии шалфея – шавлий или шавлей, а также травы щавель/шавель. Целебные свойства того и другого хорошо известны. Возможно, от степной травы пошло имя скифов-степняков. Или, напротив, скифская трава получила свое имя по имени скифского царя.
В русской литературе «Савелий» – достаточно редкое и почти всегда простонародное имя. Широкая распространенность фамилии и малая распространенность имени говорят об архаичности исходного именования. (У Некрасова Савелий – «богатырь святорусский», который «В землю немца Фогеля// Христьяна Христианыча// Живого закопал», за что побывал на каторге – человек из глухого села, упрятанного в лесах и болотах.)
Удивительно, но у этого имени нет распространенного греческого или еврейского аналога, как у других христианских имен из именослова. В христианском мире имя «Савелий» едва различимо. Известен христианский мученик Савел, которому император Юлиан Отступник приказал отсечь голову (IV в.). Прозвище «Савел Персиянин» говорит нам о локализации имени. Явно следует искать на Востоке.
В центральной России в Тамбовской губернии была деревни Савлея (то есть, владение Савла), а также река Савала, протекающая по Тамбовской и Воронежской областям. В Карелии есть также река Савала. Марийское имя, менее подвергшиеся изменениям, чем русские – Савли (Савлей). «Савлей» также встречается взамен «Савл» в православной литургии – нечто очень близкое к скифскому царскому имени Савлий.
Еще одно направление поиска истоков корней фамилии – римское. Сабеллиус – римский христианский мыслитель, учение которого было отвергнуто Церковью. Его имя достаточно уникально (других таких нет), но неуникально происхождение – от названия группы народов.
Сабеллианы (Сабеллы) – скорее всего, объединительное прозвище для группы народов, в которых некоторые историки видят наиболее сильные племена – сабины и самниты. Не случайно имя «Сабеллиус» в древнем Риме встречается единожды, а других мы не знаем. Это говорит в пользу того, что народа с подобным самоназванием не было, а в данном случае «Сабеллиус» идет от простонародного (плебейского) прозвища. Которое, возможно, и означало просто «плебей». Сравним: имя Сабинус и Сабина оказывается у ряда достаточно известных римлян, аристократов. Потому что сабины – союзное и родственное римлянам племя (см. легенду о похищении сабинянок).
Но никак невозможно объяснить транзит имени от сабеллианов (или сабеллов) до русских Савелиев. Сабеллианы «приказали долго жить» еще до новой эры (ассимилировались, самоназвание исчезло), их имя было явно непопулярно (нецарское, неаристократическое). Славяне же появляются в источниках только пять веков спустя. Массовое распространение Савелиев на Руси трудно объяснить италийским происхождением, а вот скифским (следовательно, ираноязычным) – вполне. Таким образом Са-бел – это не порототип, а периферийное имя. А имя Савел попало на Русь другим путем – не от сабеллов. Тем не менее, родственная связь имен очевидным образом прослеживается (в особенности, если вспомнить гомеровского Месавлия и мифологического Дисавла).
Другой вариант транзита – через этрусков и соответствующих им великих переселениях древности (арийских волнах). Близость этрусков к славянам и их «пришлость» – известны. В этом случае «сабеллианы» были занесены из Северного Причерноморья.
И все же откуда созвучие с русским Савелием? Возможно, оно связано с переселение сабеллианов из Малой Азии. Аналогично легенде о происхождении Рима – миграции побежденных троянцев во главе с Энеем. Вполне возможно, что это было племя, которое к основанию Рима растеряло свою мощь, но о нем еще помнили. Правда, ни одной истории с сабеллианами не сохранилось.
***
Завершая, отметим античное происхождение имени Иван, которое традиционно считается происходящим из Библии, следовательно, – от древних евреев, о которых Античность до новой эры ничего не знала.
В действительности Иван происходит от древнегреческих переселенцев. Ионийские греки именовались как Iavan. То есть, Иоанн, Иван. Тем самым «еврейское» Иоанн – это принятое в регионе определение не еврея (восточного человека), а ионийского грека.

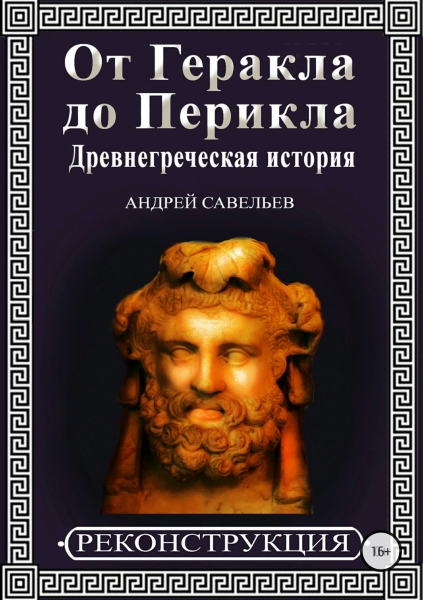

Комментарии к книге «От Геракла до Перикла. Древнегреческая история», Андрей Николаевич Савельев
Всего 0 комментариев