Перипетии гегемонии
Предисловие
Немногие специальные термины столь же вездесущи в современной политической литературе, научной или полемической, как термин «гегемония». Однако распространился он достаточно недавно, что легко понять, бросив взгляд на фонды любой крупной библиотеки. На английском языке первое вхождение в каталог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе датируется не ранее чем 1961 годом. Если проследить, как часто это слово появлялось в названиях книг в следующие десятилетия, выяснится, что было не более пяти таких книг в шестидесятые годы, шестнадцати — в семидесятые, тридцати четырех — в восьмидесятые, тогда как в девяностые произошел заметный скачок — 98 книг. За первые пятнадцать лет этого столетия вышла 161 книга с данным термином в заглавии, то есть они появлялись по одной в месяц. Таким образом, слово «гегемония» перестало быть редким или таинственным.
Что скрывается за этой переменой? Идея гегемонии — подобно идеям модерна, демократии, легитимности или многим другим политическим понятиям — имеет сложную историю, которая не передается сегодняшним широким распространением этого термина и которую надо понять, если мы хотим разобраться с ее значением для современной ситуации, в которой мы оказались. Эта история охватывает восемь или девять разных национальных культур, и надо будет сказать о каждой из них. При рассмотрении судьбы этого понятия мы будем здесь использовать прежде всего методы сравнительной исторической филологии. Однако изменения в его смысле — различные применения, противоположные коннотации — никогда не были всего лишь семантическими сдвигами. Они сами образуют политический барометр изменения сил и периодов в ходе столетий.
Нижеследующее исследование выходит вместе с другим, «Антиномиями Антонио Грамши», в котором намного подробнее исследуется особый (и, пожалуй, самый известный) корпус работ, сосредоточенных на идеях гегемонии, а также контекст, в котором он был создан. Читатели, взявшиеся за обе эти книги, должны быть снисходительны к встречающимся в данной работе небольшим, весьма сжатым повторам того, что в расширенном виде изложено в другой, поскольку избежать такого интеллектуального пересечения было бы невозможно. Цели и методы двух этих исследований не совпадают, даже если они могут считаться взаимодополняющими. Акценты в них, сами производные от разных времен, у которых очень мало общего друг с другом, различаются более радикально. Но работа, написанная сорок лет назад, стала стимулом для другой, а связь между ними оказалась достаточно тесной, чтобы их можно было опубликовать в виде такой асинхронной пары.
Идеей этой книги я обязан Институту передовых исследований (Institut d'Études Avancées) в Нанте, где мне, когда я работал над смежным проектом, исследованием американской внешней политики, впервые пришла в голову мысль о том, как могла бы выглядеть данная книга. Я должен особо поблагодарить за советы по литературе на двух языках, читать на которых я не умею, китайском и японском, исследователей, владеющих ими и великодушно вызвавшихся мне помочь: Эндрю Баршейя, Мэри Элизабет Берри, Джошуа Фогеля, Анник Хориюки, Эрика Хаттона, Каго Тсюёси, Питера Корники, Джерона Ламерса, Марка Эдварда Льюиса, Кэйт Вилдман Накаи, Тимона Скрича, Вана Чаохуа и Чжаня Йонгла. Написать девятую главу этой книги не получилось бы без их помощи, но никто из них не несет ответственности за ошибки, которые там наверняка встречаются, не говоря уже о взглядах на те или иные предметы, выраженные в других частях книги. Восьмая глава первоначально была опубликована в несколько более пространном виде в журнале New Left Review (№ 100, июль-август 2016 года).
Октябрь 2016 года
1. Начала
I
Исторически термин «гегемония» восходит, конечно, к греческому глаголу, обозначающему «вести» или «направлять» и встречающемуся уже у Гомера. Как абстрактное существительное hēgemonia впервые появляется у Геродота, у которого она обозначает руководство союзом городов-государств ради достижения общей военной цели, то есть почетное положение, которое в период сопротивления персидскому вторжению в Грецию занимала Спарта. Она была связана с идеей лиги, члены которой в принципе равны, но могут выдвинуть одного из членов союза, чтобы он руководил ими в общем деле. С самого начала «гегемония» сосуществовала с другим термином, обозначающим правление в более общем смысле — arkhē. Как соотносились эти понятия? В знаменитом отрывке из «Истории Греции», в котором обсуждается Делосский союз V века до н.э., во главе которого стояли Афины, выдающийся либеральный историк Грот, близкий к Джону Стюарту Миллю, утверждал, что hēgemonia означала лидерство, основанное на «присоединении или согласии» без принуждения, тогда как arkhē предполагало «высший авторитет или же принуждающее достоинство» владычества, вызывающего, в отличие от гегемонии, всего лишь «покорность». Фукидид провел строгое различие между ними, раскритиковав переход Афин от hēgemonia к arkhē, в котором он видел фатальную причину Пелопонесской войны [55; p. 395-397]. С этим мнением соглашается последний из современных исследователей, изучавших эти свидетельства античности. Концепции гегемонии и власти вступили в «смертельную схватку». Сила — вот «то, что составляет различие» [193, p.74, 31].
Каким бы принципиальным ни было это противопоставление, современникам оно, однако, оставалось чуждым. У Геродота и Ксенофона hēgemonia и arkhē используются едва ли не как синонимы. Возможно, Фукидид был щепетильнее? Абзац, на который опирался Грот, открывается первым термином, а заканчивается вторым, прочерчивая линию развития, которая не предполагает их противопоставления[1-1].
В других частях его повествования действующие лица не проводят между ними различия. Во время Сицилийской экспедиции афинский посол открыто уравнивает их: «После Персидских войн мы приобрели флот и избавились от владычества и гегемонии лакедемонян» — arkhēs kai hēgemonias[1-2]. Наиболее важно то, что именно Перикл пояснил своим согражданам, что они должны гордиться arkhē, а не «гегемонией» и не упускать первую из рук. Он говорит им: «Вам надлежит оказывать содействие тому почетному положению, которое занимает наше государство благодаря своему могуществу, которым вы все гордитесь, и или не уклоняться от трудов, или вовсе не гнаться за почетом. Не думайте, что борьба идет только об одном, о рабстве вместо свободы; она идет о потере власти и об опасности, угрожающей вам за ненавистное ваше владычество». Государственный муж, чью умеренность Фукидид неустанно восхвалял, пришел к выводу: «Останется память о том, что мы, эллины, имели под своей властью наибольшее число эллинов и в жесточайших войнах устояли как против отдельных врагов, так и против всех сил их в совокупности, что мы занимали город богатейший во всех отношениях и величайший» [232, II, 63-64]. Утверждая позитивное значение arkhē, Фукидид приписал ее, эту власть, Периклу в качестве высочайшей похвалы: «По имени это была демократия, на деле власть принадлежала первому гражданину» (tou prōton andros arkhē) [232, II, 65].
To, что идеи гегемонии и власти (или владычества) в классической Греции перетекали друг в друга, не составляя очевидного контраста, обосновывалось значениями обеих. Первое академическое исследование гегемонии, написанное на закате Веймарской республики Хансом Шефером, показало, что она и правда была лидерской позицией, которую члены союза уступали по собственной воле, однако лидерство это ограничивалось отдельной миссией, не являясь общим авторитетом. Так, кому-то могли поручить командовать на поле боя [162, р. 196-251]. Война, а не мир, — вот область применения гегемонии. Но поскольку военное командование является самым непреложным из всех видов руководства, гегемония с самого начала была применением безусловной власти. Подобная власть была временной и неограниченной. Но разве есть что-то более естественное и предсказуемое, чем стремление гегемона, раз уж его выбрали, продлить сроки применения своей власти, и расширить ее границы[1-3]? Если hēgemonia, занимающая один конец спектра власти, могла по самой своей природе подвергнуться расширению, arkhē, находящаяся на другом конце, оставалась конститутивно двусмысленной, переводясь в зависимости от контекста (или склонностей переводчика) либо как нейтральное правление, либо как господствующее владычество. В риторике V века ассоциации первой с согласием, а второй — с принуждением были вполне доступны и применялись в тактических целях, но скольжение от одной к другой не позволяло провести четкие демаркационные линии.
Эта ситуация изменилась в IV столетии. После поражения в Пелопонесской войне афинская риторика, которая уже не могла, как раньше, восхвалять власть, снова начала ценить достоинства гегемонии, которая теперь была подана соответственно — в качестве морального идеала ослабевших. Исократ, призывая греков снова объединиться против Персии под предводительством Афин, требует гегемонии для своего города, превознося его культурные достоинства: пользу, которую этот город принес другим городам за всю его историю, и прежде всего его достижения в философии, красноречии и образовании. Его «Панегирик» — наиболее систематичное из всех, что можно найти в литературных источниках, утверждение гегемонии как свободно признаваемого превосходства. Но даже он не может обойтись без показательного контрапункта, оттеняющего иное гегемонии: греки должны быть очень благодарны и за «величайшую власть», которой афиняне владели [214: 107][1-4]. После двадцати пяти лет отступлений и унижений Исократ, выступая за мир с союзниками, которые поднялись против господства Афин, пожаловался на го, что «мы жаждем владычества несправедливого, недостижимого и не способного принести нам пользу», из-за стремления к которому в Пелопонесской войне «они [руководители государства] испытали больше и более серьезных бедствий, чем когда-либо довелось испытать нашему городу» [215: 66, 86]. К тому времени, когда от arkhē пришлось отказаться, Исократ сделал гегемонию чем-то совершенно невесомым в своем «гимне логосу», в котором тот становится силой слова, властвующей над любыми вещами, — hapantōn hēgemona logon, — слова, носителем авторитета которого сам он являлся [216: 9; 217: 13]. В реальном мире ее конечным итогом стала полная противоположность, когда царь, которого он некогда пытался умиротворить, сокрушил сопротивление полиса македонскому правлению. Благодаря завоеванию Филипп стал «гегемоном Греции», формально закрепившись в таком статусе в Коринфе[1-5].
Обращаясь к прошлому, Аристотель напишет об Афинах и Спарте, что «те два греческих государства, которым принадлежало главенство в Греции, насаждали в соответствии со своим государственным устройством в других государствах одно — демократию, другое — олигархию, причем считались с выгодой не этих двух государств, но лишь со своей собственной», так что в итоге в «государствах установилось такое обыкновение: равенства не желать, но либо стремиться властвовать, либо жить в подчинении, терпеливо перенося его» [207: IV, 1296а]. Другими словами, гегемония по самой своей сущности была интервенционистской. Уложения Коринфского союза, также номинально являвшегося союзом равных, зашли дальше любого прецедента, поскольку отражали автократическую власть Филиппа, позволяя гегемону предпринимать действия против любых изменений в конституции полиса и, в частности, тех, что предписывают «конфискацию собственности, перераспределение земель, отмену долгов и освобождение рабов ради целей революции». Даже Джордж Коквелл, ведущий современный историк карьеры Филиппа и неизменный почитатель этого царя, был вынужден спросить: «Не было ли греческое общество начиная с 337 года заморожено? И если да, то в чьих интересах? Суждено ли было македонским приспешникам остаться у власти навеки?», но потом он заявил о необходимости «смягчить это суровое суждение», поскольку в конце концов «воцарение Филиппа в 337 году прошло при поддержке народа» [22, р. 171, 174-175]. Отметив в заключение, что «действительную тайну Коринфского союза следует искать в роли гегемона», он, возможно, сказал больше того, чем хотел сказать.
II
Такого состояния термин «гегемония» достиг ко времени Аристотеля, но потом не получил развития. Политическому словарю Рима он не требовался: его союзники были сломлены и поглощены расширяющейся республикой, с чьей структурой не мог сравниться ни один греческий город-государство. Запрос на эвфемизм или двусмысленность сократился. Также после краха Рима «гегемония» не вошла в европейские языки Средневековья или раннего Нового времени. В переводе Фукидида, выполненном Гоббсом, это слово не встречается ни разу[1-6]. В современном политическом языке оно оставалось почти совершенно неизвестным вплоть до середины XIX века, когда оно впервые всплывает в контексте, не связанном с обсуждением античности, в Германии, где на нем сходятся линии национального объединения и классической филологии: увлеченные греческим прошлым историки, которых тогда в стране было множество, начали превозносить Пруссию как королевство, способное повести за собой по пути единства другие немецкие земли. В Англии Грот не смог добиться прав гражданства для слова «гегемония» и подвергся критике за стремление его использовать, поэтому и сам он вернулся в своих более поздних работах к более неопределенному «руководству». Отметив это чуждое новшество в словоупотреблении, лондонская Times указывала: «Несомненно, Пруссией, заявляющей о своих правах, движет знаменательная претензия на руководящую роль или, как говорят в этой стране профессоров, на „гегемонию" в Германском союзе» [149].
Со времени освободительных войн против Наполеона либеральные и националистические мыслители взирали на Пруссию, надеясь, что она приведет расколотую нацию к единству — надежды на ее будущее Führung (предводительство) или Vorherrschaft (преобладание) в таком начинании были достаточно распространенными мотивами начавших тогда формироваться устремлений. В 1831 году либеральный юрист из Вюртембурга Пауль Пфицер, успешный филолог-классик, впервые внес поправки в этот словарь, предложив гораздо более проработанные аргументы для обоснования той роли, которую Берлин должен был сыграть в будущем Германии, изложив их в форме диалога двух друзей — Briefwechsel zweier Deutscher («Переписки двух немцев»). Должна ли Германия сначала добиться политической свободы, чтобы прийти к национальному единству, или же свобода наступит только тогда, когда страна достигнет национального объединения благодаря прусской военной мощи? Пфицер не слишком сомневался в том, какой из этих двух доводов сильнее: «Если мы не обманываемся многочисленными знамениями, Пруссия призвана той судьбой, что подарила ей Фридриха Великого, встать на защиту Германии»; то есть призвана к «гегемонии», которая в то же время подтолкнет «развитие общественной жизни, взаимодействие и борьбу различных сил» внутри страны [156: 270-272, 174-175].
К революции 1848 года термин «гегемония» стал паролем либеральных историков, стремившихся навязать Пруссии роль, от которой отказывался берлинский двор. Моммзен, восходящая звезда в области исследований римского права, увлекся публицистикой и заявил, что «у жителей Пруссии есть право настаивать на своей гегемонии как условии их вступления в Германию», поскольку «только прусская гегемония может спасти Германию»[1-7]. Дройзен, заведовавший кафедрой в Киле, опубликовал в 1830 году прорывную работу об Александре Великом, за которой последовало два тома о его наследниках, в которых, собственно, и было изобретено понятие об эллинистической эпохе в античной цивилизации, представленной в качестве ключевого переходного периода между классическим миром и христианским[1-8]. Эту благочестивую тему предварял, однако, панегирик македонской власти как творческой силе, которая положила конец «хаотичной и позорной» ситуации Греции, «до смерти измученной запутанной политикой маленьких государств»: Филипп и Александр одержали победу над старой и одряхлевшей демократией» Афин, отстаиваемой Демосфеном, и «открыли Азию» для притока «эллинской жизни» [39: 33, 45]. Мало кто упустил из виду аналогию с современностью. «Военная монархия Македонии в отношении к раздробленному, погрязшему в частностях миру Греции выглядела как сегодняшний образец для прусского владычества над мелкими немецкими государствами, которого жаждали патриоты, — отметил Хинце в своем некрологе Дройзену. — Объединение нации и общее национальное государство выступают высочайшим требованием эпохи и мерилом исторического суждения. Александр заслуживает всяческих похвал, а Демосфен — безусловного порицания» [82: 97][1-9].
Таким образом, Дройзен прекрасно подходил для ведущей роли во Франкфуртском парламенте 1848 года, секретарем конституционного комитета которого он стал. «Разве сила и величие Пруссии не является для Германии благословением?», — спрашивал он годом ранее. В преддверии собрания парламента он в апреле отметил: «Пруссия уже является наброском Германии», в которую та должна влиться, так что ее [Пруссии] армия и казна станут остовом единой страны, ибо «нам нужно сильное Oberhaupt [руководство]» [40: 83, 135]. В декабре он написал одному своему другу: «Я работаю, используя все способности, которые у меня только есть, на наследственную гегемонию Пруссии», то есть на то, чтобы предложить династии Гогенцоллернов имперское правление в Германии [38: 496]. Отказ Фридриха Вильгельма IV поднять корону из сточной канавы Франкфуртского парламента оказался тяжелым ударом. Однако Дройзен не потерял надежды. В мае 1849 года он сказал своим коллегам, что его группа должна выйти из собрания, но остаться верной «вечной идее прусской гегемонии» [94: 561]. Остаток жизни он посвятил истории монархии Гогенцоллернов и их подданных.
Более радикальный, чем Дройзен и его друзья по фракции «Казино» в парламенте, историк литературы Гервинус, один из «Геттингенской семерки», уволенной со своих постов из-за протеста против упразднения королем конституции Ганновера, основал в середине 1847 года ставшую рупором немецкого либерализма Deutsche Zeitung — после многих лет, как сам он потом написал, когда он «проповедовал верховенство Пруссии в немецких делах, с кафедры и в прессе, во времена, когда ни одна прусская газета не осмеливалась сказать ничего подобного» [48: 32][1-10]. Во Франкфуртском парламенте, как и на страницах Deutsche Zeitung, он продолжал отстаивать гегемонию Пруссии в Германском союзе, а в начале 1849 года призвал к войне с Австрией ради достижения «малогерманского» (kleindeutsch) единства. Когда Фридрих Вильгельм IV отклонил предложенную ему роль, Гервинус, заявивший, что «Пруссия от нас дезертировала», поклялся отныне ненавидеть Берлин и в конце жизни сравнивал прусское объединение Германии с македонским уничтожением свободы и независимости в Греции, а войну Бисмарка с Францией — с французским завоеванием Алжира[1-11]. Вспоминая о прошлом, он одновременно и порицал себя за былые иллюзии, и оправдывал себя, цитируя свои статьи в Deutsche Zeitung в качестве нелицеприятных показаний против самого себя, но одновременно заявлял, что, даже когда отстаивал руководящую роль Пруссии, всегда оставался строгим федералистом, никогда не желавшим «принудительной гегемонии» (Gewalthegemonie), «унитарного государства» или же «псевдосоюза» [48: 82-89][1-12].
Через какое-то время остальные члены его группы в той или иной мере примкнут ко Второму рейху. Прославление триумфа последнего — задача, которая досталась их молодому коллеге Трейчке. Ярый сторонник единообразной и централизованной Германии, этим существенно отличавшийся от своих предшественников, Трейчке преодолел свое разочарование, вызванное тем, что конституция Бисмарка не отменяла статуса второстепенных принцев и их владений в федеральной структуре, прославив беспрецедентного гегемона, который в конечном счете завершил формирование имперской системы, добившись несравненных успехов в управлении своей армией, в дипломатии и экономике[1-13].
Когда новый режим консолидировался, эти разговоры поутихли. Они опирались на аналогию или даже скорее на теорию, следов которой не осталось, и, как только унификация была завершена, стали неуместными. Пруссия, конечно, сохранила свое преимущество в рамках империи, однако восхвалять его как гегемоническую власть, связывающую страну воедино, стало весьма сомнительным занятием. В официальном дискурсе преобладала, скорее, тема естественного единства немецкой нации, которая освещалась то под одним углом, то под другим. Словоупотребление, характерное для 1848 и конца 1860-x годов, оставалось эпизодическим, не получив устойчивого развития даже в академии. Показательно, что, когда Бруннер, Конце и Козеллек создали в 1975 году свой знаменитый восьмитомный компендиум основных исторических понятий Geschichtliche Grundbegriffe, отдельной статьи для «гегемонии» в нем не нашлось.
2. Революции
I
Успеха понятие гегемонии добьется в другом месте. Его корни — в дискуссиях революционного движения в царской России начала XX века. В этой основополагающей русской традиции «гегемония» стала использоваться по-новому, для определения политических отношений, но не между государствами, а внутри их. В письме Струве от 1900 года Павел Аксельрод ввел это словоупотребление, чтобы отделить собственно социал-демократическую оппозицию автократии Романовых от более общей демократической: «Я считаю, что в силу исторического положения нашего пролетариата русская демократия может приобрести гегемонию в борьбе с абсолютизмом» [227: 141-141].
Годом позже, критикуя экономистские тенденции в рабочем движении, Плеханов публично заявил: «Наша партия [...] возьмет на себя почин борьбы с абсолютизмом», чтобы дать «русской социал-демократии — этому передовому отряду русского рабочего класса — политическую гегемонию в освободительной борьбе с царизмом» [228: 101-102][2-1]. Сила этой идеи заключалась в перспективе свержения старого порядка, где целью — с чем все марксисты были в то время согласны, поскольку учитывали социально-экономическую отсталость России, — могла быть лишь буржуазная революция, устанавливающая демократическую республику. Русская буржуазия была слишком слабой, чтобы взяться за это дело. Поэтому задачей рабочего класса становилось руководство борьбой против старого порядка. «Гегемония» в качестве термина, обозначающего такую задачу, была выбрана неслучайно. Дело в том, что последнюю можно выполнить только в том случае, если рабочему классу удастся объединить все угнетенные слои населения в качестве союзников, которыми он будет руководить.
Ленин, который в начале 1902 года писал свои статьи, будучи еще молодым коллегой Аксельрода и Плеханова, сформулировал, что это должно значить на практике:
Вот почему наш прямой долг разъяснять пролетариату, расширять и, путем активного участия рабочих, поддерживать всякий либеральный и демократический протест, будет ли он проистекать из столкновения земцев с министерством внутренних дел, или дворян с ведомством полицейского православия, или статистиков с помпадурами, крестьян с «земскими», сектантов с урядниками и проч. и проч. Кто морщит презрительно нос по поводу мизерности некоторых из этих столкновений или «безнадежности» попытки раздуть их в общий пожар, тот не понимает, что всесторонняя политическая агитация есть именно фокус, в котором совпадают насущные интересы политического воспитания пролетариата с насущными интересами всего общественного развития и всего народа в смысле всех демократических элементов его.
Он предупредил о том, что любой, кто сторонится этого, «на деле [ ... ] пасует перед либерализмом, отдавая в его руки дело политического воспитания рабочих, уступая гегемонию политической борьбы» [222: 268-269]. Именно эта точка зрения определила как работу «Что делать?», которая вышла позже в том же году, так и ленинские эскапады, с которых началась «Искра», первый выпуск которой содержал крайне едкую критику объединенной империалистической экспедиции в Китай во время Боксерского восстания, второй — страстный призыв поддержать студентов в их конфликте с правительством, третий — требование «выкинуть знамя освобождения русского крестьянства от всех остатков позорного крепостного права». Через несколько месяцев в ней можно было найти и слова в поддержку несогласных представителей дворянства[2-2].
К 1904 году РСДРП раскололась, и меньшевистское крыло стало разрабатывать свой собственный взгляд на то, что является общим отличительным признаком партии. Один из его ведущих мыслителей, Александр Потресов, объяснял теперь, что конкретной формой, которую должна принять гегемония пролетариата в России, являются всеобщие выборы, которые только и могут объединить сколько-нибудь демократические элементы страны. Высмеивая такое умаление идеи, как «неотразимый реактив», который сводит ее к поиску наименьшего общего знаменателя, Ленин накануне революции 1905 года сказал в ответ, что, напротив, «с пролетарской точки зрения гегемония в войне принадлежит тому, кто борется всех энергичнее, кто пользуется всяким поводом для нанесения удара врагу». Когда в 1905 году разразилась революция, Ленин превратил повестку, которая оставалась довольно абстрактной, в хорошо сфокусированную социальную стратегию. Крестьянство представлялось главным союзником, которого рабочий класс должен повести за собой ради общей победы над царизмом, руководя стихийными силами восстания в деревне, показавшими себя во всем своем размахе. Это была бы буржуазная революция, которая не могла преодолеть капитализм, но власть должно было взять не буржуазно-либеральное правительство. Предполагалось, что это, скорее, будет «демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», что является оксюмороном, означающим политический режим, в котором диктатура, а именно правление силой, устанавливалась бы над враждебными классами, то есть феодалами-землевладельцами и буржуа-капиталистами, тогда как гегемония — правление по согласию — определяла бы отношения рабочего класса с классами-союзниками, прежде всего с крестьянством, которое составляло подавляющее большинство населения.
Когда монархия оправилась и смогла подавить восстания 1905-1907 годов, меньшевистская реакция заключалась в отказе от концепции, которая, как соглашался Потресов, являлась оригинальной идеей русского марксизма и сыграла позитивную роль на рубеже веков, но была искажена в результате бланкистского поворота Ленина, а теперь и вовсе устарела. Аксиома гегемонии пролетариата предполагала, что либеральная буржуазия не способна на революционную борьбу с абсолютизмом, однако воинственность кадетов показала, что это ошибка. Задача (с точки зрения Потресова) отныне состояла не в том, чтобы держаться за слишком уж амбициозное требование, время которого прошло, а в том, чтобы отказаться от подпольной работы и создать открытую классовую партию, которая не нуждалась бы в поучениях радикального крыла интеллигенции[2-3].
Большевики, ухватившись за фразу Аксельрода, раскритиковали этот поворот как откровенную ликвидацию революционной традиции «Искры». Потресов, по словам Каменева, относился теперь к идее гегемонии рабочего класса как к «случайному и временному зигзагу демократической мысли» [218: 12][2-4]. Ленин, спровоцированный на самые содержательные из своих компаративистских размышлений о «громадном разнообразии комбинаций», составлявших буржуазные революции, сказал Мартову, что в России нельзя ожидать никакого окончательного столкновения землевладельческого дворянства и либеральной буржуазии, возможны лишь «мелкие раздоры». Сужать горизонт пролетариата ради построения классовой партии — значило скатиться назад к экономизму: отказ от идеи гегемонии представлялся «самым грубым видом реформизма». Скорее, рабочий класс должен продолжать политическое обучение крестьянства в общей борьбе с царизмом. Это нисколько не отвлечет его от его классовой сущности, напротив, именно в такой работе он действительно мог стать классом. В наиболее глубоком из своих теоретических замечаний касательно этого вопроса Ленин утверждает: «С точки зрения марксизма, класс, отрицающий идею гегемонии или не понимающий ее, есть не класс или еще не класс, а цех или сумма различных цехов» [224: 84, 85; 225: 309, 111].
Ленин не отказывался от этой позиции на протяжении всех лет реакции, последовавших за 1907 годом, когда шансов на успех у таких взглядов не было, вплоть до начала Первой мировой войны. Когда в 1917 году царизм был неожиданно свергнут, пришло их время. В октябре одна из центральных идей такой позиции получила развитие, когда большевики, как предводители большинства рабочего класса в Петрограде и Москве, отобрали власть у Временного правительства, подавили силой власть землевладельцев и капиталистов и привлекли к своему делу крестьян, не принуждая их, но сделав своими лозунгами «хлеб», «землю» и «мир». Однако, вопреки другой догме, произошедшая революция не была буржуазной, она вышла за границы капитализма. Сбылось предсказание Троцкого о прямом переходе к социализму[2-5]. Не гегемония, а диктатура пролетариата, о которой говорил Маркс, — вот что определило новое советское государство. Как только оно было создано, традиционная формула исчезла из работ Ленина. События ее обогнали.
II
В начале 1920-х годов, когда гражданская война была выиграна, в России термин «гегемония» потерял актуальность, но большевистское понятие гегемонии получило распространение на международной арене, закрепившись в уставных документах Коминтерна в качестве директивы для партий за пределами СССР. Соответственно, оно оказало существенное влияние на Грамши, молодого лидера итальянского коммунизма, которого его партия на какое-то время отрядила в Москву. Но когда он вернулся в Рим, в Италии победу одержала не социалистическая революция, а фашистская контрреволюция. Остаток своей активной жизни Грамши, арестованный по приказу Муссолини, провел в тюрьме. В последние месяцы перед задержанием он, ориентируясь на очевидные параллели с Россией, стратегической целью сделал «гегемонию пролетариата» — привлечение большинства крестьянства к делу рабочего класса, представляемого итальянской партией. В тюрьме он снова и снова возвращался к идее гегемонии, причем ее эвристическая проработка и спектр интерпретаций позволили превратить ее в гораздо более важное понятие, чем в русских дискуссиях, и впервые оформить что-то вроде теории гегемонии.
В России «гегемония» обозначала роль рабочего класса в буржуазной революции против абсолютизма, которую сама буржуазия выполнить не могла. Однако в Западной Европе агентносгь и процесс совпадали, а не расходились: буржуазия совершила собственные революции и правила капиталистическими государствами, сложившимися на их основе. К чему в итоге должна была прийти логика гегемонии? Ответ Грамши — и его самый главный ход — заключался в обобщении гегемонии, в ее расширении за пределы стратегии рабочего класса, так что теперь она должна была характеризовать устойчивые формы правления любого социального класса: в первую очередь и главным образом классов, владеющих средствами производства, землевладельцев и промышленников, против которых понятие гегемонии как раз и было первоначально обращено в России. Так, в самом первом отрывке из «Тюремных тетрадей», в котором упоминается гегемония, Грамши отвел почетное место — как ее историческому примеру — пьемонтской партии умеренных во главе с Кавуром, действовавшей в период Рисорджименто. Эта коалиция ориентированных на рынок землевладельцев и промышленников, как указывал Грамши, доминировала в процессе объединения Италии в XIX веке и контролировала его, оттеснив более радикальную партию действия Мадзини и его мелкобуржуазных сторонников, а также решительно исключив любые по-настоящему народные — рабочие и крестьянские — формы политического самовыражения.
Совершив это социологическое расширение понятия, Грамши не мог не изменить значение русского термина. Дело в том, что капиталистическое правление, установленное в Италии Кавуром и его преемниками, предполагало, конечно, насилие, причем значительное, с многочисленными случаями применения военной силы и полицейской резней, — но также и согласие[2-6]. Это была первая модификация. Вторая, не менее важная, подчеркивалась проведенным Грамши сравнением между Рисорджименто и Французской революцией. Во Франции якобинцы решили аграрный вопрос, чего не смогли сделать умеренные: распределив землю между крестьянами и объединив нацию в борьбе с иноземными агрессорами, они заложили основы для намного более органичной формы буржуазной гегемонии будущей эпохи, способной пережить толчки, последовавшие в XIX веке за землетрясением революции. Во Франции, как отмечал Грамши, «„нормальное" осуществление гегемонии характеризуется сочетанием силы и согласия, принимающих различные формы равновесия, исключающие слишком явное преобладание силы над согласием; напротив, пытаются даже добиться видимости того, будто сила опирается на согласие большинства, выражаемое через так называемые органы общественного мнения» [212: 219-220].
Это указывало на совершенно иной вид согласия, отличный от того, что был предметом русских дискуссий: речь шла не о присоединении союзников к общему делу, а о подчинении противников порядку, им враждебном). В «Тетрадях» гегемония получает, таким образом, два семантических расширения, которые находятся друг с другом в определенном противоречии. Теперь она стала обозначать согласие, которого правители добиваются от тех, кем правят, и в то же время применение принуждения с целью упрочить их правление. Как показывают исходные формулировки Грамши, его намерение состояло в том, чтобы объединить два этих момента. Однако его тюремные заметки остались фрагментарными, незаконченными и не всегда согласованными, в них встречаются колебания и противоречия в выражениях. Во многих из них гегемония не включает в себя применение силы, а, напротив, противопоставляется ему, что соответствует русским источникам его идей[2-7]. По числу таких отрывков больше. У этого перекоса были вполне разумные причины. Ни одному коммунисту поколения Грамши не нужно было — в личных заметках или каких-то других текстах такого рода — специально подчеркивать, что капитализм на Западе опирался как на машину политических репрессий, так и на представительство. Объяснить требовалось то, как, в противоположность России, эксплуататорский порядок смог добиться морального согласия подвластных на господство, им установленное. Такое идеологическое господство, как утверждал Грамши, должно предполагать систему описаний мира и преобладающих в них ценностей; которые в значительной мере усваиваются теми, кто подчинен этой системе.
Как удалось добиться этого? По мысли Грамши, главную роль сыграли два фактора западноевропейских обществ, у которых не было аналогов в царской России. Первый — роль высококультурного, давно сложившегося интеллектуального слоя в развитии и распространении идей правящего порядка, которые спускались на подчиненные классы. Представители этого слоя были главными проводниками гегемонии, и Грамши сосредоточил на них все свои компаративистские способности: в основном он брал примеры из европейских стран — Британии, Германии, Франции или Италии, но также из Северной и Южной Америки, Индии, Китая и Японии, что вполне соответствовало широте его интересов. Второе отличие состояло в плотности добровольческих ассоциаций гражданского общества: газет, журналов, школ, клубов, партий, церквей, в том или ином отношении обеспечивающих имидж капиталу. Поскольку после Первой мировой войны революционная волна в Центральной Европе утихла, установилось негласное мнение, согласно которому надежд на скорый захват власти в Западной Европе не было, поэтому коммунисты должны были сосредоточиться на задаче первоначального ослабления идеологической власти капитала над массами в этой области, где они могли бороться за гегемонию рабочего класса в классическом смысле, пусть и на гораздо более сложной и проблематичной территории.
Между строк у Грамши вычитывалась вторая причина, объясняющая перечень факторов, обсуждаемых в связи с темой гегемонии. С самого начала он подчеркивал (если использовать формулировку из его первого пассажа, где встречается термин «гегемония»): «Социальная группа может и даже должна выступать как руководящая еще до захвата государственной власти (в этом заключается одно из важнейших условий самого завоевания власти). Впоследствии, находясь у власти и даже прочно удерживая ее, становясь господствующей, эта группа должна будет оставаться в то же время «руководящей"». Ленин привел большевиков к победе в 1917 году, когда крестьяне, сидевшие в окопах, дезертировали, променяв Временное правительство на программу, предложенную рабочей партий. С завершением кровопролитной гражданской войны диктатура пролетариата консолидировалась. Но что должно было стать с союзом, который сделал Октябрьскую революцию возможной, да и с самой партией, которая была его архитектором, после этой проверки насилием? В письме Тольятти в Москву, написанном непосредственно перед арестом, Грамши выразил резкое несогласие с разгромом левой оппозиции в коммунистической партии Советского Союза, ознаменовавшим собой начало сталинской автократии, а в его тюремных заметках встречаются опасения, что советский режим движется в сторону репрессий, которые, скорее всего, подорвут народное согласие с ним, а не расширят его в том смысле, какой предполагался Лениным. Последний призывал к «культурной революции», основанной на распространении кооперативов в сельской местности, что было прямой противоположностью принудительной коллективизации, которая к концу 1920-х подорвет крестьянство, поставив крест на остатках «гегемонии пролетариата». Явный интерес Грамши к специфическим чертам Запада оттенялся невысказанной тревогой за процессы, получившие развитие на Востоке.
Вопросы согласия играли центральную роль в этих тревогах и интересах, а потому его заметки о гегемонии вернулись к ее классическому семантическому полю. Однако Грамши остался революционером Третьего Интернационала и, несмотря на тупики истории, никогда не отказывался от своего убеждения в том, что, если хочешь глубже понять гегемонию, принуждение нельзя отделять от согласия, а культурное превосходство от способности к репрессии. В его трудах полно терминов, имеющих военные корни, — «позиционная война», «маневренная война», «подпольная война», — которые понимаются то метафорически, то буквально. «Всякая политическая борьба всегда имеет в качестве своей первоосновы военную борьбу»,— писал он[2-8]. Гегемония оставалась многозначной: немыслимой без согласия, неисполнимой без силы. Он умер в Риме в апреле 1937 года, когда у движения, к которому он принадлежал, не было ни того, ни другого.
3. Между мировыми войнами
I
Спустя несколько месяцев в Германии была создана полновесная теория гегемонии. Автором опубликованной в конце 1938 года, сразу после аннексии Гитлером Судетской области, «Гегемонии. Книги о ведущих государствах» стал один из самых видных немецких юристов Генрих Трипель. На шестистах страницах, не позволяющих усомниться в эрудированности автора, последний объединяет юридические, социологические и исторические исследования своего предмета, рассматривая его на материале трех тысячелетий и множестве примеров, начиная с древней Палестины и Китая и заканчивая Третьим рейхом. Ни одной сопоставимой по охвату и компетентности работы впоследствии так и не было создано. Трипель, теоретик права, хорошо известный своей дуалистической теорией, проводил четкое различие между принципами национальной и международной юриспруденции, а в политическом плане был антиподом Грамши — лояльным монархистом во времена Второго рейха, ярым патриотом в 1914 году, сторонником консервативных правых при Веймарской республике. В 1933 году он приветствовал захват Гитлером власти, назвав его «правовой революцией».
Большевистская концепция гегемонии была сосредоточена на отношениях между классами в пределах одного государства. Грамши, подхвативший и расширивший это понятие, сохранил такой взгляд на вещи. Трипель, который не знал ни о большевистской концепции, ни о Грамши, рассматривал гегемонию, на что и указывает подзаголовок его книги, в качестве основного феномена межгосударственных отношений. Между его интеллектуальной схемой и сюжетами «Тюремных тетрадей» есть, однако, некоторые параллели. Трипель объяснял, что поводом для его размышлений о гегемонии стала роль, которую Пруссия сыграла в объединении Германии, — точно также, как роль, сыгранная Пьемонтом в объединении Италии, выступала для Грамши образцом гегемонии. Во многом сближаясь с Грамши, Трипель выстроил понятие гегемонии на противопоставлении господству (Herrschaft): первая представлена властью, осуществляемой по согласию, а второе — властью, осуществляемой силой. Точно так же Трипель, подобно Грамши, подчеркивал культурное лидерство, предполагаемое любой гегемонией, как и то, что обычно она заставляет тех, кто этой гегемонии подчинен, вырабатывать определенные формы подражания [184: 2, 127, 13]. Трипель даже расширил это понятие на внутригосударственные отношения между различными группами или индивидами разных групп, чем навлек на себя критику Карла Шмитта, который вообще-то восхищался его работами [165: 518][3-1]. Однако границу он провел на уровне классов. Не может быть гегемонии одного класса над другим, поскольку, если не считать чисто функциональной взаимосвязи, отношения между классами не могут не быть зоной враждебности, то есть в конечном счете борьбы между ними [184: 91-92].
В историческом плане носителями гегемонии были государства. Какова же их природа? «Сущность государства — это, попросту говоря, власть». Что это значит для отношений между государствами? «Каждое сильное и здоровое государство будет стремиться к власти над другими государствами, будь то в грубой форме подчинения соседа или же в более утонченной форме расширения своего влияния на него». Гегемония представлялась у него «особенно сильной формой влияния» или, говоря точнее, формой власти, промежуточной между господством (Herrschaft) и влиянием (Einfluss) [184: 131, 140]. Она, выходит, является признанным лидерством, на которое согласились ведомые. Для подтверждения этой характеристики гегемонии Трипель особое внимание уделил Древней Греции — на античный мир приходится более половины его эмпирического материала, — начав свое описание гегемонии с пространной критики Шефера, который, по его мнению, неверно интерпретировал hēgemonia в качестве преимущественно военного по своей природе феномена, а не консенсуально-политического [184: 341-342][3-2].
Выбор греческих примеров как парадигмы для сюжета Трипеля привел к трем следствиям в его общей конструкции. Во-первых, союз — Bund — какого бы рода он ни был и как бы ни был создан, — стал предпочтительным эвристическим образцом, а может быть, и негласным условием выявления любой гегемонии; во-вторых, такой выбор привел к тезису о том, что гегемония может существовать только в том случае, если рассматриваемые государства относятся к одному типу; наконец, и это не менее важно, он указывал на то, что гегемония может возникать только тогда, когда есть внешняя угроза (архетипическим примером оказывается Персия), способная вызвать добровольное объединение рассматриваемых государств, ведущего и ведомых. В результате общая линия повествования уклонилась в сторону аномалий, отдалившись от плоскости межгосударственных отношений, как они понимаются в нормальном случае. Предложенная Трипелем трактовка Рима, в значительной мере опирающаяся на Моммзена и ограничивающаяся Республикой, не могла оказаться слишком удачной, поскольку он приходит к выводу, что расширение Рима «после первоначальной неопределенности» предполагало не гегемонию, а «влечение к господству» [184: 484]. В Средние века гегемония фигурирует только на уровне внутреннего построения государства в англосаксонской Англии, Франции Капетингов, Германии Гогенштауфенов и России Рюриков. В Новое время внимание мимоходом уделяется лишь роли Голландии в Соединенных провинциях и наполеоновской Франции в Швейцарии и Рейнском союзе, а кульминация истории приходится на гегемонию Пруссии в создании единой Германии.
Из этого обзора исключаются все великие державы Европы, сменявшие друг друга. Подзаголовок книги Трипеля — «Книга о ведущих государствах» — не соответствовал содержанию. Испания, возможно, стремилась к гегемонии на континенте в XVI веке, а Франция — в XVII, однако они не сопротивлялись другим державам, а были, напротив, угрозой им, как Персия во времена Ксеркса или Дария, а потому обладали всего лишь «преимуществом» (Vormacht), не имея собственных последователей, а их претензии на господствующее положение были подорваны не чем иным, как реактивным воздействием европейского баланса сил, в те времена дирижируемого, но не управляемого Англией. Поскольку никогда не было долговременной внеевропейской угрозы, в Европе никогда не могло быть и гегемона. Также, вопреки Доктрине Монро, нельзя сказать, что США обладают реальной гегемонией в Латинской Америке, поскольку державы Старого Света давно не представляют никакой опасности для Нового Света. Еще сложнее было вообразить себе какую-то глобальную гегемонию — против кого могла бы объединиться планета в целом? Что касается империализма, его нельзя смешивать с гегемонией. Конечно, он временами мог приводить к гегемонии, если завоеванное общество соглашалось с выгодами внешнего правления, и неверно думать, будто империализм всегда требовал военных действий или применения насилия: британское непрямое правление или же американская долларовая дипломатия доказали обратное. Но империя и гегемония — разные явления: гегемония опирается на добровольное подчинение[3-3].
За теоретическим эффектом книги Трипеля, которая сняла с гегемонии обвинение в насильственном характере, скрываются две взаимосвязанные политические задачи. Первая состояла в том, чтобы отполировать щит Пруссии. Кульминацией повествования становится гимн «смелому» поведению Пруссии, объединившей Германию и посрамившей тем самым Трейчке, — мирному и консенсуальному внутри страны, корректному по отношению к общим внешним врагам. Пруссия, по его словам, «возвышается над всеми гегемониями в истории», «синтезирует противоположности в высшее единство», «одновременно косвенное и прямое, фактическое и правовое, фрагментарное и полное, корыстное и альтруистическое, плюральное и федеральное» и т.д. [184: 565; 553]. Второй мотив состоял в опровержении клеветы на Второй рейх, которая изображала его, неверно используя сам термин «гегемония», в качестве державы, правящей гегемонической системой в Европе, что было главным пунктом пропаганды Антанты в Первую мировую, попавшим даже в «Историю Европы в XIX веке» Кроче, автора во всех иных отношениях вполне просвещенного. Какие, собственно, сторонники имелись у императорской Германии в те годы? У Трипеля были все причины не забыть это время. Во время Первой мировой он был одним из наиболее горячих сторонников аннексии, продолжавших требовать присоединения территорий на востоке даже в 1918 году, когда другие, поначалу выступавшие не менее патриотично, давно уже призывали к миру без изменения границ.
Однако опровергнуть связи гегемонии с силой было не так-то просто. Излагая свою теоретическую таксономию, Трипель был вынужден признать, что границы между гегемонией и господством порой стираются. Моммзен ошибся, когда сказал, что чистая гегемония не могла бы сохраниться, однако, если говорить об истории, гегемония действительно часто становилась «поглощающей», заканчиваясь господством [184: 145-146]. На самом деле и его собственная конструкция не смогла избежать возвращения вытесненного. Ведь «сильнейшим средством гегемонического влияния» на другое государство является вмешательство в его дела — в том числе «„вооруженная" интервенция, применяемая, к примеру, для того, чтобы подавить восстание», с которым местные правители сами не справились. Примером может быть австрийская интервенция в Италии во времена Реставрации, которая была узаконена протоколом Троппаусского конгресса. Еще один пример — американская интервенция на Карибах и в Центральной Америке. Подобные меры могут быть как временными, так и постоянными, однако и в том, и в другом случае они были в равной мере выражением гегемонии, что показала американская военная оккупация Никарагуа в 1920-х [184: 237-240][3-4]. Соответственно, Трипель — консервативный националист, но не нацист — закончил книгу похвалой фюреру как государственному деятелю, который, аннексировав Австрию и Судетскую область, осуществил наконец давнюю мечту о действительно едином государстве, проникнутом духом Пруссии.
Следовательно, теоретизация гегемонии у Трипеля страдала от той же неустойчивости, что и у Грамши, хотя и по-своему, поскольку отправлялась от антитетической точки зрения. В обоих случаях результат отклонялся от намерения, пусть и в двух противоположных направлениях: к незаметному стиранию принуждения в текстах итальянца и к непреднамеренному возвращению к нему в трактате немца. Этот контраст был связан с таксономиями обоих. По Трипелю, гегемония является типом власти, располагающимся между «господством» и «влиянием» — гегемония сильнее влияния, но слабее господства. Тогда как, по Грамши, гегемония — более сильная и устойчивая форма власти, чем господство. Это различие не было случайным. У него была структурная причина, отражавшая первичную фокусировку двух этих мыслителей — межклассовые отношения в рамках государства в случае Грамши и межгосударственные отношения у Трипеля. В немецкой традиции, которая объединяла Трипеля со Шмиттом и которая после Второй мировой войны была унаследована ведущими юристами Германии, представлялось вполне очевидным то, что исторически сила в межгосударственных отношениях всегда важнее согласия. Действительно, как отметил Трипель, на международном уровне всегда есть искушение или тенденция, заставляющая любую гегемонию развиваться, превращаясь в господство как максимальную форму власти.
Он, однако, забыл отметить, что причиной тому было внутреннее различие между национальной и международной гегемонией. Внутренняя гегемония — это система, в которой один класс или социальный блок правит другими. Однако в международной системе, сложившейся в Европе раннего Нового времени, ни одно государство не правило в этом смысле другим. Это исключалось самим определением территориального суверенитета. Конечно, принуждение всегда сохранялось в качестве угрозы, поскольку мир, по словам Гоббса, был всего лишь приостановкой войны; однако такое принуждение не было, да и не могло быть институционализировано так, как в репрессивном аппарате государства в рамках его внутренней юрисдикции. В то же время согласие обычно оказывалось по самой своей сущности гораздо более слабым элементом системы, будучи поиском всего лишь преимущества или влияния. Следовательно, гегемонии как сочетания принуждения и согласия всегда было намного сложнее достичь на международном уровне, где она оказывалась более неопределенной и метафорической, даже когда достигалась, чем на внутреннем.
II
Трипель был прав, когда жаловался на то, что за пределами Германии, где он получил образование, его формальное определение гегемонии не закрепилось, как и в том, что получившие распространение альтернативы имели определенный политический прицел. В период с Франко-прусской войны и до Версальского договора, а также после него «гегемония» получила хождение в том смысле, против которого Трипель выступал: как преобладание одного государства над всеми остальными, разрушающее любой баланс сил между ними, каковое разрушение было традиционным пугалом европейской дипломатии, впервые формализованном в Утрехте. В этом смысле «гегемония» с самого начала метила в Германию, а разглагольствовали о ней державы, которые потом образуют Антанту как союз против Германии. Ирония в том, что самой первой работой, в которой обрисовывались перспективы прусской гегемонии в Европе и которая вышла еще до конца 1871 года, была русская похвала ей. Поражение Франции и падение Наполеона III были не только причиной для удовлетворения — как отмщение французам за их роль в Крымской войне, но и, вопреки страхам многих соотечественников, благоприятным сдвигом в геополитической позиции России, который приблизил ее к центру Европы, смещавшемуся теперь из Парижа в Берлин [206][3-5]. Этот оптимистический взгляд просуществовал недолго. Во Франции, естественно, никаких колебаний не было: новая Германия с самого начала виделась угрозой. Накануне Франко-Прусской войны одна критическая работа о прусской гегемонии, написанная бывшим саксонским офицером, уже продавалась в Париже [2][3-6]. Англия реагировала медленнее, но через какое-то время ключевое слово «гегемония» все же проникло в знаменитый меморандум Эйра Кроу. Второй рейх, чье поведение по отношению к Британии с 1890 года можно было «со всей вежливостью» приравнять к поступкам профессионального шантажиста, похоже, «осознанно стремился к созданию немецкой гегемонии, сначала в Европе, а потом и в мире»[3-7]. Целиком и полностью одобренный Греем меморандум, предупреждавший о величайшей опасности, связанной с тем, что Германия может попытаться «расчленить Британскую империю и вытеснить ее», не предназначался для широкой публики. Английская дипломатия предпочитала знакомый язык, в котором было больше эвфемизмов. В последние часы перед Первой мировой войной текст в телеграмме Николая II Георгу V от 2 августа 1914 года был изменен британским послом, с готовностью предложившим свои услуги: требование помешать Германии «установить гегемонию над всей Европой» превратилось в просьбу помочь России и Франции «поддержать равновесие сил в Европе»[3-8].
Когда началась Первая мировая и страны Антанты объединились на поле боя, для обходительности уже не было причин. В 1915 году в Revue des deux mondes вышел довольно типичный обзор. После 1871 года «Европы, строго говоря, больше не было. Возникла гегемония, которая в силу фатального закона всякой гегемонии постепенно становилась орудием тирании и порабощения» — то есть Германия искала уже не «только гегемонии, но и господства, достигаемого поглощением и завоеванием». Но теперь рейх, поддавшись «всевозможным искушениям демона гегемонии», столкнулся со своим заклятым врагом. «Не было более благородного крестового похода, сотворенного логикой событий и избирательным сродством наций и рас, нежели тог, в котором против угроз и планов немецкой гегемонии выстроились старейшая из великих Романских держав, великая Славянская держава и Британская империя с ее союзником Японией — для защиты не только своих интересов, но и свободы Европы и мира; независимости двух несправедливо притесненных народов, подвергнувшихся нападению, а также бесстыдно попранного нейтралитета Бельгии, которая пожертвовала собой для защиты права и чести». Союзники, обладающие «моральным превосходством», объединены «чувством, что они представляют истинные идеалы человечества, что они соль земли» и могут снова дать Европе мир и свободу. «In hoc signo vinces! (Сим победиши!)»,— к такому заключению пришел автор [49: 242, 255. 264, 271][3-9]. Когда война закончилась, вариаций на эту тему стало меньше. Кроче, писавший на рубеже 1930-х, завершил свою «Историю Европы в XIX веке» обширным обсуждением неумолимого стремления Германии к гегемонии как причины Первой мировой войны — будучи сторонником участия в ней Италии, он вряд ли мог предложить что-то другое, — но в то же время он оплакивал увлечение войной и нигилистический активизм, охватившие в тот период едва ли не все европейские страны [30: 324-331, 333-334][3-10].
После Версаля «гегемония» из официального дискурса выветрилась: у победителей не было интереса применять этот термин к самим себе. Но она не исчезла полностью, снова всплыв — обозначая на этот раз, как и можно было предвидеть, благодетельное лидерство,— в утверждениях, которыми пояснялся позитивный смысл договоренностей, заключенных победителями в рамках Лиги Наций. В авторитетном трактате по международному праву, написанном двумя самыми известными столпами либеральной юриспруденции того периода, Лассой Оппенгеймом и Гершом Лаутерпахтом, пояснялось, что «великие державы — это лидеры семьи народов и каждый прогрессивный шаг в правовом устройстве народов в прошлом был результатом их политической гегемонии», которая теперь впервые получила — в Совете Лиги — «правовое обоснование и выражение» [152: 244-245][3-11]. Этот коллективный авторитет, защищенный от упреков в частном национальном эгоизме, был довольно нечетким, что как раз и требовалось. Англо-американские власти отказывались от какого-либо особого статуса для себя. Корделл Халл заявил, не краснея, что Доктрина Монро «не содержит в себе ни малейшего следа предпосылки или тем более требования гегемонии со стороны США», тогда как Энтони Эден будет заверять, что Атлантическая хартия «исключает всякую идею гегемонии или лидерства в зоне влияния на Востоке или на Западе» [21: 1136, 1129]. Сам термин «гегемония», который послужил задаче, требующей окоротить претензии имперской Германии, теперь можно было отправить на пенсию.
III
У идеологии Антанты, кодифицированной в Лиге, будет длительная загробная жизнь, о чем свидетельствуют современные концепции «международного сообщества». Но она не смогла пережить свое время, не понеся урона. Накануне Второй мировой войны появилась работа, которая станет основополагающей, хотя далеко не все ее примут, для международных отношений как академической дисциплины, до той поры не известной. Ее автор Э.Х. Карр в молодости работал ассистентом британской делегации в Версале, в 1920-х — дипломатом в Риге, а в 1930-х — в отделе Лиги Наций в министерстве иностранных дел. Этот опыт позволил ему приобрести иммунитет к общепризнанным идеям либерализма Прекрасной эпохи, которые он некогда и сам разделял. Его книга «Двадцатилетний кризис» уничтожила иллюзию самой возможности естественной гармонии интересов в международной политике и подорвала морализм держав, охраняющих статус-кво, который превалировал в 1918 году. Карр, охвативший невиданный доселе спектр предметов — экономику, право, философию и полигику, в которых он одинаково хорошо разбирался, и пользовавшийся тем, что еще в детстве познакомился со всеми основными языками Европы, предложил альтернативный взгляд на этот период истории, как и на вечные вопросы межгосударственных отношений.
Отправным пунктом для их понимания является традиция реалистической мысли, которая началась с Макиавелли, а развитие получила у Гоббса, Спинозы, Маркса, Ленина, Рассела, вплоть до геополитики Челлена и классовых конструкций Лукача [21: 81-86][3-12]. Их достижением было то, что они не упускали из виду власть, которую всегда нужно рассматривать в трех измерениях: военном, экономическим и идеологическом. В этой оптике реализма международные институты и риторику того времени следовало не разоблачать, но тщательно изучать. Международное право предстало обычаем, а не законодательством. Игра политических сил предшествует всякому праву, соблюдение которого возможно только в том случае, если имеется политическая машинерия для его изменения; точно так же, как договоры на практике имели значение только rebus sic stantibus[3-13] — показательным примером является лицемерие Британии, возмутившейся тем, что Германия нарушила бельгийский нейтралитет, но безмятежно наблюдавшей за такими же нарушениями, когда их совершали союзники[3-14]. Международная мораль — не просто иллюзия, однако в большинстве своих англо-американских версий она сводилась к удобному способу осаживать критиков статус-кво. Некое международное сообщество действительно существовало, поскольку люди в него верили, однако в силу его структурного неравенства не могло обладать подлинным единством и связностью. Реализм запрещал идеализацию любых атрибутов порядка, заложенного в Версале. Они не отвечают на главную проблему международной политики: как достичь изменений в ее порядке, не прибегая к войне?
Это не означало, что реализм сам может дать достаточный ответ. Ему, как определенному подходу, не хватало не только эмоциональной привлекательности, но и, что более важно, чувства утопического стремления к справедливости, внутренне присущего человеческой природе, не способной примириться с мыслью о том, что кто сильный, тот и прав. В долгосрочной перспективе люди всегда будут восставать против голой власти. Неравенства между государствами нельзя устранить в одночасье. «Любой международный моральный порядок должен основываться на определенной властной гегемонии», даже если «эта гегемония, как и превосходство правящего класса в пределах государства, является вызовом для тех, кто к ней не причастны» и даже если ей придется — как и внутри страны — сделать им определенные послабления [21: 213]. Любое такое господствующее положение в будущем должно будет «в общем и целом приниматься в качестве терпимого и ненавязчивого или, во всяком случае, в качестве предпочтительного по сравнению с любой другой реальной альтернативой». В этом отношении «британская или американская, а не немецкая или японская гегемония в мире» могла бы претендовать на способ правления, больше опирающийся на согласие и меньше — на принуждение, хотя «любое моральное превосходство, которое может этим предполагаться, в основном является продуктом давнего и неоспоримого обладания верховной властью». Ведь «власть доходит до того, что создает мораль, удобную ей самой, а принуждение является плодотворной формой согласия» [21: 217]. И если самой Европе скорее было суждено увидеть pax Americana, а не pax Anglo-Saxonica, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне не было никаких признаков желания пожертвовать привилегиями богатства и власти, которые на международном уровне были нужны не меньше, чем на национальном, хотя на первом их намного сложнее представить, поскольку там они лишены элементов общего чувства, свойственного отдельной нации.
4. Послевоенный период
I
После 1945 года «Двадцатилетний кризис» подвергся резкой критике за выраженную в нем поддержку Мюнхенского договора, а Карр вскоре был исключен из британского истеблишмента, от лица которого он писал в военное время колонки для Times, признанные сомнительными в той части, в которой речь шла о России. До конца жизни он оставался аутсайдером[4-1]. С другой стороны, после разгрома нацизма, концепция, которую Трипель стремился разоблачить в качестве полемического злоупотребления со стороны Антанты, вернулась в Германию, когда победившие союзники о ней говорить перестали. Два историка составили дуэт, выдвинув термин «гегемония». Первый из них, Людвиг Дехийо, потомок состоятельной семьи ученых из Восточной Пруссии, был ветераном Первой мировой, удостоенным множества наград. При Веймарской республике он работал архивистом, а при Третьем рейхе, поскольку его заклеймили за сомнительное родство — его еврейская бабушка была выдающимся филологом-классиком, — не мог публиковаться. После войны его наставник Мейнеке сделал Дехийо редактором Historische Zeitschrift («Исторического журнала»), ведущего профессионального журнала историков, когда его возродили в 1948 году. В том же году он опубликовал работу, которая его прославила — «Равновесие или гегемония» (Gleichgewicht oder Hegemonie).
Дехийо начал книгу с того, что указал на своего прямого предшественника — Ранке и его работы о великих державах Европы, многообразие которых тот представил в качестве источника энергии европейской истории и фактора культурной креативности. Но хотя это наследие было для Дехийо очень важным, он утверждал, что оно страдало двумя ограничениями. Ранке работал главным образом с континентальными государствами Старого Света, не уделяя большого внимания тому особому значению, которое заморская экспансия Европы могла иметь для борьбы этих государств; в то же время он слишком уж оптимистично полагал, что потрясение, связанное с Французской революцией, было преодолено вызванным ею национальным пробуждением и последующим приспособлением к национальным движениям в неоднородном, но стабильном мире, возникшем вследствие Венского договора. Ранке недооценивал значение глобальной арены, на которой все больше разыгрывались внутренние споры Европы, а также гомогенизирующей динамики социально-экономической и технологической цивилизации, начавшей развиваться со времен Французской революции и по своей природе враждебной дифференцированным культурам, которые он столь высоко ставил. Дехийо попытается исправить эти недостатки [32: 10-14 и далее].
Начиная с Ренессанса лейтмотив европейской политической истории определялся претензиями ведущих государств — желающих уничтожить баланс сил, благодаря которому на континенте сохранялось разнообразие, — на гегемонию, которая бы подчинила себе этот баланс. Правители из дома Габсбургов Карл V и Филипп II, за которыми последовали Людовик XIV и Наполеон, — каждый из них становился воплощением этого влечения и каждый опирался на ту или иную часть континентальной Западной Европы. К счастью, в каждом из этих случаев такие амбиции были попраны противодействующей силой фланговых держав, расположенных на окраинах европейского континента: Османской Турции во времена обоих правителей-Габсбургов, морской Голландии и Англии во время Филиппа II и Людовика XIV, Англии и России — при Наполеоне. После 1815 года мир в Европе поддерживался согласием держав, собравшихся в Вене. Однако начиная с этого момента мировая сцена международной политики, которая представлялась уже не задником европейского просцениума, а ареной, на которой Британия выступала повелительницей морской империи, приобретала все большее значение, и в то же самое время промышленная революция неимоверно усилила нивелирующие силы механической цивилизации. За счет быстрых побед и локальных войн с Австрией и Францией Бисмарк превратил недавно объединенную Германию в ведущую континентальную державу. Действуя, однако, осторожно и осмотрительно, он воздерживался от любых попыток добиться гегемонии, играя вместо этого роль европейского посредника и балансера.
Но его преемники, решившие бросить вызов британскому превосходству на море, забыли о всякой осторожности и затянули в 1914 году Германию — не понимая даже, что они творят,— в новый гегемонический конфликт, в котором центральная держава снова стала жертвой фланговых государств, и на этот раз не одного, а двух крупнейших морских государств, поскольку США присоединились к Британии, чтобы сокрушить Германию. Наконец, в последней гегемонической войне, начатой Германией с полным и бескомпромиссным пониманием того, что она делает, Гитлер прошелся по всему континенту от Пиренеев до Буга, пока его тоже не раздавила коалиция фланговых держав: Англии и Америки на море, России на суше. В обеих мировых войнах проявилась немецкая слепота, не позволяющая увидеть значение власти на море, не только в военном смысле, но также в политическом и культурном [32: 200][4-2]. Однако Третий рейх не был простым повторением Второго. Дезориентированные массы, взбудораженные демоническим вождем, были продуктом неумолимой поступи механизированной цивилизации, и именно они запустили катастрофу, которая, охватив в равной мере Германию, Францию и Англию, положила конец независимой истории Европы. Теперь континент был разделен, а мир — расколот на американское и русское владения. Возможно, это было попросту прелюдией к окончательному безжалостному объединению планеты[4-3].
У Дехийо, чья работа отличается высоким литературным стилем и содержит немало поразительных наблюдений, главный предмет остался странным образом неопределенным. Чем, собственно, была гегемония, за которую и против которой государства боролись друг с другом? Дехийо нигде не дает ей определения. По большей части она фигурирует в его повествовании в качестве ставки состязания, а не как имущество того или иного обладателя, соответственно термин «гегемон» не используется. Как следствие, «гегемония» (у Дехийо) обозначает просто власть, которая больше любой другой, а потому представляет угрозу для всех остальных. Для этого понятия у Ранке уже было множество терминов: Übergewicht (перевес), Supremat (преобладание), Übermacht (превосходство), Vorwalten (господство). В словаре Дехийо «гегемония» не добавила к этому списку ничего конкретного — она была просто синонимом, который не работал. Да и в качестве антонима она вряд ли могла что-то дать, поскольку «равновесие» (Gleichgewicht) как понятие в тексте тоже встречается лишь эпизодически, обсуждается крайне редко и никогда не рассматривается предметно. Дело в том, что его место занято другим термином — «противовесом» (Gegengewicht), создаваемым вмешательством фланговых держав, и это не равновесие, а именно противовес, что не одно и то же. Неопределенность гегемонии не привела, однако, к эффекту всего лишь избыточности, словно бы она никак не влияла на повествование; напротив, у нее было заметное следствие, которое послужило политической задаче этого повествования, но ослабило его историческую связность. Какое описание следовало дать свободолюбивому спасителю, появляющемуся в этом рассказе? Англия — была ли она когда-нибудь гегемонической державой? И если нет, как в таком случае описать Rule Britannia[4-4]? Как отметил Дехийо, на море — задолго до того, как Англия создала империю в Индии, которой он будет потом восхищаться, — гегемонию можно было расширять гораздо менее демонстративно, чем на суше. Но не было смысла на этом особенного останавливаться: главное то, что морские державы по самой своей природе защищены от искушения добиться гегемонии в Европе. Действительно, бдительность Англии, осаживающей континентальные державы, проявляющие такие амбиции, была не самоцелью, а просто способом упрочить ее власть над океанами за пределами Европы. Но этот момент можно было без лишних разговоров пропустить: это просто еще один аспект перевеса, Übergewicht, а не гегемония, как в других случаях[4-5].
II
Через два года после публикации книги Дехийо было выдвинуто возражение, затрагивающее те два вопроса, которые он обошел стороной, причем предложенные ответы отличались от его построений. Рудольф Штадельман, выходец из семьи сельского пастора из Швабии и исследователь, много написавший уже в молодости, первоначально занимался интеллектуальной историей позднего Средневековья и Нового времени. Он моложе Дехийо на одно поколение, во времена студенчества во Фрайбурге был увлечен нацистскими идеями и недолгое время работал пресс-секретарем Хайдеггера, когда тот стал ректором университета после прихода Гитлера к власти, причем, несмотря на их различия, сохранил хорошие отношения с ним и тогда, когда в 1930-е годы продолжил делать академическую карьеру, соблюдая в своих статьях и лекциях требования режима. В 1936 году он вступил в конное подразделение СА, что было хорошо известным способом избежать членства в НСДАП и в то же время остаться на хорошем счету у властей, однако в 1938 году попал под расследование из-за критики в адрес внешней политики Гитлера после Мюнхена, а потому ему не дали занять кафедру в Тюбингене. Он записался в вермахт, чтобы искупить свою вину, службу отбывал в качестве исследователя в немецких оккупационных войсках в Париже, а во время войны был утвержден на пост в Тюбингене, став деканом университета на 1945-1946 учебный год[4-6]. Хотя в силу происхождения, темперамента и исторической ситуации его траектория была едва ли не противоположностью жизненному пути Дехийо, и тот и другой являлись в политическом плане консерваторами, а в интеллектуальном находились под влиянием пессимистического мировоззрения Буркхардта. Получив в свое распоряжение «Исторический журнал», Дехийо в первом же номере воскресшего издания опубликовал большую статью Штадельмана о базельском мудреце.
Через несколько месяцев Штадельман, которому не было и пятидесяти, умер. В следующем году было посмертно издано его небольшое эссе «Гегемония и равновесие» (Hegemonic und Gleichgewicht)[4-7]. Дехийо в нем не упоминался, однако оно могло быть написано лишь в ответ на «Равновесие или гегемонию», на что указывал другой союз, использованный в заголовке. Считая Вестфальский договор, который Дехийо даже не упоминал, кристаллизацией нововременной государственной системы, основанной на принципах политического суверенитета и расчетах равновесия, неизвестных средневековому христианству, Штадельман доказывал, что в течение примерно 200 лет, с 1740 по 1940 год, Европа, по существу, управлялась — в череде конфликтов и благодаря им — пентархией держав, которые собрались в Вене в 1815 году: Россией, Австрией, Пруссией, Францией и Англией. У истоков этого международного порядка лежит Утрехтский мир, которым завершилась Испанская война за престолонаследие, когда государственная политика Болингброка впервые обозначила ключевую для этого порядка роль Англии как «мягкого и ненавязчивого проводника равновесия в Европе». Этот баланс сохранился вопреки угрозе со стороны излишне самонадеянного Наполеона и даже после победы Пруссии над Австрией и Францией — когда военный министр фон Роон считал, что баланс окончательно утрачен, и задавался вопросом, «не является ли сегодня меч Пруссии скипетром Европы?», — и все дело было в том, что Бисмарк понимал секрет этого равновесия, известный до него Ришелье, Болингброку, Питту-младшему и Солсбери: «Гегемония и равновесие — не взаимоисключающие принципы порядка, скорее, они относятся друг к другу как вогнутая и выпуклая сторона одного итого же сосуда» [176: 9, 11-12].
Дело в том, что равновесие было возможным только тогда, когда осторожная держава, уважаемая и не воспринимаемая исключительно в качестве угрозы, следила за ним, наблюдала за динамикой составляющих его элементов, контролировала ее и управляла ею. Гегемония — это название для такого управляемого равновесия. Один маленький шажок отделяет ее положительную корректирующую роль от подавляющего господства, всеобщей власти или даже империи. Однако Бисмарк никогда по-настоящему не сделал этого шага, пусть даже его подход был не столь мягким, как у прежних блюстителей равновесия — англичан, что было связано не с тяжестью прусской брони, а с отсутствием у Пруссии островного иммунитета и флота, а также с уязвимостью позиции самого Бисмарка, зажатого между маховиками международной машины, которой нужно было управлять. С 1870 по 1890 год его внешняя политика была континентальной версией традиционного английского сдерживания и бескорыстного посредничества, нацеленного не на приобретение дополнительных преимуществ для Германии, а на то, чтобы удержать Русскую и Британскую империи одновременно порознь и в мире, дабы они стали сводом, под которым Европа могла бы наслаждаться относительным спокойствием, которое он желал сохранить, так и эдак скрепляя его и подпирая. Они, как Бисмарк однажды заметит, виделись ему псами, щелкающими зубами, которые тут же набросятся друг на друга, если он не будет держать их на привязи.
Однако Франция в системе Бисмарка оставалась пробелом, поскольку не примирилась с утратой Эльзаса и с подозрением смотрела на то, как он поощрял ее к колониальному расширению, намереваясь использовать в качестве буфера против Англии. Когда после его смерти и вопреки его намерениям создалась угроза превращения Тройственного союза в инструмент немецкого господства, Франция и Россия объединились друг с другом вопреки огромной разнице в их политических системах, и тогда пентархия закончилась: Европа раскололась на два вооруженных до зубов лагеря, конкуренция которых должна была завершиться смертоносным столкновением. Помня о катастрофическом примере Первой мировой и последующем распаде Лиги Наций, британские государственные деятели пытались с 1935 года не допустить нового раздела Европы на блоки, снова примеривая на себя роль лидера Европы, способного помочь мудрым советом и пытающегося, вдохновляясь Солсбери, интегрировать Германию в то, что теперь, когда Россия исключила себя из Европы, должно было стать тетрархией держав под эгидой Британии, то есть четверицей Англии, Франции, Германии и Италии, снова объединившихся, дабы противостоять большевистскому и американскому вмешательству на континенте. Политика умиротворения, которую проводил Чемберлен, была единственным способом восстановления благотворного, но не слишком бросающегося в глаза управления европейским равновесием, при котором прошли лучшие годы Старого Света. Однако Гитлер под влиянием Риббентропа начал, напротив, безумную политику безграничного расширения на восток, которая не могла не спровоцировать Англию, и даже, возможно, мечтал устроить в британских портах внезапный немецкий «Перл-Харбор»[4-8].
После этого был потерян последний шанс на спасение автономии Европы. Результатом могло быть лишь то, что в последующем катаклизме Германия перестала существовать как великая держава, а Британия — как гегемон. Теперь, когда настал Nachneuzeit, французский министр иностранных дел пытался подготовить путь для создания европейской федерации, основанной на взаимопонимании Франции и Германии. Но, как и в прошлом, стабильность могла быть создана только в том случае, если найдется гегемон, который будет ею править. Теперь это могли быть только США, которые когда-нибудь, возможно, будут играть ту роль, которую Британия играла в Содружестве в период с 1926 по 1937 год, когда отношении доминионов к их метрополии сводилось к образу мирной гегемонии, установившейся над ними. Народы Европы пока еще не были готовы занять такую позицию, поскольку по очевидным причинам ни один из них не желал признавать американского культурного лидерства. Однако железной логики биполярного мира, в которой сталкивались друг с другом западный и азиатский, христианский и большевистский миры, избежать было невозможно. «Европа станет пустынной землей, если только не сможет организовать Еврамерику» [176: 6].
В интеллектуальном плане конструкция гегемонии у Штадельмана и передача ее прежде всего Англии представляли собой аналитическую позицию, диаметрально противоположную таковой у Дехийо, который не замедлил с ответом. Он согласился с тем, что в «Гегемонии и равновесии» были важные идеи, однако Штадельман, по его мнению, не смог увидеть фундаментального различия между сухопутной державой и морской, между агрессивной природой первой и оборонительной природой второй: Англию нельзя приравнивать к Испании или Франции, как и смешивать стремление к гегемонии последних с сопротивлением гегемонии первой. Еще меньше можно было сравнивать актуальную позицию США, оберегающих Европу от русской угрозы, с ролью ведущих держав континента в прошлом[4-9].
Однако в политическом отношении выводы Дехийо, которые он впоследствии извлек из своего исторического нарратива, настолько совпадали с аргументами и выражениями Штадельмана, что трудно не прийти к мысли, что вместо того, чтобы молча не согласиться, Дехийо молча присвоил. В своей статье в Der Monat, журнале Конгресса культурной свободы, вышедшей летом 1954 года, идею Еврамерики — «огромного свода, защищающего весь свободный мир, включая Европу» — он датировал периодом Версаля, когда американские и британские государственные деятели рассматривали вариант «новой мягкой гегемонии», которую следовало установить англосаксонским державам на континенте, проложив тем самым путь для «мирного объединения сил свободной Западной Атлантики», способной справиться «с теми проблемами, которые представляли собой коммунисты и цветные». Но сбыться этому не было суждено. Когда США отказались вступить в Лигу Наций, последняя превратилась в довольно уродливое образование, а «Еврамерика распалась на составные части». Современники были предупреждены и знали теперь, что опять провалиться в том же проекте нельзя [35: 114-115, 121-122].
В историческом смысле послевоенное разделение Европы было, конечно, катастрофой. Но это, как Дехийо дал ясно понять в эпилоге, написанном в 1960 году для американского издания его книги, не значило, что два колосса в каком-то смысле равноценны. Островная культура Англии, окруженной морями и правящей над ними, всегда была обителью «свободного и гибкого человеческого духа», уважающего право и свободу, — духа, который распространился и на Америку, вышедшую из Англии. США, которые подошли к глобальной власти едва ли не на манер лунатика, теперь сознавали свою миссию, требующую исцелить общемировые болезни и проложить путь к международному порядку мирной демократии. Им противостояла темная сила тоталитарной бесчеловечности в России, где сбылась мечта Гитлера. Еще в XVIII веке деспотизм Петра продемонстрировал зловещие последствия господства механической цивилизации в отсталом обществе, варварской деревне на окраине Европы, которая стала угрожать последней — что заметил еще Буркхардт — примерно так же, как Македония некогда грозила свободам Греции. Теперь же Россия с ее безмерно более опасным коммунизмом держала крепкой хваткой половину Европы. Только США могли поставить преграду перед красной волной [34: 272-276][4-10].
Но хотя Дехийо и Штадельман разделяли представление о необходимости создания Еврамерики, взгляды первого коренились в метафизической склонности к пессимизму, которую едва ли можно было заметить в словах Штадельмана, хотя, проживи он дольше, он, возможно, извлек бы те же следствия из Буркхардта и своего кумира Шопенгауэра. Дехийо беспокоился из-за того, что США не слишком успешно решают глобальную задачу сдерживания, поскольку коммунисты продолжали прорывать или обходить поставленные перед ними заслоны в колониальных и постколониальных землях. Конечно, в Европе, где «команда убежденных государственных деятелей готовится революционизировать существующую государственную систему, чтобы не допустить никакой социальной революции», США подталкивали к созданию новой федерации государств, «европейской интеграции, включенной в атлантическую федерацию». И это было самое главное. Однако общество достатка, возникшее в Европе в 1960-х, таило в себе опасности. Отупляющая массовая роскошь, ненасытный материализм и устаревший пацифизм подтачивали изнутри него защитные силы Запада, который как никогда ранее нуждался в том, чтобы «обратить свой взгляд на ultima ratio regum[4-11]» силы для отпора врагу.
Но были еще более глубокие причины для опасений. Мотивом для борьбы за гегемонию в Европе, которая привела к катастрофическим последствиям, была стихийная «воля к жизни», которую Шопенгауэр признал истоком многих бед человечества, в последнее время обезумевшего из-за натиска современной цивилизации. Уже в вильгельмовской Германии она отвергла уроки истории: «Воля к жизни сильнее интеллекта. Она господин, который не выносит малоприятных предостережений своего одаренного слуги. Все, что слуга может сделать, когда произошла катастрофа, — это собрать обломки»[4-12]. В нацистской Германии действовала та же самая сила, хотя она и привела к гораздо более демоническим последствиям[4-13]. В послевоенном мире движение бездуховной цивилизации к унификации мира не остановилось и вряд ли остановится, «если только не произойдет чудо и люди всех стран не переменят внезапно мнения, не сойдут с пути цивилизации и борьбы за власть, по которому их тащит за собой неумолимый демон воли к жизни, сотрясая их и приводя в дрожь» [176: 232]. В заключении к «Равновесию или гегемонии» Дехийо не стал скрывать своего шопенгауровского пессимизма, Исторические перспективы виделись довольно мрачными, и было бы бесчестно отрицать глубочайшее чувство беспомощности человека. Буркхардт — лучший проводник по этим последним временам, когда надежда для человечества не в безрассудных предсказаниях науки, а в индивидуальном возделывании корней культуры и личной жизни, в духе назидания и раскаяния.
5. Холодная война
I
Политическое послание работы Дехийо с ее несдержанным восхищением англосаксонскими державами было принято в англоязычном мире достаточно благосклонно. Однако его метафизическая и, несомненно, весьма пламенная риторика звучала слишком по-тевтонски, чтобы работа получила реальное признание. Распространение получило его понятие фланговых держав, хотя о том, кто его придумал, часто забывали. Все остальное не слишком запомнилось, и меньше всего — то, что эти фланговые державы необходимо сдерживать. «Гегемония» как термин все еще оставалась для англичан и американцев настолько чуждой, что попросту исчезла из названия английского перевода его книги — «Неустойчивого равновесия» (Precarious Balance), а в тексте почти всегда передавалась просто как «лидерство» или «преобладание», не слишком, впрочем, перевирая самого Дехийо.
Законодателем американских идей в области международных отношений станет другой немецкий мыслитель, работавший в те же послевоенные годы. Ганс Моргентау, получивший юридическое образование в Веймарской Германии, эмигрировал в США в 1937 году, его позиции оформились под влиянием трех источников: Ницше, чья доктрина воли к власти когда-то произвела на него неизгладимое впечатление; Шмитта, чье понятие политического он пытался уточнить, и Кельзена, который дал старт его академической карьере. Как и Карр, он радикально расходился с моралистическим идеализмом межвоенных ортодоксий Запада, а в своей первой книге, опубликованной в Америке, «Научный человек и силовая политика», устроил разнос господствовавшему в дискуссиях о международных вопросах легализму, морализму и сентиментализму. Все они были продуктами декадентского либерализма среднего класса, покровителя сил национализма, которые впоследствии его же и уничтожили. За этими вильсонианскими иллюзиями скрывался сциентистский рационализм, не видящий волю к власти, являющуюся сущностью политики и двигателем межгосударственной борьбы, да и просто антропологической константой: «Каждый человек является объектом политического господства и в то же время он стремится к тому, чтобы осуществлять такое господство над другими» [125: 177]. Влечение к власти повсеместно, причем оно представляет собой зло. Как же тогда примирить политику с этикой? «Знать, забыв о надеждах, что политический акт неизбежно являет собой зло, и все равно действовать — вот в чем заключается нравственная смелость». Таковы «трагические противоречия человеческого бытия» [125: 194, 203].
В Америке разглагольствования такого рода — моду на них ввел его друг Рейнхольд Нибур — были для того времени типичными, однако мысль Моргентау, которую он пытался донести, была для страны оскорбительной. Если Моргентау желал действительно достичь того положения на американском небосклоне, к которому стремился, говорить такое об основополагающих американских убеждениях было нельзя. Через два года, когда холодная война только начиналась, он подправил свои взгляды. Книга «Политика между народами» сделала Моргентау имя, став весьма успешным учебником, много раз переиздававшимся. В ней он снова заявил, что международная политика является, прежде всего и преимущественно, борьбой за власть между конкурирующими национальными государствами, укорененной в неизменном animus dominandi, присущем самой человеческой природе. В прошлом — то есть до появления массовой демократии — традиционное равновесие силовых механизмов, международные нравственные кодексы, право и общественное мнение выступали тормозом, сдерживающим логику helium omnium contra omnes. Однако к середине столетия остались только две сверхдержавы, США и СССР, каждая оснащенная ядерным оружием и являющаяся носителем более опасного национализма — мессианского и универсалистского, — чем даже национализм 1914 года. Как же достичь мира в период, когда тотальная война только-только закончилась? Надеяться на разоружение, коллективную безопасность или ООН было нельзя. Логичным ответом представлялось мировое правительство, однако его предварительным условием было создание международного сообщества, способного преодолеть национальные интересы, что пока было тоже невозможным. Лучший путь к созданию такого сообщества пролегал через возрождение дипломатии в духе великих государственных деятелей — Дизраэли или Бисмарка — былой эпохи, что позволило бы достичь примирения конкурирующих держав биполярного мира.
Противоречия этой конструкции бросались в глаза. Как появление двух антагонистических мессианских национализмов может привести к мировому правительству? Откуда могла взяться надежда на возврат к дипломатии аристократических времен, основанной на солидарности элит всех европейских стран, в эпоху массовой публики, обрисованной Моргентау? Почему трансисторическое человеческое влечение к господству должно сойти на нет в космополитическом соглашении? Апории «Политики между народами» отчасти были следствием несовместимости источников, которые за ними проглядывали, — Ницше в начале текста, Шмитта в середине и Кельзена в конце, но также и стремления Моргентау спрятать эти источники: первые два потому, что в политическом отношении они были слишком опасны, а третий — потому, что старый покровитель стал обузой[5-1]. Своим единственным немецким учителем он называл Вебера, однако Моргентау был чужаком не только для экономики, для которой не нашлось места в его теории, но и для социологии. Концептуальным аппаратом его работы была незамысловатая психология. Значение для него имела веберовская этика ответственности, облагораживающая решения государственного деятеля.
Как во все это укладывались традиционные политические понятия? В рамках своего психологистского подхода Моргентау определил империализм довольно эксцентрично — как любой «политический курс, разработанный для низвержения статус-кво». Такой курс мог принимать три формы, нацеливаясь либо на глобальное господство, либо на «империю или гегемонию в континентальных масштабах», либо на более ограниченное превосходство в силе [126: 34][5-2]. Курс, поддерживающий статус-кво, мог, в свою очередь, реагируя на империалистическую политику, тоже становиться империалистическим, что случилось перед Первой мировой войной или даже в самом Версале, где империалистический курс создал новый статус-кво, который, в свою очередь, вскормил новый империалистический вызов, ему брошенный. Но подобные коловращения остались в прошлом. В актуальных условиях «империализм, вырастающий из отношений сильных и слабых наций» стал менее вероятен [126: 36, 45-46,35-З6]. США могли бы навязать свою гегемонию Латинской Америке, но не стали этого делать, удовлетворившись локальным превосходством.
Все это в каком-то смысле все еще не дотягивало до неотложных требований эпохи. Можно ли было действительно ставить США на одну доску с СССР в качестве воплощения универсальной воли к власти? Через три года Моргентау уточнил свои цели в книге «В защиту национального интереса». Он заверил своих читателей в том, что на самом деле две сверхдержавы не равны друг другу. Реалистическая внешняя политика должна считаться с русским империализмом, являющимся более опасной угрозой для Америки, чем даже нацизм [129: 69 и далее, 91]. В борьбе с ней колебания и попытки отречься от лидерства, к которым всегда была склонна демократия, должны быть отвергнуты, и на смену им должна прийти трезвая оценка долга перед нацией. Не отказываясь от переговоров, где они были возможны, США, следуя этому долгу, должны крепко стоять на своей позиции военного защитника Европы и вести эффективную идеологическую борьбу в Азии.
К этому времени Моргентау стал вхож во внешнеполитический истеблишмент администрации Трумэна, он общался с Ачесоном и консультировал Государственный департамент и Пентагон. Однако приход в Белый дом Эйзенхауэра принес ему разочарования. Его вопреки надеждам не позвали на переговоры по размещению американских баз во франкистской Испании, он смертельно обиделся и начал резко критиковать республиканскую администрацию, изобличая ее нежелание поддержать восстание в Венгрии и Суэцкую экспедицию против Египта, а также ее неспособность помешать Москве добиться превосходства над США в стратегических вооружениях. Если страна не могла рассчитывать на победу в ограниченной ядерной войне в Европе, не значит ли это, что она готовится окончательно сдаться врагу?[5-3]
Избрание Кеннеди несколько ослабило эти страхи. Моргентау приветствовал приход новой демократической администрации окончательным завершением своей интеллектуальной натурализации. В «Цели американской политики» (1960) универсальная воля к власти исчезает. Вместо нее Моргентау стал расхваливать «равенство в свободе» как непреходящее призвание США — общества, не только радикально отличающегося от любого другого, но и превосходящего любое другое, поскольку его цель несет в себе «смысл, выходящий за границы Америки и обращающийся ко всем нациям мира», ведь ее военные интервенции в Центральной Америке и на Карибах были направлены на то, чтобы и там создать условия равенства в свободе. США всегда были антиимпериалистическими. Но в борьбе с советской экспансией антиимпериализм стал центральным пунктом внешней политики Америки [131: 33-34, 101-102, 192].
Вьетнам? Зьем был автократом, но слишком уж стесняться его методов было незачем. Впрочем, когда народ стал чересчур им недоволен, он должен был уйти, поскольку, «конечно, США могли бы, если б постарались, найти генерала, который сможет взять бразды правления» в Сайгоне [132: 24, 32]. Сказано — сделано: через несколько месяцев Зьема убили по заказу администрация Кеннеди, а на его месте обосновался другой генерал. Но через три недели после того, как Зьем отошел в мир иной, Кеннеди постигла та же судьба, и после этого Моргентау, который был на хорошем счету у Камелота[5-4], стал критиковать политику Джонсона, предполагавшую еще большее увязание во Вьетнаме. Не то чтобы американская военная интервенция в Индокитае была империалистической — она была просто «курсом на поддержание престижа», самым мягким вариантом устремлений власти из всех, сформулированных им в 1930-е годы, но в то же время это был ошибочный курс, поскольку США оказались в противниках антиколониальной революции вместо того, чтобы отобрать ее у русского империализма, и Моргентау выдвигал как моральные, так и практические соображения против этого. Они не означали, что его стратегическая решимость ослабла. В 1967 году его взбудоражил израильский блицкриг на Ближнем Востоке[5-5], а когда ему понадобилось предложить для Америки новый курс в 1969 году, он решил, что «ее главным стихийным интересом» является сохранение уникальной позиции в качестве, в конечном счете, «гегемонической державы, не имеющей соперников» в западном полушарии [134: 156]. Гегемония, вначале приравненная к империи и разоблаченная, стала в итоге краеугольным камнем национальной политики.
II
Контрапунктом к взглядам Моргентау стала попытка систематической теоретизации природы международных отношений, предпринятая другим европейцем во время его стажировки в Гарварде. Раймон Арон в огромной работе «Мир и война» (1962) решил сплести воедино эпистемологию, социологию, историю, мораль и стратегию, создав трактат на все времена. Этот гораздо более тонкий, чем «Политика среди народов», труд также заканчивался выводами с предписаниями касательно поведения в холодной войне. В историческом плане в нем были выделены три типа мирного состояния: равновесие, гегемония и империя. В первом случае силы государств равны, во втором одно государство доминирует над всеми остальными, в третьем одно государство намного превосходит все остальные и в предельном случае поглощает их[5-6]. Но ни один из этих вариантов на самом деле не соответствовал состоянию холодной войны. Они определялись распределением власти, тогда как конфронтацию между Западом и Советским Союзом лучше всего было считать миром, основанным на страхе, поскольку в атомную эпоху каждый мог нанести смертельный удар другому, что создавало предельную ситуацию взаимного бессилия. Это, однако, не значит, что две конфликтующих силы были однородными или же что безопасность будущего может гарантироваться лишь их взаимным примирением.
Критикуя Моргентау с обоих флангов, Арон обвинил его в том, что тот воспроизводит аморализм, восходящий к Трейчке, полагая, что внешняя политика всех государств считается, по сути, одинаковой. Это вело к игнорированию огромного морального и политического различия между демократиями Запада и тоталитаризмом Востока. Дипломатию нельзя разводить с идеологией: коммунистические власти определенно не разводили их, и Запад тоже не должен. Кроме того, в борьбе с тоталитаризмом осторожность не следует путать с умеренностью или безоговорочной уступчивостью. Целью демократических стран в холодной войне не может быть всего лишь предотвращение термоядерной катастрофы [3: 654][5-7]. Ею должна стать победа над противником. Для защиты и утверждения Запада требуется никак не меньше, чем это.
У Арона было много дарований, но в их числе не имелось способности к кропотливой работе с источниками — и в этом он был не одинок среди представителей своего поколения[5-8]. К тому времени, когда он опубликовал «Мир и войну», Моргентау давно уже перешел на позиции, близкие к ароновским. В их дуэте именно Арон будет в 1970-е годы повторять — не отдавая себе в этом отчета — некоторые из опасений Моргентау, высказанные им в 1950-е. Излагая историю американской внешней политики со времен Второй мировой, Арон в своей «Имперской республике» (1973) попытался устранить недоразумения, поводом для которых могло стать это название, определив смысл прилагательного, в нем присутствующего, и отличив предмет этого труда от внешне близких концепций. «Империя» указывает на «более или менее устойчивую способность государства навязывать свою волю в том случае, когда ему это требуется», соответственно, «империалистический» — это ругательный термин. Но «имперское» означает нечто другое: оно связано больше со славой, чем с силой. Американская республика не стала империей, и ее внешнюю политику в целом нельзя назвать империалистической. С другой стороны, «гегемония» оказалась вполне легитимным описанием политической роли Америки в Европе, где она защищала демократические страны от вторжения Советского Союза. В Атлантическом союзе «США осуществляли гегемонию в ее истинном смысле „лидерства", как это называют сами американцы» [3: 260-264, 174].
Напротив, на Карибах внешнюю политику США можно было признать империалистической. Но это было исключением. Во всех других частях света их дипломатию, конечно, можно было называть имперской в том смысле, что она вмешивалась в дела разных стран по всему миру, не создавая при этом империи; но это в большей или меньшей степени относилось ко всякой великой державе в традиционном для XIX века смысле данного слова. Все межгосударственные системы на протяжении всей истории были иерархическими, и, если влияние великих держав на внутренние дела и внешнюю политику малых стран следует назвать империализмом, тогда последний, подобно «здравому смыслу» Декарта, никогда не был столь же широко распространен, как сегодня. Конечно, оставался один частный вопрос: каково отношение между военной мощью США и капиталистической экспансией? «Что именно защищают США — свободный мир или мир, открытый свободной экономике»? [4: 187 и далее] Ответить на данный вопрос однозначно было сложно, поскольку две этих цели обычно сливались друг с другом. Америка не всегда защищала страны с либеральными институтами, а порой даже поддерживала диктатуры, как барьер для коммунизма. Также вполне возможно; что в отсутствие американского военного превосходства другие страны не согласились бы на привилегированное положение доллара в международной финансовой системе и не стали бы одалживать Вашингтону иностранную валюту, нужную ему для присмотра за миром. Но в общем и целом конечная цель американской политики заключалась попросту в том, чтобы сдержать распространение коммунизма, тогда как присутствие американских войск создавало морально-политический климат, в котором экономики Западной Европы и Японии процветали вот уже полвека [3: 214,317].
Все ли тогда в порядке в свободном мире? К сожалению, имелись некоторые поводы для беспокойства. В предисловии к американскому изданию своей книги, вышедшему в начале 1974 года, Арон заявил: «Я чувствую, что могу наконец говорить открыто и подтвердить, что европеец свои надежды на разумный внешний курс возлагает на Ричарда Никсона и Генри Киссинджера». Однако европеец мог также приберечь кое-какие страхи — одновременно для Никсона с Киссинджером и по их поводу. В той мере, в какой «некоторые разумные люди, насколько я могу судить, готовы обвинить самого президента в том, что с его ведома было совершено проникновение в штаб Демократической партии с целью установки прослушивающих устройств или что даже он сам отдал приказ», Уотергейт подтачивает способность Белого дома проводить сильную внешнюю политику. Беспокоило также и данное Никсоном «странное и абсурдное определение идеального мира», основанное на путаном представлении о равном балансе сил в многополярном мире. Следовало обратить внимание на то, что в своем докладе Конгрессу он сделал особый упор на слова «ограничение» и «самоограничение», которые встречались в нем чаще любых других терминов [5: ix-x, 156, 161][5-9]. Осторожность была, конечно, по Аристотелю, добродетелью. Но не значило ли это, что американская дипломатия становится всего лишь «негативно идеологической», поскольку ограничивается предупреждением прихода к власти новых марксистско-ленинских партий? Арон напомнил своим читателям, что в XX веке, как он уже писал, «сила великой державы уменьшается, если она перестает служить великой идее». Не грозила ли разрядка тем, что этот момент будет упущен из виду? После визита Никсона в Китай и прекращения Вьетнамской войны настроения и рядовых американцев, и интеллектуалов в Америке демонстрировали тревожные признаки неоизоляционизма. Америка не могла позволить себе дуться на весь свет, сидя у себя за забором. Она была главным игроком на поле межгосударственных отношений, а «владелец титула должен постоянно подтверждать его» [4: 305, 327-328].
Выдвинутые Ароном требования касательно роли США в мире, заканчивающиеся на антагонистической ноте, были связаны с риском, как ранее и у Моргентау, подрыва определений, на которых основывались. Американская гегемония изображалась лидерством в холодной войне, а не властью. Однако ее конечной целью должна быть победа. Таким образом, оказывался забыт высказанный ранее в «Мире и войне» принцип, согласно которому «поскольку история дает нам мало примеров гегемонических государств, которые не злоупотребили бы своей силой, государство, которому победа дарует гегемонию, будет сочтено агрессором, каковы бы ни были намерения его правителей» [3: 94] — принцип, иллюстрации к которому даст следующее столетие.
Моргентау и Арон писали о холодной войне в самый ее разгар. Будучи почти что одногодками, они были европейцами, которые могли помнить Первую мировую войну, а решающее воздействие на них оказал мир, созданный на основе Версальского договора. Гегемония входила в полученный по наследству словарь, всплывая в разных местах в их работах, но не получая особенного акцента: в этих конструкциях, сосредоточенных на биполярном международном порядке, далеком от межгосударственной системы Прекрасной эпохи или Локарно, и ориентированных на борьбу свободы с коммунизмом, «гегемония» не опускалась, но и не играла главной роли. Ее значения могли подгоняться под локальные задачи в общей аргументации, основное направление которой было иным.
Какое-то время более строгое применение термина «гегемония» и более прямая фокусировка на нем оставались редким явлением и могли быть заметны только в исследованиях прежних исторических периодов. Незадолго перед выходом «Имперской республики» державшийся особняком американский политолог Чарльз Доран опубликовал работу, в еще большей степени предвещающую проблемы грядущего столетия, под названием «Политика ассимиляции: гегемония и ее последействие», в которой рассматривались ответы на сменявшие друг друга претензии на гегемонию в Европе — со стороны Габсбургов, Бурбонов, Наполеона — причем не только то, как они были подорваны (за счет подавления, переговоров или поддержания порядка — в Вестфалии, Утрехте и Вене), но и то, к каким результатам привели эти формы урегулирования. Империя и гегемония являлись неразделимыми понятиями. Различие между ними состоит в типе контроля, осуществляемом империей или гегемонией над теми, кто им подчинен, — формального или менее формального, прямого или более косвенного. Гегемония не может быть мирной. Вооруженные силы являлись ее главной составляющей, а военная экспансия — естественной траекторией. «Ассимиляция» гегемона — сначала победа над ним, а затем и включение в мирный порядок — требовала превосходящей вооруженной силы, а также политического умения; из числа победителей мог возникнуть будущий гегемон, готовый сокрушить сами основания созданного таким образом порядка [37: 20, 201-203].
Ни один из ведущих мыслителей того времени не заметил этой коды к своим трудам.
6. Americana
I
Новый период, начавшийся в 197З году, вскоре после того, как Арон закончил свою рукопись об имперской республике, изменил эти координаты. Конец Бреттон-Вудской системы, поражение во Вьетнаме и нефтяное эмбарго, не говоря уже о внутренних политических волнениях,— все это привело к внезапной смене «гештальта», из-за которой гегемония впервые стала главным вопросом теоретических и политических дискуссий в США. Фактором, спровоцировавшим такую перемену, стал выход одной работы по экономической истории, хотя сам ее автор не ставил себе такой задачи. В своей книге «Мир в депрессии, 1929-1939» Чарльз Киндлбергер доказывал, что главной причиной продолжительного спада 1930-х было то, что Британия больше не могла, а США еще не хотели брать на себя ответственность за обеспечение международной экономики средствами, необходимыми для ее стабилизации в кризисный период, — рынком не нашедших сбыта товаров, постоянной циркуляцией капитала и механизмом гарантирования ликвидности в чрезвычайной ситуации. Все это были, как объяснял Киндлбергер, общественные блага, даже если для государства, которое поставляло их, они становились в какой-то степени бременем. Таков смысл лидерства. Оно обеспечивалось викторианской Британией, а США научились делать то же самое после Второй мировой войны. Однако теперь — он писал в 1973 году, после того как Никсон отказался от привязки доллара к золоту, — США постепенно теряли свои лидерские позиции. Киндлбергер не особенно распространялся на эту тему, вкратце упомянутую на двух последних страницах его книги. Однако сложившаяся конъюнктура сама расширила ее и дополнила.
Тремя годами ранее Стэнли Хоффман, родившийся в Австрии и получивший образование во Франции, ближайший друг Арона в Америке, опубликовал статью в журнале International Organization, в которой отметил, что в мировой политике все большую роль играет транснациональное общество, чьи институты и агенты — очевидным примером выступали мультинациональные корпорации — обладают своими собственными правилами, которые государства вынуждены соблюдать во избежание негативных последствий. Результатом стало умножение числа шахматных досок: они больше не ограничиваются дипломатией и войной, поскольку к их числу относятся также торговля, финансы, субсидии, космические исследования, культура. На этих досках государства отныне конкурируют друг с другом. Это вполне позитивное развитие, поскольку доски эти не предполагают применения силы, а потому снижается вероятность открытого конфликта между государствами, повышая для них привлекательность кооперации и переговоров [85: 389-413]. В скором времени два ученика Хоффмана выпустили специальный номер того же самого журнала, посвященный Транснациональным отношениям и мировой политике. Заявив, что они пытаются «поставить под вопрос основные принципы, на которых стоит анализ международных отношений», его редакторы Роберт Кеохейн и Джозеф Най доказывали, что изучение мировой политики должно освободиться от государство-центричной парадигмы, образцы которой предложили Моргентау и Арон, и обратить внимание на взаимодействие негосударственных организаций и их связи [96: 329-349][6-1]. Их более глубокое понимание признавалось крайне важным для нормативного стремления к миру, демократии, благосостоянию и справедливости.
В этой оптимистичной подборке одна работа выбивалась из общего хора. Автор, написавшей статью о мультинациональной корпорации, Роберт Гилпин, не считал, что деятельность таких корпораций действительно не зависит от государств, в которых находятся их штаб-квартиры, и, кроме того, что растущая взаимозависимость национальных экономик означает, будто роль государств в экономической жизни падает,— скорее уж наоборот. Иллюстрируя свой довод, подробно изложенный в его книге «Американская власть и мультинациональная корпорация» (1975), Гилпин сделал несколько общих ссылок на британскую и американскую гегемонию. Кеохейн и Най, со своей стороны, вернулись к этому вопросу в книге «Власть и взаимозависимость. Мировая политика на переходном этапе» (1977), в которой решили показать, что понятие гегемонии является ошибочным или нерелевантным для ситуации возникновения правил «сложной взаимозависимости» в таких областях, как моря и финансы, где сложившиеся «международные режимы» не были продуктом той или иной господствующей власти. Вскоре после этого Кеохейн расширил свою критику, обратив ее на то, что сам он окрестил «гегемонической теорией стабильности», которая подразумевает, что сильная международная экономическая система требует гегемонической власти, поскольку только она может наделить ее связностью и устойчивостью. В качестве объектов своей критики он выделил Киндлбергера и Гилпина, Опыт, на самом деле, показывал, что гегемон не являлся ни необходимым, ни достаточным условием стабильного экономического порядка, изменения в котором невозможно однозначно соотнести с трансформациями политической власти [98: 131-162][6-2]. Через четыре года Кеохейн предложил полную версию своей альтернативной теории в работе «После гегемонии». Хотя в послевоенный период у США была возможность устанавливать правила международных отношений в сферах торговли, финансов и нефти, это превосходство несколько поблекло после середины 1960-х, когда относительный вес американской экономики снизился с ростом Западной Европы и Японии. Но это не привело к серьезным потрясениям в мире, где международные отношения были уже не борьбой с нулевой суммой за превосходство, а, по существу, системой с положительной суммой экономических обменов, в которой государства договаривались друг с другом о тарифах и регуляции, чтобы добиться взаимовыгодных сделок, поддерживая разные варианты мирного и консенсуального режима, при которых ни одно государство не могло властвовать над другими. США были теперь просто партнером, пусть и большим, в новом многостороннем порядке, основанном на взаимном приспособлении и рациональной кооперации.
Киндлбергер со всем этим не согласился. По Кеохейну, роль, которую США играли после войны, соответствовала описанию гегемонии, но больше не требовалась. По Киндлбергеру, все наоборот: термин он считал неприемлемым, но функцию — необходимой. Гегемония представлялась «словом, которое мне не нравится из-за коннотаций силы, угрозы и давления». Нужна была не гегемония, а лидерство, и «я думаю, что можно вести других, не выкручивая руки, поступать ответственно, не толкая и не притесняя другие страны» [100: 841-842][6-3]. Вера Кеохейна в то, что международные общественные блага можно было производить без сильной власти — «так называемого гегемона», выполняющего функцию лидера, являлась иллюзией, а потому в своей книге он был вынужден использовать значительный арсенал оговорок, чтобы доказать обратное. «Я реалист, когда дело доходит до режимов», — заявил он [95: 8, 11], — хотя в их описании он практиковал эвфемизмы, а не реализм.
II
Гегемония, когда она впервые получила прописку в американской политологии, приобрела там — в отличие от любой прежней версии — не какой-нибудь, а именно экономический пучок значений, который менее всего мог потревожить врожденную либеральную чувствительность. Торговля, валюта, товары — вот области, в которых, согласно теории стабильности, гегемония либо работала, либо отсутствовала, то есть это были трансакции без примеси силы, как отмечал Хоффман. Он сам не мог последовать за своими учениками, устремившимися к освещенной ярким солнцем равнине полной взаимозависимости. На пути у него стоял Арон: отмахнуться от дипломатии и войны было невозможно. Но в то же время в аналитическом смысле они уже не могли признаваться столь же решающими факторами, как в прошлом. «Классики» считали, что стремление к власти в условиях обобщенной неопределенности является главным императивом для всех государств. «Модернисты» же утверждали, что ему на смену пришли цели экономического роста и внутреннего благосостояния. Хоффман колебался между теми и другими. Результатом стал своего рода интеллектуальный гибрид. Холодную войну нельзя было описывать просто как конфликт двух сверхдержав, поскольку послевоенная экономическая система была уже «не биполярным, а гегемоническим порядком», положение США в котором можно было сравнить с положением Британии столетней давности, чье господство было не исключительно эксплуататорским и не опиралось всего лишь на материальные преимущества, но предоставляло другим странам возможности для участия в системе. Тот (биполярный) порядок действительно все больше оставался в прошлом, однако гармоничный режим взаимозависимости еще не успел его сменить. Этому мешал значительный уровень неомеркантилизма. Экономическое развитие и даже сотрудничество, когда оно действительно имело место, не могли установить мир во всем мире. Ядерная война казалась теперь более абстрактной угрозой, однако военная безопасность оставалась главной заботой каждого государства — во времена, когда бедные государства хватались за оружие с большей готовностью, чем богатые.
В этих опасных условиях требовался «мировой порядок, в котором были бы минимизированы насилие и экономические потрясения» и чьей формулой должна быть «умеренность плюс». Американская гегемония закончилась, и США должны были вести себя, повинуясь принципу «умеренности плюс». Для этого требовалась новая внешнеполитическая элита. Однако страна не могла отказаться от своих обязательств. Хоффман назвал книгу «Первенство или мировой порядок», однако главная ее мысль состояла в том, что, если США будут придерживаться правильного курса, они могут заполучить и то и другое — и первенство и мировой порядок. «Лидерство без гегемонии» — вот правильный путь вперед [86: 13-14, 151-161, 188, 208], В этом согласии с киндлбергеровским предпочтением лидерства и нежеланием гегемонии, как и в конструкции Хоффмана в целом, смысл гегемонии претерпел некоторые изменения. Сначала она ограничивалась экономическими отношениями в атлантическом сообществе, но теперь без лишних объяснений снова стала означать господство в мире в целом, оставаясь все такой же нечеткой в концептуальном отношении. Слабый термин «первенство», ничем не мотивированный и, на самом деле, не использованный в самой книге, были признаком нежелания смотреть правде в глаза.
Через три года американские споры вышли на новый уровень благодаря Гилпину, чья книга «Война и изменения в мировой политике» столь же решительно порвала с прошлым, как ранее Карр (главный источник вдохновения Гилпина) порвал в конце 1930-х с британским наследием. В этой работе военные, экономические и культурные формы власти объединялись в динамической аналитике гегемонии, реализующейся в международной системе, параметры которой определяются изменениями сил государств, ее составляющих. В периоды равновесия власть и престиж господствующих государств гарантировали подчиненность им более слабых государств, причем престиж, как писал и Карр, является эквивалентом авторитета во внутренней политике и в качестве такового — повседневной валютой международных отношений, благодаря которой применение силы становится ненужным. Периодами мира и стабильности были те периоды, когда порядок ранжирования был ясным и не ставился под вопрос. Структурные кризисы возникали тогда, когда намечалось расхождение между, с одной стороны, иерархией престижа, разделением территории, экономическим положением, правовыми или информационными правилами системы — отражающими интересы одного или нескольких господствующих государств — и, с другой, внутренними трансформациями в распределении власти, которые вели к появлению все более сильного соперника (или соперников) господствующих государств. Обычно такие кризисы разрешались гегемоническими войнами за контроль над системой, а сменявшие друг друга гегемонии определяли фундаментальный упорядочивающий принцип международных отношений. Как отметил Гилпин, таков был взгляд Ленина и Троцкого: неравномерное комбинированное развитие становится пороховой бочкой, взрывающейся между великими державами. «Теория международных политических изменений должна непременно быть еще и теорией империализма и политической интеграции» [52: 13-15, 23, 31].
Современные государства не пытались максимизировать либо власть, либо благосостояние (от которого зависела внутренняя стабильность), как предполагал антитезис Хоффмана, — они стремились оптимизировать разные свои цели, как они заданы на кривых безразличия. Экономический рост был условием одновременно военной силы и удовлетворенности народа, то есть двух обязательных для всякого гегемона условий. Однако гегемония со временем становилась все дороже. В обычном случае издержки на защиту росли по мере расширения сферы имперского контроля. Привычное богатство вело к росту доли потребления в национальном доходе и соответственно падению доли инвестиций. Распространение экономических, технологических и организационных знаний подрывало конкурентное преимущество гегемона, поскольку государства-новички пользуются более низкими издержками, растущими прибылями и преимуществами отсталости. Последнее, но не менее важное: обыкновением становятся слепое самодовольство и вера в естественную правоту господства. В США наблюдались признаки всех этих симптомов упадка. Издержки правления системой увеличивались прямо пропорционально ее экономической способности поддерживать международный статус-кво.
Это не значило, что обязательно будет еще одна гегемоническая война. Ядерное оружие, экономическая взаимозависимость, глобальные экологические проблемы — все это изменило расчеты относительно конфликта и кооперации. Но войны, конечно, никуда не делись и сегодня, когда государства становятся менее эгоистическими, а уровни жизни выравниваются. Главной проблемой международных отношений, как уже давно указал Карр, является проведение мирных изменений в установленном порядке, управляемом теми, кто его создал и кому он выгоден. Динамика неравномерного роста исключала стабильность, каким бы относительно устойчивым ни казался биполярный мир холодной войны. Затянувшаяся экономическая стагнация могла стать угрозой и для СССР на самом деле даже в большей степени, чем для США. Неравномерное развитие не пощадит и коммунизм. Быть может, своего часа ждет Китай?
Кеохейн с коллегами ничуть не смутились и продолжили гнуть свою линию. В следующем году после весьма продуктивной конференции в Палм-Спрингс журнал International Organization отметил десятилетие исследований «международных режимов» специальным, довольно пухлым, номером. И на этот раз в нем оказалась статья, выбивавшаяся из общего хора. Сьюзен Стрэндж, работавшая в Лондоне, отметила, что понятие международных режимов является американской академической модой, возникшей в ответ на признаки упадка США в проблемном контексте Уотергейта и неловких ходов Картера, а теперь и прихода к власти Рейгана, когда, реагируя на националистический поворот в Белом доме, либералы спрашивали себя, «как можно минимизировать ущерб», подлатав «механизмы многостороннего управления — „режимы"». Их озабоченность не имела оснований. В реальности Америка вовсе не сдавала, просто они предпочитали не видеть, чем она стала — глобальной империей, построенной за счет сочетания военных договоров и открытых рынков. «Эту особую форму нетерриториального империализма многим американским ученым, воспитанным как либералы и интернационалисты, трудно распознать. Американская гегемония, хотя и не является территориальной, в отличие от британской Индии времен Ост-Индской компании или британского Египта после 1886 года, все равно остается некоей разновидностью империализма. Тот факт, что сегодня нетерриториальная империя простирается шире британской и даже более терпима к претензиям мелких князьков, чем Британия к запросам махараджей, означает лишь то, что она больше по размеру и стабильнее. На ней не слишком сильно сказываются временные потрясения или срывы». Международные институты были в первую очередь стратегическими инструментами воли США, пусть и могли подгоняться под цели союзников и служить полезным символом устремленности к лучшему миру, которому правительства платят дань уважения, но не уделяют внимания. Америка, как и ее соперник, продолжала наращивать свой арсенал и постоянно вмешивалась в контролируемые ею зоны, применяя оружие. Доллар, как и прежде, доминировал в международных финансах, а дерегулирование рынков было делом не частных агентов, а американского государства. Несмотря на недавние перемены, США все еще оставались «бесспорным гегемоном системы» [177: 481-484].
Спустя десять лет США выиграли холодную войну. Боязнь упадка ушла в прошлое, и термины 1970-х, отражавшие тревогу, были больше не нужны. Соавтор Кеохейна Най, у которого политических амбиций было побольше, стал советником в Национальном совете безопасности при Картере и теперь, незадолго до прихода администрации Клинтона, где он будет работать помощником министра обороны в Пентагоне, мог написать эпитафию к их трудам. Работа «Обреченные на лидерство» (1991) стала манифестом новой эпохи. Гегемония была путаным и неприятным термином, который теперь следовало отправить на покой. США никогда не были гегемоном, не говоря уже об империи. Pax Americana, как до него Pax Britannica, был историческим мифом. США пользовались не чем иным, как «мягкой властью». Эта власть, действующая скорее за счет кооптации, чем принуждения, не менее важна, чем жесткая власть командования. «Если государство может сделать свою власть легитимной в глазах других, его желаниям будут меньше противиться. Если его культура и идеология привлекательны, другие последуют за ним с большим желанием. Если оно может установить международные нормы, согласующиеся с его общественной жизнью, ему, скорее, не понадобится меняться, если оно способно поддержать институты, которые поощряют другие государства направлять или ограничивать свою деятельность в том плане, который предпочтителен господствующему государству, ему, возможно, не потребуется упражняться в применении принудительной или жесткой власти» [148: 19, 108, 65, 31-32]. Благо, ни одна страна в мире не одарена в той же мере мягкой властью, как Соединенные Штаты, не обделенные и другими, более надежными, средствами осуществления своей воли. Богатые и мягкой властью, и жесткой, США — единственные, у кого есть возможность ответить на вызовы транснациональной взаимозависимости. Американцам нужно преодолеть свою самовлюбленность и местечковость. Перед ними стоит задача, которую только они могут выполнить,—стать лидерами в мире, который в этом остро нуждался.
7. Увядание
Американские дискуссии 1970-х по гегемонической стабильности и теории режимов развивались в «замкнутом сосуде», то есть их участники ничего не знали о наследии Грамши, к тому времени разошедшемуся уже по всему миру[7-1]. В Италии его рецепция определялась главным образом политической эволюцией Коммунистической партии Италии (КПИ), во главе которой Грамши некогда стоял. Его тетради, вывезенные после смерти Грамши Татьяной Шухт в Москву, были возвращены в Италию Тольятти, который сменил его на посту руководителя партии и смог понять, какую огромную интеллектуальную ценность они представляли. Извлечь для себя выгоду из них, впрочем, было сложно по двум причинам. В тюрьме Грамши высказывал взгляды других лидеров революции ленинского поколения — Люксембург, Троцкого, Бордиги, которые в сталинском коммунистическом движении периода холодной войны были все еще под запретом. Проблемой было и то, что Грамши за несколько дней до своего ареста в 1926 году резко раскритиковал атаку Сталина на левую оппозицию в России, о чем написал в письме Тольятти, который тогда находился в Москве, и, как позже пояснили своему партийному руководству в изгнании коммунисты, сидевшие вместе с Грамши в тюрьме, отвергал сектантскую линию Коминтерна, сложившуюся в начале 1930-х. Все эти неудобные факты приходилось скрывать, и в те времена партийные руководители говорили активистам, что те не могут правильно понять Грамши без помощи Сталина и Жданова. Первая публикация его тетрадей (в 1948 и 1951 годах) была соответственно отцензурирована. Тетради были представлены в качестве культурного наследия итальянцев в целом, и это было правильно, а благодаря богатству проведенных в ней исследований социальной, политической и культурной истории страны, а также возвышенности тюремных писем Грамши (намного сильнее отцензурированная версия которых вышла ранее), КПИ сумела завоевать исключительную репутацию, привлечь в свои ряды многих лучших итальянских интеллектуалов того времени и добиться общенационального статуса, которого не было тогда ни у одной другой западной коммунистической партии.
Репутация — это одно, а целенаправленное использование — совсем другое. Мысль Грамши, пусть и изложенная в обрывочных заметках, была в большей степени, чем все прежние марксистские построения, нацелена на синтез истории и стратегии, охватывающий наследие докапиталистического прошлого, закономерности капиталистического настоящего и цели социалистического будущего в Италии. Для КПИ значение имели стратегические выводы, которые можно было извлечь из того, что он оставил после себя. Тольятти вернулся в Италию в 1944 году, заявив, что антифашистская задача партии состояла в построении демократии, а не социализма, и попытался создать коалицию с христианскими демократами, одобрив для этого Латеранский договор с Ватиканом. КПИ, вытесненная из правительства христианскими демократами в 1947 году и понесшая тяжелое поражение на выборах в 1948 году, во время холодной войны не обращала особого внимания на место понятия «гегемония» в мысли Грамши. Партия придерживалась в Италии умеренного курса, продолжая верить в Советский Союз и его ортодоксию. Когда из-за венгерского восстания 1956 года разразился кризис, Антонио Джолитти, выдающийся диссидент партии, обосновал свой вполне взвешенный выход из нее оригинальностью концепции гегемонии, созданной Грамши, утверждая, что она обрисовала путь к власти на Западе, свободный от насилия и основанный на производительной силе рабочего класса и демократических институтах парламентского государства. «Понятие гегемонии пролетариата не является синонимом или разновидностью понятия диктатуры пролетариата» [53: 24-26, 29-37 и далее][7-2]. В ответ на это заместитель и преемник Тольятти Лонго твердо ему заметил, что не может быть и речи о том, чтобы противопоставлять гегемонию диктатуре пролетариата, поскольку они представляют собой взаимодополняющие цели [111][7-3].
К 1960-м эта позиция стала невозможной. XXII съезд КПСС, который в деле десталинизации пошел еще дальше XX-го, ослабил обязательства перед Москвой. В самой Италии Социалистическая партия Италии (СПИ), которая после войны тоже стала массовой, разорвала союз с КПИ, сформировав правительство вместе с христианскими демократами; вскоре после этого новое поколение рабочих, студентов и интеллектуалов стало творцом социального восстания, настоящего взрыва на левом фланге партии. И социалисты, и христианские демократы предложили собственные интерпретации Грамши, расходившиеся с его официальной канонизированной версией, выдвинутой ранее КПИ. В этих новых условиях партия со временем изменит свою позицию, решив, что Грамши все-таки не был ленинистом. Как объясняли теперь партийные теоретики, гегемония рабочего класса, к которой он стремился, является мирным демократическим процессом, плодом постепенного культурного развития в гражданском обществе, завоеванием электорального большинства в парламенте. Еврокоммунизм, как его теперь можно было бы назвать, должен быть совершенно консенсуальным, не замаранным тем или иным намеком на принуждение. Стремясь обойти социалистов и отбросить бунтарство, прилепившееся слева, партия объявила, что ее целью является «исторический компромисс» с христианской демократией ради развития итальянской демократии и поддержки правительств Андреотти в середине 1970-х.
Из этого плана ничего не вышло, результатом стало разве что постоянное снижение числа собираемых голосов[7-4]. Интеллектуалы СПИ, хорошо понимающие тактические намерения КПИ, сурово раскритиковали манипуляции с образом Грамши, указав на его безусловно ленинистские убеждения. В следующем десятилетии партия, еще больше сократившаяся, сделала еще один шаг — на этот раз, как заявили ее мыслители, чтобы преодолеть Грамши, образ которого совершил полный круг и вернулся к исходной точке, правда с противоположным знаком: необходимо было признать, что Грамши и в самом деле являлся продуктом тоталитарной культуры, для которой более нет места в политике КПИ. Когда в 1990-е партия распалась, его имя исчезло из любых официальных документов ее преемников, которые были один другого лояльнее к капиталистическому порядку. «Институт Грамши» сохранился, и его директор поясняет, что главная надежда Грамши, выраженная в его дневниках и, к счастью, не запятнанная разговорами об империализме, была на то, что «взаимозависимость мировой экономики будет восстановлена под влиянием США» — так что все дороги ведут в Вашингтон [185: 149][7-5]. С точки зрения другого важного сотрудника института, Грамши явно порвал с коммунизмом и стал в тюрьме либеральным демократом [112][7-6].
Возможность такого эпилога к рецепции Грамши у него на родине сама выступает комментарием к тому применению, которое нашли для его идей в КПИ. Формально главной была стратегия. Однако его концепции столь часто подгонялись под меняющиеся цели, что они стали не стратегией, а идеологией, приукрашивающей любую линию, которую партия выбирала в данный момент времени. Большая массовая партия была построена на славе Грамши, что само по себе значительное достижение, а вокруг его работ, написанных в тюрьме, скопилось множество исследований — к концу 1980-х их число достигло примерно четырех тысяч. Но когда партия развалилась, ей нечего было предъявить в качестве положительного результата всех этих метаний и поворотов, тогда как литература о Грамши оказалась по большей части комментаторским материалом; а не творческим применением. Предложенная Грамши концепция стратегии, несомненно, была завязана на его понятие гегемонии, но при этом была погружена в определенный контекст взаимосвязанных понятий — позиционной и маневренной войны, органического кризиса, парламентаризма, пассивной революции, подчиненных классов, классификации интеллектуалов и т. д., которые он создал в качестве эвристических инструментов исследования итальянского общества в целом: правителей и подчиненных, экономики и классов, религии и философии, города и деревни, образования и литературы, фольклора и искусства. Его примеру никто не последовал. Грамши начинал свои размышления с гегемонии Кавура и партии умеренных XIX века, и ему было что сказать о фордизме XX века. Но за все время существования КПИ партия не создала ни одной серьезной работы о христианской демократии, ни одного социологического исследования о трансформациях итальянского рабочего класса и промышленности, которые в 1960-е застали ее врасплох. Интерес к эмпирическим исследованиям оказался в загоне[7-7].
Поскольку КПИ никогда не покрывала все пространство итальянских левых, к которым относились и другие важные течения, многие из которых радикально расходились с коммунистами, партия никогда не могла полностью монополизировать наследие Грамши, поэтому в 1960-е и 1970-е наряду с решительным его отвержением как идеологии скомпрометированной формации возникли также альтернативные интерпретации, сфокусированные на ключевой роли фабричных советов в его ранних работах из Ordine Nuovo. Развиваемая в последних идея рабочей автономии противопоставлялась возвышению партии в качестве «современного принца» в «Тетрадях». Хотя такие трактовки часто были весьма воодушевленными, они представляли собой реактивные образования, а потому не могли сбить волну устоявшихся прочтений, основанных на его тюремных работах. Итоговым результатом, выявившимся тогда, когда и КПИ, и эти колючки у нее в боку со временем увяли, стала стерилизация наследия Грамши у него на родине.
Творческое применение, свободное от институциональных ограничений, получило развитие заграницей. В такой характеристике данных итогов неизбежно есть момент произвола. Однако среди вероятных кандидатов можно, несомненно, указать на четыре — именно четыре — ведущие интерпретации мысли Грамши, складывавшиеся с 1980-х и сопоставимые друг с другом. Образуют ли они какую-то закономерность? В определенных отношениях она более чем заметна. Все эти интерпретации принадлежат мыслителям, оказавшимся вдали от родины. Все были выработаны в англо-американском мире — в Англии, США, Австралии — с промежутком, их разделяющим, менее десяти лет, с середины 1980-х до середины 1990-х. Все были совершенно оригинальными конструкциями, но в то же время каждая являлась плодом общего проекта. И все они были завязаны на введенное Грамши понятие гегемонии.
8. Продолжения
I
Британия стала первой страной, в которой натурализация Грамши произвела то, чего не смогло сделать его окультуривание в Италии, а именно оригинальный содержательный анализ социальной и политической топографии страны, устанавливающий новые ориентиры для понимания того, что с ней может случиться. В Великобритании рецепция Грамши началась еще в первой половине 1960-х, когда за пределами Италии о нем почти никто не знал [45: 74-77]- Десятилетие спустя отправной точкой для распространения влияния его работ стала статья Реймонда Уильямса, в которой он одновременно поддержал и развил грамшианское понятие гегемонии, истолковав его в качестве «центральной системы практик, значений и ценностей, пропитывающих сознание общества на гораздо более глубоком уровне, нежели обычные идеологические понятия». Подчеркивая то, что любая гегемония включает в себя сложный комплекс структур, которые нужно постоянно «обновлять, воссоздавать и защищать», активно приспосабливая их к альтернативным практикам и значениям, а также, где это возможно, инкорпорировать последние, Уильямс провел различие между двумя типами оппозиционной культуры — остаточным и возникающим, то есть укорененным в прошлом и предвещающим возможное будущее. Существовали также другие практики и ценности, которые было труднее отнести к определенному типу и которые по-своему уклонялись от гегемонического захвата. Ведь, как подчеркивал Уильямс, гегемония по определению избирательна: «Ни один способ производства, а потому ни одно господствующее общество или общественный порядок на самом деле не исчерпывает человеческой практики, человеческой энергии и человеческих устремлений» [196: 8-13][8-1].
Эти аксиомы можно было принять за первые наметки построений Стюарта Холла, который приехал с Ямайки в начале 1950-х, чтобы изучать английскую литературу в Оксфорде. Основатель издания Universities and Left Review и редактор New Left Revieiw в 1960-м, в 1964 году Холл стал сотрудником Центра современных культурных исследований в Бирмингеме, работой в котором он будет руководить на протяжении десятилетия. Там, начиная с середины 1970-х годов, он начал анализировать радикальные изменения в британской политике и с поразительной точностью предсказал их результаты — что и по сей день остается наиболее проницательным грамшианским диагнозом общества из всех нам известных[8-2]. Когда в 1974 году было выбрано правительство лейбористов, в сборнике под названием «Сопротивление посредством ритуалов» он опубликовал в соавторстве анализ субкультур, существовавших в основном, но не исключительно в среде рабочей молодежи, признав эти субкультуры областью скрытого сопротивления господствующей культуре, чья гегемония никогда не была ни гомеостатически стабильной, ни абсолютно поглощающей, образуя в лучшем случае подвижное равновесие, которое следовало постоянно перестраивать, чтобы контролировать практики, находящиеся в противоречии с ним [77: 38-41 и далее]. Через три года в другой коллективной работе, «Управлении кризисом», упор был сделан на ряд эпизодов общественной паники, вызываемой пугающими призраками молодежного бунта, черной иммиграции, профсоюзного активизма, и это как раз во время острого экономического кризиса и общественных волнений, ставших причиной для социальной реакции мелкобуржуазного толка. Все более настоятельные требования укрепить общественную дисциплину отразились первым делом в смещении консервативной оппозиции от Хита к Тэтчер. Лейбористы, которые сначала попытались просто «управлять несогласием», теперь склонялись в русле этих (консервативных) настроений к более суровому курсу, когда маятник качнулся в другую сторону — к положению, в котором «принуждение становится как будто естественной и обыденной формой гарантии согласия». Это не значит, что британцам грозил силовой переворот сверху, по чилийскому образцу. Пусть даже все формы постлиберального государства оставались нетронутыми, более жесткая позиция государства могла опираться на «мощный источник народной легитимности» [69: З07-316]. На горизонте замаячил авторитарный популизм.
В своей статье, написанной за месяц до того, как Тэтчер в 1979 году пришла к власти, Холл предупредил о том, что социал-демократия показала себя не способной справиться с тем, что стало органическим кризисом послевоенного устройства, на который тэтчеризм дал свой убедительный ответ. Сплетая друг с другом противоречивые линии монетаристского неолиберализма и органицистского торизма, гэтчеризм пытался сконструировать новый здравый смысл, как его понимал Грамши. Отождествляя свободу с рынком, а порядок — с моральной традицией, он связывал возможности одного с ценностями другого в единый пакет, предназначенный для народного потребления. Это был гегемонический проект, привлекательные стороны которого можно было заметить уже в публичных дискуссиях о провалах школьного образования при Каллагане [76: 39-56].
После прихода Тэтчер к власти Холл разрабатывал эти положения на протяжении всего следующего десятилетия, верно предсказав ее вторую и третью победы на выборах. Левые в Британии, подобно итальянским левым в 1920-е, потерпели поражение, от которого долго не могли оправиться: так комплекс грамшианских понятий оказался важным для вполне конкретного опыта. Хотя Тэтчер действительно никогда не располагала количественным большинством избирателей, и ее политика постоянно критиковалось значительной частью населения, она привлекла на свою сторону солидный спектр социальных агентов, от банкиров и интеллектуалов до мелких работодателей и высококвалифицированных рабочих, которые образовали исторический блок в смысле Грамши. Интуитивно тэтчеризм понимал, что социальные интересы часто противоречивы, что идеологии не обязаны быть последовательными, что идентичности редко бывают стабильными, а потому работал и с тем, и с другим, и с третьим, чтобы сформировать новых субъектов — представителей народа, воплощающих его гегемонию. У этой гегемонии, как постулировал Грамши, обязательно должно быть определенное экономическое ядро: финансовое дерегулирование и приватизация социальных служб в пользу Сити, понижение налогов для среднего класса, рост заработной платы для высококвалифицированных рабочих, продажа муниципальных квартир массам в целом. Но все это вместе покрывалось грамшианской «пассивной революцией» в варианте Тэтчер: на уровне идеологии была обещана модернизация, давно уже назревшая в стране, которая так и не прошла второй раунд капиталистической трансформации, ожививший ситуацию в послевоенных Германии и Японии. Ключом к ее успеху был парадокс «регрессивной модернизации» [76: 162, 164, 167].
Это был, по всем критериям, весьма убедительный анализ режима Тэтчер. Но в нем, конечно, не уделялось внимания международной ситуации, в которой Рейган закрепил свое правление в США, основанное на более широкой поддержке, а неолиберальные рецепты получили распространение во всех развитых капиталистических странах. Однако ни одна политическая интерпретация конкретной ситуации не является исчерпывающей, а интерпретация Холла была выдвинута, чтобы служить определенной цели — найти наилучший способ сопротивления консервативному режиму в Британии и понять, как его устранить. Для этого, как доказывал Холл, против него нужно было выйти на его собственной площадке, предложив модернизацию другого типа, обещающую более широкое и радикальное освобождение от прошлого. За это пришлось бы бороться на всей территории гражданского общества, как и государства, и ни в коем случае нельзя было снова вставать в позу безразличия или презрения к областям и проблемам, традиционно считавшимся менее политически значимыми,— ген-деру расе, семье, сексуальности, образованию, потреблению, природе, а также труду, заработной плане, налогам, здравоохранению, средствам коммуникации. Следовало уважать малый бизнес, в рамках которого традиционный капитализм создал зону разнообразия и выбора, причем левым нельзя было «отрываться от ландшафта народных удовольствий». Но цель нужно было поставить вровень с амбициями противника: не реформировать, а трансформировать общество.
В Италии массовая партия, унаследовавшая идеи Грамши, выхолостила их, оказавшись не в состоянии создать как хоть сколь-нибудь оригинальный анализ общества, в котором существовала, так и последовательную стратегию его изменения. В Британии все наоборот: был выработан оригинальный анализ, а также предложены согласованные с ним элементы стратегии, но не было средства ее осуществления. Выступления Холла публиковались в журнале небольшой Коммунистической партии Великобритании, которая вслед за компартией Италии пошла по пути еврокоммунизма и самоисчерпания. Оставалась Лейбористская партия, иметь дело с которой Холлу было несколько сложнее. Критикуя ее недалекий этатизм и врожденную враждебность к демократическому участию; не говоря уже о мобилизации, он, тем не менее, более или менее открыто одобрил, поддерживая относительную модернизацию, решение руководителей партии очистить ее от левых, считавшихся даже еще более отсталыми, и, пусть не без колебаний, на первом этапе нахваливал Блэра[8-3], но потом пришел к выводу, что новые лейбористы, которые то и дело заговаривали о «современности», — это сплошное разочарование, поскольку они скорее расширили общие параметры тэтчеризма, а не отказались от них. Намного более глубокое понимание природы этой партии, которое можно было найти уже в работах первого этапа рецепции Грамши в Великобритании, предложенное Томом Найерном, могло бы уберечь его от этого разочарования [144: 38-65; 145: 3-62; 146: р. 3-15][8-4].
Собственно, Найери увидел другую сторону конъюнктуры, ставшей отправным моментом для проекта Холла, сторону, которая у последнего была упущена. По Грамши, в Италии критическим компонентом любой полной гегемонии было создание «национально-народной» воли и культуры. В интерпретации Холла, народный момент едва ли не полностью заслоняет собой национальный. Он практически не заметил давление, которому Тэтчер подвергла «великобританское» единство, начавшее разваливаться еще тогда, когда Найерн опубликовал «Распад Британии», в 1977 году,— и в тот же период Холл, со своей стороны, развивал концепцию распада послевоенного политического устройства. Для такого упущения была, возможно, причина. Британия, как объяснил Найерн, никогда не была нацией: это было составное королевство раннего Нового времени, которое пережило само себя, пользуясь своим имперским величием. Но то, что тэтчеризм превозносил в качестве все еще имперской идентичности — имевшей форму британских авианосцев в Южной Атлантике, — начинало превращаться в мультикультурный компромисс для иммигрантов со всей империи, не столь бесстрастных, как англичане, хотя и неизбежно зависимых от исторических символов Великобритании. Неудивительно, что выходец с Ямайки, осознающий судьбу не только своего собственного острова, но и Карибских островов в целом, будет отворачиваться от этого запутанного узла, стягивающего глотку национального, как его понимал Грамши[8-5].
Точно так же само это переутверждение нации на глобальном уровне, которым Тэтчер гордилась как ничем другим,— Британией, показавшей всему миру пример того, как ставить свободу выше всего остального, — со временем привело к ее поражению, поскольку европейская интеграция, ускорению которой она сама способствовала, захлопывалась над ней как капкан, а более изощренный итальянский политик обыграл ее в том смысле, который никак не учитывался в данном у Холла описании ее власти. Не высветил ли этот конечный результат трещины, существовавшие и ранее в его конструкции гегемонии при гэтчеризме? В определенном смысле с этим, конечно, не поспоришь. Двустороннее давление, разрывающее Британию, попавшую в ловушку между Эдинбургом и Брюсселем, и сегодня просто безмерное, было заметно уже тогда. Соответственно, хотя он подчеркивал усиление сдвига к принуждению в 1970-х) в 1980-х в его работах принижалась роль, сыгранная этим принуждением в закреплении власти Тэтчер внутри страны, когда две решающие победы, позволившие ей вырваться вперед после неопределенного старта, были в равной мере применениями силы: подавление забастовки шахтеров и колониальная война за Фолклендские острова. Ни то, ни другое не привлекло должного внимания. Когда к власти пришли новые лейбористы, обнаружилось похожее слепое пятно. Называть режим Блэра «великим шоу стояния на месте» было ни к чему: в самом скором времени он двинется с оружием в руках в Приштину и Басру. И наоборот, в согласии, которого добилась Тэтчер, акцент слишком часто ставился на идеологический захват в ущерб материальным причинам, а идеологические мотивы сами стали — не открыто, но в силу недостаточной осторожности — слишком уж легко абстрагируемыми от любой социальной подложки, словно бы они свободно парили и, повинуясь палочке достаточно умелого заклинателя, могли смещаться в любом политическом направлении. Холл мог этого шага не делать, и он действительно так и не сделает его. Но эту дверь он оставил открытой настежь.
II
На этом подходе сказалось одна параллельно развивавшаяся инициатива. В конце 1960-х, где-то через два десятилетия после приезда Холла с Ямайки, в Британию из Аргентины прибыл другой близкий ему по возрасту иммигрант. Эрнесто Лаклау, обучавшийся истории в Буэнос-Айресе, был активистом небольшой Национальной партии независимых левых, основанной Хорхе Абеляр до Рамосом, чуть ли не единственным социалистическим мыслителем своего поколения, который выступал за поддержку Перона с самого начала его правления в 1940-х[8-6]. После поступления в Оксфорд первой публикацией Лаклау на английском языке стал классический марксистский анализ социальной ситуации в Аргентине, которая привела к диктатуре Онгании и мощному политическому восстанию Кордобасо, которое было направлено против нее [101: 3-21]. Сменив при получении позиции в университете Эссекса историю на государственное управление, он издал сборник из четырех статей («Политика и идеология в марксистской теории»), в котором нашел весьма оригинальное, хотя и неизменно критическое применение понятиям Альтюссера, что оказало заметное влияние на идеи Холла о тэтчеризме [104][8-7].
К этому времени Лаклау тесно сотрудничал с еще одним иммигрантом, Шанталь Муфф, бельгийкой, получившей философское образование и преподававшей философию в Колумбии. Вместе в 1985 году они опубликовали «Гегемонию и социалистическую стратегию», в которой постструктурализм смело распространялся на марксистскую традицию, а политические симпатии были, скорее, на стороне еврокоммунизма, хотя на уровне теории этот подход открыто объявлялся постмаркистским. Проведя ревизию истории Второго и Третьего интернационалов, они пришли к выводу, что оба оставались пленниками иллюзии, утверждающей, что идеологии соответствуют классам, а историческое развитие в силу экономической необходимости ведет к триумфу социализма. Оба этих интернационала не смогли объяснить наличие не только разногласий в пределах рабочего класса как носителя этой гипотетической необходимости в форме революционного субъекта истории, но также в пределах некапиталистических классов, которые не являются частью рабочего класса. Проблемы эти были поставлены, но получили лишь невразумительные ответы со стороны Плеханова, Лабриолы, Бернштейна, Каутского, Люксембург и Троцкого. Первой, пусть и достаточно ограниченной, попыткой преодолеть их слабости стало ленинское понятие пролетариата, которое предполагало соотнесение целей пролетариата с требованиями крестьянства. Но реального прорыва добился именно Грамши, который углубил ленинскую концепцию в двух направлениях: превратил гегемонию из чисто политической в моральную и интеллектуальную форму лидерства и понял то, что субъектом гегемонии не может быть тот или иной заранее заданный на социально-экономическом уровне класс и что им должна быть политически сконструированная коллективная воля, то есть сила, способная синтезировать в национально-народное единство разнородные требования, которые не обязательно как-то связаны друг с другом, а потому могут разойтись в совершенно разных направлениях.
Это, как указали Лаклау и Муфф, было важным шагом вперед. Но у Грамши все равно сохранялась мысль о том, что пролетариат в структурном отношении является «фундаментальным классом». В то же время, полагая, что консенсуальная «позиционная война» может совмещаться на Западе с силовой «маневренной войной», он не смог окончательно порвать с большевизмом. Чтобы пойти вперед, нужно было освободиться от всех пережитков классового эссенциализма и отбросить всякую идею о маневренной войне. Не интересы создают основу для идеологий — скорее уж дискурсы создают субъект-позиции, и сегодня целью должен быть не социализм, а «радикальная демократия», одним из аспектов которой станет социализм (поскольку капитализм порождает отношения недемократического подчинения), а не наоборот, демократия — аспектом социализма [102: 178]. В следующей работе Лаклау, «О популистском разуме», ссылки на социализм практически исчезают, а популизм занимает место гегемонии в качестве более точного и сильного означающего того объединения — контингентного по своей природе — в одну коллективную волю демократических требований, которые по отдельности вполне могли бы вплетаться и в какой-нибудь антидемократический дискурс. Объединенный общим комплексом символов и аффективной привязкой к лидеру восставший народ может выступить против власти, господствующей над обществом, перейдя разделительную полосу дихотомического антагонизма, отделяющего народ от власть предержащих. Эта формальная схема, впервые предложенная во времена Тэтчер и Рейгана, предвосхитила процессы, получившие развитие в Европе через 30 лет, когда деиндустриализация сократила рабочий класс и разделила его, создав гораздо более фрагментированный социальный ландшафт и умножив число движений, и правых, и левых, выступающих против устоявшегося порядка от имени народа, так что «популизм» стал пугалом для элит по всему Евросоюзу[8-8]. Холл предвидел подъем тэтчеризма в 1980-е. Лаклау и Муфф сумели предсказать, не менее убедительно, реакцию против неолиберализма, которая началась после 2008 года. В этих условиях Лаклау и Муфф добились того, чего не смог сделать Холл, — их взгляд был усвоен политической силой с массовой поддержкой. В Испании лидеры «Подемос», у которых за спиной тоже был латиноамериканский опыт, открыто обосновывали свою стратегию требованиями гегемонического популизма[8-9]. И это по любым критериям было весьма существенное достижение для теоретической системы, техническая сложность которой многих отпугивала. Однако политическая эффективность — одно, а интеллектуальная убедительность — совсем другое. В этом случае апории были очевидны.
Лингвистический поворот в теории, следующий общей моде конца XX века, предлагает нам дискурсивный идеализм, разрывающий любые стабильные связи сигнификации с референтами. В данном случае результатом стало настолько полное отделение идей и требований от социально-экономических оснований, что в принципе они могут присваиваться любой политической инстанцией и использоваться для любого политического конструкта. У самого по себе спектра артикуляций нет никаких границ. Всё контингентно: экспроприация экспроприаторов могла бы стать лозунгом банкиров, секуляризация церковных земель — целью Ватикана; уничтожение гильдий — идеалом ремесленников, массовые сокращения — призывом рабочего класса, а огораживание — задачей крестьянства. Этот тезис опровергает сам себя. Не только все может быть артикулировано в любом направлении, все буквально становится артикуляцией. На первом этапе гегемония, а после популизм представляются в качестве определенного типа политики, одного из многих. Затем в характерном инфляционном движении они становятся определением политики как таковой, а потому сами оказываются излишними[8-10].
Хотя от экстравагантностей такого рода можно отмахнуться как от дани моде, у этой конструкции есть и другие, более значимые, черты. Гегемония, как и в традиции КПИ, появляется в качестве стратегии без топографии. Хотя национально-народное выдвигается как главная цель, его не сопровождает никакое описание национальной сцены. Поражает контраст с анализом перонизма в Аргентине, проведенным Лаклау до того, как он пришел к постмарксизму, — анализом образцовой глубины и детальности [104: 176-191][8-11]. Несомненно, частично эта перемена объясняется экспатриацией, и именно такая перемена позволила этой лишенной корней стратегии так хорошо разойтись. Но здесь была задействована и особая концептуальная логика. Как только гегемония стала по определению популистской, больше не нужно было уточнять характеристики социальной шахматной доски. «Язык популистского дискурса, будь он левым или правым, всегда должен оставаться неточным и колеблющимся»,— отметил Лаклау, однако эта «размытость и неточность» не является когнитивным пробелом, поскольку социальная реальность сама предельно разнородна и подвижна [104: 118]. Соответственно, нет нужды в том тонком анализе, который Маркс предложил для Франции, Ленин — для России, Мао — для Китая, а Грамши — для Италии. А может быть, нет и возможности такого анализа. Расхваливая выдвинутый движением Occupy лозунг «99 против 1 процента», испанский коллега Муфф объясняет, что гегемонический дискурс является «не статистическим, а пер формативным» [43: 105][8-12]. Для такого пер форматива частности могут стать препятствием, а неопределенность — преимуществом, то есть условием политического эффекта.
Самым размытым и неопределенным для популистского разума неизменно оказывается идентификация противника, поскольку описать его слишком точно или реалистично — значит рисковать тем, что сеть гегемонических интерпелляций будет заброшена слишком недалеко, обнажив эту риторику в качестве фикции, коей она и является. Эррехон предусмотрительно отказывается расшифровывать, кто является той la casta («кастой»), против которой «По-демос» призывает la gente («людей») выступить в его собственной стране[8-13]. Политические мотивы такой сдержанности понятны. Однако ее теоретическим эквивалентом оказывается пустота. Если Грамши начал свои размышления о гегемонии с анализа правящего в период Рисорджименто блока, в конструкции Лаклау и Муфф верхи практически исчезли, растворившись в абстракциях и став попросту «институтами» или «институциональной системой», которая далее никак не уточняется, как будто, если наделить силы, выстроившиеся против низов, каким-то узнаваемым лицом, мы лишь ослабим моральный дух этих низов. Поэтому вполне логично то, что, несмотря на формальные заверения в обратном, гегемония на практике формируется лишь подвластными: «Не бывает гегемонии без конструирования народной идентичности из множества демократических требований» [104: 95]. Грамши был бы крайне удивлен. Такой гегемонической унификации противостоит «институциональная дифференциация», то есть теневое разделение и правление, которое остается анонимным[8-14]. Нормальные в историческом смысле формы гегемонии, которые всегда были формами господствующих классов, убраны со сцены.
Соответственно, в работе «О популистском разуме» политические эксперименты, которые приводятся в качестве иллюстрации ее аргументов, не сводятся в общую таблицу, которая бы предполагала рассмотрение не только конструирования новых субъект-позиций снизу, но и объективных условий такого «популистского разрыва», необходимых для его формирования, как и его объективных результатов в США конца XIX века, Аргентине XX века или где бы то ни было еще. Симптоматично то, что судьба американского популизма 1890-х удостоилась лишь трех нейтральных слов: «Победила институциональная дифференциация» [104: 208]. С этой позиции Тольятти, Тито и Мао были заслуживающими похвалы национал-популистами, хотя им и мешал отсталый интернационализм Коминтерна; почему один должен был потерпеть неудачу, а другие нет — это уже не обсуждается. Где всё решают интерпелляции, у определений мало веса. «Подемос» сегодня может отвергать социал-демократию, а завтра объявить себя новой социал-демократией [89][8-15]. Возможно, это просто «проблемы роста». Но все это уже очень далеко от заключенного из Бари.
III
В Азии идеи Грамши получили совершенно иное развитие. В 1947 году молодой бенгальский активист и член Коммунистической партии Индии прибыл в Париж в качестве сотрудника Всемирной федерации демократической молодежи, созданной Советским Союзом с началом в Европе холодной войны. Ранаджиту Гухе было двадцать пять лет. Следующие шесть лет он провел в путешествиях, как классический эмиссар Коминтерна, побывав на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Восточной и Западной Европе, в СССР и Китае, а потом вернулся в Бенгалию, где сначала работал на заводах и в доках, а потом преподавал и изучал историю как сотрудник местных колледжей. В 1956 году он вышел из партии из-за советского вторжения в Венгрию, а через три года переехал в Англию, где в течение двух десятилетий читал лекции в Манчестере и Суссексе. В 1970-1971 годах его академический отпуск, который он проводил в Индии, совпал по времени с жестким подавлением крестьянского восстания наксалитов в Бенгалии, в котором друг с другом договорились обе ветви индийского коммунистического движения, расколотого с 1964 года на два крыла,— прорусское и прокитайское[8-16]. Приняв решение заниматься далее крестьянским сопротивлением, Гуха к концу десятилетия собрал в Суссексе группу намного более молодых индийских историков, чтобы выпускать новый журнал Subaltern Studies, само название которого указывало, на какие источники он опирался. «В нашем стремлении учиться у Грамши, — писал Гуха позже, — мы могли полагаться только на свои силы и не были ничего должны ведущим коммунистическим партиям», которых проект всегда сторонился. «С нашей точки зрения, обе эти партии представляли собой лево-либеральное продолжение индийской властной элиты как таковой» [63: 289].
В знаменитом манифесте, с которого начался этот журнал и в котором атаке подверглась общепринятая националистическая историография движения за независимость, поскольку она ограничивалась политикой элит, Гуха призвал к изучению борьбы подчиненных классов — рабочих, крестьян, непромышленной городской бедноты и нижних слоев мелкой буржуазии,— в качестве автономной области, состоящей из обширных сегментов народной жизни и сознания, избегавших официальных нарративов индийской буржуазии, неспособность которой включить их в зону своего лидерства означала «исторический провал нации в попытке стать самой собой» [64: 1-8].
Издаваясь на протяжении 30 лет, журнал Subaltern Studies оставил неизгладимый след в историографии Южной Азии, реализуя свою программу в оригинальных исследованиях народных форм сопротивления, в своего рода «истории снизу», более близкой к работам Э.П.Томпсона, чем к Бирмингемской школе. Со временем, после того как Гуха в конце 1980-х отошел от руководства, произошли перемены, в чем-то похожие на те, что имели место в работах Холла и Лаклау. Под влиянием постструктурализма все более заметным становился поворот к дискурсивным конструкциям власти и культурным, а не материальным, факторам сознания и действия. Однако же (и в этом заключалось важное отличие) реакция на официальные заявления независимого индийского государства, желавшего быть современным и прогрессивным, отвергаемые как идеологическое наследие британского колониального правления, со временем вылилась в сентиментальное превознесение крестьянских сообществ и перекос в сторону неонативизма[8-17].
Сам Гуха, который, как человек предшествующего поколения, получил закалку в международном коммунистическом движении, в те времена еще не расколотом, изменился несильно. «Основные особенности крестьянского повстанческого движения в колониальной Индии», ставшие плодом десятилетней работы и вышедшие через несколько месяцев после первого номера Subaltern Studies, объединяли в себе качества, которые вместе у историков встречаются редко: сильную формально-теоретическую логику, скрупулезное эмпирическое исследование, широкий спектр выверенных сравнений, не говоря уже о запоминающейся литературной тональности.
Цель «Основных особенностей» состояла в том, чтобы показать «независимость, непротиворечивость и логику» концепций и действий крестьян, бунтующих против землевладельцев, кредиторов и чиновников при колониальном правлении, причем эти концепции и действия должны рассматриваться не в качестве цепочки восстаний, а как репертуар форм, начиная с «отрицания» и заканчивая «неоднозначностью, модальностью, солидарностью, распространением и территориальностью». К ним Гуха применил свой удивительно комплексный интеллектуальный аппарат, опирающийся в числе прочего на Проппа, Выготского, Лотмана и Барта, с одной стороны, на Леви-Стросса, Глюкмана, Дюмона и Бурдье — со второй, на Хилтона, Хилла или Лефевра — с третьей, не говоря уже о повсеместно применяемом у него Мао[8-18]. Его главная цель состояла в том, чтобы реабилитировать индийских крестьян как субъектов своей собственной истории и творцов своих собственных восстаний. Но, в отличие от многих его последователей, он никогда не отказывался от описания ограниченности этих субъектов и творцов в колониальные времена, не считая нужным приписывать «фальшивый секуляризм» повстанческим общностям и отмечая то, что классовое чутье могло стать предметом манипуляции, превращаясь в расовое чувство, что крестьянство могло «порождать не только бунтовщиков, но кроме того коллаборационистов, информаторов и предателей», а также подчеркивая как часто вооруженные повстанцы появлялись именно в «однокастовых поселениях», которые не могли не составлять меньшинства деревень [65: 173, 177, 198, 314]. Ему был чужд взгляд через розовые очки, свойственный другим поколением.
Поэтому вполне логично то, что после «Основных особенностей» он выпустил небольшую книгу «Господство без гегемонии» — настоящий шедевр и, возможно, наиболее поразительную из всех работ, созданных на основе идей Грамши. Ее тема — это структуры власти при британском колониальном правлении и в борьбе за освобождение. Описывая их, Гуха разработал аналитическую модель, отличающуюся такой ясностью и силой, что мог без рисовки, но с полным основанием надеяться, что она позволит разрешить двусмысленности, сохранявшиеся в работах самого Грамши. В колониальной Индии присутствовало, конечно, огромное разнообразие неравных отношений. Но все они предполагали отношение Господства (Г) к Подчинению (П), каждое из которых было построено, в свою очередь, из другой пары взаимодействующих элементов: Господства посредством Принуждения (Пр) и посредством Убеждения (У) и Подчинения посредством Коллаборации (К) и посредством Сопротивления (С), как на данной схеме:
В любом конкретном обществе и в любой момент времени отношение Г/П определяется тем, что Гуха, по аналогии со строением капитала, назвал «органическим строением» власти, зависящим от относительных весов Пр и У в Г и К и С в П которые, как он доказывал, всегда остаются контингентными. Гегемония была представлена как условие господства, при котором У перевешивает Пр, то есть убеждение перевешивает принуждение. «Если определять ее в этих категориях, — продолжал Гуха, — гегемония действует как динамическое понятие и оставляет даже наиболее убедительную структуру Господства всегда и по необходимости открытой для Сопротивления». Но в то же самое время, «поскольку гегемония, как мы ее понимаем, является частным состоянием Г, а последнее образовано Пр и У, не может быть гегемонической системы, в которой У перевешивало бы Пр до такой степени, чтобы последнее было бы полностью устранено. Случись это, и господства бы не было, а потому и гегемонии». Эта концепция, как он отмечал, «избегает грамшианского сопоставления господства и гегемонии как антиномии», что, «к несчастью, слишком часто становилось теоретическим предлогом для либерального абсурда, то есть абсурда непринудительного государства, несмотря на противоположное движение в трудах самого Грамши»[8-19].
Вооружившись этой теоретической схемой, Гуха перешел к изложению характерных идиом, задействованных в четырех составляющих Г и П при британском правлении. По определению, в колониальном государстве Пр преобладало над У, поскольку британское правление могло похвастаться «одной из крупнейших постоянных армий в мире, продуманной системой наказаний и хорошо обученными полицейскими силами», и на вершине всего этого находилась бюрократия, наделенная чрезвычайными полномочиями. Как только британская власть устоялась в виде «регулируемой империи», идиома завоевания уступила места идиоме «порядка», дав разрешение не только на рутинное подавление, но и на мероприятия в сфере здравоохранения, принудительные работы, призыв в армию и т. д. Порядок, однако, не действовал сам по себе, но во взаимодействии с местной идиомой, его дополняющей, — danda или «наказанием», что обозначало все традиционные формы власти, основанные на силе и страхе как проявлениях божественной воли в делах государства. С другой стороны, в составляющей У, входящей в Г, где с подчиненным населением пытались установить неантагонистические отношения, характерной идиомой британского колониального правления было «усовершенствование» — образование в западном стиле, патронаж индийского литературного и художественного творчества, ориенталистские проекты по сохранению наследия, кооптирование в администрацию, меры по поддержке деревни, работы по созданию современной инфраструктуры и т. п. Это, в свою очередь, нашло дополнение в индуистских доктринах «дхармы», понимаемой в качестве моральной обязанности выполнять функции, возложенные на каждого человека в кастовой иерархии, то есть как идеал, вполне подходящий современным доктринам классового примирения, развитым у Тагоpa или Ганди.
Что касается П, его составляющие также имели колониальную и колонизированную версии. Коллаборация внедрялась британскими доктринами «покорности» (важными для Ганди до Амритсара), восходящими к Юму и распространяемыми через раннее бентамианство, а также индийскими идеологиями «бхакти» (или «лояльности»), начала которых можно найти в «Бхагават-Гите». Сопротивление, в свою очередь, могло кодироваться либо в таких британских терминах, как «оправданное несогласие», отсылающих к либеральным понятиям естественных прав, восходивших к Локку и выражавшихся (в основном) в виде легальных маршей, демонстраций, петиций и т.п., либо в таких местных терминах, как «дхармический протест», обозначающих массовые акции вроде восстаний, дезертирства, «сидячих забастовок», прекращения работы, которые не оформляются той или иной идеей прав, однако проникнуты возмущением неспособностью правителей выполнять свои моральные обязанности по защите подвластных и вспоможению им.
Власть британского колониального правления, опирающаяся на значительное преобладание Пр над У, была господством без гегемонии. Как обстояли дела в национальных движениях против этого правления? Поскольку Индийский национальный конгресс не обладал государственной властью, к которой стремился, но пока не мог достичь, а электоральное представительство ограничивалось достаточно узкими выборами, его претензии на согласие народа опирались на народную мобилизацию. Это, однако, было ложной установкой, причем даже не в одном отношении. Конечно, национальное движение вызвало у масс подлинный энтузиазм. Но, поскольку его буржуазные лидеры не могли интегрировать классовые интересы рабочих и крестьян в движение, принуждение в той или иной форме с самого начала присутствовало в движении. Ранние кампании свадеши были отмечены уничтожением товаров, запугиванием и применением кастовых санкций. Затем, во времена «несотрудничества», появилась ханжеская «душевная сила» дисциплинарной системы Ганди, нацеленная на подавление любых необузданных или эгалитарных проявлений народного чувства, заклейменных как «власть толпы». Элиты, руководящие движением за независимость, стремились к гегемонии, но, поскольку они подавляли, где только можно, любой намек на стихийную непосредственность борьбы, они не могли не обратиться к методам принуждения и из-за мести вытесненного в конечном счете не могли уже сдерживать общественные силы, которые никакие могли преодолеть, хотя и постоянно отрицали их [66: 131-132]. В сопротивлении У тоже не смогло возобладать над Пр. У правителей и претендентов на правление было нечто общее — дефицит гегемонии.
Сила и справедливость этой критики национального движения, кульминацией которого стал раздел Индии, поражают. Но, перенося те же аргументы на правление конгресса над сократившейся после получения независимости Индией, Гуха несколько перегнул палку[8-20]. Он слишком хорошо понимал и мог с полным основанием подчеркивать присвоение конгрессом целиком и полностью британского аппарата принуждения, как и его безжалостное применение в том же самом режиме военного и полицейского насилия ради подавления любого сопротивления его правлению. Но он проглядел новые формы убеждения, которыми обладала партия, имевшая в своем распоряжении постимперское государство и гражданское общество. Избирательное право стало всеобщим, и регулярные выборы, проводимые по подправленным должным образом британским образцам, могли превратить половину или около половины голосов страны в подавляющее большинство мест в парламенте, воплощающее народный суверенитет, недостижимый при британском колониальном правлении, то есть в консенсуальный механизм, являющийся, безусловно, наиважнейшим в структуре легитимности при капитализме. Поэтому и религия могла уже не вызывать столько распрей, когда социальный облик партии как индуистского образования намного более точно совпал с контурами страны, а кастовые структуры удерживали электоральную поддержку в рамках лингвистических или этнических границ. В данных условиях Конгресс получил в наследство подлинную гегемонию. Быть может, этот вывод, как и его эпилог в современной «хиндутве», был слишком неприятен.
В 1970-х, когда Гуха готовил «Элементарные аспекты», он выступил на политической сцене Индии с рядом громких разоблачений пыток и репрессий, совершенных при правлении конгресса[8-21]. В 1980-х, когда начали выходить Subaltern Studies, он перестал высказываться на политические темы. Была ли здесь связь? Возможно, подавление движения наксалитов в Бенгалии погасило в нем всякую надежду на то, что в обозримом будущем индийские массы смогут сбросить с себя структуры того, что выдавалось за их освобождение. Возможно, он не стал высказывать убежденность в том, что в такой дикости никакая стратегия в том смысле, в каком ее понимал Грамши, невозможна. Но такой вывод ничуть не умаляет интеллектуального изящества и политической проницательности «Господства без гегемонии».
IV
В работах Джованни Арриги, родившегося в год, когда умер Грамши, два направления мысли о гегемонии, которые ранее всегда оставались разделенными, — о властном отношении между классами и между государствами — впервые соединились в устойчивый синтез. Необычайная профессиональная траектория Арриги, который начинал с менеджерской позиции в компании Unilever, а потом занимался местными общественными движениями в Родезии, организацией борьбы рабочих в Италии и исследованиями крестьянских миграций в Калабрии, позволила ему приобрести уникальный опыт — в мультинациональной корпорации, в антиимпериалистических освободительных движениях, в заводских восстаниях, среди крестьян и рабочих, — который пригодится для его проекта. Из всего этого возникла появившаяся в то же время, когда Холл работал с тэтчеризмом, Лаклау — с популизмом, а Гуха — с крестьянским повстанчеством, работа «Геометрия империализма» (1977), в которой Арриги пытался объединить альтернативные парадигмы Гобсона и Ленина в упорядоченный комплекс положений, описывающий линию, ведущую от Британской империи к германской и американской, а также соответствующие трансформации капитала. Отвечая своим критикам в послесловии, написанном позже (1982), Арриги рассуждает о том, что было бы лучше обозначить последовательные фазы империализма, которые он исследовал, в качестве циклов гегемонии, наброском теории которой можно было считать его текст [8: 172-173]. В том же самом году его статья, вошедшая в коллективный сборник «Динамика глобального кризиса» и опиравшаяся на идеи, развитые, когда он был лидером «Gruppo Gramsci», одного из революционных течений мощных рабочих и студенческих движений конца 1960-х и начала 1970-х в Италии, совершенно ясно показала то, что он начал связывать внутригосударственный и межгосударственный уровни гегемонии, создавая единую концептуальную систему [140, p. 108][8-22].
К этому времени Арриги переехал в США и начал работать в SUNY в Бингемптоне с Иммануилом Валлерстайном. Они продуктивно влияли друг на друга, обмениваясь источниками: первый передал второму Грамши, а второй первому — Броделя. В «Долгом двадцатом веке» (1994), который Арриги задумал много лет назад в Козенце, мечтая примирить Смита с Марксом и Вебера с Шумпетером, он соединил теорию с историей, создав работу, поражающую ясностью стиля и экономностью формы. По Арриги, как и по Грамши, гегемония объединяет силу с согласием. Однако, в отличие от своих современников, Арриги делал основной упор не на идеологию, а на экономику. На международном уровне условием гегемонии представлялась превосходящая модель организации производства и потребления, стимулирующая не только соответствие идеалам и ценностям гегемона, но и повсеместную имитацию его как образца в других странах. В свою очередь, такая гегемония приносит пользу правящим группам всех государств, определяя предсказуемые правила для международной системы и защищая от общих угроз этой системе. Гегемония в этом смысле противопоставляется простому «эксплуататорскому господству», при котором сильное государство добивается повиновения или дани от других посредством применения силы, не предоставляя им компенсирующих выгод. И внутри государства, и между государствами гегемония оказывается «дополнительной властью, которая накапливается господствующей группой благодаря своей способности представлять все проблемы, вокруг которых возникают разногласия, "общезначимыми"». На международном уровне это означает, что лидерство накапливается любым государством, которое может «обоснованно притязать на роль движущей силы общей экспансии коллективной власти правителей над подданными» [208: 70-71]. В обычном случае такие претензии приводились в жизнь не только посредством управления, но и через трансформацию ранее существовавшей системы государств, кладущую начало новой комбинации капитализма и территориализма, автономных, но взаимосвязанных динамик накопления капитала на уровне предприятия и пространственного расширения на уровне государства.
Так выглядит аналитический аппарат для изучения цепочки всемирно-исторических гегемоний, прослеживаемой в «Долгом двадцатом веке». После протогегемонии городов-государств Венеции и Генуи в Италии времен Возрождения Арриги в своем изложении переходит к трем великим гегемониям Нового времени, выделенным им: сперва к Голландской республике XVII века, затем к Британской империи XIX-го и наконец к США XX века[8-23]. Эта цепочка развертывается под влиянием циклов накопления капитала, которые подчиняются марксовой формуле Д-Т-Д'. Капиталистическое расширение, наиболее передовые фирмы которого сосредоточены у гегемона, первоначально является материальным, то есть является инвестированием в производство товаров и завоеванием рынков. Но со временем конкуренция понижает прибыли, поскольку ни один блок капитала не может контролировать пространство, в котором конкурирующие блоки создают техники или товары, понижающие отпускные цены. В этот момент накопление в государстве-гегемоне — и не только — переключается на финансовое расширение, поскольку государства-соперники конкурируют за мобильный капитал, стремясь к увеличению территорий. При усилении конкуренции и возникновении военных конфликтов гегемония рушится, что приводит к периоду системного хаоса. Из хаоса в конечном счете возникает новая гегемоническая держава, которая снова запускает цикл материального расширения на новом основании, способном служить интересам всех других стран, а также некоторым или даже всем интересам их подданных. В этой последовательности каждая следующая гегемония была более полной, то есть имевшей более широкую и более сильную базу, чем предыдущая: Голландская республика оставалась гибридом города-государства и национального государства, Британия была национальным государством, а США является континентальным государством.
На какой же стадии этой истории мы находимся сегодня? Еще с самого начала Арриги утверждал, что послевоенное материальное расширение капитализма при американской гегемонии сошло на нет к концу 1960-х и что после кризиса 1970-х оно сменилось циклом финансовой экспансии, используемой США, чтобы сохранить свою глобальную власть, хотя ее время уже прошло[8-24]. Арриги предсказывал, опять же очень давно, что эта финансовая экспансия окажется неустойчивой и что после провала, который наступит через какое-то время, начнется окончательный кризис американской гегемонии. Что же нас ждет впереди? В 1994 году Арриги указал, что беспрецедентной особенностью ожидаемых сумерек американской гегемонии является, в отличие от заката голландской и британской гегемонии, наметившееся расхождение между военной силой и финансовой, поскольку Америка сохранила за собой глобальное превосходство в вооруженной силе, пусть она и скатилась до статуса нации-должника, когда общемировая касса переехала в Восточную Азию. Ничего подобного ранее не происходило. Означает ли это, что с исчезновением гегемона снова наступит период системного кризиса?
Не обязательно. В своих более поздних работах Арриги заигрывал с идеей о том, что мир мог бы наконец избежать логики капитала и циклов гегемонии, как и их деструктивных следствий. Бродель учил тому, что капитализм не следует приравнивать к производству для рынка, — капитализм, с его точки зрения, является возведенной над таким производством финансовой надстройкой, требующей, чтобы функционировать, государственной власти. Не может ли рыночное общество, как его некогда представлял себе Смит, который не одобрял купеческую жадность и колониальную агрессию, предложить эгалитарную альтернативу капиталу в том виде, в каком его описал Маркс? Не позволяли ли наметить такой путь те схемы развития, которые существовали в Восточной Азии до Нового времени и до прихода туда западного империализма? Не может ли поразительный рост Китайской Народной Республики в новом столетии, когда ее экономика способна перерасти экономику США, корениться в возвращении к этой динамике былых времен? [208: 34-50, 68-75; 348-372]. В конечном счете на это можно было ответить лишь гипотетически, но именно в эту сторону — к «возникновению всемирного рыночного общества, завязанного на Восточную Азию и основанного на взаимоуважении мировых культур и цивилизации», к «социально и экологически устойчивой модели развития» — устремились в итоге надежды Арриги[8-25].
Эти надежды были связаны с пробелом в осуществлении его исходного проекта. Трудящиеся (labour) — основной элемент его синтеза, который он планировал создать в середине 1970-х, прежде чем переехал в США, — в «Долгом двадцатом веке» отсутствовали. Он отметил, что их оказалось сложным включить в структуру, управляемую динамикой финансиализации, которую прежде он не слишком хорошо понимал [11: 73-74][8-26]. Но когда он перешел к написанию своего сиквела, «Адама Смита в Пекине», там их тоже не было. За этой лакуной скрывается определенное разочарование. Он знал, чем был рабочий класс (working class) на Западе в зените его послевоенных движений, в бурной Италии 1960-х и начала 1970-х, и когда он работал над «Долгим двадцатым веком», он не утратил глубокой преданности глобальному делу трудящихся. За четыре года до выхода книги он опубликовал поразительную реконструкцию их истории со времен «Манифеста Коммунистической партии». С точки зрения Маркса, будущее рабочего класса как могильщика капитализма обусловлено сочетанием коллективной силы, которую дала ему современная промышленность, и социальной нищеты, вызываемой логикой пауперизации, присущей капиталистическому производству, нацеленному на прибыль, то есть позитивностью, благодаря которой он способен низвергнуть власть капитала, и негативностью, побуждающей его так поступить.
Но история разделила то, что Маркс соединял. Когда развитая промышленность максимально увеличила объективную социальную силу рабочего класса, в Скандинавии и англоязычных странах, а после войны в Западной Европе и Японии рабочие выбрали путь Бернштейна, то есть реформизма. Там, где уровень экономического развития оставался низким,— в России и в других восточных странах — материальная нищета создала субъективные условия для ленинского пути к революции. Но после спада 1970-х оба направления развития погрузились в кризис, когда вывод рабочих мест в южные страны ослабил рабочий класс на Западе, а индустриализация усилила его на Востоке, что привело к перекомпоновке различных частей рабочего класса, долгое время остававшегося поляризованным. «Солидарность» в Польше и забастовки в Корее и Бразилии стали признаками глобального выравнивания условий, которое обещало возможность осуществления предсказаний Маркса [7: 29-63].
Но сохранилась ли такая возможность после еще одного десятилетия неолиберализма, когда «Солидарность» исчезла, а профсоюзное движение пришло в упадок во всех западных странах? «Хаос и управление в современной мир-системе», написанная Арриги вместе с Беверли Силвер, оказалась работой более осторожной, но все же не пессимистичной. Действительно, теперь был введен в действие «враждебный трудящимся международный режим», но не может ли работать также и обсуждаемое у Поланьи контрдвижение сопротивления коммодификации? В конце концов, социал-демократы были у власти в тринадцати из пятнадцати государств Евросоюза. «Ослабление социальных движений — в частности рабочего, — которое сопровождало глобальную финансовую экспансию в 1980 и 1990 годах, является в основном конъюнктурным феноменом», — пришли к выводу Арриги и Силвер, предсказывая, что с высокой вероятностью может начаться новая волна социальных конфликтов [13: 12-13, 282]. Отзвук этого ожидания чувствуется также в «Адаме Смите в Пекине», где вкратце рассматриваются сельские и городские беспорядки в Китае, имеющие, правда, лишь отдаленное отношение к основной линии аргументации этой книги.
В какой-то мере причины такого поворота в мысли Арриги следует искать в ее исходной итальянской матрице. Группа, которой он руководил в начале 1970-х, составляла часть более широкого движения операизма, одно из важных направлений которого (с Марио Тронти в роли наиболее влиятельного теоретика) восхищалось тем, чего американские рабочие добились в крепости фордизма под дальновидным руководством Франклина Делано Рузвельта. Унаследовав чрезмерно позитивную оценку «Нового курса» от этой итальянской традиции, Арриги приписывал американской гегемонии на пике ее развития способность проецировать вовне модель глобального благосостояния, соответствующую принципам «Нового курса», словно бы Вашингтон действительно отвечал «общему интересу подданных всех государств». Поскольку он забыл о своем собственном предостережении, согласно которому «претензия господствующей группы на представление всеобщего интереса всегда является более или менее фальшивой» [10: 367], неправильная оценка того, чего добились «Объединенные горнорабочие Америки» и «Конгресс производственных профсоюзов», подготовила возможность того, что впоследствии трудящиеся выпали из его внимания. В то же самое время в его репертуаре политического опыта всегда имелось нечто иное — сила восстания как источника политического изменения, свидетелем которого он стал в Солсбери и Дар-эс-Саламе и к которому никогда не терял привязанности. Глобальное неравенство между государствами было, в конце концов, гораздо больше, чем между классами в развитых западных государствах. Третий мир не подчинится без сопротивления. Предсказания Маркса не сбылись в Детройте, но интуиция Смита может обрести форму в Пекине.
Его ранний опыт оказал и другое воздействие на его более поздние работы. В отличие от общего направления операизма, его группа была откровенно грамшианской. Но в своей теоретизации «рабочей автономии» она делала главный акцент не на [тюремные] тетради Грамши, а на тексты по фабричным советам, которые вышли в Ordine Nuovo, до его заключения. Реагируя на инструментализацию его тюремных сочинений силами КПИ, она не особенно обращала внимание на встречающиеся в них «национально-народные» темы, которые стали предметом откровенного презрения в других секторах операизма. Это сказалось и на Арриги. Перестраивая идеи Грамши ради их переноса с национального уровня классов на международную систему государств, он подверг его наследие более радикальному и творческому преобразованию, чем кто бы то ни было другой. Но хотя получившаяся в итоге архитектоника включала в себя оба уровня, не было сомнений в том, какой именно преобладает. Первостепенное значение имела система, тогда как составляющие ее государства отодвигались далеко на задний план. «Наш интерес к процессам на уровне отдельных единиц, — отмечается в «Хаосе и правлении», — строго ограничен ролью, которую они играют в качестве источника системных изменений при гегемонических переходах» [13: 35-36]. Отдельные страны, таким образом, всегда были слабым звеном в его грамшианской конструкции, так что структуры гегемонической власти внутри них редко приобретали рельефность. Это могло вести к индифферентизму, поскольку правителям и Америки, и Китая — рыцарям «Нового курса» или эпохи реформ — выгодны эти слишком широкие мазки, не схватывающие ни их, ни то, как они держат подданных своими когтями.
Когда грамшианская концепция гегемонии была столь успешно перенесена с внутригосударственного уровня на межгосударственный, за это пришлось заплатить определенную цену. Арриги знал о работе Гухи, постоянно цитировал ее, когда обсуждал упадок глобальной власти США, которая тоже стала «господством без гегемонии» [13: 27, 243-245; 208: 24-169]. Но между двумя этими планами есть различие. Отношения между классами внутри определенной нации реализованы в рамках конкретного правового и культурного аппарата, общего для них, но такого аппарата нет между государствами. Органическое строение гегемонии, о котором говорил Гуха, в международной политике, таким образом, всегда отличается, поскольку там намного выше, чем во внутренней политике, доля принуждения по отношению к убеждению. Войны остаются классическим инструментом отношений между государствами — в настоящее время семь войн ведет один лауреат Нобелевской премии мира, — а санкции сегодня стали к ним дополнением, по степени принуждения не сильно им уступающим. В историческом плане применение военной силы, которое Арриги принимал за знак того, что американская гегемония осталась в прошлом, было ее вполне традиционным использованием; тогда как ее коррелят в виде экономической блокады никогда не был столь успешен. То, что сроки, указанные Арриги, возможно, уже пройдены, не значит, что его прогноз будет опровергнут. Но в этом мнении, которого придерживались столь многие, всегда отсутствовали какие-либо гарантии того, что мы так думаем просто потому, что хотим так думать.
9. Перевертывание
I
Сегодня в мире есть только одна страна, где «гегемония» является главным термином в официальном языке государства. Только в Китае она упоминается даже в конституции. Ирония приобретения ею такого статуса бросает парадоксальный — более чем уместный, хотя и косвенный — свет на превратности ее судьбы на Западе, обрисовывая историю, которая началась еще до античной Греции, где она, собственно, впервые появилась в качестве термина. Когда Западное Чжоу после трех столетий существования пало в VIII веке до н.э., царство его преемника, Восточного Чжоу, превратилось в окруженное слабо китаизированной периферией лоскутное одеяло конкурирующих друг с другом феодалов, подчиненных все более номинальной власти царя. В этих условиях в VII веке появилась фигура предводителя, командующего преобладающей силой и поддерживаемого менее сильными властителями, формально защищающими вместе с ним царство от внешних и внутренних угроз, причем эта роль им даровалась ex post facto царем: предводитель обозначался термином «ба», а царь именовался традиционным титулом «ван». «Ба» — легенда утверждает, что со временем их стало пять, что является магическим числом, — руководили альянсами своих союзников, проводили собрания, утверждали договоры и скрепляли их клятвы друг перед другом. Сходство этого образа поведения с союзами античной Греции давно уже заставило западных историков переводить термин «ба» словом «гегемон»[9-1].
Когда династия Чжоу ушла в прошлое, а региональные властители стали собирать все больше территорий и войск, чтобы создавать полноценные государства, увлеченные соперничеством друг с другом, ко времени Конфуция (в VI веке) «ба» ушли со сцены. Однако память о них сохранялась в период Сражающихся царств, то есть в течение более чем двухсот пятидесяти лет, когда Китай был разделен на грабительские политические структуры, постоянно воюющие друг с другом, а ученые, удрученные этим зрелищем, искали успокоения в идеализированных образах утраченного единства, при котором империя Чжоу оставалась цельной и вообще не имела конкурентов. «Ба» было сложно встроить в такой порядок ценностей, поскольку их существование уже говорило о размывании и разделении того, что должно оставаться единым и нетронутым. Конфуций все еще сохранял кое-какие сомнения на их счет. Когда его спросили о Гуань Чжуне, безжалостном главном помощнике первого «ба», он был осторожен: «Гуань Чжун, став первым советником Хуань-гуна, сделался гегемоном, объединил и выправил Поднебесную. Народ до сих пор пользуется его благодеяниями». Но когда стали допытываться насчет моральных качеств того, только и сумел, что вздохнуть: «Что же до его благородства, что о нем сказать...» [25: Book 14:18, 15].
Через два столетия Мэн-цзы, свидетель хаоса Сражающихся царств, категорично отметил: «ба» были проклятием, пусть даже те, кто пришли за ними, еще хуже: «Гегемон (ба) применяет силу, чтобы притвориться благородным. У него с самого начала должно быть большое государство. Царь (ван) добродетелен, он практикует благородство. Ему не нужно обладать большим государством... Гегемон подчиняет других силой, но они повинуются ему неохотно; они подчиняются, поскольку они слабее. Царь вызывает повиновение своей добродетелью, и люди с радостью и искренне почитают его». И далее он добавляет, чтобы расставить точки над «i»: «Те, кто были пятью гегемонами (ба), оказались преступниками перед тремя династиями» [121: Book 2A, 3:1; Book 6B, 7:1].
Таким образом, была установлена четкая дихотомия: принципами «ба» считались обман и насилие, принципами «вана» — человеколюбие и благородство, то есть «рен», главная конфуцианская добродетель. В начале III века до н. э. Сюнь-цзы высказывался не столь однозначно. Поскольку правители тех времен были в моральном отношении еще ниже «ба», типология власти должна представляться в виде трихотомии, включив дополнительную фигуру «цянь», то есть просто авторитетной личности. «Царь стремится приобретать праведных людей. Гегемон стремится к приобретению союзников. Сильный правитель стремится приобретать территорию». И если «цянь» правил просто голой силой, вызывая ненависть других, и в конечном счете уничтожал самого себя, «ба» мог играть относительно конструктивную экономическую и политическую роль, когда подлинного «вана» не было. С другой стороны, хвалить гегемонов на самом деле было зазорно, поскольку они «правили не посредством образования», «не развивали культуру и добрый порядок», использовали «почтительность как прикрытие для конфликта» и «создавали видимость благородства, тогда как на самом деле шли путем прибыли». То есть они были компромиссным вариантом. Сюнь-цзы, хотя он и был намного более реалистическим мыслителем, чем Конфуций или Мэн-цзы, вернулся к стандартному благочестию, прославляющему нечто противоположное гегемонам: «Истинный царь не таков. Его благородство — высочайшее в мире. Его праведность — высочайшая в мире... Нет в мире никого, кто не испытывал бы к нему приязни. Обладая авторитетом, которому невозможно сопротивляться, он добивается победы без боя и приобретает территории без нападения. Он не утруждает себя оружием или доспехами, но весь мир склоняется перед ним» [202: 9:139-41, 203-2011; 7:37-48][9-2].
Что позволяет ему добиться такого чуда? «Тот, кто взращивает ритуал (ру), станет истинным царем» [202: 9:122]. На фоне насилия тех времен постепенно кристаллизовался противоположный образ умиротворенного царства, управляемого увещеваниями мудрого царя, воплощающего в себя моральный авторитет и практическую мудрость, способного объединить «всю поднебесную» («тянься»). Поскольку в китайском мировоззрении не существовало принципа религиозной трансцендентности, к которому можно было апеллировать как к предельному критерию ценности, в качестве его субститута стало функционировать мифологизированное историческое прошлое, золотой век Трех династий, который со времен Конфуция служил воображаемым абсолютом. Согласно этой точке зрения, фиксированной на прошлом, власть тогда была совершенно бесконфликтной: пока ритуалы соблюдаются, а чинам неизменно оказывается уважение, общество будет составлять единое целое с правителем.
Оставить эти предрассудки в прошлом — вот что стало задачей самого сильного мыслителя тех времен, принадлежащего совершенно иной традиции легализма. По Хану Фэй-цзы, прошлое не является мерилом совершенства; люди некогда были просто собирателями плодов и ягод, которые даже не пользовались огнем для приготовления пищи. Прецедент не является основанием для знаний или действия[9-3]. Культ Трех династий, по его мнению, был бессмысленным, а одержимость ритуалом — тщетной. У просвещенного правителя «нет времени, чтобы восхвалять древних. Поэтому он не говорит о благородстве и праведности» [68: 50]. Выходец из аристократической семьи Хан Фэй-цзы, который был на одно поколение моложе Сюнь-цзы, отбросил выдвинутую последним трихотомию «вандао», «бадао» и «цяньдао», то есть пути царя, пути гегемона и пути сильной личности, заменив их на «чжудао», или просто «путь суверена», и объединив тем самым легализм и даосизм в теории правления, в которой учитывались насилие и идеология, принуждение и согласие, включенные во взаимосвязанную систему. В этом синтезе именно безличный авторитет закона — одновременно принуждения и внушения, — а не магические эффекты ритуала, — вот что гарантировало покорность народа; тогда как умело применяемое «вувей» (недеяние) обеспечивало контроль над чиновниками, исполняющими закон[9-4]. В записке Ин Чжену, правителю династии Цинь, который потом стал первым императором Китая, Хан Фэй-цзы призывал его атаковать «вертикальный альянс» государств на центральной равнине, который претендовал на «тянься», и достичь таким образом превосходства в качестве персонификации того, что прежние ученые в целях полемики разделяли и противопоставляли. Ему следовало стремиться к тому, чтобы стать «баваном», то есть правителем, сочетающим силу гегемона с убедительностью царя.
Царь Цинь, объединив Китай, предпочел новый титул, который он придумал для себя,— «хуанди», или «император». Но когда после его смерти империя Цинь распалась, Сян Юй, мятежный генерал, который занял столицу, провозгласил себя не императором, а «баваном», но потом потерпел поражение и был убит соперником, основавшим империю Хань. При новой династии идеологическое наследие ее предшественника не было безжалостно уничтожено, в отличие от того, как (по преданию) первый император поступил с учением о ритуале («ру»), а было превращено в более вольный синкретизм легалистских и даосских элементов с некоторой примесью конфуцианства, что в итоге сложилось в учение Хуан-Лао, которое нашло политическое выражение в беспорядочной компиляции так называемого Чжуан-цзы, приписываемой мифическому автору Чжуан Чжоу, советнику Хуан-гуна, который жил примерно за 500 лет до этого периода, хотя большая часть этого текста была составлена во II веке до н.э. и получила окончательную форму к концу I века до н.э. Здесь «ван» и «ба» воспроизводятся в соответствии с формулами, которые встречаются у Сюнь-цзы, но третий термин троицы (или четверицы) —-это уже не «цянь», им вначале может быть «ди», то есть «император», что соответствует периоду после Цинь. В таких пассажах двусмысленность, связанная с «ба» у Сюнь-цзы, исчезла: с гегемоном не связывается никаких негативных коннотаций[9-5]. В других отрывках постулируются общие условия правления для царей и гегемонов, без уточнения для тех и других. Наконец, в отрывках третьего рода два термина сливаются в составное выражение «баван», как у Хань Фэй-цзы[9-6].
Но когда государство Хань постепенно пришло к новому равновесию, основанному на более низких налогах и владениях более крупных феодалов, а также на ученых — выходцах из сельской знати, которые скрепляли собой двор и армию, конфуцианская идеология, предназначавшаяся ученому сословию и близкая ему по духу, включила в себя и освятила сохранившееся ядро легалистской практики, унаследованной от Цинь. В этом синтезе «сто школ» Сражающихся царств — как и Хуан-Лао — были постепенно отодвинуты на задний план конфуцианской ортодоксией, канонизировавшей учения о «ру». Но процесс этот был постепенным. В середине I века до н.э. император Сюань все еще порицал своего наследника за то, что тот думал, будто можно править империей посредством одного лишь ритуала, а не за счет сочетания «бадао» и «вандао» [107: 351, 493][9-7]; гибридное выражение «баван» сохранялось в эпизодическом нейтральном или даже хвалебном словоупотреблении вплоть до периода Тан и более поздних времен.
Все это изменилось с подъемом неоконфуцианства в конце XII века. При Северной Сун силы, соперничающие при императорском дворе, усвоили прагматический взгляд на различие царя и гегемона: государственный деятель и реформист Бан Аньши одобрил обесценивание «гегемона», утверждая при этом, что царя нельзя более мерить древними стандартами, которые стали нереалистичными, тогда как его консервативный оппонент историк Сыма Гуань доказывал, что «ван» и «ба» были просто обозначениями ранга, не имевшими никаких моральных обертонов, поскольку каждый из этих двух терминов применялся к одним и тем же методам правления [16: 227, 229][9-8]. После изгнания маньчжурами династии с территорий выше Янцзы и ее закрепления на юге, за которым последовали многочисленные споры среди ученых о том, что пошло не так, в конечном счете победило одно направление в конфуцианстве, превратившееся в абстрактный метафизический морализм, враждебный и практической государственной мудрости, и эстетическому чувству. Учение о «дао сюэ», «истинном пути», систематизированное Чжу Си, лидером этого поворота, противопоставило принципы результатам, впервые наделив каноническим статусом «Мэн-цзы» как одну из четырех книг, на которых будет основана экзаменационная система, и тем самым безоговорочно осудив «ба». Культивирование добродетели не должно было загрязняться стремлением к прибыли, которое проистекает из эгоизма, от добродетели нельзя ждать какого-то положительного результата. Предположительные достижения Гуань-цзы были кратковременными, а последующие правители, более или менее зараженные легализмом, пали еще ниже.
Учение Чжу Си при жизни столкнулось с сильнейшим сопротивлением. Его главный интеллектуальный противник Чен Лянь ставил социальные результаты выше личных качеств. Не только Гуань-цзы, покрытый туманом легенды, но и основатели династий Хань и Тан, Гао-цзу и Тай-цзун, каждый из которых прославился тем, что ради захвата власти не гнушался насилием и предательством, были героическими фигурами, воплощающими одновременно путь царя и путь гегемона, принесшими обществу пользу своим героизмом. Не было смысла противопоставлять методы «вана» и «ба»: всякое успешное правление опирается на равновесие между ними. Обескураженный тем, что среди его учеников в Чжэцзяне нашлась «горстка негодяев с вертлявыми языками, которые проповедуют глумление над царем и превозносят гегемона (ба), высматривающего выгоду и просчитывающего результаты», Чжу предостерег Чена насчет фатальной попытки соединить нравственную безупречность с полезностью [181: 182-183]. На долгое время это станет последним из диалогов такого рода. В 1238 году императорский декрет сделал систему, официально названную «ли сюэ», или «Школа принципов», государственной ортодоксией, а самого Чжу Си — предметом поклонения в конфуцианском храме. В 1313 году его четыре книги — Мэн-цзы был впоследствии очищен от неудобных пассажей — стали основной для экзаменационной системы. Поcле этого никаких двусмысленностей оставаться уже не могло. «Ба» стал синонимом эгоизма и насилия, «вандао» и «бадао» — полярной противоположностью добра и зла, причем их коннотации проникли и в бытовой язык, в котором «ба» стал общеупотребимым обозначением нахала, а «баван» мог фигурировать в «Сне в красном тереме» XVIII века причем вторая составляющая в этом термине («ван») скорее усиливает ругательный смысл первого, а не сглаживает его — в качестве прозвища порочного брата Баоюйя, хитреца Сюэ Паня.
II
Закрепление «Школы принципов» как государственного учения не ограничило конфуцианскую культуру в Китае периода династий Мин и Цин системой Чжу Си. Литература достигла расцвета, пережив его презрение к ней, также смогли найти выражение альтернативные философские взгляды и возникнуть новые дисциплины, в основном филология с большим историческим уклоном. Однако политическая мысль была выхолощена, поскольку идеологическое подчинение неоконфуцианскому порядку, этой статичной моралистической абстракции, подкреплялось репрессией и цензурой, усилившимися с приходом маньчжуров.
В Японии того же периода конфуцианская ученость получила развитие в совершенно ином направлении. Там с XII века правили воины, а не чиновники, и в этом феодальном обществе с декоративной императорской линией, но без централизованного государства высшая политическая власть принадлежала сёгунам, верховным военачальникам страны. После 150 лет внутренних раздоров сёгунат Токугава сумел к началу XVII века установить в стране мир и создать устойчивый режим «бакухан», при котором конфуцианские идеи смогли впервые по-настоящему укорениться. Но контекст, в котором это произошло, радикально отличался от китайского. Здесь не было системы экзаменов, почитания предков и конфуцианских храмов. Традиционно легитимация власти обеспечивалась буддизмом, позиции которого в Японии были намного сильнее, чем в Китае, или синтоизмом. Конфуцианские интеллектуалы — обычно деклассированные врачи, монахи или самураи — начинали, соответственно, с маргинальных позиций, к тому же их могли обвинить в непатриотичном синоцентризме. И все же китайская культура всегда пользовалась в Японии огромным уважением, и они могли опираться на более обширный и сложный, чем у соперников, корпус знаний, когда претендовали на влияние на бакуфу (правительство сегунов), которое постепенно — ко времени четвертого или пятого сегуна Токугава — включило их в свое правление, хотя и не предоставило им статуса, который имелся у их китайских коллег. В то же самое время, поскольку в Японии не было бюрократической централизации власти, в структурном отношении они были во многом свободнее, чем китайские ученые. Дело в том, что бакуфу не только сдерживалось императорским двором, который, хотя и был на практике бессильным, сохранил определенную символическую ауру, но и контролировало напрямую не более трети страны, остальную часть которой образовывали феоды «даймё», у каждого из которых были собственные доходы и воины. Даймё присягали сёгуну, однако управляли своими доменами не зависимо от него. Кроме того, феодальный порядок в Японии, что вполне объяснимо, допускал более динамичную торговую культуру в Эдо и Осаке, чем автократия Цин в городах Китая. В этом более пестром ландшафте места для независимой мысли было заметно больше.
В этих условиях конфуцианцы столкнулись с политическими вопросами, по которым в их китайских источниках почти не было подсказок. Единство царства было в классическом китайском каноне абсолютной ценностью, которая со времен Цинь выражалась в практической форме в виде централизованного имперского государства. Но хотя разделение государства было совершенно недопустимым, свержение династии оставалось приемлемым. Мандат небес можно было подделать. Он предоставлялся во временное пользование и не был неотменяемым титулом, то есть мог постфактум передаваться предводителю успешного восстания. В Япония конфигурация была прямо противоположной. Суверенитет был поделен между военным правителем, фактически управляющим страной, и императором с его остаточными функциями, который теоретически делегировал власть этому правителю. С другой стороны, императорская династия могла быть бессильной, но она не прерывалась. Китайские императоры выдавали себя за «сынов неба»; но этот титул был метафорическим: никто не понимал его буквально, да и само небо оставалось абстракцией. Японские же императоры, согласно официальной мифологии, являлись плодом соития богини Аматерасу с ее братом (хотя биологически они были корейского происхождения). Из-за этого божественного религиозного происхождения любая их замена, в отличие от нейтрализации, стала буквально табу. Как же следовало теоретически осмыслить это сочетание — внутреннее противоречие разделенного суверенитета? У конфуцианцев имелась готовая дихотомия царя и гегемона —— по-японски «о» и «ха». Следовало ли сопоставить эти понятия с императором и сегуном? И если так, что нужно было сделать с их валентностями — сохранить или изменить? Был ли сам этот разделенный суверенитет аномалией, которую следовало не легитимировать, а критиковать и преодолевать?
Пытаясь разобраться с этим комплексом проблем на протяжении более чем 200 лет правления Токугава, японские интеллектуалы не только создали более яркий и богатый корпус политической мысли, чем было возможно в период Цин, но и были вынуждены изменить значения и коннотации «вандао» и «бадао». Вначале ведущий исследователь «ру» Ито Йинсай (1627-1725), который обычно избегал вопросов о государственном устройстве, придерживался как нельзя более ортодоксальной позиции, заявляя: «Различие между истинным царем и гегемоном является первым принципом конфуцианства». Более оригинальный и в большей степени ориентированный на политику мыслитель Огю Сорай (1666-1728) начал составлять комментарии к Хан Фэй-цзы, когда тот все еще оставался в Китае «проклятым автором» [113: 88], и критиковал Мэн-цзы за то, что последний моралистически противопоставлял «вандао» и «бадао». «Истинные цари, — писал он,— отличаются от гегемонов только в силу ранга, отвечающего их историческим эпохам», а не человеколюбием или какими-то методами правления. Ведь, если гегемонам приходилось прибегать к принуждению, «с этим, — продолжал он, — нельзя было ничего поделать». В конце концов, «у Конфуция не было удела и в один шаку, а потому он не мог получить власть. Даже если человек может быть добродетельным, как он мог бы избежать применения силы?» [150: 334-337][9-9].
Сорай, который был невысокого мнения о культурном уровне военных правителей страны и его времени, и прошлого, которых он всех, за исключением основателя Токугава Иэясу, считал «необразованными», не предложил проработанного оправдания бакуфу, которое бы имело такое основание,— «ха» оставалось слишком спорным термином, чтобы применяться к сёгуну. Но поскольку он открыто говорил о том, что считает императорскую династию в политическом отношении мертвой, а его критерии осуществления власти были определенно консеквенциалистскими, критики поспешили наброситься на него самого как того, кто немногим лучше «конфуцианского гегемона», то есть «ха», изображающего благородство, чтобы посеять смуту[9-10]. Собственно, так действительно можно было подумать, если прочитать его неопубликованный трактат о правлении, в котором было много неприятных высказываний о социальных пороках того времени: в числе его предостережений замечание о том, что, «хотя все даймё являются вассалами сёгуна, некоторые могут втайне считать императора истинным сувереном, поскольку их титулы даруются им императорскими грамотами, а указы о назначении выпускаются двором. Если они продолжают ощущать себя вассалами сегуна просто из страха перед его властью, в будущем могут возникнуть беспорядки» [174: 192-193][9-11]. Вслед за Сораем его ученик Дадзай Сюндай (1680-1747) утверждал, что рецепты Мэн-цзы были замечательной политической диетой в обычные времена, но для излечения от болезней нужны сильные лекарства, то есть рецепты легализма, когда главной задаче любого правления, то есть обеспечению материального благосостояния народа, может послужить не «вандао», а «бадао». Императорская династия представлялась просто «провисшей нитью», не способной ответить на социальные нужды; сёгун, который мог решить эту задачу заслуживал титула «славного правителя».
Все они являлись мыслителями, которые никогда не были по-настоящему близки к власти. Араи Хакусэки (1657-1725) входил, напротив, во внутренней аппарат бакуфу, как советник шестого и седьмого сёгунов Токугава. Он не интересовался экзегезой классических текстов, но писал политическую историю Японии со средневековых времен, в которой сменявшие друг друга предшественники Токугава — Тайра, Муромати, Асикага, Ода — рассматривались в качестве множества «ха», которые уважали императорскую династию, но настолько лишили ее власти, что в своем повествовании он мог, по существу, вообще не принимать трон во внимание. Однако, сами не сумев стать монархами, они закрепили двойственный суверенитет, у которого не было никаких конфуцианских оснований. Как же исправить имена, чтобы они соответствовали действительному положению вещей? Решение Хакусэки состояло в том, что сёгунат должен получить царский статус «о», распрощавшись с аурой императорского двора, но не смещая его, поскольку религиозный авторитет будет по-прежнему требоваться, когда рухнет власть монастырей. Однако это создавало отдельную проблему, поскольку в конфуцианском миропорядке со времен Цинь царь был правителем периферийного царства — Кореи или Сиама, — который должен платить дань императору в Китае, но такой статус был неприемлем для любого Токугава, как и для самого Хакусэки, который считал Японию Восточной Землей, превосходящей любую другую[9-12]. Восьмой сёгун отказался от любых попыток соединить протоколы «ха» и «о» под сводом бакуфу.
Двигавшийся в противоположном направлении Ямагата Дайни (1725-1767) оплакивал «павший дом» «тэнно» (императора), остававшегося «едва ли не пленником» в Киото и не способного даже объехать собственные провинции. Цитируя Конфуция — «У неба не два солнца, у мира не два царя» — он спрашивал: «Какой стороне мы должны следовать? Одна дарует почет, но бедна. Другая распределяет богатство, но не имеет престижа. Власть разделена, поскольку люди не могут получить и то, и другое. Один должен быть сувереном, другой — подданным» [188: 133-134][9-13]. Сёгунат должен помогать династии, а не присваивать императорскую власть. В крайнем случае, как он указывал, такая узурпация власти может спровоцировать успешное восстание, как в Китае. До этого дело не дошло. Однако разделенный суверенитет оставался неестественным и неустойчивым. Чтобы исцелить царство, следовало снова объединить имя и вещь, титул и власть вокруг императора. Дайни, осмеянный одним из сторонников установленного порядка — «Сёгун не отказывается от статуса подданного, даже если властвует над всем царством. Это прекрасная японская традиция, у которой нет равных, и вы, конфуцианские ученые, не способны ее оценить. Так что придержи язык, последователь иноземных учений!»,— был казнен по приказу бакуфу[9-14].
С другой стороны, радикализируя Сорая и Сюндая, Кайо Сейрё, отказавшись от своей хорошо устроенной самурайской жизни ради позиции независимого ученого, приступил к прямой переоценке дихотомии Мэн-цзы. Царский путь — «одо» — хорошо подходил для умиротворенной империи, которой не грозят всевозможные внешние опасности: он годился для «невозмутимого и терпеливого старика». Гегемонический путь — «хадо» — требовался там, где такого спокойствия не было, в конфликтной и конкурентной среде, требующей правителя совершенного иного типа, «редкого ума, с талантами острыми, как острие сверла, с ослепительно ясным взглядом» [87: 485-486][9-15]. Только такой правитель подходил Японии. Но затем Сейрё приписал бакуфу положение пенсионера, то есть «о», что было достаточно неожиданно, и выдвинул даймё на потенциально или актуально динамичную роль «ха». Но такое перевертывание или смещение конфуцианских знаков — это еще не всё. Конкуренция — вот стихия гегемона. Но первично она является не военной, а экономической. Не войска или оружие, а промышленники и торговля — вот что составляет основную среду соперничества, поскольку богатство является корнем власти, а каждый даймё должен стремиться к ее максимальному увеличению. Сейрё считал каждую социальную связь — между феодалом и вассалом, господином и слугой, покупателем и продавцом, — экономическим обменом. Мир отношений представлялся миром товаров и только. «Все, что только есть под небом,—товар». Социальная стратификация является, соответственно, всего лишь производной от привычки, а конфуцианское отвержение эгоизма — циничной уловкой, нужной, чтобы обмануть бедняков. Ритуалы и музыка признавались «детскими игрушками», а моральные ценности — утварью, пригодной для разного применения, вроде кастрюль, развешенных на кухне. Трудно было вообразить более решительное перевертывание «ру».
Учение Сорая попало в немилость бакуфу при реформах годов Кансэй, проведенных Мацудайра Саданобу в 1790 году, когда в качестве официальной ортодоксии была введена версия неоконфуцианства, принадлежащая Чжу Си. Сейрё, ученик Сюндая, уехал из Эдо за год до репрессий, и, хотя был смелым человеком, скрывался, избегая слежки, то в одном провинциальном местечке, то в другом, где записывал свои заметки и выступал с речами. После него гетеродоксия будет все больше склоняться к более националистическим темам, отдавая предпочтение императорскому полюсу; кульминацией в середине XIX века станет полновесная идеология «сонно ёи» («поддержи императора, выгони варвара»), идеология восстания, сместившего сёгунат в 1867 году и спровоцированного недовольством пассивностью Токугава перед угрозой западного вторжения[9-16]. В последние годы правления сёгуната ярлык «ха» впервые крепко приклеился к нему, став безусловным порицанием. В 1855 году наиболее одаренный в интеллектуальном отношении из всех молодых бунтовщиков, выступавших против инерции бакуфу, Ёсида Сёин прочитал цикл лекций по Мэн-цзы, в которых потребовал фундаментальных перемен, и пригласил в качестве оппонента старого ученого Ямагату Тайка из своего родного княжества Тёсю. Тайка сказал ему, что «в нашей стране теперь много тех, кто говорят, что бакуфу — это гегемон и что разные даймё — верные слуги императорского двора»: сбылось то, чего боялся когда-то Сорай. «Это ошибка, которая возникает из стремления грамотеев, обученных китайским теориям, обозначать терминами из древнего Китая дела нашей страны». В Японии, напротив, как объяснялось официальными постановлениями, существовало делегирование власти от императора к сёгуну. Словами Ямагаты: «Положение в нашей стране отличается от положения в Китае, и здесь нет такой вещи, как "ба". В Китае термин „ба" означал одного из многих феодалов, который, руководя большим и сильным государством, использовал свою военную мощь для господства над другими феодалами с их собственными государствами и для руководства ими в едином союзе. Сегодняшний военный двор [то есть бакуфу] — не просто господин одного государства; он держит под своей властью земли и людей всего царства. Поэтому он не может называться „ба"», тогда как даймё, со своей стороны, были «все вассалами сёгуна, который жаловал им поместья». На это Сёин возразил, отметив, что сменявшие друг друга сёгунаты — составляющие пять «ба», как в древнем Китае (Минамото, Аикаша, Оду, Хидэёси) — действовали как гегемоны именно в том смысле, в каком их описал и осудил Чжу Си, и у их вины есть смягчающие обстоятельства только в случае Хидэёси, который искренне обожал императора [204: 504, 400-401][9-17]. Через четыре года Сёина казнили, но потом он был увековечен в народной памяти как жертва, когда реставрация Мэйдзи положила конец раздвоению суверенитета в Японии.
Однако многовековая дихотомия еще не потеряла силу, сохранившись в двух политически противоположных формах наследия. Когда олигархи Мэйдзи проигнорировали обещание ввести конституцию и конституционное собрание, содержащееся в первом пункте Клятвы пяти пунктов, принятой при pecтаврации, в 1880 году началось движение за народные права, вылившееся в бунты, которые пришлось подавлять силой. В разгар этого кризиса бездомный молодой интеллектуал, учивший в одной горной деревне, Тиба Такусабуро обосновал свой подробный набросок либеральной конституции и парламента новой версией «одо», «пути царей». Отвергая «выродившихся конфуцианцев и деревенское невежество», которые извратили путь царей так, что он стал обозначать абсолютистское правление в стиле Людовика XIV, он превратил максиму «король никогда не умирает» в тезис «народ никогда не умирает», а свое эссе начал с объяснения того, что «одо» никогда не требовал монархии, поскольку его может осуществить земля без принца [179: 71, 63; 31: 104][9-18]. Годом позже он умер, оставшись без гроша. Конституция Мэйдзи, принятая, когда беспорядки были подавлены, создаст политический порядок, чья логика станет антитезисом к его надеждам.
Но в империалистической экспансии, которой займется новое государство, «одо» получит в Японии свою окончательную идеологическую форму. Выходец из княжества, лояльного Токугава, Нанбу Дзиро (1835-1912), служивший консулом Мэйдзи в Китае и ставший свидетелем упадка Маньчжурской монархии, стал доказывать, что необходимо общее видение, которое объединило бы Азию и которое следует искать в благородном царском пути, который издавна отстаивали конфуцианские классики, а не в гегемоническом пути господства, по которому пошли западные державы. Его идеи привлекут молодого кадета Исивару Кандзи (1889-1949), ставшего одним из заговорщиков, устроивших Мукженский инцидент в 1931 году, с которого начался захват Японией Манчжурии, а затем, в 1935 году, начальником оперативного управления генштаба. Впоследствии, после выступления против тихоокеанской войны, его разжалуют за грубость в нападках на Тодзо. Исивара, самый пессимистичный по настрою и изобретательный ум императорской армии, скрещивающий немецкое «искусство войны» с буддизмом Никирена, превратил в своих многочисленных работах «одо» в высочайшую миссию Японии в Маньчжурии, где последний император династии Цин Пу И был представлен благородным правителем страны и вообще всей Восточной Азии, которую следовало противопоставить безжалостному «хадо» гегемонов Запада, не говоря уже о Советском Союзе [154: 33-34, 55-57, 160, 316-329]. Гражданская версия той же концепции, использующая ту же дихотомию, была создана бывшим либеральным интеллектуалом и журналистом Татибаной Сираки, который тоже работал в Манчжурии, и стала стандартной составляющей идеологического арсенала Квантунской армии [108: 105-107][9-19]. Исивара, не отказавшись от этой точки зрения и после того, как в 1939 году его отодвинули на вторые роли, отстаивал Восточноазиатский союз, который должен был ее осуществить, однако его план вызвал подозрение властей как недостаточно японский и противоречащий концепции «сферы совместного процветания», объявленной в 1940 году. Когда в 1945 году после войны с Америкой, против которой Исивара выступал, идея «одо» пришла в окончательную негодность, он закончил как свидетель защиты на суде в Токио, где указал на преступления в Хиросиме и Нагасаки, совершенные заморским «хадо».
III
В Китае конца XIX и начала XX веков пространство политической мысли изменилось. В классические времена гегемония стала означать принуждение, а не убеждение, и это в культуре, чья политическая мысль провела между ними различие раньше, отчетливее и систематичнее, чем на Западе. Но тогда это была цивилизация, у которой не было равных конкурентов. Гегемония оставалась понятием исключительно внутренней направленности: в отсутствие какого-либо межгосударственного порядка оно не имело внешнего применения. Система дани, идеализированная на конфуцианский манер как знак признания окружающими странами императорского авторитета Срединного царства, была концептуальным антитезисом гегемонии. Но как только Китай стал жертвой западного империализма, этот термин гутже приклеился к западным хищникам.
В 1924 году Сунь Ятсен, выступая перед аудиторией в Кобе, призвал народы Азии сбросить ярмо западного угнетения в единой борьбе за свободу и независимость. Он объяснил, что в конфликт вступили две цивилизации. Нескольких последних веков европейская цивилизация основывалась на культуре силы — отсюда аэропланы, бомбы и пушки. Говоря словами древних, она представляла правление «бадао», на которое Восток всегда смотрел сверху вниз. Дело в том, что существовала превосходящая его азиатская цивилизация, чьими ценностями были «благородство; справедливость и мораль», то есть порядок, который древние назвали «царским путем» — «вандао». Контраст нельзя не заметить. В течение тысячи лет Китай оставался самой могущественной державой во всем мире, государством таким же сильным, как США и Англия вместе взятые во времена Ятсена. Как же Китай относился к более слабым странам? Посылал ли он армию или флот, что бы подчинить их себе? Нет, ничего подобного Эти страны ежегодно отправляли дань в Китай по собственной воле, считая это честью, которой они удостоены, и стыдились, если пренебрегали ею. Придерживаясь «царского пути», они поступали так из поколения в поколение, не только в таких землях, как Непал, но даже в далекой Европе. Но могут ли сегодня народы Азии снова обрести независимость, полагаясь исключительно на благородство? Это были невозможно. Япония и Турция вооружались, и китайский народ тоже должен будет прибегнуть к силе, чтобы отомстить за нанесенный ему ущерб и завоевать свободу. В этой борьбе Россия отделилась от Запада и присоединились к Востоку в общем «вандао». А Япония? Она познакомилась с западным правлением Силы, но сохранила некоторые восточные качества правления Права. Вопрос, который стоял перед ее народом, — в том, чем станет страна: ястребом и лакеем Запада или же столпом мощи Востока [178: 141-151][9-20].
В Китае термины, которые он использовал, к этому времени уже почти ничего не значили. После падения монархии, которому он сам изрядно поспособствовал, упоминание какого-то «вандао» стало чем-то анахроничным, а в результате закрепления республики появились абстракции современного политического словаря, так что в понятийном сдвиге, произошедшем в верхнем регистре словоупотребления, сдвиге от личности к системе, за счет которого устранялось традиционное понятие «пути», возникла новая противоположность «вандао». Из «гегемона» была произведена «гегемония» (из «ба» — «бакан»), которая, как и ее аналог на Западе, стала впоследствии намного более распространенным термином. Термин «бакан», встречавшийся в некоторых малоизвестных комментариях, созданных при царстве Сун Периода весен и осеней, начал использоваться то здесь, то там после «Движения 4 мая» против Версальского договора, а к 1930-м годам занял определенное место в политическом словаре, путь и не очень важное.
После Второй мировой войны ситуация изменилась. В 1946 году Мао в интервью, данном Анне Луиз Стронг, обличил экспансионистскую политику США, стремящихся опоясать мир своими базами, необходимыми для заявки на глобальную гегемонию. И тогда-то термин «бакан» впервые утвердился в коммунистическом дискурсе [116: 100][9-21]. Некоторое время он оставался в словаре Китайской Народной Республики бесхозным. Но когда во время культурной революции разразился жесткий идеологический и дипломатический конфликт с СССР, он нашел применение в качестве обозначения сравнимого характера двух сверхдержав того времени, каждая из которых стремилась к глобальной гегемонии.
Когда КНР в конце 1971 года получила место в ООН, в первом обращении ее представителя к Генеральной Ассамблее превозносилось «все большее число средних и малых стран», которые объединялись против «гегемонии и силовой политики той или другой из сверхдержав». Когда отношения с СССР ухудшились, в первый день 1973 года Мао, использовав совет, который получил когда-то Чжу Юаньчжан, основатель династии Мин, дал китайскому народу наставление: «Рыть глубокие туннели, всюду запасать зерно, никогда не претендовать на гегемонию». В феврале следующего года Мао объяснил, что существует три мира, как, собственно, и считалось обычно в 1960-е. Однако он поменял компоненты этой трехчастной конструкции. США и СССР, с его точки зрения, образовывали первый мир, «средние элементы», такие как Европа, Япония, Канада или Австралия, — второй мир, тогда как вся Азия, за исключением Японии, Африка и Латинская Америка — третий мир [115][9-22]. Его замечания вскоре были закреплены в авторитетном комментарии как обличение «баканчжуи» или «гегемонизма» — добавленный к слову суффикс обозначал семантическое усиление. Отсюда обязательство «сражаться с колониализмом, империализмом и гегемонизмом» — вот лозунг КНР, повторявшийся в передовицах, речах, документах и обращениях глав государства. Это же главная тема первого выступления Дэна Сяопина в ООН в апреле 1974 года, в котором упоминалось о «борьбе всех народов против империализма и особенно против гегемонизма», что также является лейтмотивом речи Чжоу Эньлая на общенационального съезде. Опасности гегемонизма были зафиксированы в конституции КНР 1975 года, откуда они не исключены и по сей день[9-23].
В последние годы культурной революции все заявления были официальными. Когда началась эпоха реформ, открылось пространство для менее официального политического письма и появились отдельные мыслители, самостоятельно ставящие себе задачи, часть из которых расходились с директивами государства. С середины 1990-х видное место среди таких мыслителей занимает Ян Сютон, который, защитив докторскую диссертацию в Беркли и проработав около десяти лет в одном аналитическом центре при министерстве государственной безопасности, ныне возглавляет Институт современных международных отношений в Университете Цинхуа. Когда он был в США, в конце 1980-х и начале 1990-х, Дэн Сяопин после распада СССР перестроил китайскую внешнюю политику — поскольку в мире осталась только одна сверхдержава, — определив свод директив, главной из которых стало изречение «скрывать наши способности и ждать нашего часа», но также в него вошло и наставление, воспроизводящее лозунг Мао от 1973 года — «никогда не стремиться к гегемонии»[9-24]. На протяжении большей части следующих то лет в КНР сохранялась доктрина, утверждавшая, что Китаю важно вести себя сдержанно. Ян пытался предложить другую, более амбициозную повестку. В новом столетии Китай может стремиться к мировому лидерству. Для этого требовалась большая стратегия и теория, которая могла бы ее обосновать.
В разработанной им теории была поставлена задача объединить американскую теорию международных отношений, в которой он поднаторел в Беркли, с классикой доциньского периода. Из первой он взял реализм в варианте Моргентау, из последней — все, что могло пригодиться. Отвергая любые претензии на филологическую или историческую точность как ученость, не имеющую отношения к науке в том виде, в каком ею занимаются специалисты по современным международным отношениям, он свободно подбирал, смешивал и модернизировал отрывки и термины из классического канона, как ему того хотелось, в рамках все той же схемы Сунь Ятсена, пусть и адаптированной под новое столетие. В атмосфере реставрации, установившейся в интеллектуальных кругах в 1990-е, когда распространение получила ностальгия по конструктивному монархизму Цин или Юаня Шикайя, «ван-дао» теперь мог выйти на сцену, вернувшись в качестве высочайшего политического идеала, как «истинное царство» в концепции Яна. С другой стороны, «бадао» был релятивизирован. Надежным ориентиром по современным временам должна была стать не жесткая дихотомия Мэн-цзы, а трихотомия Сунь-цзы. Гегемония ниже истинного царства, однако лучше «цяньдао» как просто силы, а потому она разделяет некоторые положительные качества с царством, ценимым Сунь-цзы. Оба требовали надежной основы в виде материальной — экономической и военной — силы. Разделял их фактор, который, как правильно понял Сунь-цзы, является решающим: политическая власть, которая на протяжении всей истории управляла двумя другими членами трихотомии. Это, конечно, современный термин. Однако древние поняли, в чем его суть: по их мнению, она заключается в «добродетели, благородстве, Пути, справедливости, законе, героях и мудрецах», то есть, короче говоря, в морали [199: 115]. Превосходство «вана» над «ба» определяется более высокой моралью, то есть царским благородством, превосходящим простую гегемоническую стабильность (если она вообще присутствует). Тогда, как и сегодня, хорошим государством было то, что управлялось мудрым лидером, которого поддерживают талантливые министры.
Ян соглашался с тем, что на международном уровне Сунь-цзы не так полезен, поскольку он недооценивал го, что военная и экономическая сила важнее в межгосударственных делах, чем во внутренних. Однако он понял, что иерархия существенна для порядка, и не только внутри общества, но и между государствами, которые в силу своей разной величины всегда несли разные обязательства, начиная с Пяти рангов Западной Чжоу и заканчивая современным Советом безопасности. Самое важное, однако, то, что в его описании различия между гегемонией и истинным царством отражался контраст между современной ролью США и будущей потенциальной ролью Китая в современном мире. Безусловно, Америка является глобальной сверхдержавой, обладающей военной и экономической «бакан» над другими большими и малыми странами[9-25]. Китаю еще предстоит сравняться с ней в материальной силе, пусть даже разрыв между ними ныне сокращается. Но при этом Китай должен стремиться к моральному лидерству. В этом решающем отношении он уже сделал хороший первый шаг внутри страны, поставив экономическую реформу впереди политической как приоритет, «принимаемый всеми развивающимися странами», что наделило Китай «высочайшим общемировым статусом в области реформ» [199: 69]. Но страна все еще была склонна смотреть на экономический успех, которого добилась, как ключевой фактор международного лидерства, которое, однако, может быть только политическим, а потому и моральным. Чтобы сделать перспективу глобального первенства Китая понятнее и приемлемее для западной аудитории, Ян изменил термин, обозначавший у него это первенство, когда опубликовал свои идеи в виде книги, вышедшей через три года после публикации на китайском языке. Для западного рынка «истинное царство», к которому теперь должна стремиться КНР, было перекрещено в «человеческий авторитет», и этот эвфемизм был возведен к античным временам[9-26]. Когда генеральным секретарем КНР стал Си Цзиньпин, призвавший к обновлению страны, надежды Яна на новый, более смелый, курс страны укрепились. Он объяснил англоязычным читателям, что теперь Китай, не сдерживаемый стратегией Дэна («вести себя сдержанно», или keeping a low a profile, — отсюда сокращение KLP), переключился на стратегию «стремления к успеху» (striving for achievement, или SFA). Когда Китай станет новым гегемоном и возьмет в руки бразды правления миром, нужно будет двигаться к горизонту «человеческого авторитета». Чтобы достичь его, КНР должна перестать сторониться союзов, начать строить базы за границей и предоставлять военную, а не экономическую помощь развивающимся странам, но при этом не искать гегемонии, а, скорее, демонстрировать моральное лидерство среди содружества стран, поднимая флаг ООН и международных правовых норм, а также помогая наказывать тех, кто попирает их [200: 153-184; 158].
Благодаря этой конструкции был создан зеркальный образ западных апологий американского могущества. Вместо «человеческого авторитета» можно подставить «американское лидерство» или, как в более поздней версии, «либеральную гегемонию» — см, Ная, Хоффмана и Айкенберри. Зная о том, что его коллеги по европейским и американским аналитическим центрам приписывают положительное значение этому последнему выражению, Ян впоследствии снова подправит свою терминологию, объяснив, что надеется на то, что Китай станет «новым типом гегемона» [203], который преумножит число своих друзей благодаря гуманному поведению и более высоким этическим стандартам. Это еще не полное перевертывание, поскольку западные и восточные претензии на высшую систему ценностей со времен Сунь Ятсена (или Ганди, если говорить о более высоких материях) никогда не совпадали. Отличительным признаком проекта Яна является конфуцианская убежденность в том, что мысль определяет социальную реальность, а мораль управляет изменениями, что является глубинной структурой коллективного менталитета, нашедшего выражение в культурной революции. Его вариант в эпоху политики «открытых дверей» читается так: «Основная причина перемен в международной политике состоит в мысли лидеров, а не в материальной силе» [199: 67]. Морализм истинного царства, пусть и переряженного для чужих глаз, имеет те же самые корни. Ян отсылает к Моргентау и к его претензии на реализм, который, будучи недоступным для иронии Карра, самодовольно приписывает власти мораль, а не отрицает ее.
10. Поперечный срез
На западе такая же слаженная конструкция гегемонии, как и разработанная Арриги, была независимо от него предложена в тот же период времени другим мыслителем левого направления. В 1981-1982 годах Роберт Кокс, канадец, который четверть века проработал в Международной организации труда, опубликовал две статьи по новому подходу к изучению международных отношений на основе наследия Грамши. В 1987 году идеи, содержавшиеся в этих статьях, получили развитие в книге «Производство, власть и мировой порядок». Как и Арриги, Кокс определял глобальную гегемонию как внешнее расширение внутренней гегемонии господствующего социального класса, распространяющее энергии, которые привели его к власти, за пределы государственных границ. Это создает международную систему, способную добиться согласия более слабых государств и классов благодаря ее претензии на представление всеобщих интересов. Такой результат зависит от согласования трех базовых сил любой структуры власти: материальных способностей, идей и институтов; показательным случаем представляется pax Britannica — превосходство в морских силах, либеральная идеология свободной торговли и регулятивные функции лондонского Сити [29: 1240]. Такая конфигурация всегда опиралась на социальные силы, локализованные в определенных производственных отношениях. Как только последние меняются, последствия рикошетом ударяют по всей системе. Как показал Карр, в классическом случае в Европе с появлением тяжелой промышленности возник индустриальный рабочий класс, чьи требования к благосостоянию вызвали создание защитных механизмов, которые усилили межгосударственную конкуренцию, которая, в свою очередь, привела к взрыву Первой мировой войны, положившей конец гегемонии Британии. Самыми сильными государствами были те, что пережили глубокую социально-экономическую революцию, в полной мере осознав ее последствия, и добились гегемонии, выходящей за пределы простого империализма, присоединив «идеологический и интерсубъективный элемент к отношению голой силы». Такого положения добились после Второй мировой войны США.
Арриги с Коксом никогда не цитировали друг друга, однако их формулировки в изрядной мере совпадают. Но не совсем. Отчасти это обусловлено различием в их карьерах и аудиториях. Хотя концепция Кокса выглядит достаточно радикальной, она была результатом его служебной деятельности: МОТ — это не «Группа Грамши», так что стиль академических публикаций Кокса был более традиционным. Да, он проводил различие между теорией, «решающей задачи», и «критической» теорией, но это не мешало ему работать с первой, а его работы выходили в сборниках или журналах вместе со статьями, в которых анализировалось, как поддержать структуры, которые он критиковал. В первую очередь его работы были обращены к профессиональному сообществу специалистов по международным отношениям, а не к более широкой политической аудитории левых. С другой стороны, в своем изложении он был более систематичным и открытым грамшианцем, чем Арриги [26: 162-175][10-1]. Более важные отличия состоят, однако, в другом. Один был сильнее в том, в чем другой слабее. У Кокса нет масштабной теории финансиализации, как нет и диалектики территориализма и капитализма: в его работах не уделяется достаточного внимания историческому изучению национальных государств. С другой стороны, классы у него проработаны гораздо глубже и тоньше — Кокс гораздо шире использовал грамшианское понятие исторического блока, — а в качестве дисциплинарных элементов гегемонической системы более заметную роль играют международные нормы и институты. Главное же, что в современном мире, где производство по структуре все больше становилось транснациональным, на вершине системы образовался соответствующий класс менеджеров, и гегемонический порядок объединил социальные силы в новую иерархическую схему, существующую поверх государственных границ. Кокс тщательно проанализировал не только ряд господствующих и подчиненных групп, но также разные типы производства в разных странах мира[10-2], как они были представлены в последние годы правления Рейгана, то есть через десятилетие после первых признаков затяжного спада, появившихся в начале 1970-х.
Как обстояло дело в этих новых обстоятельствах с американской гегемонией? В те времена Кокс, как позже и Арриги, пришел к выводу, что на фоне продолжающегося кризиса и симптомов беспорядка она деградировала в простое господство, но в последующие годы он скорректирует это суждение. Правда, влияние его работ не всегда совпадало с этой траекторией развития. Отличительной чертой «неограм-шианских» школ, прямо или косвенно вдохновлявшихся работами Кокса, будет выделение в его концепциях роли транснациональных классовых блоков и их связи с гегемоном. Наиболее проработанное исследование констелляции глобальных сил накануне финансового кризиса 2008—2009 годов, созданное в этой интеллектуальной традиции, пришло к иному вердикту. В статье, написанной в Британии и ссылающейся именно на Кокса, Ричард Солл предложит поразительную контринтерпретацию этого периода. Вопреки Арриги, американская гегемония не подошла к окончательному упадку [28: 323-338]. Финансиализация породила в большей мере чреватую кризисами форму капитализма, но, когда случился крах 2008 года, Америка и ее партнеры по Большой семерке продемонстрировали способность дать коллективный отпор этому кризису. Причем к данному моменту не было никаких признаков существенного сдвига центра экономической власти за пределы США. Китай не мог претендовать на роль такого центра, поскольку его модель роста все еще зависела от экспорта в США, что обрекало Пекин на подчиненное положение по отношению к Вашингтону. Попытки перейти к модели, основанной на внутреннем потреблении, потребовали бы дальнейшей либерализации китайской экономики, что привело бы не только к ослаблению власти КПК, но также к бегству капитала и росту социальной напряженности. С этой стороны pax Americana на самом деле ничего не угрожало. Также над ним не висела какая-либо традиционная межгосударственная угроза. Ведь его гегемоническая система гарантировалась прежде всего не средствами власти или принуждения, а внедрением ее несправедливой схематики социальной власти во внутренние экономические устои других государств, а также в связанные с ними идеологические, культурные и политические нормы.
В послевоенную эпоху превосходство Америки сформировало исторический блок, который включил западный рабочий класс в фордистские схемы массового производства и растущего потребления, увенчанные антикоммунистической идеологией. Со временем они были подорваны появлением новых форм производства и социальных отношений на микроуровне фирм, а не целенаправленной стратегией других государств. Однако слом органической формулы «славного тридцатилетия» не означал упадка американской гегемонии, поскольку к 1980-м возник другой исторический блок, включающий значительно большую часть развивающегося мира в систему неолиберализма и затягивающий еще более обширные регионы планеты и слои населения в капиталистические производственные отношения. На Западе организованные трудящиеся были вытеснены из этого блока за счет разгрома профсоюзов и аутсорсинга рабочих мест, однако работники были интегрированы в него благодаря новому разделению груда, дешевым кредитам, существованию на них, ставшему образом жизни, и недорогим товарам из Восточной Азии. Но и в Восточной Азии неолиберальное распространение индивидуализированного потребления и свободы выбора, приправленных толикой национализма, оказалось привлекательным для определенных элементов рабочего класса.
Более значимым было, однако, включение недавно сформировавшихся средних классов Бразилии, Индии и Китая в складывающийся транснациональный блок неолиберального типа. Финансиализация, спекуляция на недвижимости и маниакальное стремление к предметам роскоши в Бразилии, корпоративное поглощение глобальными брендами и психологические равнение на Вашингтон в Индии — вот отличительные признаки этой страты. Во всех трех странах шли те же процессы импорта и усвоения технологий производства, паттернов потребления и технологических инноваций из США, что определили фордистскую эпоху в Западной Европе и Японии. Но, в отличие от Западной Европы и Японии, Китай, Индия и Бразилия сохранили свою автономию как государства, независимые в геополитическом отношении от США, причем значительные части их обществ так и не были по-настоящему интегрированы в неолиберальный мировой порядок, что создало многочисленные факторы внутренней напряженности, особенно в Китае. Сложная иерархическая система американской гегемонии не получила всеобщего распространения. Но она была достаточно устойчивой.
Сила этого диагноза, как и концепции Кокса в целом, состоит в понимании транснациональных — в отличие от международных или национальных — аспектов гегемонии цивилизации капитала в XXI веке, а также их конденсации в идеологических формах неолиберализма — «дисциплинарных» или «компенсаторных» в зависимости от контекста, как красноречиво выразился другой теоретик той же самой школы [50: 65-87][10-3]. Меньше проработана связь между тремя этими уровнями, поскольку транснациональный уровень, скорее, размывает контуры двух других, словно бы включая их в себя, что затемняет их специфику: оба они наделены принудительной силой, которой транснациональный уровень, по веберовскому определению, лишен. То, что такой промах не является чем-то неизбежным, будет показано одним китайским мыслителем, в чьих исследованиях его родной страны зафиксированы многие процессы, описанные Соллом. По мнению Вана Хуи, отличительным признаком современной эпохи является деполитизация политики, то есть упразднение любой народной инстанции действия, способной создать или сражаться за альтернативу статус-кво, который симулирует представительские формы, дабы с тем большим успехом освободить их от конфликтности и противоборств. Такая политика оказывается деполитизированной, но не деидеологизированной. Напротив, она целиком и полностью идеологична. Достаточно рассмотреть первый из трех планов, проанализированных Ваном Хуи, то есть национальный уровень и его идеологическую кристаллизацию на родине неолиберализма (в последующие десятилетия распространившегося по всему свету), то есть в Британии Тэтчер и США времен Рейгана. Именно Тэтчер придумала знаменитый лозунг неолиберализма, схватывающий сущность деполитизированной политики: TINA, или There is No Alternative («Альтернативы нет»). То есть нет никакой альтернативы правлению дерегулированных финансовых рынков: царство капитала и есть царство свободы. Но это был далеко не единственный идеологический инструмент режимов Тэтчер и Рейгана. Поскольку сам по себе он оставался слишком жестким и прямолинейным, а также в каком-то смысле слишком соответствовал реалиям тех времен, он всегда требовал дополнения, скрывающего его и смягчающего. В Британии таким дополнением стало сочетание национализма и семейных ценностей, как их назвала Тэтчер, в США — национализма и религии. Подобная идеологическая двойственность представляется типичной формулой гегемонии на национальном уровне. Исторически один из наиболее ранних и живучих примеров подобных комбинаций был создан в Китае. Там современникам только и нужно было, что вспомнить о столетиях государственной власти, которые в соответствии с хорошо известной формулой ru biao, fa li[10-4] были, как сказал историк Хе Биньди, внешне конфуцианскими, но легалистскими по функциям, не говоря уже о ее возможных современных вариантах.
Надо сказать и о третьей компоненте гегемонии в деполитизированном универсуме, описанном Баном Хуи, то есть транснациональной или глобальной компоненте, действующей не на государственном или межгосударственном уровне, но пронзающей все границы на культурном и социальном уровнях. Он отметил: «Гегемония относится не только к национальным или международным отношениям, она по сути своей связана с транснациональным и сверхнациональным капитализмом; она также должна анализироваться в сфере глобализированных рыночных отношений». В чем же ее сущность на этом уровне? «Наиболее непосредственными выражениями рыночно-идеологического аппарата являются медиа, реклама, „мир шоппинга" и т. д. Эти механизмы являются не только коммерческими, но и идеологическими. Их величайшая сила заключается в обращении к „здравому смыслу" обычным потребностям, которые превращают людей в потребителей, добровольно следующих рыночной логике в своей повседневной жизни» [189: 42].
Здесь консюмеризм выделяется в качестве главного звена глобальной гегемонии капитала. Но и на этом уровне структура гегемонии сегодня остается двойственной. Потребление — это, разумеется, область захвата идеологией одной из сфер повседневной жизни. Однако капитализм в основе своей является системой производства, поэтому и в груде, и в досуге его гегемония воспроизводится, как говорил Маркс, в «молчаливом принуждении отчужденного труда», которое неумолимо приспосабливает своих субъектов к наличным социальным отношениям, лишая их энергии и способности вообразить какой-то другой, лучший, порядок в мире. Именно эта двойная экзистенциальная структура в замкнутом универсуме производства и потребления — в котором одно является компенсацией, наполовину реальной и наполовину иллюзорной, другого, — лежит в основании транснациональных форм гегемонии, интересных неограмшианству.
11. Сохраняется или убывает?
I
До сих пор речь шла о критиках роли Америки в мире после конца холодной войны. Как же должны были мыслить эту роль американские патриоты? Накануне триумфа США над СССР Най разоблачил pax Americana как миф, а разговоры о гегемонии — как несуразицу. Корректным термином для вклада США в международное сообщество является, как указывал Киндлбергер, «лидерство». Но когда Америка закрепилась в роли единственной сверхдержавы, мог ли этот осторожный термин, свободный от всяких намеков на насилие, все еще определять ее новое положение? Существовали и более приглаженные альтернативы без всякого морального наполнения: первенство или однополярность, которые предпочитали некоторые. Однако такие выражения вскоре были сметены множеством книг и потоками статей, авторы которых, нисколько не испуганные предостережениями Ная, сделали гегемонию разменной монетой 1990-х. В рядах мейнстримных мыслителей, если только они не были тогда сотрудниками администрации или какого-то другого ведомства, следовало провести кое-какие изменения. Через десять лет после «Обреченных на лидерство» Ная Джон Айкенберри выделил одну симптоматическую двусмысленность. В своей работе «После победы» (2001) он рассмотрел значительные достижения США в построении нового международного порядка после Второй мировой войны, который интегрировал Германию и Японию в системы экономики и безопасности, управляемые Америкой. Это дало Западу гарантию мира и процветания. Теперь же у США были все шансы повторить свой подвиг и разобраться с побежденным советским блоком. Была ли Америка гегемоном раньше и стала ли она им теперь? Сперва могло показаться, что это наверняка неверное обозначение. Гегемонические порядки были иерархическими, как откровенно принудительными, так и относительно более мягкими, но при этом они «основывались главным образом на неограниченной власти», в отличие от «конституционного порядка», в котором «принятые по согласию правовые и политические институты работают на распределение прав и ограничение власти», усмиряя власть и «делая ее менее заносчивой» [90, р. 27-29]. Послевоенное устройство было по своей сущности конституционным, поскольку США согласились с рядом ограничений, не позволяющих обращаться к асимметричной власти в содружестве демократий. Однако полностью исключить упоминание гегемонии, хотя и не согласованное с первоначально проведенным различием между нею и этим конституционным устройством, было невозможно. Пришлось согласиться с тем, что американская гегемония все же существует. Но она была не только «невольной», но также поразительно «открытой и доступной», позволяя другим странам говорить от своего лица в рамках созданного ею мира и процветания [90: 53 и далее, 200-205]. И все же это был конституционный порядок, одна из основ которого, НАТО — по существу, «оборонительная агрегация сил», — теперь была успешно расширена на восток. Поскольку все ее члены были плюралистическими демократиями, министр иностранных дел России мог с полным правом отметить, что «это практически исключает преследование какой-либо агрессивной внешней политики» [90: 19][11-1].
Вернувшись к задаче годом позже, Айкенберри высказался более мягко и положительно. Теперь он объяснил, что не было противоречия между конституционным и гегемоническим порядками, поскольку на самом деле первый является наиболее полезной смазкой для второго. Дело в том, что «конституционное устройство сохраняет гегемоническую власть», закрепляя договоренности, ей благоприятствующие, и в то же время снижая издержки на поддержание порядка; которые в противном случае легли бы на нее. Институты и отношения, взращенные такой гегемонией, впоследствии обязательно принесут ей дополнительный доход. «Хорошей аналогией является компьютерное программное обеспечение. Такой поставщик программного обеспечения, как Microsoft, получив первоначальное рыночное преимущество, стимулирует умножение программных продуктов и приложений, основанных на языке операционной системы Microsoft. Это, в свою очередь, создает огромный комплекс поставщиков и пользователей, которые во многом зависят от формата Microsoft» и «все более плотного комплекса связей с Microsoft», основанного на «том все более заметном факте, что переход на другой формат оказался бы более дорогостоящим, будь он даже более эффективным».
Точно так же любые существенные сдвиги в базовой организации того, что теперь можно было открыто называть «американским гегемоническим порядком», стали бы «все более дорогостоящими для расширяющегося спектра индивидов и групп, составляющих этот порядок. Все больше людей заинтересованы в системе, даже если они не особенно лояльны и не слишком близки по своим взглядам к США и даже если на самом деле они могли бы предпочесть другой порядок», поскольку «жизнь постоянно растущего числа людей была бы разрушена, если бы системе пришлось радикально измениться». В этом смысле «американский послевоенный порядок является устойчивым и развивающимся» [91: 234-235]. Для США это был, конечно, удовлетворительный результат. Но также он отвечал более общим требованиям эпохи. Американская власть оказалась приемлемой для всего остального мира, поскольку «„проект" США согласуется с более глубокими силами модернизации»[11-2].
Такого же мнения придерживались другие авторы того же сборника. Отрицать американскую гегемонию больше не было никакого смысла; требовалось, напротив, одобрить ее. «Мой акцент на гегемонии не означает радикальной критики», — все еще чувствовал себя обязанным пояснить один из авторов. Ведь на самом деле «американская гегемония удивительно благоприятна. Она не только позволяет небольшим странам оказывать относительно больше влияния на гегемона, но также поддерживает процветание человечества — свободу и благосостояние — в большей мере, чем любая альтернатива, которую только пытались воплотить» [91: 241-242]. Другой обратил внимание на то, что власть американской гегемонии на самом деле не полна: две крупнейшие страны Азии остаются за пределами системы безопасности США. Поэтому будущая задача состоит в том, чтобы «укомплектовать гегемонию», включив Китай и Индию в американский порядок и не отпугнув при этом Японию. Сделать это будет непросто. Однако давние обиды и взаимная подозрительность в азиатском регионе, настраивающие одно государство против другого, для каждого из них являются поводом стремиться к особым отношениям с США, что создает условия для успешного решения этой задачи. Конечно, «никто не любит глобального гегемона. Однако американская гегемония достаточно благотворна, чтобы быть по крайней мере терпимой — даже для государств, у которых у самих немалые властные претензии» [91: 203, 209-210].
Таким был реальный консенсус на рубеже тысячелетия. Возможно, лидерство подошло вплотную к гегемонии, на которую ее хулители навешивали порой негативные коннотации, однако, хотя новомодный термин мог звучать более грозно, он предполагал точно также, как и старый, свободно предоставляемые преимущества и с готовностью принимаемые указания — принимаемые всеми, не считая некоторых недовольных. Но с конца 2001 года такому семантическому равновесию пришлось держать удар и сентября, вторжения в Афганистан, войны в Ираке и всего, что за этим последовало. Результатом стал еще один наметившийся сдвиг. Можно ли было действительно отличить гегемонию от империи? Это, как признался один историк античности, было вопросом еще в Древней Греции, где, безусловно, империя уже стала «злым близнецом» гегемонии [194: 23]. Вскоре появилось много новых работ, в которых имперские действия или амбиции США по всему миру поддерживались, критиковались или отрицались[11-3].
Подстраиваясь под новые обстоятельства, Айкенберри десятилетие спустя поменял конституционный словарь на словарь договорной сделки. «Гегемонический порядок отличает го, что он является договорным порядком, в котором ведущее государство предоставляет услуги и рамки для сотрудничества. Взамен оно просит участия и согласия более слабых и второстепенных государств». Американская гегемония является по определению либеральной, поскольку основывается на общих правилах и взаимовыгодности: «США оформляют международный порядок и господствуют в нем, гарантируя при этом поступление прибыли другим государствам, которым эта прибыль обеспечена их согласием. В противоположность империи, такой договорной порядок зависит от соглашений касательно правил системы между ведущим государством и всеми другими». Действительно, этот порядок включал клиентурные отношения с периферийными государствами, которые по своему характеру ассиметричны, к тому же «на границах либерального международного порядка действуют порой другие механизмы порядка — балансирование и управление» [93: 70, 66]. Но различие между принципом и реальностью оставалось в силе. Американской империи не существовало.
Изменилось ли это после 2001 года из-за внешней политики республиканской администрации? Стремясь «пересмотреть глобальную систему безопасности», она «приняла логику поствестфальского мира и предложила миру новую гегемоническую сделку», но тем самым, к сожалению, поставила США выше правил, которые она навязывала другим, так что эта сделка стала для них менее привлекательной. Соответственно, другие страны обычно «недостаточно вкладывались в совместную работу», поэтому Айкенберри, поддавшись приступу раздражения, не сдержался и воскликнул: «Это и правда империя». Но не успел он это сказать, как тут же замялся. То, что Буш сделал из однополярной американской власти после 11 сентября, — это скорее «нелиберальная гегемония», причем этой малозаметной приставки достаточно, чтобы удержать границу между одной гегемонией и другой, а также допустить восстановление «авторитета и уважения», которым страна традиционно пользовалась, когда выступала гарантом «великой стратегии построения либерального порядка» [93: 276, 270, 360][11-4].
Это были доводы в пользу того, что нужно защищать давнюю идеологическую инвестицию, но важнее оказались два выступления со стороны историков, оба из которых звучали как консервативные, хотя по темпераменту были прямой противоположностью друг другу. В своей книге «Колосс» (2004) Ниалл Фергюсон, отмечая, что более рассудительные головы недавно согласились с термином «империя», доказывал, что, говоря официально, Америка все еще была империей, которая в этом не сознавалась. Самым популярным словом, описывающим ее место в мире, стала «гегемония», однако различие между двумя этими характеристиками опиралось на определение империи как прямого политического правления, формально заявленного в качества такового, над иностранными территориями, то есть определение, давно замененное более тонким пониманием разнообразия форм, в которых может отправляться имперская власть; не говоря уж о широком спектре рассортированных Фер-гюсоном политических режимов — от Рима Августа до викторианской Британии, нацистской Германии, а теперь и США, — способных такую власть применять. Он отметил: «Если у нас есть более широкое и точное определение империи, от термина „гегемония" можно будет полностью отказаться» [44: 12]. Что касается ценностных суждений, свои он не скрывал: «Я безусловно за империю». Но хотя Фергюсон безоговорочно поддерживал стремление Америки, его второй родины, стать империей, он не был ярым сторонником этой идеи. Либеральная империя США, как предприятие, построенное одновременно на национальной заинтересованности и глобальном альтруизме, была лучшей надеждой развитого мира, и вопреки ее критикам цели вторжения в Ирак были одновременно похвальными и достижимыми. Но были и весомые причины бояться того, что у страны не хватит сил выполнить свою задачу. Дело в том, что, в отличие от англичан времен Британской империи, немногие американские граждане желали тратить жизнь на управление далекими землями; американские избиратели близоруки, солдаты — изнежены; но самое главное, будущее бюджета стало заложником запросов, которые Америка не в состоянии удовлетворить. Неприятно то, что «сегодня глобальная власть США — пусть и весьма впечатляющая на внешний взгляд — опирается на гораздо более слабые основания, чем обычно считается». Дело в том, что американцы «предпочли бы скорее потреблять, чем завоевывать. Строить торговые центры, а не нации. Они страстно желают дожить до преклонного возраста и боятся преждевременной смерти на поле боя, даже если ею умрут другие американцы, записавшиеся в армию добровольцами» [44: 24, 28-29]. К сожалению, опасность для американской империи создавали не внешние противники, а «отсутствие воли к власти» внутри страны.
Весьма убедительную версию противоположной позиции представил Пол Шредер, историк европейской международной политики со времен Парижского мирного договора 1763 года и до начала Первой мировой 1914 года. Вместе с другими американскими учеными он в период сразу после и сентября — еще до вторжения в Афганистан, не говоря уже об Иране,— предупреждал об опасностях американского военного вмешательства в регион, с которым у США исторически не было ничего общего, и предсказывал, что первоначальные быстрые успехи, скорее всего, приведут в итоге к катастрофе [169: 22-36]. В следующие шесть лет он опубликовал немало работ с суровой критикой войны против режима партии «Баас», отличающихся удивительной для научной литературы этого периода аналитической силой. За несколько дней до вступления американских войск в Багдад, когда в американских медиа уже вовсю прославляли успех «Операции „Освобождение Ирака"», Шредер написал статью под названием «Мираж империи против обещания гегемонии», которая остается наиболее систематическим сопоставлением двух концепций за всю историю. Империя была представлена у него как политический контроль жителей других стран, чаще неформальный, чем прямой, однако верховная власть в этом случае остается в имперском государстве. Гегемония, напротив, — это «признанное лидерство и преобладающее влияние одной державы в сообществе политических единиц, не подчиненных единой власти». Империи нацелены на правление, а гегемонии — на управление. Решения первых императивны, а вторых — просто незаменимы. Главное же, гегемония, по его мнению, полностью совместима с современной международной системой, состоящей из автономных государств, юридически равных по статусу, хотя и не по силе, тогда как империя не совместима с ней [170: 298-299][11-5].
Попытки построения империи неизбежно приводили к хаосу и войне, тогда как гегемонии часто выступали либо архитекторами, либо условиями мира и стабильности, а их отсутствие вело к распаду международного порядка. Шредер допустил, что «это различие, как и большинство подобных различий в социальной и интеллектуальной жизни не абсолютное и напоминает различие между теплым, горячим и кипящим». Также верно то, что гегемонические державы могут стать империями, и это искушение у них постоянно присутствовало. Но это не отменяет указанного различия. Его можно проиллюстрировать на материале всей истории с XVI по XX века двумя противоположными рядами правителей: Карлом V, Филипом II, Фердинандом II, Людовиком XIV, Карлом XII, Наполеоном, Гитлером и Сталиным — с одной стороны, и Фердинандом I, Ришелье, Мазарини, Леопольдом I, Флери, победителями 1815 года, Бисмарком и «наиболее очевидным и впечатляющим примером», то есть США после 1945 года, — с другой. К сожалению, после завоевания и оккупации Ирака Америка пошла по пути империи, словно бы она могла повторить захват Египта, совершенный Британией в конце XIX века, — но уже теперь, когда исторических условий, благодаря которым это было возможно в прошлом, более не существовало. В XXI веке викторианский империализм не может быть возрожден.
Это самый сильный на данный момент аргумент в пользу разведения гегемонии и империи. Однако даже эта попытка не избегает апорий, свойственных многим другим. Как может империя быть несовместимой с нововременной государственной системой, восходящей к XVI веку, когда каждое большое европейское государство и некоторое число малых приобрели к 1914 году собственные империи? Разве в Европе времен Реставрации две ведущие державы Венского конгресса, каждая из которых обладала территориями, захваченными силой, не были одновременно и неделимо имперскими и гегемоническими? Разве Мексиканская война 1846-1848 годов произошла вне международной системы? Разве огромный рост неравенства во власти внутри иерархии государств в конце XX и начале XXI веков — намного более значительный, чем в XVIII или XIX веке,— не имеет значения для отправления имперской власти, пусть и в постсовременном стиле? Если у государств есть автономия, то какой ее частью можно пожертвовать из-за настоятельного экономического принуждения, политического и культурного влияния, а также присутствия военных баз — большей, так что они будут сведены к положению клиентских государств, или же меньшей, чем будет сохранен их номинальный суверенитет? Гегемония и империя — не враждующие друг с другом братья-близнецы, они запросто уживаются друг с другом.
II
Слово «гегемония» пришло в США из Европы как термин международной политики и именно в таком качестве закрепилось в обыденном языке. Что же стало с ним на континенте, который его породил и который все признанные авторитеты считают главным регионом, добровольно соглашающимся с американской гегемонией и извлекающим из нее выгоды, хотя эта гегемония часто описывается, если следовать формулировке одного благодарного, но не до конца тактичного норвежца, как «империя по приглашению»? В Британии, ближайшем компаньоне США, в прошлом располагавшей самой крупной империей, во времена pax Americana сложилась наиболее важная традиция теории международных отношений — особая «английская школа», которая в лучших своих образцах (работах двух ее наиболее оригинальных представителей, Мартина Уайта и Хедли Булла) продемонстрировала намного большую историческую и интеллектуальную глубину, чем американская теория международных отношений в ее качестве академической дисциплины[11-6]. На первое поколение этой школы неизбежное влияние оказал Карр, хотя ее политические взгляды — которые никак нельзя считать однородными — были весьма далеки от его позиций. Фирменным знаком школы, хотя и ее наиболее противоречивым тезисом, стала идея о том, что в Европе со времен раннего Нового времени складывалась не только межгосударственная система, но и «международное общество» (international society) государств с общими интересами и ценностями, связанных общими правилами и процедурами, — общество, образующее охватывающий их всех универсум, склоняющий к компромиссу и миру между ними. С точки зрения Карра, это был просто ханжеский вымысел. Он считал, что никакого международного общества нет, есть только «открытый клуб без четких правил». Работы английской школы, как и их заокеанских коллег, соответственно, вряд ли были чем-то большим, чем исследованием того, «как управлять миром с позиции силы»[11-7]. Насчет этических претензий общества, которое воображалось ею, он сухо отметил, что «власть всегда создает мораль, удобную ей самой».
Но такой взгляд означал недооценку его собственного влияния на то, что он презирал. Хотя Уайт после удивительно талантливых первых работ со временем скатился к трюизмам атлантического самовосхваления, в этом никогда не был замечен Булл, рассудительный австралиец, который утверждал не только то, что международное общество, как он его понимал, никогда не совпадало как с состоянием войны (как гоббсианским инвариантом межгосударственной системы), так и с политическими силами, действующими поверх государственных границ, но и то, что оно само опиралось на ряд «институтов» — как было принято говорить, пользуясь несколько искусственным словарем этой школы, — к числу которых относилась не только иерархия государств под верховенством великих держав, но и собственно война, а также более жизнеутверждающие ориентиры вроде дипломатии, международного права и равновесия сил. Международное общество такого рода существовало в двух версиях — минимальной и: максимальной, то есть «плюралистского» сообщества государств, соблюдающих взаимный суверенитет, и «солидаристского» сообщества, навязывающего внутри каждого из государств нормы, за исполнением которых следит наднациональная власть или же гражданское общество. Целью первого был порядок, второго — справедливость. Булл не сомневался в том, что первое является более реалистичным и менее склонным к злоупотреблениям, чем второе.
Второе поколение школы, работавшее в эпоху Договора о нераспространении ядерного оружия, «ответственности по защите», «гуманитарного вмешательства», «войны с терроризмом» и т. п., сменило это предпочтение на противоположное. Плюрализма было уже недостаточно. Солидаризм заставлял обращать меньше внимания на суверенитет и больше — на «право вмешательства» (le droit d'ingérence), имеющееся у «международного сообщества» (international community), как оно могло теперь — вот уж новшество — официально называться. Какое же место отводилось гегемонии в этой новой, по сути прогрессивной, структуре? Булл определенно не считал ее одним из опорных институтов международного общества. Он отмечал: «Там, где крупная держава обладает гегемонией над более мелкими, имеет место применение силы или угроза силы», даже если она применяется лишь эпизодически или ограниченно, а не постоянно и в полной мере, поскольку имеются другие способы навязать свою волю. Гегемония, по его словам, — это «империализм с хорошими манерами» [18: 209].
Для следующего поколения это, очевидно, было слишком просто. Но в «английской школе» имелась альтернативная конструкция, предложенная бывшим дипломатом Адамом Уотсоном, который отвел гораздо более важную роль гегемонии, включив ее в таксономию государственных систем, отсчитываемую от начал цивилизации в Месопотамии и фиксируемую непрерывной линией от империи на одном конце через доминион и сюзеренитет в середине к гегемонии и независимым государствам на другом конце. В историческом плане, если считать, что движение по этой линии соответствует принципу маятника, гравитация тянула систему от империи и в то же время независимости к центру, где гегемония была практически повсеместной, если имелось множество формально независимых, но в действительности неравных государств [190: 13-16, 314][11-8]. Как определенная форма она должна рассматриваться беспристрастно, без порицаний. Гегемония, хотя по своей природе она требует военной силы, не может действовать посредством диктаторского повеления, она предполагает диалог и чувство взаимной полезности. С другой стороны, если первоначально Уотсон утверждал, что гегемоны контролируют только внешние отношения подчиненных государств, со временем он пришел к выводу, что гегемоническое давление быстро распространяется и на внутренние дела этих подчиненных государств, затрагивая в некоторых случаях все что угодно, начиная с их экономико-политических систем и заканчивая религиозной ориентацией или социальной структурой[11-9].
Это был более проработанный взгляд на гегемонию, однако олимпийский прицел ретроспективного исследования, частью которого он являлся, отдалил его от более насущных вопросов, которыми занимались более поздние представители английской школы. Как в конечном счете отметил и сам Уотсон, «международное общество» было в конституционном отношении «антигегемоническим». Не грозил ли перевес США помешать тому моральному консенсусу, от которого он зависел? Как, собственно, международное общество могло сохранять свою легитимность, если одно государство было способно постоянно навязывать другим свою волю? В 2005 году Ян Кларк — глава кафедры, которой некогда руководил Карр, и самый продуктивный представитель своего поколения — высказал опасение относительно того, что обретенный Америкой приоритет грозил «основным понятиям конституционности». Проблемой была не американская гегемония как таковая, но тот факт, что так и не было создано «удовлетворительного принципа гегемонии», который мог бы сделать ее удобоваримой для достаточного большого числа государств, обеспечив «моральную приемлемость идеи гегемонии». Если бы можно было найти такой принцип, международное общество смогло бы привыкнуть к американской власти. Ее легитимность была подорвана вторжением в Ирак, но легитимность не совпадает с легальностью, которая является лишь одним из доводов в ее пользу. Легитимность, скорее, по самой своей природе является «политически динамичной», подстраиваясь под обстоятельства. Положительным знаком стала принятая задним числом резолюция ООН, поддерживающая оккупацию Ирака, как «благословение, критически важное для будущих результатов» [24: 216, 242, 233-254, 256].
У английской школы была особая миссия в решении задачи легитимации гегемонии США. К сожалению, в прошлом она, судя по всему, «гораздо больше сил прилагала к предупреждению гегемонии, чем к изучению консенсуального подчинения ей». Однако саму школу как отдельный проект всегда воодушевляло «управление порядком в мире неравноправных позиций», и если она постулировала наличие международного общества с множеством крупных держав, разве не было бы противным духу школы отказаться от своей миссии, когда осталась только одна такая держава? За «Легитимностью в международном обществе» последовало необходимое дополнение, «Гегемония в международном обществе», в которой рассматривается исторический период с Венского конгресса и до Обамы, Какие же выводы были сделаны? Существовало некоторое противоречие между двумя принципами международного порядка, едва ли не всеобщим признанием потребности в великих державах, которые бы играли ведущую роль в управлении им, и потребностью в наличии определенного баланса между ними, чтобы они не злоупотребляли своей властью. Как можно было сохранить первый принцип в отсутствие второго? В решении этого вопроса английская школа могла доказать свою «значимость в современных условиях», предложив «недостающую деталь архитектоники» ее идей, без которой она «упиралась в тупик». Решение для международного общества состояло в «социализации» гегемонии за счет «принятия ее как института, им же и созданного», так что гегемония должна стать «институализированной практикой особых прав и ответственностей, возлагаемых международным обществом или же его избранными представителями на государство (или государства) с ресурсами, необходимыми, чтобы играть роль лидера» [23: 4, 36, 49, 56, 241]. Америка пока еще не получила этой настоящей гегемонии, хотя Обама продемонстрировал большее ее понимание. Но именно она должна дать ключ к стабильному и упорядоченному миру.
«Его представители» ... К чему беспокоиться о репрезентативности? После Булла школа, основателем которой он был, скатилась в апологетику, стремясь сохранить за собой востребованность; Кларк, более критический по взглядам в своих ранних работах, не является ни отдельным случаем, ни крайним[11-10]. Популяризатор школы Барри Бузан не столь ярок, и даже этой возвышенной версии гегемонии он предпочитает более безопасный эвфемизм «лидерство», почти как Най. «Не может быть сомнений в том, что США были удивительно успешным и конструктивным международным лидером на протяжении последней половины века и что сейчас нет очевидного кандидата на то, чтобы выполнять эту роль столь же хорошо или лучше»: действительно, лидерство США в этот период, пусть и не свободное от некоторых эпизодических промахов, оказало «в целом благотворное воздействие на развитие международного общества, воздействие, равного которому не найти в анналах истории». Буш создал риски для этой лидерской позиции, однако необходимо «без устали оспаривать» критику такого лидерства, предъявленную французами [20: 188, 193-194][11-11]. Только такие друзья, как Британия, могли бы повлиять на американские представления о том, как их страна может восприниматься извне, и помочь ей вернуться на тот курс, которого она с таким достоинством придерживалась в прошлом. Такова была традиция, некогда отличающаяся безусловной интеллектуальной независимостью, но затем деградировавшая до мелочности «особых отношений». В двух памятных высказываниях Булл отметил разницу между его подходом и большинством тех, что появились после него, написав тем самым на них эпитафию. В начале своего главного труда он заявил: «У исследования своя собственная мораль, и оно не может не подрывать самые разные политические институты и движения — как хорошие, так и плохие», а в конце написал: «Стремление к выводам, которые можно было бы представить „решениями" или „практическими советами", развращает современные исследования мировой политики» [18: xxxvii, 308].
12. Амбиции
Если сравнительно недавние колебания в толковании «международного общества» в Британии — пытающейся, по словам Кларка, вырастить растение гегемонии на теоретической почве, для него, судя по всему, непригодной, — можно прочесть как интеллектуальные симптомы империи прошлого, пытающейся облагородить свою роль адъютанта империи настоящего, прямо противоположное движение, утверждающее укрепление державы будущего, можно обнаружить в Европе. В 2012 году в ведущем интеллектуальном журнале Германии юрист Кристоф Шёнбергер заявил о том, что его страна приняла на себя роль гегемона Евросоюза [167: 1-8]. Это, по его мнению, гегемония не в том смысле, в каком ее понимают в англоязычном мире, как преобладание в межгосударственной системе, не говоря уже о ее вульгарном антиимпериалистическом смысле у Грамши (Вакка был бы сильно удивлен), а в том строгом смысле, который был развит Трипелем, то есть как лидерство в рамках федерации, аналогичное роли Афин в Делосском союзе, Голландии в Соединенных провинциях и Пруссии во Втором рейхе. ЕС стал федерацией, состоящей из более чем двух десятков государств разной величины и значения, с формально равными правами участия у каждого государства, тогда как сложному аппарату ЕС, обосновавшемуся в Брюсселе, недостает прозрачной связи с обществами стран континента. Более того, чтобы он вообще работал, его пришлось отгораживать звуконепроницаемыми стенами. Порядок и согласованность в этой неуклюжей структуре могли появиться только благодаря государству безусловно более крупному и сильному, чем все остальные, подобному Пруссии во Втором рейхе, сотворенном Бисмарком.
Теперь такой державой стала Германия, и немцы должны отбросить провинциальную замкнутость, отличавшую их в недавнем прошлом, чтобы свыкнуться с ролью, которой они больше не могут избегать. Внутри самой Федеративной Республики этой роли мешали назойливый парламент и неповоротливый конституционный суд, сужавшие пространство для смелых действий исполнительной власти. То же самое можно сказать об идеализированном стремлении к демократии, характерном для народов с недавним недемократическом прошлым, которым неловко иметь дело с непрозрачной бюрократией Еврокомиссии и ее лабиринтом технических комитетов, отсюда устремления вроде тех, что высказывались Хабермасом, который мечтал о наднациональной демократии, избирающей правительство, ответственное перед избирателями всей Европы. Подобные представления являются своего рода политической фантастикой. Единственным реальным вариантом оказывается федерация государств, в теории равных, но на практике выстроенных иерархически, под руководством гегемонической Германии. Франция с ее нереформированной экономикой и поблекшими атрибутами престижа — ядерным оружием и местом в Совете Безопасности — должна будет приспособиться к положению; сильно напоминающему положение Баварии при Бисмарке, то есть получить компенсацию за утрату власти в виде успокоительных жестов и отступных. В предсказании того, что сложится такая конфигурация, никакого высокомерия не было. Германия становится гегемоном помимо своей воли, и такая гегемония будет для нее в большей степени бременем, чем привилегией. Такова уж судьба этой страны.
Шёнбергер, предупрежденный Гельмутом Шмидтом о том, что эта идея нескромна, а потому может повредить немецким интересам, приложил все усилия, чтобы развеять любые недоразумения [168: 25-33]. Говоря о гегемонии, он использовал этот термин совсем не в том смысле, какой часто связывался, более или менее обоснованно, с великодержавной политикой. Трипель раскритиковал эту путаницу ограничив термин федеральными (в отличие от международных) структурами власти, ясно указав на то, что он предполагает всего лишь «определяющее влияние». Кроме того, Германия не обладала абсолютным перевесом силы в Европе, в отличие от Пруссии во Втором рейхе. Так что беспокоиться не о чем. Конечно, вряд ли ее будут сильно любить — гегемонов, в общем-то, любят редко. Но ее как гегемона будут уважать, если она покажет себя способной решать задачи Евросоюза, сохраняя беспристрастность. Помешать этой задаче может некоторая узость экономического подхода. Было бы не слишком разумно требовать, чтобы партнеры усвоили ее экономическую культуру, являющуюся продуктом ее специфического прошлого, или же предполагать, что все они смогут воспроизвести ее экспортную модель, что невозможно. Но если не считать этих ограничений, политическая культура страны идеально ложится на ее роль гегемона Евросоюза, поскольку Германия сама достаточно сложная федерация, а ее политические элиты накопили большой опыт в прагматических сделках и взаимном приспособлении того рода, что стал основой управления Евросоюзом.
Этот умеренно спокойный тон не сохранился в книге о положении страны в Европе, которая развивала те же идеи и была опубликована два года спустя Херфридом Мюнклером, главой кафедры политической теории в Университете Гумбольдта в Берлине и главным немецким специалистом по сравнительной геополитике. Мюнклер, более всего известный исследованием империй во всемирной истории, в котором обосновывалась их роль как творцов порядка в вакууме власти, существовавшем вокруг них, — племенных и иных форм анархии в прошлом, слабых или недееспособных государств в относительно недавнее время, — приветствовал интервенции Америки на Балканах и Ближнем Востоке, не говоря уже о «Бойне с терроризмом», представив их в качестве последнего из начинаний в этой линии преемственности. Он настаивал на том, что Европа должна выработать собственную политику имперского типа, чтобы контролировать свою периферию в том же примерно стиле, что и США, беря с них пример и сохраняя лояльность им [140: 245-254][12-1]. К 2006 году Германия начала действовать как более уверенная в себе «срединная держава», отправляющая свои войска за границу ради отстаивания коллективных интересов. Но в своем национальном самоутверждении она все еще слишком опирается на экономические успехи. Ей нужно диверсифицировать портфолио своих сил.
Десятилетием спустя Германии оказалось возможным поручить намного более важную роль. В работе «Власть посередине» (2015) излагаются причины, по которым Федеративная Республика достигла наконец того положения в Европе, в котором предыдущие режимы оступились. «Мы — гегемон», — объявил теперь Мюнклер [142]. Ведь Германия не только стала крупнейшей экономикой и самой населенной страной Евросоюза, она еще и определяет стандарты социальной солидарности и политической компетентности. В отличие от Франции, благодаря «Программе 2010» она провела полномасштабную реформу рынка труда и пособий, значительно обогнав по скорости роста и экспортным показателям своего прежнего партнера по управлению ЕС. В отличие от Италии, где, несмотря на десятилетия бессмысленных финансовых вливаний. Юг по-прежнему оставался для Севера обузой, она успешно подняла уровень обедневшего и неконкурентоспособного Востока, подтянув его к западным стандартам эффективности и благосостояния. В отличие от любой другой большой страны Европы — Франции, Италии, Испании или Британии,— граждане Германии по-прежнему демонстрируют равнодушие к популизму любого рода, правому или левому, успокаивая своих соседей удивительным зрелищем политической ответственности. Конечно, самодовольства быть не должно, поскольку симптомы того же расстройства начали появляться и в самой ФРГ в виде «Альтернативы для Германии». Но это лишь делает еще более неизбежным продолжение сотрудничества ХДС и СДП, занимающих центр политического спектра и своим совместным примером показывающих, что значит сообща руководить Германией, каковой опыт пригодится и Евросоюзу в целом[12-2].
Сами немцы ни раньше, ни теперь не хотят гегемонии, которую история им навязала. Политическая элита от нее отшатывается; избиратели ее в упор не видят; интеллектуалы старательно избегают ее обсуждения. Однако задачи, вставшие перед страной, не ждут. Евросоюзу еще предстоит преобразовать свою (технократическую) легитимность результатов в (демократическую) легитимность оснований и стать проектом самих граждан. Внутри него обнаружились мощные центробежные силы. Вокруг Германии свирепствует популистская демагогия — достаточно вспомнить о Национальном фронте во Франции, «Пяти звездах» в Италии, Вилдерсе в Голландии, — и даже такие бастионы здравомыслия, как Швеция и Дания, оказались ею заражены. За этим заражением последовал отказ от любого рационального экономического управления, что создало угрозу для Пакта о стабильности, который Германия протащила в Еврозоне. На юге — Средиземное море, переставшее быть границей, снова оказавшись, как в старину, скорее связывающим, а не разделяющим берега, ведь через него в Евросоюз хлынули беженцы. Северная Африка и Левант от Туниса до Ливии, Египта и Сирии начали дивить на Европу, чего не было с Темных веков. На глобальном уровне Евросоюз может откатиться на второстепенные в экономическом плане роли, если и в будущем не окажется в со стоянии выйти из колеи низкого роста, слабой деловой активности, нехватки инноваций и отсутствия финансовой дисциплины.
Только Германия может своим примером и волей вывести на путь, ступив на который можно справиться с этими опасностями. От неё теперь зависит будущее Евросоюза: «Если Германия потерпит неудачу, то же самое будет и с Европой»[12-3]. Ее первоочередные задачи ни ляются двусторонними: стать одновременно «казначеем» (Zahlmeister) и «дрессировщиком» (Zuchtmeister) Европы. Германия уже является крупнейшим вкладчиком в бюджет Евросоюза, направляя в него суммы, равноценные репарациям, выплаченным по Версальскому договору, а ее потребители и вкладчики оплачивают отрицательные процентные ставки, введенные Центробанком, чтобы стимулировать кредиты расточительных соседей [141: 178-180, 41-42, 146-147]. Никто не может сказать, что Германия не щедра. Но взамен она имеет право потребовать, чтобы государства — члены ЕС привели свой дом в порядок, и проследить, чтобы они действительно сделали это.
Помимо этих актуальных соображений имеется антропологическая константа, которая важнее их всех и заключается в том, что культурные и политические системы любой величины всегда требовали наличия центра. Исторически эту потребность удовлетворяли в европейском воображении Иерусалим, Афины и Рим. Сегодня же в силу географического расположения в центре континента и наличия границ на севере, юге и востоке Европы эта символическая позиция досталась Германии. Гарантируя, что расширение ЕС на север и восток уравновесит его предыдущее расширение на юг, Берлин искал именно этой позиции и должен внимательно следить за тем, чтобы против него не сформировался латинский блок, как было предложено Агамбеном, вспомнившим о Кожеве. Германия должна сделать все возможное, чтобы сохранить Британию в рамках ЕС в качестве полезного противовеса и не позволить Франции задуматься о похожем кульбите с выходом из Союза. Всего этого требует простая геополитическая осторожность [141: 70-76, 28-29, 174-176].
Может ли все это привести к неприязни и даже страху перед новым гегемоном? Это маловероятно: немцы должны ждать не того, что их будут любить, но того, что их будут уважать, а иногда и восхищаться ими. Ведь Германия имеет решающее, парадоксальное преимущество в той роли, которую она должна теперь на себя взять. Это «уязвимый» гегемон, и причина этой уязвимости — его прошлое. Преступная природа Третьего рейха сама по себе гарантирует то, что Федеративная Республика станет флагманом демократической стабильности в послевоенной Европе и будет восприниматься в таком именно качестве. Европейцы могут быть уверены в том, что Германия не будет злоупотреблять своей властью, чем, возможно, не побрезговала бы страна, у которой за спиной не так много грехов [141: 168-170]. У них нет причин бояться некоторой муштры, которая им же на пользу. На них общая ответственность за Европу, за то, чтобы навести порядок в ее Großraum, поскольку Америка все больше сосредоточивается на своем тихоокеанском побережье, а не на атлантическом. Американские силы выведены из Средиземного и Черного морей, а также из Балтики. Новый гегемон понадобится и для того, чтобы набраться коллективной решимости для традиционных задач по управлению периферией. Соответственно Германия не может позволить себе забыть о своей роли в Ливии: значительные военные силы и готовность их применить — вот что требуется.
В подобных постмодернистских картинах немецкого верховенства в Европе снова всплыли давние тропы. По Веберу, Германия не хотела Первой мировой войны, каковая была навязана ей как великой державе, чье существование было помехой для других великих держав: «Тот факт, что мы народ не семимиллионный, а семидесятимиллионный, — вот что было нашей судьбой. Она стала основанием неумолимой ответственности перед историей, которой мы не могли избежать, даже если бы захотели» [191: 143]. Когда пришлось столкнуться не с Антантой, но с ее слабеющими потомками, этот тезаурус снова вернулся в обращение. Размер Германии, обрекает ее на ответственность — Verantwortung: ни одно другое слово ее политики не изрекают чаще, начиная с ее пастора-канцлера и заканчивая всеми остальными,— ответственность, которой она не может избежать, даже если бы захотела, а она по-прежнему и правда хочет. Такая ответственность — бремя, как его понимал Киплинг, тяжелое и болезненное. Неудивительно, что подобно послевоенной Америке, о которой с теплотой вспоминает Айкенберри, Германия после холодной войны не хочет взваливать его на себя: страну вынуждают стать гегемоном против ее воли. Применительно к таким тропам можно обновить суждение Карра: в жалости к самой себе, как и в самовосхвалении, в священнодействии самовозвеличивания власть порождает пафос, удобный ей самой. Нельзя не отметить, насколько это поучительно: ведь нигде сегодня не заметен столь ясно, как в этом современном немецком дискурсе, понятийный континуум, охватывающий разные трактовки гегемонии — как консенсуального руководства федерацией, как непреложного превосходства одной державы над другой и как единородной сестры империи.
13. Выводы
I
Нет лучшего средства против пафоса, чем те несогласные с американской внешней политикой голоса, что слышны внутри самих США. В последнее время два таких голоса особенно выделились несентиментальным реализмом и способностью называть вещи своими именами, не приукрашивая их. В большой работе «Трагедия великодержавной политики» Джон Миршмайер определил гегемона как государство, которое «настолько сильно, что доминирует над всеми остальными государствами в системе. Ни одно другое государство не обладает военными ресурсами, чтобы начать против него серьезную борьбу». Он доказывает, что такая гегемония всегда может быть лишь региональной, поскольку любому государству практически невозможно достичь глобального доминирования из-за сложностей с развертыванием вооруженных сил на заокеанских территориях [по: 40-41][13-1]. США давно уже являются гегемоном западного полушария, и они всегда успешно сопротивлялись — как и пристало гегемонам — любым попыткам сопоставимых с ними по силе конкурентов создать аналогичное владычество в восточном полушарии, на том или другом из концов Евразии. Однако после конца холодной войны, в обстановке, благоприятствовавшей формированию однополярного мира, США, хотя и пользовались едва ли не полной безопасностью, будучи защищены в своем собственном доминионе двумя океанами, выбрали безрассудный курс на глобальное господство. Он известен в двух версиях: «неоконсервативной», сформированной при Буше-младшем, и «либерально-империалистической» при Клинтоне и Обаме; и при той, и при другой страна увязла в войнах в регионах, не имеющих для нее стратегического значения, войнах крайне дорогостоящих и бесцельных. Внутри страны стремление к глобальному господству подорвало верховенство права, породив манию слежки и презрение к надлежащей правовой процедуре [119: 16-34; 118: р. 9-30]. Либеральный империализм оказался тупиком. Пришло время отступить к более здравой позиции уравновешивания из-за океана.
Не подписываясь под представлением о воде как преграде и считая моря скорее глобальным достоянием, управление которым допускало именно что отступление американских сил, рекомендованное Миршмайером, Барри Позен из Массачусетского технологического института сумел отказаться от оговорки насчет региональности и найти для либерального империализма подходящий ему синоним. Его крайне язвительная работа о современной внешней политике Америки открывается простым диагностическим утверждением: «США утратили способность сдерживать свои амбиции в международной политике». В чем же причина? «После распада Советского Союза они следовали большой стратегии, которую можно назвать „либеральной гегемонией"» [157: xi]. Эта стратегия не является политикой статус-кво; она по самой своей природе экспансионистская. Ее главными вехами стали расширение НАТО к границам России, война в Косово и война в Ираке — все это были совершенно лишние промахи, усугубленные «наивностью и расточительностью» конфликта в Афганистане. США в итоге пришлось потратить почти вдвое больше времени на военные действия, чем в период холодной войны. Эти авантюры дорого стоили. В реальном выражении к 2010 году стоимость войны в одном Ираке в два раза превысила стоимость Корейской войны и оказалась даже выше расходов на вьетнамскую войну, причем плохо организованные иракские повстанцы нанесли пропорционально больше ущерба американским войскам, если считать по количеству жертв среди армейского состава, чем хорошо организованные воинские подразделения вьетнамского народа. Огромные суммы, которые могли бы инвестироваться в снижение долговой нагрузки или же в инфраструктурные проекты, были пущены по ветру [157: 25-26, 49-50, 58-59, 67].
И каков же результат? Попытка построить работоспособную мультиэтническую демократию на Большом Ближнем Востоке провалилась. В Афганистане не удалось создать сильное центральное правительство. Ирак впал в хронический кризис политического насилия. Проигнорировав уроки своей собственной Гражданской войны, США поступили так, словно бы национальные, этнические или религиозные идентичности не являлись препятствием для навязывания гегемонической воли Америки другим народам. Вера в современное высокотехнологичное оружие породила иллюзию, будто «военная сила — это скальпель, которым можно сделать тонкий надрез на больном политическом теле», тогда как на самом деле «она остается дубиной, которая в лучшем случае позволяет добиться озлобленной покорности из-под палки, а в худшем — временного смягчения симптомов» [157: xiii]. Рациональная большая стратегия покончила бы со всем этим, сократив военные расходы наполовину и сосредоточив их на контроле водных пространств, воздуха и космоса, в соответствии с курсом просчитанной сдержанности. Но на это вряд ли можно надеяться в ближайшем будущем; если только не случится каких-то значительных экономических потрясений. «Американская большая стратегия находится в руках крайне самоуверенной национальной элиты служб безопасности, имеющей глобальные амбиции и постоянно самовоспроизводящейся», щедро снабжаемой разведывательными и техническими ресурсами, причем включающей в себя представителей как республиканской, так и демократической партий. «Отказаться от проекта либеральной гегемонии будет непросто» [157: 173].
II
За более чем два тысячелетия термин «гегемония» не раз менял смысл и место пребывания. Если говорить о географии, «гегемония», возникнув в античной Греции, посетила в разных обличьях парламентскую Германию, царистскую Россию, фашистскую Италию, Францию времен Антанты, Америку холодной войны, неолиберальную Англию, реставрировавшую монархию Испании, постколониальную Индию, феодальную Японию, революционный Китай, чтобы потом снова вернуться в Британию, уже отошедшую на вторые роли, в Германию, все более укрепляющуюся, и в США при однополярной системе. В политическом плане ее теоретиками в разные времена и в разных местах были либералы, консерваторы, социалисты, коммунисты, популисты, защитники реакции с одной стороны, герои революции — с другой. Но это не была какая-то хаотичная история, в которой смыслы никак не связаны друг с другом и полностью меняются при переходе от одного пространственного или идеологического пункта к другому. В ней вырисовывается довольно ясная схема. С самого начала в коннотациях, скрывающихся в понятии «гегемония», было определенное противоречие. Лидерство в союзе, каково оно — политическое или военное? Ведомые — подданные или союзники? Каковы узы между ними — добровольные или вынужденные? Каждая следующая форма, в которой являлась гегемония, содержала в себе данную двусмысленность, хотя часто — но не всегда — люди, использовавшие это понятие, пытались эту двусмысленность устранить. Если бы гегемония была просто культурным авторитетом или принудительной властью, само ее понятие было бы излишним: и у того, и у другого есть много более очевидных наименований. Ее сохранение в качестве термина обусловлено тем, что в ней сочетаются оба значения, причем существует целый спектр их возможных сочетаний. Традиционно она всегда предполагала нечто большее простой силы.
Этот избыток часто отделяли от целого, словно бы он исчерпывает ее значение. Причину легко понять. В любую эпоху язык политики склонен к порождению эвфемизмов, поскольку власть — искомая или приобретенная — не желает открыто показывать себя. Гегемония, сведенная к определенной форме консенсуса, может способствовать решению этой задачи, хотя сохраняющееся ощущение того, что она может включать в себя и другое значение, способно навлечь на нее подозрение, о чем свидетельствуют колебания и оговорки, отметившие собой ее рецепцию в США[13-2].
Сопряжение разных аспектов гегемонии — редкий случай, причем относительно недавний. Традиционно, да и сейчас в основном тоже, истории применения термина «гегемония» в отношении внутригосударственных и межгосударственных вопросов существовали порознь, поскольку второе значение структурно больше склоняет к ее трактовке в регистре принуждения, а не убеждения, что объясняется отсутствием какой-либо общепризнанной власти в отношениях между странами, если не упоминать благопристойных фикций того, что считается международным правом, соблюдаемым только тогда, когда это выгодно. Транснациональный аспект гегемонии, в сравнении с двумя другими в наибольшей степени осуществляемый через культуру, остается самым неисследованным, и то же самое можно сказать о том, как он сопряжен с двумя другими аспектами и как от них зависит. В основании сложной системы, которую они образуют, лежат национальные гегемонии, как их понимал Грамши, то есть область, где согласие и принуждение обычно находятся друг с другом в устойчивом равновесии, тогда как на уровнях выше обычно преобладает либо то, либо другое.
В силу глобализации капитала эти аспекты становятся все более взаимосвязанными. В качестве символической иллюстрации достаточно рассмотреть присуждение Нобелевской премии мира президенту США Обаме, которое состоялось меньше чем через год после его инаугурации. Сама премия, миллион долларов наличными и намного больше в качестве паблисити, относится целиком и полностью к транснациональному потреблению культуры и рынка знаменитостей. На национальном уровне она навела глянец на имидж действующего президента, когда он только вступил в должность, чтобы по прошествии лет можно было покинуть ее с тем же изяществом. На международном уровне смиренный оммаж, выраженный ею, напомнил миру о сохраняющемся превосходстве США и верности им даже такого малопримечательного союзника, как Норвегия. В те времена, когда его армии оккупировали Ирак, нагнетая насилие в Афганистане и поливая огнем Пакистан, президент был награжден высшим западным знаком отличия за груды на благо человечества — такое вот человеколюбие в стиле XXI века. Габриэль Гарсиа Маркес однажды отметил, имея в виду Киссинджера и Бегина, оказавшихся в числе первых лауреатов Премии мира, что лучше было бы назвать ее подлинным именем — Нобелевской премией войны. Обама, первый правитель за всю американскую историю, который на протяжении двух своих сроков постоянно руководил военными кампаниями, имел на нее полное право: в настоящее время под его командованием проводится не меньше семи открытых или негласных войн, и дополнительные войска определяются или отправляются в те места, из которых ранее было принято обязательство их вывести. Это все тоже хорошо знакомо по античным временам. В выражениях, которые, будь они сказаны сегодня, могли бы описать траекторию от «дерзости надежды» к дронам, громящим деревни в Гиндукуше или в Северо-западной пограничной провинции, греческий историк Диодор Сицилийский, современник Юлия Цезаря, передал суждение античного мира о примерно таком же сочетании убеждения и принуждения, идеологии и насилия, благодеяния и Schrecklichkeit[13-3]. В загадочном фрагменте, который сохранился из его «Библиотеки истории» и в котором, возможно, содержится комментарий к римским операциям в Северной Африке, он отметил: «Те, кто желают достичь гегемонии, приобретают ее смелостью и умом (andreia kai sunesis), приращивают умеренностью и благодеяниями (epieikeia kai philanthropōid) и поддерживают страхом и приводящим в оцепенение устрашением (phobos kai kataplēxis)»[13-4]. Последний термин может выступать окончательным словом гегемонии, по крайней мере этой. Во имя войны с терроризмом, войны как террора, без границ и конца: kataplēxis, куда ни глянь.
Библиография
1. Anderson P. The Antinomies of Antonio Gramsci, London, New York, 2017, passim
2. Arkolay [johann Woldemar Streubel]. L'Allemagne du sud sous l'hégémonie prussienne et sa perte certaine en cas de guerre entre la France et l'Allemagne. Paris, 1869
3. Aron R. Paix et guerre entre les nations. Paris, 1962,
4. Aron R. République impérial. Les États-Unis dans le monde, 1945-1971. Paris, 1973.
5. Aron R. The Imperial Republic: The United States and the World, 1945-1973. Englewood Cliffs, 1974.
6. Arrighi G. A Crisis of Hegemony // Amin S., Arrighi G., Frank A. G., Wallerstein I. Dynamics of Global Crisis, New York, 1981.
7. Arrighi G. Marxist Century, American Century: The Making and Remaking of the World Labour // New Left Review. 1990. I/179.
8. Arrighi G. The Geometry of Imperialism. London, 1983.
9. Arrighi G. The Long Twentieth Century. London, New York, 2010.
10. Arrighi G. The Three Hegemonies of Historical Capitalism // Review (Fernand Braudel Center). Summer 1990.
11. Arrighi G. The Winding Paths of Capital // New Left Review. 2009. №56.
12. Arrighi G. Towards a Theory of Capitalist Crisis // New Left Review. 1978. I/111.
13. Arrighi G., Silver B. Chaos and Governance in the Modern World System. Minneapolis, 1999.
14. Baronowski D. Polybius and Roman Imperialism. London, 2011.
15. Blackburn R. Ernesto Laclau 1935-2014 // versobooks. com, 14 April 2014.
16. Bol P. «This Culture of Ours»: Intellectual Transitions in T'ang and Song China. Stanford, 1992.
17. Bosworth A.B. A Historical Commentary on Arrian's History of Alexander. Oxford, 1980.
18. Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. Basingstoke, 1977.
19. Buzan B. Introduction to the English School of International Relations: the Societal Approach. Cambridge, 2014.
20. Buzan B. The United States and the Great Powers: World Politics in the Twenty-First Century. Cambridge, 2004.
21. Carr E.H. The Twenty Years' Crisis. London, 1939.
22. Cawkwell G. Philip of Macedon. London, 1978.
23. Clark J. Hegemony in International Society. Oxford, 2011.
24. Clark J. Legitimacy in International Society. Oxford, 2005.
25. Confucius. Analects.
26. Cox R. Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method // Millennium. 1983. № 2.
27. Cox R. Production, Power and World Order.
28. Cox R. Rethinking Hegemony: Uneven Development, Historical Blocs and the World Economic Crisis // International Studies Quarterly. June 2012.
29. Cox R. Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory // Millennium. 1982. № 2.
30. Croce B. Storia d'Europa nel secolo decimonono. Bari, 1931.
31. Daikichi D. The Culture of the Meiji Period. Princeton 1985.
32. Dehio L. Gleichgewicht oder Hegemonie, Krefeld, 1948.
33. Dehio L. Ranke und der deutsche Imperialismus // Deutschland und die Weltpolitik. Munich, 1955.
34. Dehio L. The Precarious Balance. New York, 1962.
35. Dehio L. Versailles nach 35 Jahren // Deutschland und die Weltpolitik. Munich, 1955.
36. D'Eramo M. Populism and the New Oligarchy // New Left Review. 2013. II/82.
37. Doran C. The Politics of Assimilation: Hegemony and Its Aftermath. Baltimore, 1971.
38. Droysen J. G. B. Briefwechsel. Bd I. Osnabrück, 1929.
39. Droysen J. G. B. Geschichte Alexanders des Grossen. Berlin, 1917.
40. Droysen J.G.B. Politische Schriften. Berlin, 1933.
41. Ehrenberg V. The Greek State. London, 1969.
42. Ernesto Laclau, el Ideólogo de la Argentina Dividida // Noticias de la Semana, 13 April 2014.
43. Errejón t., Mouffe C. Construir Pueblo. Hegemonia y radicalización de la democracia. Madrid, 2015. Passim.
44. Ferguson N. Colossus: The Rise and Pall of the American Empire. New York, 2004.
45. Forgacs D. Gramsci and Marxism in Britain // New Left Review. 1989. I/176.
46. Franke O. Geschichte des chinesischen Reiches. Bd I. Berlin, 1930.
47. Frei C. Hans J. Morgenthau: Eine intellektuelle Biographie. Berne, 1993.
48. Gervinus G. G. Denkschrift zum Frieden // Hinterlassene Schriften. Vienna, 1872.
49. Gérard A. L'hégémonie allemande et le réveil de l'Europe (1871-1914) // Revue des deux mondes, May-June 1915.
50. Gill S. A Neo-Gramscian Approach to European Integration II A. Cafruny, M.Ryder (eds). A Ruined Fortress? Neoliberal Hegemony and Transformation in Europe. Lanham, 2003.
51. Gill S. Power and Resistance in the New World Order. New York, 2003.
52. Gilpin R. War and Change in World Politics. Cambridge, 1981.
53. Giolitti A. Riforme e rivoluzione. Turin, 1957.
54. Gowan P. A Calculus of Power // New Left Review. 2002. № 16.
55. Grote G. A History of Greece; from the Earliest Period to the Close of the Generation Contemporary with Alexander the Great. London, 1850. Vol. V.
56. Grote G. A History of Greece; from the Earliest Period to the Close of the Generation Contemporary with Alexander the Great. London, 1850. Vol. VIII.
57. Grote G. History of Greece. Vol. 11. London, 1853.
58. Grote G. History of Greece. Voi. 12. London, 1856.
59. Gramsci A. Quaderni del carcere. Torino, 1977. II.
60. Guanzi. Princeton, 1985.
61. Guanzi.
62. Guha R. The Small Voice of History: Collected Essays. Ranikhet, 2009.
63. Guha R. Gramsci in India: Homage to a Teacher // Journal of Modern Italian Studies, 2011. № 2.
64. Guha R. On Some Aspects of the Historiography of Colonial India // Subaltern Studies. 1982. Vol. I.
65. Guha R. Elementary Aspects.
66. Guha R. Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India. Cambridge ma, 1997.
67. Hall I. The International Thought of Martin Wight. New York, 2006.
68. Hall S. Gramsci's Relevance for the Study of Race and Ethnicity // Journal of Communication Inquiry. June 1986.
69. Hall S.. Critcher C., Jefferson T., Clarke ]., Roberts B. Policing the Crisis.
70. Hall S., Jefferson T. (eds). Resistance through Rituals: Youth Sub-Cultures in Post-War Britain. London, 1975.
71. Hall S. Negotiating Caribbean Id entities // New Left Review. 1995. I/209.
72. Hall S. Nicos Poulantzas: «State, Power, Socialism» // New Left Review. 1980. I/119.
73. Hall S. Parties on the Verge of a Nervous Breakdown // Soundings No 1, Autumn 1995.
74. Hall S. Raphael Samuel: 1934-1999 // New Left Review. 1997. I/221.
75. Hall S. The Great Moving Nowhere Show // Marxism Today, revenant issue, November-December 1998.
76. Hall S. The Great Moving Right Show // The Hard Road to Renewal. London, 1988.
77. Han Feizi.
78. Haslam J. The Vices of Integrity. E. H. Carr 1892-1982. London, New York, 1999.
79. Herz J. Political Science Quarterly. December 1940.
80. Herz J. International Politics in the Atomic Age. New York, 1960.
81. Herz J. Vom Überleben. Wie ein Weltbild entstand. Düsseldorf, 1984.
82. Hintze O. Historische und Politische Aufsätze. IV. 1908.
83. Historische Zeitschrift, 1950.
84. Hoetzsch O. (ed.). Internationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus; Dokumente aus den Archiven der zarischen und der provisorischen Regierung, Berlin 1934.
85. Hoffmann S. International Organization and the International System // International Organization, Summer 1970.
86. Hoffmann S. Primacy or World Order: American Foreign Policy since the Cold War. New York; 1978.
87. Horiuchi A. Kaiho Seiryô, or the Importance of Discernment // Boot W.J. Critical Readings in the Intellectual History of Early Modern Japan. Leiden, 2012.
88. Huber T. The Revolutionary Origins of Modern Japan. Stanford, 1981.
89. Iglesias P. Speech at the Ritz Hotel in Madrid, 5 June 2016.
90. Ikenberry J. After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars. Princeton, 2001.
91. Ikenberry J. Democracy, Institutions and American Restraint // J. Ikenberry (ed.). America Unrivalled: The Future of the Balance of Power. Ithaca, 2002.
92. Ikenberry J. Obama's Pragmatic Internationalism // The American Interest. 8 April 2014.
93. Ikenberry J. The Liberal Leviathan: The Origins, Crisis and Transformation of the American World Order. Princeton, 2011.
94. Jürgens K. Zur Geschichte des deutschen Verfassungswerkes 1848-1849. Hanover, 1857.
95. Keohane R., International Public Goods without International Government // American Economic Review, March 1986.
96. Keohane R., Nye J. Introduction // International Organization, Summer 1971.
97. Keohane R., Nye J. Power and Interdependence. Boston, 1977.
98. Keohane R, The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes, 1967— 1977 // O. Holsti, R. Siverson, A. George (eds). Change in the International System. Boulder, 1980.
99. Kindleberger C. Dominance and Leadership in the International Economy // International Studies Quarterly, June 1981.
100. Kindleberger C. Hierarchy versus inertial cooperation // International Organization, Autumn 1986.
101. Laclau E. Argentina-Imperialist Strategy and the May Crisis // New Left Review. 1970. I/62.
102. Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. London, New-York, 1985.
103. Laclau E. New Reflections on the Revolution of Our Time. London, New-York, 1990.
104. Laclau E. On Populist Reason. London, New-York, 2004.
105. Laclau E. Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism-Fascism-Populism. London, New York 1977.
106. Layne C. The Poster Child for «offensive realism»: America as a global hegemon // Security Studies. March 2009.
107. Lewis M. E. Writing and Authority in Early China. Albany, 1999.
108. Li L. The China Factor in Modern Japanese Thought: The Case of Tachibana Shiraki 1881-1945. Albany, 1996.
109. Liguori G. Gramsci conteso. Rome, 1996.
110. Liguori G. La Morte del PCI. Rome, 2009.
111. Longo L. Revisionismo nuovo e antico. Turin, 1957.
112. Lo Piparo F. I due carceri di Gramsci. Bari, 2012.
113. Lundahl B. Han Feizi: The Man and the Work. Stockholm 1992.
114. Macdonald P. K. Those who forget historiography are doomed to republish it: empire, imperialism and contemporary debates about American power // Review of International Studies. January 2009.
115. Mao. On the Question of the Differentiation of the Three Worlds, 22 February 1974.
116. Mao. Talk with the American Correspondent Anna Louise Strong // Selected Works. Vol. IV. Beijing, 1961.
117. Maspero H. La Chine antique. Paris, 1927.
118. Mearsheimer J. America Unhinged // The National Interest. January-February 2014.
119. Mearsheimer J. Imperial by Design // The National Interest. January-February 2011.
120. Mearsheimer J. The Tragedy of Great Power Politics. New York, 2001.
121. Mengzi.
122. Momigliano A.D. Essays in Ancient and Modern Historiography. Chicago, 2012.
123. Momigliano A.D. Filippo il Macedone. Florence, 1934.
124. Mommsen T. Schleswig-Holsteinische Zeitung, 16 May, 18 August 1848.
125. Morgenthau H. Scientific Man and Power Politics. Chicago, 1946.
126. Morgenthau H. Politics Among Nations. New York, 1948.
127. Morgenthau H. The Concept of the Political. Basing -stoke, 2012.
128. Morgenthau H. La notion du «politique» et la theorie des différends internationaux. Paris, 1933.
129. Morgenthau H. In Defense of the National Interest. New York, 1951.
130. Morgenthau H. The Impasse of American Foreign Policy. Chicago, 1962.
131. Morgenthau H. The Purpose of American Politics. New York, 1960.
132. Morgenthau H. Vietnam and the United States. Washington D. C, 1965.
133. Morgenthau H. The Tragedy of the German Jewish Intellectual // Rosenberg B., Goldstein E. Creators and Disturbers: Reminiscences by Jewish Intellectuals of New York. New York, 1982.
134. Morgenthau H. A New Foreign Policy for the United States. New York, 1969.
135. Morgenthau H. Foreign Policy: the Conservative School // World Politics, January 1955.
136. Morgenthau H. American Political Science Review, December 1967.
137. Morley D., Chen K.-H. (eds). Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. London, New York, 1996.
138. Mouffe C. El Momento Populista // El Pais, 10 June 2016.
139. Moyer J. Egypt and the Limits of Hellenism. Cambridge, 2011.
140. Münkler H. Imperien. Berlin, 2006.
141. Münkler H. Macht in der Mitte. Hamburg, 2005.
141. Münkler H. Wir sind der Hegemon // Frankfurte Allgemeine Zeitung. 21 April 2015.
143. Nairn T. Hugh Gaitskell // New Left Review. 1964. I/25.
144. Nairn T. The Nature of the Labour Party // New Left Review. 1964. I/27.
145. Nairn T. The Nature of the Labour Party // New Left Review. 1964. I/28.
146. Nairn T. Labour Imperialism // New Left Review. 1965. I/31.
147. Nairn T. The English Working Class // New Left Review. 1964. I/24.
148. Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York, 1991.
149. OED, Times, 5 May 1860.
150. Ogyū Sorai's Philosophical Masterworks: The Bendo and Benmei. Honolulu, 2006.
151. On Postmodernism and Articulation. An interview with Stuart Hall // Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies.
152. Oppenheim L., Lauterpacht H. International Law. London-New York, 1948.
153. Parker E. Ancient China Simplified. London, 1908.
154. Peattie M. Ishiwara Kanji and Japans Confrontation with the West. Princeton, 1975.
155. Perroux F. Esquisse d'une théorie de l'économie dominante // Économie appliquée. 1948. Vol. 1.
156. Pfizer P. Briefwechsel zweier Deutscher, second edition. Stuttgart-Tübingen, 1832.
157. Posen B. Restraint: A New Foundation for US Grand Strategy. Ithaca, 2014.
158. Q and A: Yan Xuetong Urges China to Adopt a More Assertive Foreign Policy // New York Times, 9 February 2016.
159. Russett B. Hegemony and Democracy. New York, 2011.
160. Sarkar S. The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies // Chaturvedi V. Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial. London, New York. 2000.
161. Sassoon D. Togliatti e la Via Italians al Socialismo. Il PCI dal 1944 al 1964, Turin, 1980.
162. Schaefer H. Staatsform und Politik. Untersuchungen zur griechischen Geschichte des 6. und 5 Jahrhunderts. Leipzig, 1932.
163. Schaible V. Stadelmann — em Nationalsozialist? // Jatho J.-P., Simon G. Gießener Historiker im Dritten Reich. Giessen, 2008.
164. Schrnitt K. Die Kernfrage des Völkerbunds. Berlin, 1926
165. Schmitt K. Führung und Hegemonie // Schmollers Jahrbuch. 1939.
166. Schmitt K. Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus (1932) // Positionen und Begriffe. Hamburg, 1940.
167. Schönberger C. Hegemon wider Willen. Zur Stellung Deutschlands in der Europäische Union // Merkur. January 2012.
168. Schönberger C, Nochmals: die Deutsche Hegemonie // Merkur. January 2013.
169. Schroeder P. The Risks of Victory // The National Interest. Winter 2001-2002.
170. Schroeder P. The Mirage of Empire versus the Promise of Hegemony // Systems, Stability and Statecraft: Essays on the International History of Modern Europe. New York, 2004.
171. Scott J. Foreword // Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Durham, 1999.
172. Silver B, Forces of Labor. New York, 2003.
173. Sima Qian. Records of the Grand Historian: Qin Dynasty/B.Watson (tr.). Hong Kong, 1993.
174. Sorai O. Discourse on Government (Seidan). Wiesbaden, 1999.
175. Stadelmann R. Deutschland und England am Vorabend des zweiten Weltkriegs // R. Nurnberger (ed.). Festschrift fur Gerhard Ritter zu seinem 60. Geburtstag. Tübingen, 1950.
176. Stadelmann R. Hegemonie und Gleichgewicht. Laupheim, 1950.
177. Strange S. Cave! Hic Dragones: A Critique of Regime Analysis // International Organization, Spring 1982.
178. Sun Yat-sen. Pan-Asianism // China and Japan-Natural Friends, Unnatural Enemies. Shanghai, 1941.
179. Takusaburō T. The Way of the King // Monumenta Nipponica. Spring 1979.
180. Teschke B. Imperial Doxa from the Berlin Republic // New Left Review. 2006. № 40.
181. Tillman H. Utilitarian Confucianism, Ch'en Liang's challenge to Chu Hsi. Cambridge ma, 1981.
182. Treitschke H. Bund und Recht (1874) // Aufsätze, Reden und Briefe. Merseburg, 1929. Vol. IV.
183. Treitschke H. Politik. Vorlesungen gehalten an der Universität zu Berlin. Leipzig, 1911.
184. Triepel H. Die Hegemonie. Stuttgart, Berlin, 1938.
185. Vacca G. Vita e pensieri di Antonio Gramsci. Turin, 2012.
186. Vasunia P. The Classics and Colonial India. Oxford, 2013.
187. Wagner J. Germany's Nineteenth-Century Cassandra: The Liberal Federalist Georg Gottfried Gervinus. New York, 1995.
188. Wakabayashi B. Japanese Loyalism Reconstrued: Yamagata Daini's Ryūshi shinron of 1759. Honolulu, 1999.
189. Wang H. Depoliticized Politics, from East to West // New Left Review. 2006. №41.
190. Watson A. Hegemony and History. London, 2007.
191. Watson A. The Evolution of International Society: A Comparative Analysis. London, 1991.
192. Weber M. Gesammelte politische Schriften. Tubingen, 1971.
193. Wickersham J. Hegemony and Greek Historians. London, 1994.
194. Wickersham J. Hegemony and Greek Historians. Lanham, MA, 1994.
195. Wildman K. Nakai's Shogunal Politics: Arai Hakuseki and the Premises of Tokugawa Rule. Cambridge MA, 1988.
196. Williams R. Base and Superstructure in Marxist Theory // New Left Review. November-December 1973. I/82.
197. Williams R. Marxism and Literature. Oxford, 1977.
198. Winton R. Thucydides I, 97, 2: The «archē of the Athenians» and the «Athenian Empire» // Museum Helveticum. 1981. Vol. 38.
199. Xuetong Y. Ancient Chinese Thought and Modern Chinese Power. Princeton, 2011,
200. Xuetong Y. From Keeping a Low Profile to Striving for Achievement // Chinese Journal of International Politics. Summer 2014.
201. Xuetong Y. Xunzi's Thoughts on International Politics and Their Implications // Chinese Journal of International Politics. Winter 2008.
202. Xunzi.
203. Yan Xuetong on Chinese Realism, the Tsinghua School of International Relations, and the Impossibility of Harmony // Theory Talks 51, 2011.
204. Yoshida Shorn zenshu. II, Tokyo, 1934,
205. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung). 1943. Vol. 63.
206. Андреев В. Война за утверждение прусской гегемонии в Европе и отношение к ней России. СПб., 1871.
207. Аристотель. Политика.
208. Арриги Д. Адам Смит в Пекине. М., 2009
209. Арриги Д. Долгий двадцатый век, М., 2006.
210. Валлерстайн И. Мир-система Модерна. М., 2015. Т. 2.
211. Валлерстайн И. Мир-система Модерна. М., 2016. Т. 4.
212. Грамши А. Тюремные тетради // Избранные произведения в 3 томах. М., 1959. Т. 3.
213. Грамши А. Письма из тюрьмы // Избранные произведения в 3 томах. М., 1957. Т. 2.
214. Исократ. Панегирик.
215. Исократ. О мире.
216. Исократ. Никокл.
217. Исократ. Панафинейская речь.
218. Каменев Л, Ликвидация гегемонии пролетариата в меньшевистской истории русской революции. Харьков, 1925.
219. Ленин В.И. Две предводительские речи // Полное собрание сочинений. Изд, 5-е. M., 197S, Т. 5.
220. Ленин В.И. Китайская война // Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. M., 1975. Т. 4
221. Ленин В.И. Отдача в солдаты 183-х студентов // Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. M., 1975, Т. 4.
222. Ленин В.И. Политическая агитация и «классовая точка зрения» // Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. М., 1975. Т. 6.
223. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. M., 1975. Т. 46.
224. Ленин В.И. Принципиальные вопросы избирательной кампании // Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. M., 1975. Т. 11.
225. Ленин В.И. Принципиальные вопросы избирательной кампании // Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. M., 1975. Т. 20.
226. Ленин В.И. Рабочая партия и крестьянство // Полное собрание сочинений. Изд. 5-е, M. 1975, Т.4
227. Переписка Г.Б. Плеханова и П. Б. Аксельрода. М., 1925.
228. Плеханов Г. В. Еще раз социализм и политическая борьба // Сочинения. Т.ХII. М., 1923
229. Сталин И.В. Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) // Полное собрание сочинений. М., 1949, Т.10
230. Сталин И.В. Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(6) // Полное собрание сочинений. М., 1949. Т.6
231. Троцкий Л. Д. История русской революции. Берлин, 1931- Т. I.
232. Фукидид. История.
[1-1]
Возможна также интерпретация, согласно которой формулировки Фукидида указывают на характер, а не на собственно возникновение афинской arkhē, поскольку в других частях текста, например, в I, 99, он, похоже, возводит эту афинскую власть к формированию Делосского союза. Критику истолкования этого пассажа у Грота, как и того, что оно стало общепринятым доказательством, см. в подробнейшем исследовании Ричарда Уинтона, который приходит к весьма категоричным выводам [198, p. 147-152].
(обратно)[1-2]
Вследствие чего «мы пользуемся властью нашею по заслугам» [232, VI, 83-84].
(обратно)[1-3]
Виктор Эренберг писал: «Наблюдалась тенденция передачи высшей власти в Союзе непосредственно в руки гегемона, а также сокращения и последующей отмены автономии союзников. Это означает тенденцию к переходу от союза, управляемого гегемоном, к "arkhē", единой власти, основанной на господстве. Такая тенденция проявлялась в разных формах и в разной степени; но присутствовала она повсюду. Выход из Союза означал теперь не просто нарушение клятвы, но и политическое восстание» [41, р. 113].
(обратно)[1-4]
Обсуждение отрывков из Арриана с титулами hegemon autokrator, которым Александр чествовал своего отца, и hēgemon tes Hellados, как он называл самого себя, а также их вариаций в других источниках, см. в [17: 48-49].
(обратно)[1-5]
Отметив, что афиняне традиционно «не оскорбляли эллинов, но оказывали им услуги» и «считали своим долгом быть полководцами, а не тиранами», он объясняет, что, если жители Мелоса были истреблены, это значит, что им просто воздали по заслугам: «Нельзя считать признаком плохого управления, если некоторые из воевавших с нами бывали сурово наказаны» [227: 80, 100-101].
(обратно)[1-6]
Он передает hēgemonia в разных местах по-разному, как «командование» или «авторитет» [232: I, 75, 96-97, 120]. Arkhē становится в основном «господством» — dominion [232: I, 75; II, 62, 65; V, 69; VI, 83, 85], но также «правлением», «командованием», «правлением другими», «свободой» и только в одном отрывке «владычеством» (empire), хотя это как раз тот самый пассаж I, 97, который был выбран Гротом, когда он провел свое различие, к чему его подтолкнул, возможно, сам Гоббс.
(обратно)[1-7]
Добавляя, впрочем, что, хотя «прусское государство выступает за прогресс», «каким бы большим и сильным оно ни было, оно падет, если остановится на достигнутом. Поэтому Пруссия должна распространиться на [всю] Германию». У других немецких земель было «лишь название государств, на деле они были провинциями» [124]. Позже Моммзен импортирует греческий термин в историческую работу, которая сделает его знаменитым: см. его «Историю Рима», в первом томе которой есть глава, посвященная «Римской гегемонии в Лации».
(обратно)[1-8]
Момильяно, стремясь снять с раннего Дройзена обвинения в узком национализме, будет размышлять именно над этим религиозным уроком, хотя позже все равно упрекнет Дройзена — «одного из величайших историков всех времен» — в том, что он занял чисто политическую, а не культурную позицию по отношению к эллинизму, не сумев в полной мере оценить иудаизм как один из факторов возникновения христианства. См. [123: xi, xvi; 122: 307-320].
(обратно)[1-9]
Естественно, взгляд Грота как представителя английского либерализма на правителей Македонии был диаметрально противоположным. Филипп, вынудивший афинян признать его «лидерство в греческом мире», представлялся «разрушителем свободы и независимости» греков [57: 700, 716]. Об Александре, чей греческий контингент при вторжении в Азию Грот сравнивал со злосчастными немцами, которых Наполеон против их воли погнал в Россию, он сказал: «Все его выдающиеся качества годились лишь для того, чтобы применять их против врагов, в число которых попало все человечество, известное и неизвестное, за исключением тех, что решили ему подчиниться» [58: 69-70, 352]. К Дройзену он относился, как и следовало ожидать, критично [58: 357, 360]. По вопросу расходящихся позиций Дройзена и Грота касательно Александра, а также эллинизма, как и по философско-политическим установкам каждого из них (гегельянство и романтический национализм в одном случае; Бентам и либеральный империализм в другом), см. весьма проницательные размышления в работах [139: 11-17, 186: З6-51].
(обратно)[1-10]
Опубликовано вдовой Гервинуса после его смерти.
(обратно)[1-11]
См. [187: 162-165]. В 1848 году Гервинус уже заговаривал о том, что «абсолютное единство» может быть навязано Германии в «александровом стиле», однако предсказывал, что такое македонское завоевание потерпит неудачу из-за «отсутствия преемников у любого такого Александра и вероятной реакции на местах» (см. [48: 95]).
(обратно)[1-12]
Эта «Самокритика», написанная от двух лиц, обвинителя и ответчика, выражает горечь, равной которой не найти в истории данной отрасли знания. Многозначительный термин Gewalthegemonie и связанные с ним другие термины сперва появились в его работе Denkschrifi zum Frieden (p. 32).
(обратно)[1-13]
«Прусская гегемония опирается не на одну лишь высшую власть, но на все основания нашего нового государства, заложенного Пруссией, — заявил он. — Гегемоническая позиция Пруссии в Империи не имеет аналогов в истории федераций». Статус Голландии в Соединенных провинциях не мог выступать подходящей аналогией. См. [182: 236-237]. См. также его замечания касательно Нидерландов в [183: 312-314].
(обратно)[2-1]
Этот текст впервые вышел в «Заре», ежемесячнике, близком к «Искре», в апреле 1901 года. В период между появлением письма Аксельрода и статьи Плеханова в небольших марксистских группах тех времен, должно быть, проходили ожесточенные дискуссии, поскольку Ленин — жалуясь на то, что в переговорах, которые велись со Струве по вопросу о совместных публикациях, последний мог одержать верх, — через три месяца, в январе 1901 года, написал Плеханову: « Спрашивается, неужели пресловутая „гегемония" социал-демократии не окажется при этом простым cant'ом?» [223: 80].
(обратно)[2-2]
См. работу «Китайская война»: «Пресмыкающиеся перед правительством и перед денежным мешком журналисты из кожи лезут вон, чтобы разжечь ненависть в народе к Китаю. Но китайский народ ничем и никогда не притеснял русского народа: китайский народ сам страдает от тех же зол, от которых изнемогает и русский, — от азиатского правительства, выколачивающего подати с голодающих крестьян и подавляющего военной силой всякое стремление к свободе, — от гнета капитала, пробравшегося и в Срединное царство» [220: 383-383], «Отдача в солдаты 183-х студентов»: «И тот рабочий недостоин названия социалиста, который может равнодушно смотреть на то, как правительство посылает войско против учащейся молодежи. Студент шел на помощь рабочему — рабочий должен прийти на помощь студенту» [221: 395]; «Рабочая партия и крестьянство»: «[...] когда мы сумеем дать лозунг для такого воздействия и выкинем знамя освобождения русского крестьянства от всех остатков позорного крепостного права» [226: 437]; «Две предводительские речи»: «А предводителям дворянства мы скажем, прощаясь с ними: до свидания, господа завтрашние наши союзники!» [219: 347].
(обратно)[2-3]
Свое наиболее развитое выражение этот взгляд получил в 700-страничном сборнике «Общественное движение в России б начале XX-го века», вышедшем под редакцией Мартова, Маслова и Потресова в Санкт-Петербурге в 1909 году. Большая статья Потресова «Эволюция общественно-политической мысли в предреволюционную эпоху» (с. 538-639) была в нем самым важным текстом.
(обратно)[2-4]
В издание вошли две статьи за сентябрь-октябрь 1909 года.
(обратно)[2-5]
Когда он разошелся после 1905 года с большевистской программой, то написал: «Гегемония пролетариата в демократической революции резко отличалась от диктатуры пролетариата и полемически противопоставлялась ей» [231: 350]. После смерти Ленина Сталин будет использовать термин «гегемония» в 1927 году в своей атаке на Троцкого (и Зиновьева с Каменевым, к нему присоединившихся), обвинив его в игнорировании значения крестьянства в завоевании и удержании власти в России: «Основной грех троцкизма состоит в том, что он не понимает и, по сути дела, не признает ленинской идеи гегемонии пролетариата (в отношении к крестьянству) в деле завоевания и упрочения диктатуры пролетариата, в деле построения социалистического общества в отдельных странах» [229: 73]. Сталин использовал этот термин исключительно конъюнктурно: в своих собственных «Основах ленинизма», вышедших в 1924 году, то есть до того, как наметился курс на зачистку оппозиции, он написал [230: 127]: «Гегемония пролетариата была зародышем и переходной ступенью к диктатуре пролетариата», то есть она сыграла подготовительную роль в большевистской стратегии захвата власти, которая теперь осталась в прошлом. Что касается сохраняющейся потребности в союзе с крестьянством, предположительно отрицавшейся Левой оппозицией, в течение года после написания этого труда Сталин начал полномасштабную войну с крестьянством, которому была навязана коллективизация.
(обратно)[2-6]
Криспи, который поучаствовал в сицилийский экспедиции Гарибальди, стал «верным человеком новой буржуазии», когда два десятилетия спустя пришел к власти: чтобы закрепить единство государства, но не решать земельный вопрос, «он так использовал ржавую кулеврину, как будто бы она была современным артиллерийским орудием» [212: 353-354].
(обратно)[2-7]
Имелись, конечно, и итальянские источники. Кентавр Макиавелли, наполовину человек, наполовину животное, символизировал две перспективы, необходимые в политике: «силу и согласие, власть и гегемонию, насилие и гражданственность», тогда как Кроче делал упор на тот «момент, который в политике называется "гегемонией" согласия, гегемонией, осуществляемой через сферу культуры в отличие от момента насилия, принуждения, законодательного, государственного и полицейского вмешательства». См. [212: 158; 213, с. 225], «Государство (в его интегральном значении) — это диктатура плюс гегемония» [59: 810-811].
(обратно)[2-8]
Здесь он рассматривает антиколониальные виды борьбы с британским правлением в Индии и Ирландии, начиная с бойкотов и забастовок и заканчивая вооруженными нападениями и партизанскими операциями [212: 192]. Более подробное обсуждение этих стратегических аспектов его мысли см. в моей работе [1].
(обратно)[3-1]
Шмитт в этом тексте упрекает Трипеля за психологизацию понятия гегемонии.
(обратно)[3-2]
Здесь он порицает Шефера помимо прочего за молчаливое согласие со шмиттовской концепцией политического, отвергаемой Трипелем. Шеферу было несложно предоставить со всей вежливостью дополнительные доказательства того, что в Греции гегемония соответствовала его описанию, являясь военным командованием союзом городов, превращающимся затем в более общее господство. См. его уважительную, но критическую в этом отношении рецензию на книгу Трипеля [205: 370, 380-383].
(обратно)[3-3]
Это был еще один момент, из-за которого Шмитт раскритиковал Трипеля [165: 513-514]. По Шмитту, «империализм всегда означает еще и гегемонию», которая в Новое время получает характерное применение в практиках вмешательства, образцовой санкцией которого стала Доктрина Монро, а основными примерами — американские экспедиции на Карибы и в Центральную Америку, а также акции британцев в Египте и французов в Малой Антанте вместе с их оправданиями [166: 169-174 и далее].
(обратно)[3-4]
Американский рецензент книги Трипеля, в остальном восхищающийся ею, не мог сдержать досады, вызванной этим выпадом: «Он доходит до того, что рассматривает вооруженную интервенцию в качестве одной из форм, в которых может найти выражение „подлинная гегемония"! У нас есть все основания спросить, как такого рода „руководство" отличается от brutum factum властного отношения, основанного на чистой силе» [79: 601]. Автор этих строк, эмигрант Джон (первоначально — Ганс) Херц станет после войны важным американским теоретиком международных отношений реалистического направления. О книге Трипеля как выдающемся исследовании гегемонии он вспомнит двадцать лет спустя [80: 114].
(обратно)[3-5]
Германия могла господствовать в Европе, не нанося ущерба России, поскольку последняя была одновременно европейской и азиатской державой, в отличие от Германии. Вместе они могли спланировать раздел Австрийской империи [206: V-VII, 350-351, 361-363]. Автор, преподававший в Киеве, был географом и историком, защитником староверов и писателем-энциклопедистом.
(обратно)[3-6]
Вторая часть заголовка книги — «верное поражение Южной Германии в случае войны Франции и Германии» — в скором времени сбылась.
(обратно)[3-7]
Memorandum on the Present State of British Relations with France and Germany. Foreign Office, 1 January 1907. Kpoy, которому было крайне важно сохранить беспристрастность, напомнив проформы ради, что это один из взглядов на намерения Берлина, далее продолжил: «Нет никакого смысла отрицать, что это вполне может быть верной интерпретацией фактов».
(обратно)[3-8]
См. документы, обнародованные советским правительством и вышедшие в редакции Отто Хецша [84: 278-280]. Бьюкенен, английский посол, сообщил в Лондон, что продиктовал итоговый текст телеграммы.
(обратно)[3-9]
Подобная риторика, конечно, была свойственна всем участвовавшим в войне империалистическим державам — таких же примеров полно и в Германии. Отличие лишь в том, что варианты Антанты, пусть и в несколько разбавленном виде, как пристало более прозаичному веку, встречаются в англо-американской литературе и сегодня, во французской — в несколько меньшей степени, редки — в итальянской и отсутствуют в русской.
(обратно)[3-10]
Эта комбинация — все культуры были, увы, заражены, но Германия все равно виновна в развязывании войны — станет стандартным тропом либеральной историографии, широко распространенным и по сей день. Хотя книга Кроче была у Грамши к 1932 году в тюрьме, причем Сраффа предлагал ему изложить свои взгляды на нее, в своих обширных заметках о Кроче, составленных в этом году, Грамши не прокомментировал ее заключение, заметив лишь, что, начав с Реставрации, она уклонилась от какого бы то ни было рассмотрения революционного и наполеоновского периода, что немаловажно [59: 1227].
(обратно)[3-11]
В соответствии с этой концепцией Доктрина Монро была торжественно включена в статью 21 Договора Лиги. Шмиттовский безжалостный анализ юридической структуры Лиги Наций, доказывающий, что она была начисто лишена связности, см. в его работе [164]. Называние ее «лигой» имело «чисто декоративный смысл, наподобие наименования многих фирм или гостиниц. Честный сторонник мира и взаимопонимания между народами оказался бы в положении благонамеренного европейца на современном курорте, вынужденного остановиться в „Отеле Европа" а не в „Империале"» [164: 21].
(обратно)[3-12]
Мог ли Карр быть первым англоязычным читателем «Истории и классового сознания» Лукача?
(обратно)[3-13]
Стандартная оговорка в международных договорах — «если обстоятельства остаются без изменения». — Прим. перев.
(обратно)[3-14]
Когда заместитель Эдварда Грея «засомневался, действительно ли Англия или Россия не пошевелят и пальцем», если на это пойдут французские силы, Грей кратко ответил: «Именно так и будет», [21: 235].
(обратно)[4-1]
Черчилля привела в бешенство критика Карром британского вмешательства в дела Греции, нацеленного на подавление ведущих сил сопротивления немецкой оккупации еще до завершения войны, поскольку они принадлежали коммунистам и были препятствием на пути восстановления греческой монархии [78: 115-116 и далее]. Когда в 1959 году был сформирован на деньги Фонда Рокфеллера британский Комитет по теории международной политики, прародитель «английской школы», которая все еще господствует в теории международных отношений в той стране, где она, собственно, и возникла, он позаботился исключить Карра из ее рядов.
(обратно)[4-2]
Намного более подробно о том же см. [33: 49-54].
(обратно)[4-3]
Борьба за гегемонию и прогресс технической цивилизации, хотя в явном виде они и не были соотнесены друг с другом, образовали, с точки зрения Дехийо, взаимосвязанный процесс, поскольку логика обоих, неявно предполагаемая выражением hegenioniale Einheitstendenz («гегемоническая тенденция к единству»), обнаруживаемым в самом начале его книги, заключается в уничтожении многообразия [32: 39].
(обратно)[4-4]
Rule Britannia — известная патриотическая песня «Правь, Британия!», ассоциирующаяся с имперскими амбициями.— Прим. перев.
(обратно)[4-5]
Das Gleichgewicht in Europa aber, dessen Bürgen die Seemächte blieben, war ja für England nicht Selbstzweck, sondern nur Voraussetzung für sein Übergewicht jenseits der Ozeane («Но равновесие в Европе для Англии, чьей защитой оставались морские силы, было не самоцелью, а лишь предпосылкой для ее перевеса за океанами») [32: 76].
(обратно)[4-6]
Тщательную реконструкцию карьеры Штадельмана см. в [163: 207-219]. Автор приходит к выводу, что Штадельман был скорее попутчиком, чем сторонником режима. Рецензии и другие тексты того времени, которые, будь они изучены, могли бы стоить ему послевоенного положения, см. в том же издании [163: 113-121, 134-138].
(обратно)[4-7]
Дата написания этой работы покрыта тайной, которую никак не проясняет публикация в виде небольшой книжки в маленьком издательстве в Вюртемберге.
(обратно)[4-8]
Эти идеи, подтверждающие определенную преемственность во взглядах Штадельмана, объясняют, почему он пошел на риск в 1938 году. Его анализ нежелания Гитлера серьезно отнестись к Чемберлену развит в другом изданном посмертно тексте [175: 401-428].
(обратно)[4-9]
См. рецензию в: [83: 137-139].
(обратно)[4-10]
Взгляд Буркхардта на Россию обсуждается в [176: 85-87].
(обратно)[4-11]
Буквально: «последний довод короля», надпись, которая чеканилась на французских пушках до 1790 года. В обобщенном смысле — «крайнее средство». — Прим. перев.
(обратно)[4-12]
Diesem bleibt nur, wenn die Halle gebörsten ist, dies Scher-ben des Glückes von Edenhall einzusammeln («Когда зал раскалывается на части, ему остается лишь собрать обратно осколки удачи Эденгалля») — отсылка к балладе Улланда, в которой молодой лорд Эденгалль разрушает свой дом, когда слишком сильно бьет по волшебному кубку, даровавшему ему удачу, и разбивает его [176: 200-201].
(обратно)[4-13]
«В Третьем Рейхе одна из великих наций, все еще остававшаяся сильной и живой, впервые вступила в смертельную, по сути, схватку», а «когда человек борется насмерть, стихийные силы его природы, служащие одному его выживанию, прорываются со страшным напором, выходят на первый план. Они отталкивают более благородные чувства, которые уравновешивали их в более счастливые времена. Однако было бы несправедливо определять истинную природу человека по проявлениям предсмертной агонии и толковать его прошлую жизнь как всего лишь их прелюдию. И точно так же неправильно выделять лишь темные линии немецкой истории, которые ведут к этим позднейшим событиям, упуская из виду гармоничные черты предшествующих эпох» [176: 223-234].
(обратно)[5-1]
Молодой Моргентау, по своему темпераменту не склонный признавать какие-либо долги — возможно потому, что очень часто заимствовал у других, — больше всего был обязан Ницше [47: 100 и далее]. В работе «Политика между народами» он, бывало, приравнивал Ницше к Гитлеру и Муссолини, противопоставляя ему Св. Августина [47: 206]. В его работе полно таких примеров — та же критика гармонии интересов без упоминания Карра, описание равновесия сил, дословно взятое из Спикмэна и т. д. В этом плане поражает контраст с его современником Херцем, образцом интеллектуальной скромности и честности. Херц, который также учился у Кельзена и увлекался Шмиттом, чьи работы он всегда признавал, был более тонким и оригинальным мыслителем, реализм которого не имел никакого отношения к дешевой метафизике Моргентау и более поздним стратегиям холодной войны: учтивое свидетельство его несогласия см. в автобиографии [81: 160-161].
(обратно)[5-2]
Эта специфическая концепция восходит к его увлечению Шмиттом перед войной, когда он писал: «Всякий курс внешней политики является лишь волей поддержать, увеличить или же утвердить свою власть, и три этих проявления политической воли выражаются в этом случае фундаментальными эмпирическими формами, состоящими в курсе на поддержание статус-кво, империалистическом курсе и курсе на поддержание престижа» [127: 118] — эта книга является запоздалым переводом его «Понятия „политического" и теории международных конфликтов» [128].
(обратно)[5-3]
Уровень алармизма Моргентау можно оценить по его работе «Тупик американской внешней политики»: «Первая неделя ноября 1956 г., скорее всего, запомнится как один из самых злосчастных эпизодов в истории американской дипломатии»; «мы только что стали свидетелями внезапного и полного провала западной позиции под напором того, что, по сути, представляется русским ультиматумом»; «когда русская империя начала разваливаться, США с самого начала отказались от применения силы, а потому фактически предоставили Советскому Союзу карт-бланш», и «не идем ли мы к капитуляции по вопросу о размещении баз, капитуляции, которая может закончиться атомной войной, вызванной отчаянием?» [130: 25 и далее].
(обратно)[5-4]
Камелот (Camelot) — прозвище президента Дж.Ф.Кеннеди, случайно придуманное после его смерти его женой Жаклин. — Прим. перев.
(обратно)[5-5]
Израильский триумф, как сообщал Моргентау, преобразил и «подействовал благотворно» на него «как своего рода библейская победа. Можно представить, что в битве евреев сражаются отряды самого Господа» [133: 78-79].
(обратно)[5-6]
Арон воспроизвел перечень Трипеля, не зная о том [3: 158].
(обратно)[5-7]
К этому он добавил: «или избежание поражения». Не было нужды мыслить победу в духе Катона. Целью Запада должно было быть просто разрушение советского режима, поскольку последний стремился к повсеместному распространению так называемого социализма, а не собственно к расширению границ СССР. После 1945 года решительные действия могли бы воспрепятствовать установлению коммунистических режимов в Восточной Европе, а в 1956 году могли привести к. освобождению Венгрии. Но пока Запад не выпускал из рук оружия, его идеологического превосходства должно было хватить для реализации цели «выжить, то есть победить» [3: 665, 686-687].
(обратно)[5-8]
Проведенная Ароном связь между Моргентау и Трейчке была совершенно неуместной. Хотя сам он был в хороших отношениях со Шмиттом, который тепло поздравил его с выходом «Мира и войны», он совершенно ничего не знал о долге Моргентау перед Шмиттом: филологической скрупулезностью он похвастаться не мог. Моргентау, естественно, крайне уязвленный интерпретацией, которую дал ему Арон, ответил той же монетой, написав пренебрежительную заметку о «Мире и войне». В своей более ранней статье он назвал Арона импрессионистом, и такая характеристика была вполне уместной, по крайней мере в случае «Мира и войны», хотя сам Моргентау обходился со своими источниками еще более вольно [135: 284-286; 136: 1110-1112].
(обратно)[5-9]
Эти пассажи были добавлены к американскому изданию.
(обратно)[6-1]
За этим введением следовали четыреста страниц статей, в которых рассматривалась масса тем — экономика и наука, религия и космос, мир и революция, но особое внимание было уделено бизнесу того или иного рода, которому было посвящено подавляющее количество текстов.
(обратно)[6-2]
Здесь развивается аргумент, изложенный в работе [97: 41-49].
(обратно)[6-3]
Киндлбергер забыл, что в другом тексте он написал: «Лидерство можно мыслить, прежде всего, в качестве способности убедить других следовать порядку действий, который, возможно, не соответствовал бы ближайшим интересам последователя, если бы он был вполне независим. Как будет указано ниже, в понятие лидерства входит в существенной мере элемент выкручивания рук и подкупа. Без этого, однако, количество производимых общественных благ оказалось бы недостаточным» См. [99: 243]. В этой статье Киндлбергер ясно указал на свой долг перед работами Франсуа Перру: «Понятие господства было введено в экономические дискуссии, особенно во Франции, Франсуа Перру. Одна страна, фирма или персона господствует над другой, когда другая должна учитывать то, что делает первая, но первая может свободно игнорировать вторую. Это была специфически французская идея, в которой присутствовали явные нотки недовольства предположительным доминированием США в области валютных рынков, торговой политики, мультинационального предпринимательства и т. п.», и в этом плане не слишком удобная для Киндлбергера, несмотря на то, что сам он допускал необходимость выкручивания рук. Сам Перру, когда он предложил свое понятие и отметил его связь с позицией США в мировой экономике после 1945 года, представлял его в качестве продукта чистой науки, не имеющего ничего общего с «бесплодной полемикой» или «взрывоопасным вокабуляром», а также, в частности, «эмоциональными разговорами» об империализме. Тем не менее его вывод о том, что господствующая экономика, которая не пострадала от войны, была способна «получить огромную „коллективную" ренту», не могло не беспокоить его молодого американского коллегу. См. [155: 146, 269, 283].
(обратно)[7-1]
Представляя свой любимый термин спустя десятилетие, Най отослал через вторичные источники к Грамши, из которого он, судя по всему, не прочел ни строчки, точно так же, как Кеохейн вряд ли читал Каутского, чья идея ультраимпериализма мельком упоминается в работе «После гегемонии».
(обратно)[7-2]
Джиолитти, внук правителя, с которым Грамши сражался в 1910-1911 годах, присоединился к КПИ после падения фашистского режима и руководил одной из наиболее эффективных партизанских групп, боровшихся против «Оси» во время Второй мировой войны. Вступив в Социалистическую партию Италии в 1957 году и повывав членом левоцентристских правительств в 1960-х, он в 1980-е порвал с Кракси и закончил свою карьеру в качестве независимого сенатора, выбранного по списку КПИ.
(обратно)[7-3]
«Понятие гегемонии пролетариата определяет внутренние отношения сил обновления и революции; понятие диктатуры определяет внешние отношения этих сил с силами консерватизма и контрреволюции. Не исключая друг друга и не противостоя друг другу, два этих разных понятия взаимосвязаны и на самом деле друг друга дополняют» [111: 36-45]. Выслушав Джолитти, заявившего на VIII съезде о выходе из партии, Тольятти вежливо прокомментировал: «Давайте не будем шутить насчет Грамши».
(обратно)[7-4]
Критические замечания касательно того, как партийные интеллектуалы подгоняли концепцию гегемонии Грамши под злободневные политические требования, см. в [109: 196-197], где излагается беспристрастная в целом история рецепции Грамши в Италии за 50 послевоенных лет с позиции лояльного члена КПИ, опечаленного распадом партии, о котором он потом рассказал в работе [110]. Расширенную и исправленную версию этой книги Лигуори опубликует в гон году.
(обратно)[7-5]
Автор воспроизводит Кеохейна и Ная почти слово в слово, хотя и не знает об этом. Мировое лидерство, ведущее к более управляемой экономике, могло бы обеспечиваться «самой современной из буржуазии», американской, а не примитивной Россией с ее грубыми сталинскими методами, причем под руководством США коммунистическое движение могло бы сыграть важную «подчиненную» роль в этом процессе, как «актер второго плана» (comprimario) [183: 140].
(обратно)[7-6]
В этой работе Грамши представляется «троянским конем либерализма» в коммунистическом движении, от которого Муссолини сберег его в тюрьме [112: 116, 123]. Книга Ло Пипаро была широко разрекламирована и получила престижную литературную награду.
(обратно)[7-7]
Эти промахи были отмечены Дональдом Сассуном, который в своей работе «Тольятти и итальянский путь к социализму» [160], написанной с очевидным восхищением, пусть и не лишенным критики, был вынужден завершить свою оценку итогов партийной стратегии скептическим примечанием, в котором обратил внимание на риск того, что КПИ может потерпеть поражение, добившись легитимации, к которой она так долго стремилась, «ценой превращения в то, что ранее называли „альтернативной буржуазной партией"» [160: 378].
(обратно)[8-1]
Представленные здесь аргументы впоследствии развернуты у Уильямса в его концепции гегемонии [197: 108-127].
(обратно)[8-2]
Чтобы убедиться в том, что Холл действительно владел проблематикой Грамши, см. работы более позднего периода [68: 5-27]. Другими источниками для него стали Альтюссер и Пуланзас. Что касается последнего, см. [72: 60-69].
(обратно)[8-3]
Говоря, к примеру, о его «замечательной демонстрации политического мужества» или «истинной человечности» [73: 23, 26; 75: 14]. Здесь, несмотря на немалое число острых в других отношениях замечаний, новые лейбористы все еще признавались «по существу заслуживающими нашей поддержки».
(обратно)[8-4]
См. также [147: 43-57; 143: 63-68].
(обратно)[8-5]
«Я не „англичанин" и никогда им не стану», — скажет он в самом личном из своих рассказов об истории его семьи на Ямайке, из которой он вышел, и о своем опыте в имперском обществе, в которое прибыл, — см, интервью в [137: 490]; см. также лекцию [71: 3-14]. В его статье в сборнике «История народа и социалистическая теория», изданном в рамках «Исторического семинара» под редакцией Рафаэля Сэмюэля в 1981 году,— «Заметки к деконструкции „народного"» (Notes on Deconstructing the «Popular») — Грамши цитируется в связи с различием национального и народного, однако сама статья ограничивается второй частью этой связки. Тогда как Сэмюэль, напротив, выпустил потом три тома, посвященные «патриотизму»: «Патриотизм: создание и демонтаж британской национальной идентичности» (The Making and Unmaking of British National Identity, 19S9), в которых самокритично пояснил, что «Исторический семинар» «сыграл кое-какую роль в возрождении культурного национализма», попытавшись, по сути, «изгнать иностранные слова с наших страниц». Но теперь этот семинар отдавал предпочтение «британскому», а не «английскому», считая первое более гостеприимным для новичков и чужаков, и отвергал «понятия грамшианской гегемонии» как элитистские (предвосхитив тем самым более поздние претензии к ним со стороны Джеймса Скотта). Отношение между Холлом и Сэмюэлем, двумя главными фигурами раннего периода «новых левых», могло бы стать предметом захватывающего исследования. Самым изысканным из всех текстов, когда-либо написанных Холлом, стала его статья памяти умершего друга [74: 119-127].
(обратно)[8-6]
См. замечания самого Лаклау в его работе [103: 197-201].
(обратно)[8-7]
К более поздним работам Лаклау Холл относился сдержаннее [151: 146-147].
(обратно)[8-8]
Что касается «популизма», критическую реконструкцию истории, скрывающейся за сегодняшними обличениями, см. у Марко Д'Эрамо [36: 5-28]. Недавно предложенное возвышенное оправдание этого термина см. у Шанталь Муфф [138]. Далее мы не уделяем должного внимания Муфф, чьи работы, особенно в той части, в которой она разбирается со Шмиттом, стремясь превратить антагонизмы в агонистические противоречия в рамках демократической политической системы, — составляют отдельный корпус, ничуть не уступающий тому, чтобы был создан в соавторстве с Лаклау.
(обратно)[8-9]
См. диалог между Иньиго Эррехоном и Шанталь Муфф [43]. Оба автора поясняют, что свое политическое пробуждение они пережили в Латинской Америке: Колумбии в случае Муфф и Боливии в случае Эррехона [43: 72-73]. В Аргентине Лаклау тоже не остался пророком, которого бы не слышали в собственном отечестве: к концу жизни его очень ценила и всячески поддерживала Кристина Фернандес де Киршнер. См. возмущенную консервативную статью о Лаклау [42]. а также живой и искренний текст Робина Блэкберна памяти Лаклау, опубликованный на сайте издательства Verso [15].
(обратно)[8-10]
Соответственно: (i) на первом шаге «гегемония является определенным политическим типом отношения, если угодно, формой политики»; затем она становится «полем политического» как такового, игры, у которой есть «имя — гегемония» [102: 139]; (ii) на первом шаге «популизм является просто-напросто способом конструирования политического»; затем « популистский разум исчерпывает собой политический разум в целом» — и в самом деле, не является ли популизм «самим условием политического действия?» [104: 19, 225].
(обратно)[8-11]
«Массовая приверженность рабочего класса перонизму наделила его исключительной способностью сохраняться в качестве движения», а политический дискурс обладал «двойной согласованностью» — с идеями народа и со структурными позициями в отношениях производства [104: 190, 194].
(обратно)[8-12]
Использование того же противопоставления и концепции «перформатива» см. в той же работе [43: 118, 121].
(обратно)[8-13]
Муфф высказывает определенный скепсис относительно уверенного применения последнего термина, англоязычным аналогом которого была бы любовь Обамы к folks, запомнившаяся по его реплике касательно американских служб безопасности: «мы пытали кое-каких людей (folks)». Отстаивая свое применение термина la casta, Эррехон отмечает, что «его мобилизационный потенциал заключается в его неопределенности» [43: 121-122].
(обратно)[8-14]
Или, реже, «институциональная тотализация», отрицающая наличие у сообщества чего-либо внешнего [104: 80-81].
(обратно)[8-15]
Через три недели избиратели так и не поверили в это. Ирония в том, что Эррехон отверг характеристику «Подемос» как популистского движения, выдвинутую Муфф, поскольку термин этот приобрел в медиа дурную славу, — и это, быть может, причина, по которой партия предпочла в последнюю минуту примерить на себя треуголку Гонсалеса и его преемников, правда без толку.
(обратно)[8-16]
Описание этой траектории см. во введении Партхи Чатерджи к работе [62: 1-17].
(обратно)[8-17]
Критику этого попятного движения, выдвинутую одним из первых редакторов журнала, см. в [160: 300-323].
(обратно)[8-18]
Имена эти не просто упоминались, чтобы создать впечатление, как очень часто бывало в более поздних работах, но были действительно значимы для его цели. Джеймс Скотт, чьи собственные труды, по сути, являются антитезисом к Гухе, двадцать лет спустя, когда «Основные особенности» были переизданы, в своем изящном и великодушном предисловии написал: «Обычно по-настоящему оригинальную и амбициозную книгу можно представить в качестве верфи. Верным признаком ее влияния было бы то, как много судов было спущено с ее доков. Уже по этому критерию „Основные особенности крестьянского повстанческого движения" Ранаджита Гухи оказали огромное влияние. Тысячи кораблей пустились в плавание под его флагом. Поскольку в данном случае судостроитель больше занимался философией кораблестроения, а не одной-единственной моделью, неудивительно, что верфь эта смогла спустить на воду корабли совершенно разной формы, отправившиеся в неизвестные порты с новыми экзотическими грузами. Я думаю, что судостроитель мог бы и не узнать некоторые из этих кораблей, не заметить, что они вдохновлялись им, и, на деле, скорее всего захотел бы порвать с некоторыми из них любые связи. Это, однако, и есть бесспорная судьба гениального строителя: его идеи попросту включатся в обычный порядок кораблестроения, часто без всяких знаков уважения в его адрес. Хотя он нередко может чувствовать, что его неверно представляли или обкрадывали, это, несомненно, лучшая судьба, чем быть проигнорированным» [171: xi].
(обратно)[8-19]
«Коротко говоря, гегемония, выведенная таким образом из господства, предлагает нам двойное преимущество: предотвращает сползание к либерально-утопической концептуализации государства и представляет власть как конкретное историческое отношение, непременно и в любом случае оформляемое силой и согласием» [66: 20-23].
(обратно)[8-20]
В этом пункте в формулировках Гухи можно заметить нехарактерную для него нерешительность, быть может, выдающую нетипичный след ностальгии по национальному движению. В «Господстве без гегемонии» он мог сказать, что «принуждение в национальном проекте начало конкурировать с убеждением», не характеризуя результат этой конкуренции негативно [66: 151]. Через тридцать лет он будет говорить о «лидерстве, которое получило силу благодаря согласию людей в движении за независимость» и которое, тем не менее, «не смогло инвестировать это согласие в гегемонию, представленную лидерами нового суверенного государства» [63: 294].
(обратно)[8-21]
См. пять текстов, опубликованных в период 1971-1979 годов, начиная с текста «О пытках и культуре» (в четвертой части работы The Small Voice of History [62: 560-628].
(обратно)[8-22]
В 1972 году он предсказал грядущий экономический спад — в статье, вышедшей в Италии и переведенной через несколько лет на английский [12: 3-24]. Воспоминания Арриги о тех временах см. в [11: 65-88].
(обратно)[8-23]
Добавление к этому ряду голландской гегемонии, отсутствовавшей в «Геометрии империализма», свидетельствует о плодотворном взаимодействии Арриги и Валлерстайна. В первом томе «Мир-системы Модерна-Валлерстайна (1974) слово «гегемония» не используется. Во втором томе (1980) она определяется как превосходство одной центральной державы над всеми остальными в сферах производства, торговли и финансов, поддерживаемое в случае Голландии силой на море, научным и технологическим прогрессом, развивающейся социальной мобильностью и более высокой, чем в других странах, заработной платой, причем все это обеспечивало баланс интересов собственников и производителей, поддерживающий государство [210: 44-45, 74-86, 137]. К выходу четвертого тома (2011), посвященного памяти Арриги, гегемония уже не требовала пояснений, — она принималась как данность [211: XII].
(обратно)[8-24]
В этом пункте немаловажное влияние оказал на него Дэвид Каллео, консервативный мыслитель, в чьей работе «По ту сторону американской гегемонии» (Beyond American Hegemony, 1987) была предложена поразительная историческая критика теории гегемонической стабильности. Также на него повлияла связанная с этой работой англо-американская апологетика, из которой Арриги позаимствовал свое понятие «эксплуататорского господства», играющее важную роль в его собственных построениях.
(обратно)[8-25]
Постскриптум к изданию «Долгого двадцатого века» 2010 года, [9: 385].
(обратно)[8-26]
Его подруге Беверли Силвер пришлось заниматься другой стороной этой истории в работе «Силы труда» [172].
(обратно)[9-1]
Похоже, что это произошло независимо друг от друга в разных европейских языках. Ср. [153: 33, 38, 71, 97; 117: 245-249 и далее; 46: 160-162 и далее].
(обратно)[9-2]
Противоречия в описаниях гегемона у Сюнь-цзы характерны для широкого спектра текстов доциньского периода. Большая их часть, несомненно, объясняется тем, как они сохранялись или составлялись, — оказываясь, как в случае «Лунь Юй», «Мэн-цзы» и, что еще более очевидно, более позднего «Чжуан-цзы», творением более поздних авторов, работавших после смерти номинальных авторов, либо, как в случае «Сюнь-цзы» или «Хан Фэй-цзы», предметом более поздних переработок. Возможно, еще предстоит провести стилистический анализ, чтобы выделить различные слои канона. Скорее всего, в некоторых случаях противоречия были производной от факта существования разных властителей, к которым обращались ученые тех времен, начиная с Конфуция, в надежде получить место советников. Созданный Сымой Цянем портрет правителя Шан (Гуньсун Яна), фигуры, которая потом закрепилась в наследии в роли теоретика безжалостного легализма, дает прекрасную иллюстрацию этого затруднения, когда Сыма Цянь пересказывает его попытки стать советником Цинь Сяо-гуна, великого деда Первого Императора. «Сяо-гун соблаговолил провести собеседование с Гуньсун Яном, и Ян долго говорил с ним. Сяо-гун то и дело засыпал и почти не слушал. Когда раз говор закончился, гун зло заметил Инь Иану: „Этот гость просто обманщик! Какой прок может быть от такого человека?" Потом Инь Иан выговорил Гуньсун Яну, и Ян сказал: „Я толковал гуну о пути императора (дидао), но это, похоже, ему не интересно". Через пять дней Инь Иан попросил гуна снова встретиться с Яном. У Яна состоялся с ним разговор, и он говорил еще более пылко, хотя и снова не смог заинтересовать гуна. После этого разговора гун снова пожаловался Инь Иану, а тот, в свою очередь, отчитал Яна. Ян сказал: „Я толковал гуну о пути царя (вандао), но это его не привлекло. Я хотел бы, чтобы мне позволили поговорить с ним еше раз". Когда Яну разрешили поговорить еще раз, гун выразил одобрение, но все же не хотел нанимать его. Когда разговор закончился и Ян ушел, Сяо-гун сказал Инь Иану: „Этот ваш гость хороший человек, с ним стоит поговорить!" Ян объяснил Инь Иану: „Я толковал гуну о пути гегемона (бадао). Похоже, что он хотел бы его опробовать. Я буду знать, что сказать на этот раз!" Когда Ян явился к нему для еще одного разговора, гун говорил с ним, все больше склоняясь к нему, пока не обнаружил, что сполз к краю своей циновки. Они без устали проговорили несколько дней. Инь Иан сказал: „Как тебе удалось так впечатлить правителя: Он вне себя от радости". Гуньсун Ян сказал: „Я толковал правителю о путях императора и царя, как они применялись Тремя династиями в старину. Но он сказал: „На это нужно слишком много времени. Я не могу ждать так долго. Достойный правитель — гот, кто может прославиться во всем мирр еще при жизни. Кто же в состоянии рассиживать 30, 40 или 100 лет, надеясь, что станет императором или царем?" Поэтому я стал толковать правителю о способах укрепления государства, и ему это понравилось. Конечно, ему все еще будет сложно сравняться в добродетели с династиями Инь или Чжоу"». См.: [173: 90-91].
(обратно)[9-3]
«Один крестьянин из Сонь пахал землю, и на его поле стоял пень. Однажды кролик, бежавший через его поле, наткнулся на пень, сломал шею и умер. После этого крестьянин отложил свой плуг, и спрятался в засаде за пнем, надеясь, что сможет поймать другого кролика на том же пути. Но никаких кроликов он не поймал и стал в Сонь посмешищем. Те, кто полагают, что могут перенять обычаи древних царей и применять их, чтобы управлять сегодня народом, принадлежат к тому же разряду сидящих в засаде у пня» [68: 49].
(обратно)[9-4]
«Путь суверена — оберегать спокойствие и сдержанность... Поэтому кажется, что он вообще нигде; столь пуст, что никто не может его найти. Будь пустым, спокойным и праздным, и из своего темного места наблюдай за недостатками других. Видь, но не являйся видимым; слышь, но не являйся слышимым; знай, но не позволяй узнать, что ты знаешь» [68: 1] — типичный даосский пассаж, в оригинале имеющей стихотворную форму.
(обратно)[9-5]
Пример: «Император (ди) избегает действия. Царь (ван) действует, но без запланированной цели. Гегемон (ба) действует, но не ради почестей. Принц (гуй) избегает действия, нацеленного на то, чтобы принести ему почести. Таков путь правителей. Искать почести в умеренности — это путь министра (чен)»; «Сокровищница царя тратится на его людей; гегемона — на его генералов и войска; слабого правителя — на тех, кто в высоком чине; обреченного правителя — на женщин и драгоценные камни» [61: I, 5; IV, 12].
(обратно)[9-6]
Такие варианты словоупотребления см., в частности, в: [61: IX. 23] «Ба Ян» («Беседы о гегемоне»), что, возможно, является ошибочным переносом названия «Ба Синь» («Условия гегемона»), предшествующей главы, комментарий к которой Аллина Риккета см. в его незавершенном переводе Чжуан-цзы [60: 348-355].
(обратно)[9-7]
«Когда [наиболее вероятный преемник] вырос, он оказался мягким и благородным, возлюбив „ру"... Однажды присутствуя с [императором Сюанем] на пиру, он потребовал: „Ваше величество слишком щедро раздает наказания, вам следует нанять ученых „ру". Император Сюань нахмурился и сказал: „Дом Хань имеет свои собственные учреждения, основанные на сочетании пути царей и пути гегемонов. Как мы могли бы опираться лишь на перемены, вызываемые добродетелью, и использовать политику Чжоу?"».
(обратно)[9-8]
Выдающийся литератор данного периода, поэт-чиновник Су Ши релятивизировал это различие и в другом смысле: правители должны поступать как цари или гегемоны в зависимости от своих личных способностей [16: 265-266].
(обратно)[9-9]
Здесь Огю Сорай отвергает разоблачение гегемонов у Мэн-цзы, считая его ложным толкованием полемиста. Достаточно хорошо заметно влияние Сыма Гуаня, а также, возможно, Чена Ляня.
(обратно)[9-10]
См. введение Такера к Ogyü Sorai's Philosophical Masterworks [150: 80].
(обратно)[9-11]
Сорай закончил этот текст так: «Я не позволил записать этот рассказ даже своим ученикам. Я записал его сам, с моими старыми глазами и бедной кистью. После того, как сёгун соблаговолит использовать его, я хочу, чтобы он был предан пламени».
(обратно)[9-12]
Карьера и мысль Хакусэки стали предметом самого глубокого из всех опубликованных на европейских языках исследования этого японского мыслителя раннего Нового времени [195] (его результаты кратко изложены выше).
(обратно)[9-13]
«Лицемерие в служении правителю бессовестно, оно нарушает непоколебимые моральные устои древних мудрецов; двойственность в использовании рабочей силы подданных показывает недостаток благородства, и массы не потерпят ее. Сегодня мы порицаем женщину, которая отдается двум мужчинам, называя ее „распутной", но ничего не думаем о подданном, который служит двум господам. Поэтому встречается много целомудренных жен, но ни одного верного чиновника».
(обратно)[9-14]
Мацусима Кандзан [цит. по: 188: 135]. Столетие спустя Фудзита Юкоку из школы Мито дал свое толкование официальной позиции. Токугава были гегемонами, которые действовали как цари, но правильно делали, что отклоняли этот титул: «Разве не предпочтительнее, если гегемон будет следовать пути царей, чем если царь будет следовать пути гегемона?».
(обратно)[9-15]
Это выдающееся исследование Сейрё, написанное на западном языке.
(обратно)[9-16]
Ирония в том, что, как и многое другое в патриотическом дискурсе этого периода, этот лозунг был фразой (zunwang nangyi), восходящей еще к доциньским временам в Китае.
(обратно)[9-17]
Я хотел бы особенно поблагодарить Кейт Уилдман Накаи за помощь в этом вопросе, как и с вышеприведенным отрывком из Фудзиты Юкоку. См. также [88: 63].
(обратно)[9-18]
Такусабуро закончил постскриптумом: «Вы можете спросить, почему я написал эту статью о пути царя. Возможно, потому, что я немного недоволен, или же просто ради забавы. Вполне возможно, что я один из тех устаревших специалистов по китайской классике, которые знают о древностях, но ничего не смыслят в происходящем сегодня. Или, быть может, я один из тех ученых „кокугаку", которые не способны понять политику; они знают только о существовании императорского дома, но игнорируют существование народа... Я надеюсь, что эта статья послужит кораблем, который перенесет их к берегам понимания»
(обратно)[9-19]
О роли Татибана как видного идеолога Квантунской армии в период японской оккупации Манчжурии см. p. 45-63.
(обратно)[9-20]
Перевод речи Сунь Ятсена, содержащий различные дипломатические пропуски — так, из предпоследней фразы было убрано выражение «лакей», — передает «вандао» и «бадао» как «правление права» и «правление силы», хотя иногда первое переводится как «царский путь». Сборник, в котором вышел этот перевод, был сделан коллаборационистским режимом Ван Цзинвэя, установленным Японией в 1940 году. В нем особый акцент ставится на многочисленных обращениях Сунь Ятсена к Японии с просьбами о помощи и признаниями в дружбе, высказанными в Кобе, за четыре месяца до смерти, а в завершение приводится эпилог из Ван Цзинвэя, в котором прославляется «общая судьба Китая и Японии».
(обратно)[9-21]
В те времена «бакан» официально переводилось как «господство» (domination).
(обратно)[9-22]
Исходная троица, сформулированная первоначально во Франции, включала первый мир капиталистических государств во главе с США, второй мир коммунистических государств под предводительством СССР и третий мир колониальных и полуколониальных стран. После смерти Мао его версия стала предметом беспрецедентно объемного номера «Жэньминь жибао», посвященного ее применению в борьбе с гегемонизмом двух супердержав (выпуск от 1 ноября 1977 года).
(обратно)[9-23]
В конституциях КНР 1975 и 1978 годов объявлялось, что Китай будет поддерживать «пролетарский интернационализм» и сопротивляться «гегемонизму». В пересмотренной версии соответствующей статьи, принятой в 1982 году под руководством Дэна Сяопина, первый момент исчез, но последний остался, столь же крепко он держится и в наиболее поздней версии — 2004 года.
(обратно)[9-24]
Эти наставления, часто неверно называемые «24 иероглифами» Дэна, как будто они были написаны все вместе, являются на самом деле продуктом более поздней компиляции, сделанной чиновниками на основе замечаний, высказанных в разные моменты времени. В их числе: «наблюдать хладнокровно; стоять твердо; реагировать спокойно» (сентябрь 1989 года, после падения Берлинской стены); «Китай никогда не будет претендовать на роль гегемона» (декабрь 1990 года, в ответ на вопросы о том, следует ли ему стать лидером третьего мира); «скрывать наши возможности и ждать нашего часа» (апрель 1992 года, после падения СССР) — максима tao guang yang hui восходит к дотанскому периоду, к Шести династиям или даже еще более ранним временам.
(обратно)[9-25]
К этому времени начали издавать Грамши на китайском, что заставило его главного переводчика Тяна Шитана придумать неологизм, предложив термин «линьдаокан» (переводимый приблизительно как «руководство») вместо «бакан» для передачи «гегемонии» Грамши, но этот термин не получил распространения.
(обратно)[9-26]
Ср. первую версию его статьи «Мысли Сунь-цзы о международной политике и выводы из них» [175, р. 135-165] с эвфемизмами второй версии «Межгосударственной политической философии Сунь-цзы и ее значения для нашего времени» [199: 70-106].
(обратно)[10-1]
Эта статья первоначально была представлена Американской политологической ассоциации в 1981 году.
(обратно)[10-2]
В «Производстве, власти и мировом порядке» Кокс выделил двенадцать разных «способов социальных отношений», существовавших к концу XX века: выживание, отношение крестьянина и сеньора, первоначальный рынок труда, домашнее хозяйство, самозанятость, рынок прекарного труда, бипартизм, фирменный корпоративизм, трипартизм, государственный корпоративизм, коммуну, государственное планирование [27: 32-103]. Работа в МОТ оставила отпечаток на этой типологии, но по духу она была ближе к ранним работам Арриги о Родезии и Калабрии, чем к его собственным более поздним трудам.
(обратно)[10-3]
Джилл, еще один важный источник Солла, присоединился к Коксу в Торонто, когда эмигрировал из Англии. В отличие от Солла, он предположит, что США обладает теперь, самое большее, «превосходством» в «постгегемоническом» мире [51: 118-120, 140-141, 180].
(обратно)[10-4]
«Конфуцианский внутри, легалистский снаружи». - Прим. перев.
(обратно)[11-1]
Слова Андрея Козырева.
(обратно)[11-2]
В «Заключении» к «Америке без соперников» (America Unrivalled) говорилось: не только самоограничение США, но также «точное совпадение между внутренней американской системой (как и ее гражданской и мультикультурной идентичностью) и долгосрочным проектом современности — вот что еще наделяет однополярньй порядок устойчивостью» [91: 296, 310].
(обратно)[11-3]
Библиографию до 2009 года см. в [114: 45-67] (автор разделяет все это поле на энтузиастов империи, ее критиков и скептиков).
(обратно)[11-4]
Глава, в которой разбирается внешняя политика республиканцев, называется «Великая трансформация и провал нелиберальной гегемонии». Тремя годами позже Айкенберри приветствовал возвращение к «великому, наилучшему глобальному курсу послевоенной Америки» при новом президенте-демократе, как и его «полнокровный интернационализм», высказавшись по этим вопросам с нескрываемым энтузиазмом [92].
(обратно)[11-5]
Здесь же упоминается и высоко оценивается выдвинутая Штадельманом концепция гегемонии как «управляемого равновесия» [170: З63].
(обратно)[11-6]
Уайт, старейшина «английской школы», сочетал в своих исследованиях кристально ясный анализ и культурную эрудицию — классикой остаются его работы «Силовая политика» («Power Politics», 1946) и посмертно изданная «Международная теория: три традиции» (International Thеоrу: the Three Traditions, 1991) — с апокалиптически окрашенной религиозностью, что позволяло ему приветствовать начало Второй мировой войны как приговор Бога человечеству за его отступничество и высматривать фигуры Антихриста — начиная с Юлиана и до Гитлера как «окончательного воплощения сатанинского зла», предваряющего Второе Пришествие [67: 33-37]. В последующие годы Уайт, хотя он по-прежнему считал, что атомная война предпочтительнее мирового государства, остановился на более спокойной защите западных ценностей.
(обратно)[11-7]
Письмо Карра Стэнли Хоффману, 30 сентября 1977 года [78: 252-253].
(обратно)[11-8]
Уотсон работал во время войны в Румынии и Египте, пять лет — в послевоенной Москве, состоял в подразделениях, занимавшихся психологической войной, руководил африканским управлением после Суэца и в конце концов был в 1960-е годы назначен послом на Кубу. Он обладал самым широким историческим кругозором в английской школе, будучи фигурой, которую в современном министерстве иностранных дел США просто невозможно себе представить.
(обратно)[11-9]
«Ранее я представлял себе гегемонию в качестве той части спектра между множеством абсолютно независимых государств и единым мировым правительством, которая позволяет господствующим державам влиять на внешнюю политику других государств, но не влияет или влияет лишь незначительно на их внутреннюю политику. Теперь я понимаю, в какой мере гегемония Запада и особенно США стремится также изменять внутренний распорядок других государств и сообществ» 190: So, 104].
(обратно)[11-10]
Показательна в этом плане интеллектуальная траектория работ Кларка — от очень ясных до туманных: от «Иерархии государств» (The Hierarchy of States, 1989), «Глобализации и фрагментации» (Globalization and Fragmentation, 1997) и «Порядка после холодной войны» (The Post-Coid War Order, 2001) до «Легитимности в международном обществе» (Legitimacy in International Society, 2005), «Международной легитимности и мирового общества» (International Legitimacy and World Society, 2007) и «Гегемонии в международной политике» (Hegemony in International Society, 2011).
(обратно)[11-11]
Бузан по происхождению канадец. Присягая на верность США, он делает одну оговорку: «Если только вы не являетесь решительным противником капитализма», который он в другом месте называет «единственным возможным вариантом», хотя и предпочитает говорить о «рынке» [19: p. 138].
(обратно)[12-1]
Нелицеприятный разбор этой работы см. в [180: 128-140].
(обратно)[12-2]
Даже если в долгосрочной перспективе смена правительства для демократии является, несомненно, рецептом здоровья, игнорировать который неразумно [141: 165-167].
(обратно)[12-3]
«Если Германия не справится с задачей стать центром ЕС, Европа в целом тоже потерпит неудачу» (Scheitert Deutschland an den Aufgaben der europäischen Zentralmacht dann scheitert Europa). См.: FAZ, 21 August 2015.
(обратно)[13-1]
Кристофер Лэйн, другой реалист, раскритиковал идею «воды как преграды», доказывая, что, напротив, именно потому, что США были защищены двумя океанами, они могли добиваться глобальной гегемонии, создавая базы в Евразии, чего никак не могли сделать в Америке сухопутные евразийские державы [106: 12-128 и далее]. Более подробное, в целом крайне уважительное, хотя и критическое обсуждение представленного Миршмайером варианта реализма см. в [54: 47-67].
(обратно)[13-2]
Один либеральный теоретик «демократического мира» нервно заметил: «В современном языке ,,гегемония" обычно означает нечто более жесткое, чем безобидный термин „лидерство" указывая на то, что господство частично осуществляется как открытое или замаскированное принуждение», тогда как в «международной политике» она вообще «не слишком далека от порицаемой "империи"» [159: 1].
(обратно)[13-3]
Schrecklichkeit (нем.) — «устрашение», термин, первоначально использовавшийся англоязычными авторами для обозначения тактики немецких войск по отношению к гражданскому населению европейских стран (прежде всего Бельгии), оккупированных во время Первой мировой войны. — Прим. перев.
(обратно)[13-4]
Diodorus Siculus. XXXII, 2. (см. также 4 касательно некоторых римских операций в Греции, Северной Африке и Испании, где также используется термин kataplēxanto). Этот фрагмент привлек немалое внимание ученых, в том числе и потому, что Диодор в значительной мере, хотя и не полностью, опирался на Полибия как свой первоисточник. В наиболее подробном из недавних исследований доказывается, что в нем, по всей видимости, передается суждение греческих наблюдателей в период первого посольства Карфагена в Риме в 150-151 годов до н. э., как о нем было рассказано в утраченном отрывке из Полибия, хотя есть определенные проблемы с датировкой такой атрибуции [14: 106-113].
(обратно)




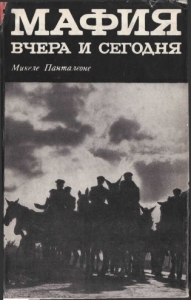
Комментарии к книге «Перипетии гегемонии», Перри Андерсон
Всего 0 комментариев