Робен-Жан Лонге, Георгий Зильбер Террористы и охранка[1]
От издателя
«Памятники исторической литературы» — новая серия электронных книг Мультимедийного Издательства Стрельбицкого.
В эту серию вошли произведения самых различных жанров: исторические романы и повести, научные труды по истории, научно-популярные очерки и эссе, летописи, биографии, мемуары, и даже сочинения русских царей.
Объединяет их то, что практически каждая книга стала вехой, событием или неотъемлемой частью самой истории.
Это серия для тех, кто склонен не переписывать историю, а осмысливать ее, пользуясь первоисточниками без купюр и трактовок.
Пробудить живой интерес к истории, научить соотносить события прошлого и настоящего, открыть забытые имена, расширить исторический кругозор у читателей — вот миссия, которую несет читателям книжная серия «Памятники исторической литературы».
Читатели «Памятников исторической литературы» смогут прочесть произведения таких выдающихся российских и зарубежных историков и литераторов, как К. Биркин, К. Валишевский, Н. Гейнце, Н. Карамзин, Карл фон Клаузевиц, В. Ключевский, Д. Мережковский, Г. Сенкевич, С. Соловьев, Ф. Шиллер и др.
Книги этой серии будут полезны и интересны не только историкам, но и тем, кто любит читать исторические произведения, желает заполнить пробелы в знаниях или только собирается углубиться в изучение истории.
Провокаторы и правящие
Правительства всех стран и всех времен в их борьбе против революции никогда не останавливались ни перед какими средствами. Самым бессовестным, самым преступным из этих средств является, несомненно, пользование агентами-провокаторами. Сплошь и рядом в прошлом столетии правители Франции, Германии, Италии прибегали к этому бесчестному средству, чтоб раздавить революционное движение или воспрепятствовать успехам грозных заговоров. Роль темных правительственных сообщников в тайных обществах в эпоху реставрации, во время царствования Луи Филиппа, во время Второй империи и в наши дни служит яркой иллюстрацией того, что политическая полиция, даже в благоустроенном буржуазном государстве, вся насквозь проникнута духом провокации.
Франция по справедливости может считаться колыбелью современной политической полиции. Система сыска и провокации возникла и развилась в ней с чрезвычайной пышностью и быстротой. Этому способствовали особые условия ее общественно-политического развития после Великой революции. Крайняя обостренность внутренних конфликтов, нарушенное равновесие общественных сил, находившихся в состоянии постоянного брожения, неустойчивость политических режимов, быстрая смена правительства не могли не создать благоприятной почвы для развития и усилений полицейского начала в государстве. Шаткость общего положения, сознание недолговечности, чувство неуверенности, тревоги, страха перед готовой смести их революционной стихией, политическая беспринципность, всегда отличающая временную, случайную, беспочвенную власть, заставляли правящих быть не особенно разборчивыми в средствах борьбы со своими противниками. В интересных записках бывшего начальника сыскной полиции Канлера приводится богатый перечень случаев провокации, имевших место во время Реставрации. Провокация, пишет сыщик, была возведена в постоянную систему и преследовала две цели: придать видимую законность репрессивным мерам и обнаруживать и подвергать наказанию за преступные мнения отдельные лица и группы… Эта система разжигала дурные инстинкты некоторых агентов. Привлечь внимание начальства можно было только раскрытием какого-нибудь заговора. Если усердный розыск ни к чему не приводил, оставалось самому изобрести какую-нибудь подлую махинацию, вовлечь в нее какого-нибудь благочестивого отца семейства, никогда не помышлявшего ни о каких конспирациях, выдумать сообщников, наметить на эту роль людей невинных и затем всех выдать полиции. Провокаторы, которыми тогда кишела страна, действовали во всех слоях общества, среди рабочих, купцов и в особенности среди военных, подозреваемых в приверженности Наполеону I. В буржуазной среде подвиги провокаторов немало способствовали нарождению вражды и озлобленности против Бурбонов. Наиболее известным фактом провокации этого периода является дело генерала Бертона и подполковника Карона, поплатившихся своей жизнью за слишком доверчивое отношение к темным проходимцам… Другим типичным, ярким примером того, к каким приемам прибегала тогда полиция, вдохновляемая свыше, может служить «подвиг» провокатора Л., который организовал покушение с бомбами против герцогини Беррийской. Взрыв бомбы должен был смертельно перепугать беременную герцогиню и вызвать у нее выкидыш. Таким образом старшая линия Бурбонов временно прекратилась бы… Провокационные приемы применялись также полицией Реставрации и к массовым движениям, к уличным демонстрациям, ко всякого рода оппозиционным выступлениям, которые переодетые шпионы старались превратить своим подстрекательством в резко бунтарские беспорядки, чтоб оправдать и узаконить беспощадную расправу над толпой. В записках только что упомянутого Канлера приводятся любопытные факты из этой области.
В царствование Луи Филиппа полиции не приходилось больше выдумывать заговоры. Она насилу справлялась с настоящими подлинными заговорами, грозившими самому существованию мещанской монархии. Барбес, Бланки, Коссидьер и другие много лет заставляли дрожать правительство. Для провокации создавалось широкое поле действий. Успешная борьба с заговорщиками почти немыслима была без проникновения в самый центр тайных организаций. Правительство поддерживало с ними постоянную связь через посредство предателей и провокаторов. Самым знаменитым из них был Делагод, участвовавший почти во всех тайных обществах той эпохи и бывший одним из деятельнейших помощников Бланки и Барбеса. В продолжение десяти лет (1838–1848) он осведомлял полицию обо всех планах и замыслах революционеров, предавал полиции своих товарищей и расстраивал решительно все их предприятия. Его измена была раскрыта случайно. После февральского восстания Коссидьер прямо с баррикады отправился в префектуру и занял ее «именем самодержавного народа». Один из чиновников префектуры назвал ему революционное имя предателя, наносившего такой страшный вред в последние годы. Разоблачение произвело ошеломляющее впечатление. В Люксембургском дворце немедленно был созван революционный суд из наиболее известных вождей тайных обществ.
Ничего не подозревавший Делагод явился в числе других. Вначале он пытался отпираться, ссылался на свои прежние заслуги и отрицал принадлежность ему доносов, подписанных не его именем. Но когда Коссидьер предъявил ему собственноручное письмо, в котором он предлагал в 1838 г. свои услуги полиции, предатель, уничтоженный, бледный, дрожащий, во всем признался. Ему протянули пистолет, потом яд, предлагая самому покончить с собою, но жалкий, подлый трус отказался искупить своей смертью совершенные им преступления. От страха он еле держался на ногах и, наконец, повалился на диван. Кто-то бросился на него с криком: «Негодяй! Если ты не покончишь с собою, то я убью тебя собственными руками». Но тому не дали выполнить угрозу. Провокатора отправили в тюрьму Консьержери, где он содержался несколько месяцев до 15 мая 1848 г. Он сделался впоследствии простым агентом, однако его полицейская карьера была бесцветна и малоинтересна.
Золотым веком провокации был, бесспорно, период царствования Наполеона III. «Полиция Второй империи, — пишет один из историков французского сыска, — была специально приспособлена к шпионству и провокации»[2].
Тайный агент, доносчик, предатель, вездесущие и невидимые, стали оккультной силой, внушающей непреодолимый страх и отвращение всему населению. В глазах общества конспирация и провокация превратились чуть ли не в тождественные понятия, до того многочисленны и обычны стали подстраиваемые полицией заговоры[3]. И в этом отношении совершенно прав развязный бытописатель полицейских нравов, когда характеризует эту эпоху следующими насмешливыми словами: «Тинтимарр советовал строить пушку по следующему способу: возьмите дыру и окружите ее затем бронзой. Составить заговор еще легче: возьмите шпиона, окружите его десятком-другим дураков, прибавьте к ним парочку болтунов, привлеките несколько недовольных, одержанных честолюбием и враждою к правительству, каково бы они ни было, — и у вас будет ключ ко всем заговорам»[4].
Даже редкие заговоры настоящих революционеров не обходились в эту эпоху без участия наполеоновской полиции. Государственный переворот 1854 г. предварительно ознаменовался провокаторским трюком. Марсельская полиция искусно состряпала «обширный» заговор против жизни президента Республики Луи Бонапарта. «Глава» заговора Гайар был, конечно, арестован, и взяты вещественные доказательства мнимого покушения: страшная адская машина. Вся страна заволновалась. Печать подняла кампанию против опасности слева, настаивая на необходимости беспощадной расправы с врагами народа. Все было пущено в ход, чтобы напугать уставших от пестрого калейдоскопа политических событий последних десятилетий крестьян и буржуа и создать благоприятную атмосферу для плебисцита. Когда же ничтожный племянник великого дяди «единодушной волей народа» был избран императором французов, о заговоре пресловутого Гайара как-то забыли; забыла о нем, главным образом, полиция: мавр сделал свое дело.
Наполеон III, сделавшийся, по свидетельству начальника охраны Клода, «главным шпионом над своими возлюбленными подданными», умел окружать себя достойными помощниками. Главным провокационных дел мастером был при нем Легранж, бывший рабочий, разоблаченный как предатель после 1848 г. Легранж имел в своем распоряжении около 40 000 списков с именами, биографиями, характеристиками и всякого рода «нужными» сведениями наиболее неблагонадежных лиц в империи. Приемы сыска и провокационные трюки были доведены им до крайней степени совершенства, до утонченнейшего искусства. Легранж почти каждую неделю докладывал своему императору о важнейших делах и получал от него инструкции. Влияние Легранжа было громадное. Наполеон III очень дорожил им и всецело доверял, поручив ему фактическое руководство всей политической полицией. Легранж располагал значительными денежными средствами и большим штатом агентов и провокаторов. У него были свои люди в главнейших городах Европы: Лондоне, Берлине, Турине и др. Во время Коммуны многие из его сотрудников, раскрытые Раулем Риго, были расстреляны. Его знаменитая шпионская энциклопедия был сожжена в первые дни восстания.
Из многочисленных «дел» Легранжа наиболее известны «заговор 14-ти», в котором принимали участие Мио и Вассал, и так называемый «заговор 25 000 адресов» (участниками его предполагалось разослать 25000 прокламаций по адресам, взятым из «Весь Париж»), в который провокаторам удалось втянуть Бланки, приговоренного за участие к четырем годам тюрьмы.
После неудачных заигрываний Наполеона III с возникшим во Франции Отделом Международного товарищества рабочих Легранж обратил свое усиленное внимание на опасное сообщество и попытался ввести туда своих провокаторов. Ему это отчасти удалось. В рядах Интернационала были впоследствии обнаружено несколько предателей: Шуто, Вальтер Ван-Эдагем, Сварм-Дантрег и др. Последние два играли довольно крупную роль и оказались на редкость подлыми и грязными негодяями[5].
Но самым интересным эпизодом из провокационной деятельности Легранжа является без сомнения «история с биноклем». Эта хитроумная и запутаннейшая интрига, которую мы излагаем по рассказу префекта полиции Андрие, представляет наиболее типичный продукт полицейского творчества, в котором, во всем их отталкивающем и обнаженном безобразии, отразилась нравы, обычаи, приемы и психология охранников.
В Париж приехала известная авантюристка Флориани, прославившаяся своим шумным успехом в Петербурге, откуда она была выслана за слишком громкую связь с слишком важной особой, супруга которого не на шутку переполошилась и приняла серьезные меры к удалению соперницы. Флориани по дороге познакомилась в Лондоне с французскими эмигрантами и сошлась с небезызвестным революционером Симоном Бернаром.
Об этом узнал Легранж. Чутье сыщика подсказало ему, что Флориани может оказаться настоящим кладом в руках умелого провокатора. Он случайно познакомился в театре с интересующей его авантюристкой, которая сразу сдалась на его ухаживания, но за любовными Объяснениями Легранж не забыл, конечно, своих политических целей. Он, между прочим, сообщил своей новой знакомой, что он богатый провинциальный коммерсант, что он всеми силами души ненавидит Бонапарта и готов был бы пожертвовать половиной своего состояния, чтобы избавить свою родину от тирана. Ничего не подозревая, Флориани обрадовалась тому, что случай или провидение столкнуло ее с человеком, который сможет оказаться полезным ее лондонским друзьям. Она сейчас же написала Симону Бернару, что нашла в Париже богатого сочувствующего; Бернар ответил благодарно радостным письмом, в котором сообщил, что среди эмигрантов в последнее время поднимался вопрос о цареубийстве, но что главным препятствием, тормозившим дело, было отсутствие денег. Содержание переписки не было, конечно, скрыто от Легранжа, который немедленно вручил Флориани крупную сумму денег и отправил ее в Лондон с тем, чтоб там приступили к осуществлению проекта. Флориани обязалась подробнейшим образом осведомлять «Покровителя» о ходе дела.
В Лондоне Флориани была встречена с большой радостью единомышленниками Симона Бернара. Питавшие к ней полное доверие конспираторы посвятили ее во все тайны своего заговора. Она узнала, что ими изготовляется своеобразная смертоносная машина, имеющая вид бинокля; Заговорщик, проникший в театр, должен был направить этот бинокль на особу императора и при помощи особого механизма метнуть в него скрытый в одной из трубок разрывной снаряд. Но изготовление бинокля-бомбомета подвигалось очень медленно вперед; после каждого опыта требовалось что-нибудь изменить или усовершенствовать. Все это время революционеры широко пользовались помощью мнимого коммерсанта. Наконец, бинокль был готов, и Флориани отправилась в Париж.
Но тут вмешался неожиданный случай и перепутал все карты: хитросплетенная интрига разрешилась злым и веселым фарсом, в котором обманывающий оказался обманутым и искусившийся в «сих делах» обер-охранник, жестоко одураченный и общипанный, вместо ожидаемых лавров очутился в глупейшем положении.
Дело происходило таким образом. Известный «деятель» Феликс Та, разыгравший в Лондоне второго Бланки, с которым у него не было ни капли сходства, — революционный балагур и буйный фельетонист, как его метко охарактеризовал Герцен, — поручил уезжавшей Флориани письмо для своей возлюбленной, госпожи Люэнь. По приезде в Париж Флориани немедленно отправилась к Люэнь, которая ее очень радушно приняла. Люэнь познакомила ее со своим новым поклонником, Саблонье, рабочим, игравшим раньше видную роль в революционных клубах, о чем никто тогда не подозревал, состоявшим тайно на службе у Легранжа. В дружеской беседе Флориани все выболтала. Саблонье сразу догадался — по описанию Флориани, — кто такой был ее таинственный провинциальный покровитель. «Да знаете ли вы, в чьи лапы вы попали? Ведь ваш пресловутый богач-революционер не кто иной, как начальник сыскной полиции, — объявил он ошеломленной, собеседнице. — Впрочем, дела не следует прекращать. Нужно использовать этого мерзавца до конца. Обирайте его немилосердно, затягивая и откладывая покушение. А потом, в последнюю минуту, вы уедете в Лондон».
План Саблонье привел в восторг обеих женщин, в глазах которых он неимоверно вырос как опытный революционер, сумевший не только спасти своих товарищей, но еще извлечь для них пользу из козней врагов. Однако Саблонье не забыл и себя: он в тот же день сообщил Легранжу, что ему удалось попасть на след крупного заговора. Это сообщение не очень обрадовало Легранжа. Ему не особенно улыбалось вмешательство в затеянную им провокаторскую махинацию такого ловкого пройдохи, как Саблонье. Но делать было нечего. Пришлось против воли щедро вознаградить своего тайного агента и поощрить его к дальнейшим разведкам. Саблонье не ограничился этим успехом. Он сообразил, что извлечет для себя еще большую выгоду, если предложит свои услуги соперничавшему с Легранжем начальнику частной охраны императора Ирвуа. Его расчет оказался правильным, и в историю с биноклем попал также и Ирвуа.
Флориани, известившая о своем приезде Легранжа, мастерски выполняла план Саблонье. Она каждый день выдумывала новые препятствия, выманивая у сыщика крупные суммы денег. Наконец, терпение последнего дошло до крайних пределов, и он заявил, что дела его требуют немедленного возвращения в провинцию и что с покушением необходимо поторопиться. Флориани поняла, что тянуть с развязкой опасно, и назначила день покушения. Легранж обо всем тогда донес своему начальнику Пьетри, уверив его, что все меры приняты и что преступники будут взяты на месте преступления с уличающим их снарядом.
Наступил день покушения. Император со своей семьей явился в театр. Вся полиция была на ногах. Но спектакль прошел спокойно. Заговорщика с биноклем в зале не оказалось…
Легранж бросился в гостиницу, в которой остановилась Флориани. Но ему там заявили, что эта особа накануне вышла из своей комнаты с маленьким чемоданчиком и больше не возвращалась. Перед ее уходом на ее имя был получен тяжелый ящик. Легранж приказал вскрыть тот ящик — в нем оказались камни и солома.
Несчастному сыщику пришлось еще, в довершение всех бед, заплатить в гостинице по счету своей… возлюбленной.
Дело, конечно, замяли. Но оно обошлось казне довольно дорого. Легранж на «открытие заговора» истратил сорок тысяч, а Ирвуа — десять тысяч франков.
Эта неудача, впрочем, не отразилась на дальнейшей карьере доверенного шпиона Наполеона III. Он продолжал свою сыскно-правокационную деятельность вплоть до падения Второй империи.
О роли провокации в Третьей республике мы здесь не говорим, так как нам придется подробно остановиться на атом периоде в связи с делом Ландезена-Гартинга.
Такова была политическая полиция во Франции, послужившая прототипом всех полицейских учреждений на Западе, а также и в России.
Но нигде, ни в одном европейском государстве, ядовитый цветок провокации не распустился с такой пышностью, как на благоприятной почве русского царизма. Агенты-провокаторы в России являлись неизменными спутниками всякого революционного движения, направленного против самодержавной власти.
Декабристы в 1825 г. опрометчиво допустили в свои ряды некоего Шервуда, который их подло предал, подав докладную записку о тайном сообществе Александру I. В вознаграждение за свою измену Шервуд получил, между прочим, право именоваться впредь, вероятно в насмешку, Шервудом-Верным. Как большинство предателей, он оказался преступным во всех отношениях субъектом, и несколько лет спустя, несмотря на все его услуги, он был приговорен за мелкое мошенничество к тюремному заключению.
На всем протяжении XIX столетия, вплоть до последних дней самодержавия, «Царство провокации» не прекращалось в России. Власти беспрерывно осыпали своими милостями тайных «сотрудников», являвшихся самыми надежными столпами старого строя. Средства, употреблявшиеся на их содержание и на усиление их темной деятельности во всех сферах общественной жизни, поглощали большую часть бюджета, ассигнованного на тайную полицию.
От первой до высшей ступени бюрократической лестницы можно открыть следы их подвигов. К их помощи прибегают и министры и простые начальники охранных отделений. Ими пользуются не для одних только государственных надобностей, их употребляют и для сведения личных счетов.
Роль провокатора двойная. С одной стороны, он является обыкновенным шпиком, на котором лежит обязанность присутствовать на всех собраниях революционеров, проникать на конспиративные квартиры, за всем следить, ко всему прислушиваться, обо всем докладывать; он должен, вкравшись в доверие товарищей, осторожно выпытывать обо всех готовящихся предприятиях и затем давать своим начальникам подробные отчеты о собранных им сведениях. Но это только часть и, если можно выразиться, наиболее почетная часть его темной работы. Власти требуют от него не только всестороннего внешнего осведомления о деятельности революционеров. Они советуют ему вступать в партийные организации, где он, для того чтобы зарекомендовать себя, всегда является сторонником самых крайних мнений, самых опасных планов, самых рискованных действий. Он не ограничивается одним «освещением». Он искусно добивается преждевременной развязки (провокации) событий в условиях, благоприятных или предусмотренных правительством, которому эти внезапные выступления или покушения нужны для того, чтобы навести ужас на население и тем оправдать худшие репрессивные меры торжествующей реакции. Азеф бесспорно является самым крупным провокатором, какого когда-либо знала Россия и даже Западная Европа. Но прежде чем мы перейдём к биографии великого предателя, мы должны мимоходом остановиться на любопытной фигуре его предшественника в русской революции — на Сергее Дегаеве.
История дегаевского дела представляет тем больший интерес, что оно, несмотря на свой меньший размах, уже дает нам картину того полицейского разгула, который обнаружился четверть века спустя с разоблачением Азефа и вызвал настоящую бурю в общественном мнении России.
Предшественники Азефа Сергей Дегаев
Дегаев принимал близкое участие в деятельности «Народной Воли» почти с самого начала ее возникновения. Оказанные им партии крупные услуги, быстро выдвинули молодого революционера, и его имя стало известно даже исполнительному комитету. Его ценили, ему верили и нередко ему давали довольно важные поручения. Но Дегаева его положение в партии не удовлетворяло. Обладая от природы безмерным честолюбием, он стал мечтать о высшей руководящей роли и все свои усилия направлял на то, чтоб проникнуть в таинственный исполнительный комитет, слава о котором гремела на всю Европу, и точный состав которого не был известен даже самым выдающимся и испытанным деятелям. Это было не легко. И Дегаеву пришлось дать много доказательств своей преданности, прежде чем он заслужил доверие главных вождей «Народной Воли».
Значение Дегаева сразу выросло после разгрома «Народной Воли», последовавшего за убийством Александра II, когда наиболее видные члены партии погибли на виселицах, а остальные оказались или в тюрьмах, или в далекой Сибири.
Особое рвение в борьбе с террористами в это время проявлял жандармский подполковник Судейкин, скоро ставший в действительности чрезвычайно опасным для уцелевших частей «Народной Воли». Судейкин, происходивший из мелкой дворянской семьи, добился личной энергией крупного бюрократического поста. Он отличался всеми пороками выскочки. Бездушный и умный карьерист, он прекрасно видел те препятствия, которые возникали на его пути, и тот страх и зависть, которые вызывали в начальстве его способности. Он решил выдвинуться какой угодной ценой.
Судейкин был не только предприимчивым, ловким и изобретательным сыщиком. Он сумел возвести провокацию в целую самодовлеющую полицейскую систему. Он обладал неподражаемым искусством завязывать сношения с революционерами, перед которыми выдавал себя за либерала и даже за радикала и которых, от уступки к уступке, завлекал все дальше и Дальше и доводил, наконец, до безвыходного положения. Обыкновенная его тактика заключалась в следующем: он добивался от политических заключенных согласия принять без всяких условий деньги или предоставлял некоторым свободу, ничего не требуя взамен, создавая таким образом специфическую атмосферу недоверия, подозрительности и интриги вокруг своих жертв, чем вносил глубокую деморализацию в революционные ряды.
Дегаев предложил партии казнить Судейкина. Покушение не удалось. Когда позже сам Дегаев попал в Одесскую тюрьму, после ареста нелегальной типографии, где он был взят, Судейкин нарочно приехал из Петербурга, чтоб лично допросить его. При первом же разговоре он предложил Дегаеву поступить к нему на службу. Обстоятельства, побудившие Дегаева согласиться на гнусное предложение жандарма и изменить партии, остались до сих пор плохо выясненными. Намеревался ли он, как брат его Владимир, проникнуть в охранку с революционными целями — неизвестно. Эта идея не казалась тогда ни «химерической», ни нравственно недопустимой. Наоборот, многие террористы, под влиянием самоотверженного примера народовольца Клеточникова, который добровольно поступил в охранное отделение и в продолжение трех лет осведомлял своих товарищей о всех полицейских махинациях, предупреждая их о готовящихся обысках и арестах, и тем оказывал громадные услуги партии, мечтали или признавали полезность подобной деятельности. Соблазнила ли Дегаева роль Клеточникова, или он дал обольстить себя опытному совратителю, нарисовавшему перед ним совсем иные блестящие и заманчивые перспективы? Это осталось тайной Дегаева.
Как бы то ни было, но с этого дня Дегаев становится послушным орудием в руках Судейкина. Через некоторое время ему подготовляют мнимый побег. Очутившись на свободе, он сразу принимается за новую работу и организует с помощью своего «учителя» многочисленные западни, в которые должны попасться его товарищи.
В Харькове революционеры, предупрежденные о приезде Дегаева, устраивают ему торжественную встречу объясняя его побег его необычайной смелостью и находчивостыо. Ему поручают наиболее ответственные посты в партии и на него начинают смотреть, как на вождя.
От великих борцов «Народной Воли» остались на свободе не многие, чуть ли не одна только Вера Фигнер; но и она вскоре попала в руки врагов, благодаря предательству Дегаева. Бесстрашная молодая женщина имела неосторожность сообщить негодяю одно чрезвычайно важное сведение: единственный человек, который мог ее узнать и выдать, был предатель Меркулов. Дегаев решил немедленно воспользоваться этим сведением, которое давало ему такую легкую возможность устроить провал В. Фигнер, не навлекая при этом на себя никаких подозрений. Он точно разузнал, в какие часы выходит и возвращается она к себе, и все это сообщил Судейкину.
Спустя несколько дней после этого, а именно 10 февраля 1883 г., в 8 часов утра, Вера Фигнер лицом к лицу столкнулась с Меркуловым и тотчас же была арестована. Дело было сделано «чисто». Ни Фигнер, ни ее друзья не сомневались, что арест этот был следствием несчастного случая…
Дегаев продолжает свои подвиги в Петербурге, где он стал близким лицом к Судейкину. Вместе они вырабатывают фантастический план, который только при русских условиях мог возникнуть в головах сыщика и лжереволюционера. Несмотря на всю свою фантастичность, этот план был, как показали дальнейшие события, довольно близок к осуществлению.
Между тем у товарищей Дегаева зародились смутные подозрения. Но те, которые могли бы дать решительные доказательства против него, сидели в тюрьмах. Однако, встревоженный расследованием, производившимся, по некоторым данным, революционерами, Дегаев почувствовал, как шатка почва под его ногами. Под предлогом усталости и необходимости укрепить свои связи за границей он попросил отпуск у Судейкина и уехал в Париж.
По приезде в Париж он немедленно вступил в сношения с наиболее известными и авторитетными политическими изгнанниками: Лавровым, Тарасовым, Тихомировым (знаменитым ренегатом, вскоре отрекшимся от партии и революции), Полонской и др. Дегаев во всем повинился Тихомирову. Исповедь его как гром поразила старых ветеранов революции. Отвратительная картина преступлений и предательств, совершенных провокатором, и ярко нарисованная им самим, произвела потрясающее впечатление. Но еще более ошеломили всех кошмарные подробности «грандиозного плана», выработанного им вместе с Судейкиным.
Пожираемый честолюбием, Судейкин мечтал о быстром повышении, но все время наталкивался на непреодолимые препятствия, выдвигаемые против него тогдашним первым министром графом Толстым. Судейкин всеми силами своей души ненавидел этого министра, который всячески мешал его карьере, не давая ему следующих чинов, и ограничивался тем, что за все его исключительные заслуги вознаграждал его орденами или деньгами. Эта ненависть жандармского подполковника к его высшему начальству и необычайные планы являются яркими образчиками нравов, царивших в этом специфическом полицейско-бюрократическом мире с его кошмарно преступными традициями, с его безграничным произволом, безответственностью и разнузданностью низших и высших чинов, не останавливающихся ни перед какими средствами для достижения своих личных целей. Замечателен в этом отношении разговор, происшедший между Судейкиным и его непосредственным начальником, которым был не кто иной, как будущий диктатор фон-Плеве, тогдашний директор департамента полиции. Плеве ценил очень высокоталантливого сыщика и никогда не упускал случая высказать ему лично свое восхищение. Однажды после делового разговора, происходившего с глаза на глаз. Плеве ласково сказал ему: «Вам следует быть очень осторожным, голубчик. Ваша жизнь самая драгоценная для России после жизни государя».
— Ваше превосходительство забывает, — ответил тонко Судейкин, — жизнь графа Толстого… Террористы его ненавидят еще больше, чем меня…
Плеве задумался и через минуту ответил: «Конечно, конечно, мне было бы очень жаль его, как человека… Но признаться, — его смерть была бы полезной для России…»[6]
Плеве не отдавал приказания, но он ясно намекал на то, что убийство стоявшего у него поперек дороги министра его не огорчит… Он хорошо знал Судейкина, и тот его понял с полуслова.
Дегаев в своей исповеди сообщил эмигрантам все подробности необыкновенного плана, который явился плодом странного сотрудничества террориста с «гениальным сыщиком», как сами революционеры называли тогда Судейкина. Дегаев должен был образовать террористический отряд, ставивший себе ближайшей целый казнь первого министра. Судейкин незадолго до покушения под предлогом переутомления или болезни подавал в отставку. В высших сферах убийство графа Толстого было бы объяснено, конечно, уходом Судейкина, на которого там смотрели, как на самый верный оплот против террористов, и его, разумеется, призвали бы спасать трон и осыпали бы чинами и наградами. На этом маккиавелевский план, однако, не останавливался. Через некоторое время неудачное покушение против жизни самого Судейкина должно было послужить ему предлогом, чтобы снова подать в отставку. Целый ряд крупных террористических актов, следовавших один за другим после отставки Судейкина, должен был вызвать панический ужас при дворе и до того перепугать Александра III, что тому ничего другого не оставалось бы, как обратиться «к последней надежде и единственному спасению»- к Судейкину, который стал бы, таким образом, самым могущественным лицом в государстве, чем-то вроде полновластного диктатора, каким был в свое время при подобных же обстоятельствах Лорис-Меликов.
С другой стороны, Дегаев, благодаря блестящим успехам организованных им террористических актов-удача почти всех покушений была гарантирована поддержкой Судейкина, — должен был неизбежно сделаться признанным главою партии. В заключение его ожидал очень высокий пост: Судейкин намеревался назначить: своего сообщника товарищем министра внутренних дел.
Обширный замысел стал уж приводиться в исполнение, когда Дегаев под влиянием угрызения совести, а может быть, из страха перед местью террористов, напавших на след его предательства, которое могло раскрыться с минуты на минуту, решил повиниться перед Старыми революционерами. Сам Судейкин сообщил Дегаеву целый ряд ценных сведений об образе жизни графа Толстого, позволивших провокатору установить при помощи террористов искусную «слежку» за первым министром.
С глубоким удивлением, граничащим с ужасом, вожди заграничной эмиграции узнали, что Судейкин, который часто запросто приходил на квартиру Дегаева, был осведомлен о существовавшей в Петербурге тайной типографии и не только не отдавал приказания об аресте, но сам просматривал и исправлял некоторые статьи из печатавшегося в ней органа «Народной Воли». Судейкин также снабжал настоящими паспортами нелегальных, которые, разумеется, затем легко попадали в ловушки, расставленные охранным отделением.
Революционеры сильно задумались над тем, какие меры принять по отношению к провокатору. После долгих и шумных прений они решили, что партия, ввиду несомненной искренности его признаний, дарует ему жизнь, но при одном условии; он должен немедленно вернуться в Россию и лично организовать покушение на своего сообщника и покровителя Судейкина. Одновременно с этим за Дегаевым было установлено самое тщательное наблюдение: ни один шаг, ни одно слово, ни одна встреча не должны были ускользнуть от внимания революционеров.
Казнь Судейкина была подготовлена до мельчайших подробностей Германом Лопатиным. Все было предусмотрено. Даже счастливый случай не мог сласти от смерти свирепого врага террористов.
Ужасающие подробности убийства стали известны благодаря рассказу одного из участников этой драмы; несмотря на всю жестокость, низость и бесчеловечность самого Судейкина, нельзя без содрогания воспроизводить картину страшной казни. Убийство было совершено 16 декабря 1883 г., между 4 и 5 часами вечера на квартире Дегаева, в самом центре города, поблизости от Невского проспекта. Эта квартира представляла большие преимущества: ничто из происходившего в ней не могло быть ни замечено, ни услышано соседями; за несколько дней до убийства революционеры нарочно производили стрельбу из револьвера, чтоб убедиться, насколько она пригодна для задуманного плана. Но, несмотря на это, оба террориста — Стародворский и Конашевич, — на которых пал выбор партии для приведения в исполнение смертного приговора над Судейкиным, решили во избежание лишнего шума прибегнуть к холодному оружию. Роли были тщательно распределены. Дегаев должен был сам открыть двери Судейкину и впустить его в квартиру. Судейкинский шпион, находившийся в услужении у Дегаева, был предварительно отпущен. Участники разместились заранее в различных комнатах: Стародворский в спальне, Конашевич на кухне. После трех часов вечера в квартире Дегаева раздался звонок: это был Судейкин. Но он явился не один, а в сопровождении некоего Судовского, одного из его агентов, приходившегося ему родственником. Прошло несколько долгих минут, как вдруг раздался револьверный выстрел. Дегаев, находившийся позади Судейкина, нарочно выстрелил, как это было условлено заранее, для того, чтобы заставить сыщика броситься в спальню, где он должен был лицом к лицу столкнуться со Стародворским. Вместо того чтоб броситься вперед, Судейкин метнулся в сторону и попал в гостиную, куда за ним погнался Стародворский. В руках последнего находился тяжелый лом, которым он нанес первый удар своему врагу, но Судейкин успел отскочить в сторону и удар только слегка задел его. С диким воплем, держась левой рукой за раненый бок, он попытался проникнуть в приемную, где Конашевич, вооруженный тяжелым ломом, в свою очередь добивал Судовского. Удары сыпались на Судейкина один за другим, пока, серьезно задетый одним из них, он, наконец, не свалился на пол. Его беспощадный противник счел его мертвым, но вдруг Судейкин вскочил и стремительно бросился в уборную… Последняя сцена, разыгравшаяся там, поражает своей дикостью и безобразием. Судейкин пытался закрыть изнутри двери уборной, но Стародворский, которому удалось продеть ногу между дверью и стеной, изо всех сил мешал ему в этом. После короткой борьбы сопротивление Судейкина стало ослабевать, и дверь уступила под напором, опрокинув навзничь раненого сыщика. Несколькими страшными ударами ломом в голову и затылок Стародворский покончил с не сопротивлявшимся больше врагом. Через две-три минуты тот испустил дух в уборной…[7]
В это время Конашевич окончательно справился с Судовским, который лежал в глубоком обмороке в приемной. Преспокойно собрав некоторые необходимые вещи для Дегаева, который уже успел покинуть дом, оба террориста скрылись, не возбудив ничьего подозрения. Спустя сутки Конашевич в последний раз прощался с Дегаевым, которому он помог переправиться через границу.
В высших правительственных кругах убийство Судейкина вызвало глубокое оцепенение. За голову Дегаева была назначена крупная сумма. Десять тысяч рублей было обещано за его поимку. Исполнительный комитет партии «Народная Воля» ответил прокламацией, в которой извещалось, что всякого, кто будет способствовать аресту Дегаева, постигнет судьба Судейкина.
Дегаев сам понял, что его песенка спета, и исчез навсегда из России. Были слухи, что он переселился в Америку, оттуда в Австралию, где недавно умер. В печати появились беглые заметки о его смерти и даже извещалось о скором напечатании его воспоминаний, в которых якобы собраны данные, доказывающие, что он всегда служил делу революции, даже тогда, когда верно и с усердием выполнял предписания Судейкина.
Полицейский тред-юнионизм Зубатов
Два других крупных предшественника Азефа, Зубатов и Гапон, представляют гораздо меньше сходства с великим провокатором.
Со времени Дегаева обстоятельства сильно изменились, но полицейские приемы остались почти те же самые, старые, испытанные, освященные полицейской традицией.
Агентам-провокаторам приходится действовать теперь не в одном только подполье, не в одних только заговорщицких организациях и, как прежде, устраивать и проваливать покушения; их арена расширилась-они пытаются использовать в своих целях массовое движение рабочих, направлять его по ложному пути или же искусно провоцированными несвоевременными выступлениями искажать его смысл и подрывать его силу и истинное значение.
Начальник охранного отделения в Москве Сергей Зубатов был в молодости либералом. Его отношения к революционерам носили уже тогда загадочный характер. Оказавшись во главе Московской охранки, умный, начитанный Зубатов не мог не обратить свое внимание на быстро растущее рабочее движение и на первые появившиеся тогда, в 90-х годах, социал-демократические организации. Но вместо того чтобы грубо раздавить это движение, он решил — ему не первому пришла в голову эта несчастная мысль — его легализировать, то есть ввести его в законное русло и тем обезвредить для царского строя. Он надеялся, что рядом экономических уступок и некоторым улучшением их материального положения ему удастся отвлечь рабочих от участия в социалистическом движении. Его кипучая деятельность, одобряемая и покровительствуемая самим великим князем Сергеем Александровичем, проявлялась не только в одной Москве; она распространялась на много других крупных промышленных центров и была направлена, между прочим, и против самой крепкой социал-демократической организации — еврейского «Бунда».
В сетях Зубатова запутался не один десяток молодых революционеров, которые, несмотря на неоднократные предостережения центрального комитета Бунда, начали основывать по совету пресловутого охранного синдиката «независимые» и противосоциалистические еврейские организации.
Зубатов ввел новые методы развращения и расстройства революционных рядов. Он действовал исключительно «убеждением». Наметив себе какую-нибудь очередную жертву, в тюрьме или на свободе, он очень осторожно приступал к своему делу, заводил бесконечные разговоры о социализме и политической борьбе, доказывал слабости тогдашних направлений и преимущества открытой легальной борьбы на чисто экономической почве. Поколебавшиеся революционеры по молчаливому соглашению выпускались на свободу; тем же, кому грозила тюрьма, вскользь давали понять, что прошлые грехи их забыты и сданы в архив. Зубатов обладал к тому же известным «психологическим» чутьем, положительным знанием людей и уменьем пользоваться их слабостями. Он почти всегда бил наверняка. Деятельность Зубатова имела неожиданный финал.
Чтобы удовлетворить требования рабочих, в которых он фатальным образом пробуждал сознание своих классовых интересов, Зубатов Должен был часто прибегать к крупным мерам, заставляя предпринимателей против их воли соглашаться на увеличение заработной платы. Агенты Зубатова не останавливались ни пред какими угрозами, пользуясь страшным именем всемогущей охранки в тех случаях, когда фабриканты и заводчики отвечали отказом. Многочисленные стачки, вызванные Зубатовым, прошли при полном, почти благосклонном невмешательстве властей. Высшим кульминационным пунктом зубатовщины в Москве была внушительная манифестация, в которой приняли участие более шестидесяти тысяч рабочих, торжественно отправившихся в день освобождения крестьян возложить венок к памятнику Александра II. Желтый синдикализм Зубатова начал пользоваться большим успехом в высших правительственных сферах. Успех этот, однако, был недолговечен.
Правая рука Зубатова, доктор Шаевич, организовал в Одессе экономическое движение, которое вначале обещало быть вполне благонадежным. Но скоро Шаевич стал с тревогой замечать, что движение начало мало-помалу терять свой «законный» характер. В июне 1903 г. оно вылилось в грозную всеобщую стачку, которой всецело овладели социалисты. Разочарование было жестокое. Правительство поняло, что применять провокацию в крупных массовых движениях — значило играть с огнем. Его гнев со страшной силой и мстительностью обрушился на Зубатова и его одесского сподвижника Шаевича, которые были немедленно арестованы и сосланы.
Так плачевно закончилась одиссея царского синдикализма.
Гапон
Георгий Александрович Гапон родился в 1870 в малоросской семье. Первоначальное образование он получил в Полтавской духовной семинарии, по окончании которой был назначен священником в одном из уездов Полтавской губернии. Но он скоро покидает провинцию, отправляется в Петербург, где поступает в духовную академию, которую кончает в 1903 г. В том же году он получает место священника в Петербургской пересыльной тюрьме. С этого времени начинается его общественно-политическая деятельность. Он основывает с разрешения администрации «Общество Русских фабричных и заводских рабочих», которое должно играть роль посредника между рабочими и фабрикантами, а также и столичными властями. Его идеи в этот период сводятся главным образом к отрицанию политики, от участия в которой он предостерегает рабочих. Все усилия работников должны быть направлены к улучшению их материального положения: увеличению заработной платы, сокращению продолжительности рабочего дня, улучшению санитарно-гигиенических условий труда и т. п. Его агитация принимает все более и более широкие размеры, мало-помалу видоизменяется и приобретает к концу 1904 г. явно революционный характер. Перелом происходит под влиянием сравнительно ничтожного обстоятельства. В начале 1905 г. расчет нескольких рабочих на Путиловском заводе вызвал вмешательство со стороны гапоновских организаций, которые предъявили администрации завода требование обратного их приема. Завод наотрез отказался удовлетворить эти требования, и громадная стачка, охватившая до 150000 рабочих, вспыхнула в Петербурге.
Гапон, находившийся под постоянной полицейской угрозой, проявил в эти дни почти сверхчеловеческие усилия. Он работал без сна и отдыха, переходил с одного митинга на другой, произносил десятки речей в один день, воодушевлял массы своим страстным и ярким словом, зажигал их своей верой и крепко спаивал ее для общего выступления. Он был вездесущ и всеведущ. Его призывы и распоряжения получались одновременно во всех концах рабочих окраин. В воскресенье 9 января он приглашал их в Зимнему дворцу, чтобы передать царю петицию, в которой говорилось о нужде и унижениях рабочего люда и о его скромных требованиях. В красноречивом и сильном письме к министру внутренних дел князю Святополку-Мирскому, в котором он излагал цели и условия манифестации, он просил царя явиться народу, «обеспечивая ему неприкосновенность его особы».
Петиция начиналась следующими словами:
«Государь! Мы, рабочие и жители г. Петербурга, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, государь, искать правды и защиты.
Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам.
Мы и терпели, но нас гонят все дальше и дальше в омут нищеты, бесправия и невежества; нас душит деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь! Настал предел терпению.
Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук.
И вот, мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем работать, пока они не исполнят наших требований. Мы немного просили. Мы желали того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука.
Первая наша просьба была, чтобы хозяева вместе с нами обсудили наши нужды, но и в этом нам отказали- в праве говорить о наших нуждах; находят, что за нами не признает закон такого права. Незаконны оказались также наши просьбы уменьшить число рабочих часов до 8 в день, и устанавливать цены на наши работы вместе с нами, и с нашего согласия рассматривать наши недоразумения с низшей администрацией завода, назначить чернорабочим и женщинам плату за их труд не ниже 1 руб. в день, отменить сверхурочные работы, лечить нас внимательно и без оскорблений, устроить мастерские так, чтоб в них можно было работать, а не находить там смерть от страшных сквозняков, дождя и снега, копоти и дыма.
Все оказалось, по мнению наших хозяев, противозаконно. Всякая наша просьба — преступление, а наше желание улучшить наше положение — дерзость, оскорбительная для наших хозяев. Государь, нас здесь больше 300000 — и все это люди только по виду, только по наружности, в действительности же за нами, как и за всем русским народом не признают ни одного человеческого права, даже говорить, думать, собираться, обсуждать наши нужды, принимать меры к улучшению нашего положения.
Всякого, из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса, бросают в ссылку, карают, как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть рабочего, бесправного, измученного человека, значит совершить тяжкое преступление.
Весь народ, рабочий и крестьянин, отдан на произвол чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, не только совершенно не заботящихся об интересах народа, но попирающих эти интересы».
И петиция перечисляла целый ряд социальных и политических требований, которые свидетельствовали о широком размахе движения: свобода слова, печати, личности и собраний; всеобщее и обязательное обучение, ответственность министров перед народом, всеобщая политическая амнистия, восьмичасовой рабочий день, права рабочих союзов и коопераций, государственное страхование, уничтожение косвенных налогов и постепенную национализацию земли.
Стройными, сомкнутыми бесконечными рядами, с женами и детьми, рабочие, неся вперед царские портреты и взятые из церкви хоругви, с пением молитв «Спаси господи, люди твоя» двинулись к Зимнему дворцу. Ясный, солнечный день ярко сверкал на покрытых снегом улицах. На всех лицах была написана глубокая сосредоточенность и решимость. Во главе шествия между двумя священниками выступал сам Гапон. Масса любопытных и праздных зрителей тесным кольцом окружала сомкнутые ряды рабочих, и, по мнению некоторых, на площади Зимнего дворца и на прилегающих улицах было не менее 300 000 человек.
Трагическая развязка манифестации всем памятна в Петербурге была стянута значительная военная сила. Великий князь Владимир Александрович тщательно подготовился к предстоящему побоищу. Мирно и спокойно, без оружия, в глубоком молчании народ продвигался к царскому дворцу, как вдруг на него со всех сторон были направлены ружейные дула. Без всякого предупреждения, без приглашения рассеяться, по толпе были даны один за другим ряд залпов. В паническом страхе, с раздирающими криками, толпа бросилась бежать, усеивая площадь тысячами раненых и убитых, среди которых было много детей, женщин и стариков.
Царь «победил» народ. Но в это кровавое воскресенье народ потерял последнюю веру в царя.
Гапон успел скрыться. На другой день он обратился к рабочим с вдохновенным посланием, в котором он навеки заклеймил «царя Каина», убившего своих братьев. Почти с пророческой силой, предавая проклятию Николая Романова с его ненавистным отродьем, он заклинал товарищей рабочих помнить, что отныне их спаивает пролитая вместе кровь.
И этот-то человек, на которого смотрели как на народного героя, должен был в скором времени потерять и свое доброе имя и свою чистую славу. Съедаемый честолюбием, озлобленный и раздраженный теми затруднениями, на которые он наталкивался в среде революционеров, выбитый из колеи и деморализованный специфическими условиями изгнания, потерявший живую связь с пролетарскими массами, которые вознесли его несоразмерно с его личными способностями на недосягаемую высоту и в соприкасании с которыми он раньше черпал всю свою силу, падкий на лесть и удовольствия и развращенный шумихой известности, Гапон без руля и без ветрил вступил в бесчестную связь и оказался игрушкой в руках тех, кого он хотел, может быть, сам обмануть.
Вопрос о том, был ли Гапон агентом-провокатором в прямом смысле этого слова, — вопрос, который многие оспаривают. Но так или иначе, с достоверностью известно, что во время своего изгнания в Париже и Ницце он находился в постоянных сношениях со старым искусившимся в интригах графом Витте, от которого он получал значительные суммы. После его возвращения в Россию в 1906 г. в революционных организациях к нему стали относиться со все более возрастающим недоверием. Трагический конец Гапона тесно связан с биографией главного героя нашей книги. Мы к нему вернемся позже.
Великий провокатор
Глава I Первые догадки
Разоблачение Азефа, как гром из чистого неба, поразило оцепенением общественное мнение всего цивилизованного мира. Раскрытие в начале января 1908 г. неслыханной измены в центре партии социалистов-революционеров, фактически установленное соучастие высших чинов царской полиции в самых крупных террористических покушениях, надолго приковало внимание всех слоев общества к имени «великого провокатора». Дело Азефа быстро приняло размеры настоящей «политической Панамы», новой «Дрейфусиады» русского самодержавия. Одним из наиболее активных разоблачителей провокаторов в этот период является тогда еще считавший себя тоже революционером В. Л. Бурцев[8].
Уже с давних пор, во время изучения им истории освободительного движения, Бурцев заинтересовался ролью агентов-провокаторов, содержимых царским правительством в рядах его злейших врагов. Он совершенно правильно приписывал им страшное, самое губительное влияние на дело революции. Борьба против провокации и смелое беспощадное расстройство русской политической полиции стало почти главной целью его деятельности в последние годы. Благодаря исключительно благоприятному стечению обстоятельств ему удается получить сперва от Бакая, потом от Л. Меньщикова сведения о невероятных чудовищных преступлениях правительственных агентов.
С 1905 г., под впечатлением беспрестанных неудач, постигавших партию социалистов-революционеров, и в особенности пораженный странными условиями, при которых многочисленные террористические акты проваливались в последнюю минуту, несмотря на то, что партия располагала могущественными средствами и пользовалась всеобщим сочувствием, Бурцев с недоумением и тревогой останавливается перед этим загадочным бессилием «боевой организации». Невольно в его уме возникают смутные подозрения. Скорее чутьем, чем расчетом, он доходит до мысли о том, что в самом центре террористической организации свила себе гнездо провокация. Гибель целых отрядов, неожиданные аресты лиц, которым, казалось бы, не грозила никакая опасность благодаря совершенно верным убежищам, заставляют Бурцева все более и более укрепляться в правильности своих догадок. Но все же это одни догадки. Он точно блуждает в потемках, чувствуя темным, но безошибочным инстинктом присутствие врага. Но кто этот враг? Как открыть его? Как изобличить его? И Бурцев принимается за странную работу. Он подвергает тщательному анализу деятельность самых крупных вождей партии, осторожна взвешивая и оценивая все, что ему известно из их жизни, не пренебрегая ни одним мелким поступком, ни одним случайным событием, которые могли бы навести его на какой-нибудь след. Вот что он сам рассказал нам об этих тягостных поисках, когда ощупью, наугад он пытался открыть истину.
«Одну за другою я стал изучать биографию вождей, исследуя внимательно их прошлое и проникая во все мелочи их теперешней деятельности. Тяжело, больно было делать это, но я все же, скрепя сердце, делал это. Выбора не было…
Все без исключения казались мне безупречными, чистыми, выше всякого подозрения. Правда, я не мог отделаться от мучительной, назойливой мысли, которая с каким-то странным любопытством, почти со страхом, постоянно притягивалась к одному из них, занимавшему самое высокое, самое ответственное место в партии. Но каждый раз, когда мои подозрения принимали более определенные формы, все мое революционное достоинство возмущалось во мне, и я с ужасом отгонял от себя кошмарные предположения. Несравненный блеск его прошлых заслуг, величие тех террористических деяний, в которых он играл первенствующую роль, рассеивали, как дым, все эти злые „измышления“. В течение долгого времени я переживал тяжелую внутреннюю борьбу: то с негодованием отвергая свои подозрения, то всецело отдаваясь во власть им. Я строил различные гипотезы, изыскивал всевозможные объяснения, искал, вспоминал, угадывал. Моя мысль не в состоянии была больше оторваться от Азефа, хотя не смела еще его обвинять.
Я цеплялся за все, что могло восстановить мою веру в великого террориста. Не предавал ли его кто-нибудь из близких ему людей? Какой-нибудь интимный друг или женщина, которым он безгранично доверял и которые черною изменою платили ему за это доверие? Но даже самое поверхностное знакомство с окружавшей его средой отнимало и тень правдоподобия у этой гипотезы.
Однако мало-помалу все стало мне казаться в нем странным и подозрительным: даже его гениальность, его необычайные конспиративные способности, вызывавшие восторженное поклонение со стороны его товарищей, в глазах которых он представлялся неуловимым, легендарным героем, бессменно, во весь рост, стоявшим годы на краю пропасти, поглотившей столько славных и смелых, столько благородных и пламенных борцов за свободу».
Бурцев в том же году возвращается в Россию, более чем когда-либо убежденный в том, что в центре партии с.-р. сидит провокатор. Его розыски подвигаются очень медленно вперед. Но он с упорством продолжает их, побуждаемый к этому все более учащающимися крупными неудачами террористов.
После революционной бури 1905–1906 гг. наступает беспощадная реакция. Революция разбита, обескровлена, загнана в подполье; царизм шумно празднует победу при всеобщем рабском молчании. В стране вырастают бесчисленные виселицы. Тюрьмы вновь наполняются.
Вокруг самодержавия сплачивается «черная сотня».
Для провокации открывается самое широкое поле действия.
Однако революционный период не прошел бесследно и для русского политического сыска. Веяния времени коснулись и охранных отделений, вызывая в них дезорганизацию, порождая перебежчиков. Трудно сказать, что руководило этими «изменниками охраны», — искреннее ли желание оказать услуги революционерам или хитрый расчет на случай торжества революции.
В начале мая 1905 г. в редакцию «Былого» в Петербурге явился какой-то неизвестный, который стал добиваться личного свидания с В.Л. Бурцевым. Вот в каких выражениях сам Бурцев рассказал впоследствии о первой своей встрече с этим неизвестным (который оказался Михаилом Бакаем), сыгравшим крупную роль в разоблачении Азефа.
«Молодой человек, представший тогда предо мною, был лет 27–28 от роду. Он заявил, что желает поговорить со мною наедине по одному очень важному делу. Когда мы остались с ним вдвоем, он мне сказал:
— Вы… Владимир Львович Бурцев?… Я вас знаю очень хорошо… Вот ваша карточка. Я ее взял в департаменте полиции, — по этой карточке вас разыскивали!
Я еще не произнес ни слова. Мой собеседник после некоторой паузы сказал:
— По своим убеждениям я — с.-р., а служу в департаменте полиции чиновником особых поручении при варшавском охранном отделении!
— Что же вам от меня нужно? — спросил я.
— Скажу вам прямо, — ответил мне мой собеседник, — я хочу знать, не могу ли я быть чем-нибудь полезным освободительному движению?
Я пристально посмотрел ему в глаза. В голове у меня пронеслись роем десятки разных предположений. Вопрос был поставлен прямо. Я почувствовал, что предо мною стоял человек, который, очевидно, выговорил то, что долго лежало у него на душе и что он сотни раз обдумывал, прежде чем переступить мой порог»[9].
И Бурцев дальше продолжает рассказывать, как он обстоятельно растолковал молодому «сыщику-революционеру», что всякий может служить освободительному движению по мере своих сил и способностей. Его собеседник стал тогда говорить, что он мог бы быть полезным в некоторых с.-р. практических делах, но Бурцев заметил ему, что сам он литератор, занимается изучением истории революционного движения; ни к каким партиям не принадлежит и лично поэтому может с ним говорить только о том, что связано с его историческими изысканиями, работами и вопросами, так сказать, гигиенического характера: выяснением провокаторства в прошлом и настоящем.
Бакай не ожидал, что от него потребуют таких маловажных и «безобидных» услуг. Он был разочарован. И Бурцеву долго пришлось объяснять ему всю ценность тех сведений, которые такой человек, как он, мог бы дать о полиции, и ту громадную пользу, которую можно бы извлечь из них для политической агитации. Беседа затянулась надолго. Бакай рассказал о жестокостях, которые совершались в застенках варшавского охранного отделения и описание которых впоследствии появились в «Былом». Он также сообщил некоторые любопытные данные об охранке и ее нравах.
«Предо мною открылся, — пишет Бурцев, — совершенно новый мир, с иными нравами, иной логикой; иными интересами, иной терминологией. Я, например, долго не мог усвоить, что „сотрудник“ означает „провокатор“. Мне не без труда, постепенно удалось усвоить то, что я слышал от Бакая»[10].
Между Бурцевым и Бакаем установились постоянные сношения. Благодаря удивительной встрече этих двух людей, принадлежавших к диаметрально противоположным, мирам, служивших различным богам, должна была потом обнаружиться страшная истина, разоблачение, которое произвело в Европе более сильное впечатление, чем взрыв бомб, убивших Плеве и вел. кн. Сергея.
Мы, однако, затруднялись бы сказать, что, собственно, представлял собою сыщик, явившийся к Бурцеву с предложением служить делу революции.
Прошлое Бакая очень темное. Известно, что в молодости-ему тогда было 22 года-он состоял членом социал-демократической организации в своем родном городе Екатеринославе, где он занимал должность фельдшера при одной из больниц. Попав после ареста в 1902 г. в тюрьму, Бакай обнаружил сразу крайнюю нравственную слабость. Он согласился поступить на службу в охранное отделение и выдал нескольких товарищей. В Екатеринославе его агентурная карьера оборвалась очень скоро. Спустя три месяца после освобождения предательство Бакая случайно раскрылось, и ему пришлось бежать в Петербург, где ему удалось, благодаря рекомендательным письмам Зубатова, получить место чиновника при варшавском охранном отделении.
Обстоятельства, заставившие его бросить службу, резко порвать со своим прошлым и начать, как он сам выразился, «новую жизнь», не совсем ясны.
Если верить его бывшему начальству, и в особенности заявлению Столыпина, Бакай был арестован за попытку шантажа нескольких богатых варшавских торговцев. «Новое Время», с усердием распространявшее эти слухи, напечатало немало грязных и скандальных подробностей по этому поводу, но не привело в подкрепление ни одного доказательства. Бакай, наоборот, утверждал, что перелом в нем совершился под влиянием совершенно невероятных жестокостей, свидетелем которых он был в варшавской охране. Рассказ, напечатанный им об этих жестокостях, действительно заставляет волосы подниматься дыбом. Бурцев в свою очередь неоднократно заявлял, что, когда Бакай выразил ему желание порвать со своим несчастным прошлым, его первое впечатление было в пользу Бакая, в искренность которого он сразу поверил. Долголетние испытания убедили его в том, что он не ошибался и что первое впечатление его не обмануло.
Как бы то ни было, не подлежит никакому сомнению, что помощь Бакая играла большую роль в деле разоблачения Азефа и в значительной степени способствовала успехам расследования Бурцева.
Бакай поддерживал постоянные сношения со своими бывшими сослуживцами по охранке и через них знал все, что происходило в этом темном царстве. Он часто приезжал навещать Бурцева и, наконец, для удобства сношения решил поселиться в Петербурге. Бурцев иногда от него узнавал, к величайшему своему изумлению, о предприятиях и планах социалистических организаций, о которых он сам еще ничего не слышал и которые уже были известны полиции.
С первых же своих встреч с «раскаявшимся сыщиком» Бурцев стал добиваться от него «указаний» о личности таинственного провокатора, присутствие которого он подозревал в центре партии социалистов-революционеров. Бакай поделился с ним теми неопределенными и общими сведениями, которые имелись, у него, о некоем Раскине, «самом крупном провокаторе в России». Деятельность Раскина — имя это упоминалось в связи с именем другого большого провокатора, Татарова, — была Бакаю известна благодаря некоторым случайным обмолвкам. Бурцев посоветовал ему направить все свои поиски в эту сторону, и Бакай с этой целью завязал сношения с двумя влиятельными агентами: со шпионом Гуровичем, за несколько лет до того разоблаченным социал-демократами, и департаментским чиновником Л. Меньщиковым.
Не догадываясь о настоящих побуждениях Бакая, оба они сообщили ему под большим секретом, что начальник охраны Кременицкий[11] из мести за какую-то личную обиду, причиненную ему начальником, выдал двух очень ценных для правительства «сотрудников», открыв их имена социалистам-революционерам[12]. Это были провокаторы Татаров и Виноградов. Осведомители Бакая прибавили, что Виноградов-псевдоним и что настоящее его имя не может быть названо, так как, несмотря на предупреждение, он не был разоблачен и продолжает работать в партии с.-р. и в охране.
Донос на Татарова и «Виноградова» был сделан при крайне таинственной обстановке. В августе (25) 1905 г. неизвестная дама, тщательно скрывавшая свои черты под густой вуалью, явилась к одному известному социалисту-революционеру[13] и передала ему письмо. В этом письме в очень определенных выражениях были сформулированы обвинения против двух влиятельных членов партии, служивших в департаменте полиции[14].
Этот рассказ ошеломил Бурцева. Несколько членов партии с.-р., к которым он обращался за справками, подтвердили верность этого сообщения, прибавив, что Татаров был казнен после следствия, вызванного анонимным письмом.
Мысль об Азефе продолжала мучительно преследовать В. Л. Бурцева. В то же время он усиленно старался открыть настоящую личность Раскина-Виноградова, о крайне вредной деятельности которого ему приходилось постоянно слышать. Он точно предчувствовал в нем «своего великого провокатора».
Бакай рассказал ему, что за два года до того (в 1904 г.), когда он еще служил в варшавской охранке, в столицу Польши приехал «самый большой провокатор России — Раскин». После свидания с одним железнодорожным служащим, принадлежавшим к партии социалистов-революционеров, таинственный Раскин уехал назад. Во время его пребывания целая свора сыщиков, с известным охранником Медниковым во главе, всюду следовала за ним по пятам, охраняя его от всяких случайностей. Проживавший в это время в Варшаве общепризнанный учитель и вдохновитель тайного сыска, всемогущий Рачковский-находившийся временно не у дел и в немилости, мы позже скажем почему, — каждый день наведывался обо всем, что делал Раскин. Все это показывало, что Раскин был очень важным лицом в охранном отделении и в революционном мире.
Бурцев стал тогда наводить справки, не был ли Азеф в эту эпоху в Варшаве и не он ли встречался там с железнодорожным служащим.
С глубоким волнением он узнал, что глава «боевой организации» действительно приезжал в этих числах в Варшаву и встречался там с вышеназванным революционером.
Некоторое время спустя до его сведения дошло, что анонимное письмо, обвинявшее и погубившее Татарова, набрасывало также тень и на репутацию Азефа. Потом он узнал, что Азеф был назван полным именем в этом доносе наряду с Татаровым.
Но центральный комитет партии социалистов-революционеров не придал никакого значения этому обвинению.
Он, наоборот, был убежден, что все это происки тайной полиции и Рачковского, уже пытавшихся погубить в их глазах «великого террориста» и которые на этот раз не остановились для достижения своей цели даже перед таким героическим средством, как выдача крупного провокатора Татарова.
По мере того как Бурцев расширял круг своих поисков (в 1907 г.), прибавлялись новые факты, которые все более и более усиливали внутреннее его убеждение относительно Азефа. Так, он узнал, что министерству внутренних дел было известно присутствие Гершуни и Екатерины Брешковской на втором тайном съезде партии с.-р. в Тамерфорсе (Финляндия), тогда как сами делегаты еще об этом не знали. Резолюции съезда докладывались Столыпину чуть ли не сейчас же после их вотирования…
С другой стороны, невозможно было закрыть глаза на тот факт, что покушения, организованные мелкими независимыми группами, удавались довольно часто, тогда как все террористические предприятия центральных организаций неминуемо проваливались.
Бакай к этому времени узнал, что покушение против генерала Трепова провалилось благодаря донесениям Виноградова, который сам же его организовал и сам же предал всех его участников. В читавшемся во время суда обвинительном акте имя Виноградова, правда, не упоминалось, но там все же была речь о «тайном сотруднике», который руководил розысками полиции.
Подозрения Бурцева настолько окрепли, что он приблизительно в этот период очень резко высказал свое мнение об Азефе знаменитому финляндскому революционеру Карлу Траубергу, одному из главных членов «северного летучего отряда», и посоветовал ему крайнюю недоверчивость и осторожность. Трауберг ответил, что мнение Бурцева кажется ему довольно основательным, прибавив, что в интересах партии следовало бы также выяснить роль Азефа в Саратове, откуда поступил формальный донос, посланный каким-то сочувствующим чиновником.
Но несколько дней спустя Карл Трауберг был арестован. Его арест, по заявлению Столыпина, спас весь Государственный совет от неизбежной катастрофы — быть взорванным террористами. Карла Трауберга судили военно-полевым судом и приговорили к смерти. Очень вероятно, что Трауберг был предан Азефом.
За несколько часов до казни, на рассвете, в камеру молодого революционера явился главный прокурор Петербурга Камышанский.
Одним из излюбленных средств русских властей, при старом режиме искавших себе сотрудников среди революционеров, состояло в том, что незадолго до казни им предлагали просить царского помилования. Партией это считалось настоящей изменой. Понятно, что от человека, который так уронил бы себя в глазах своих товарищей, можно было ждать и других уступок, других сделок с совестью, вплоть до «государственных услуг», то есть услуг полиции.
Знакомый в совершенстве с искусством всяких сделок, прокурор осторожно, взвешивая каждое слово, завел приличествующий моменту разговор и потом, естественно, просто предложил Траубергу ходатайствовать о помиловании.
Трауберг с негодованием отверг это предложение — обратиться с прошением к злейшему врагу народа.
Камышанский попытался уговорить его, но еще раз потерпел неудачу. Это его взбесило и заставило сгоряча произнести несколько неосторожных слов, которые он бросил ироническим и язвительным тоном:
— Эх, да к чему, голубчик мой, весь этот героизм, все эти самопожертвования? Ваша партия целиком в наших руках. В самом сердце вашего центрального комитета сидит человек, который служит нам. Нам известны все мелочи… все, что происходит в вашей партии, нити которой в нашем распоряжении…
Прокурор, правда, прибавил одну подробность, которая совершенно не соответствовала действительности. Но он может, намеренно солгал, чтоб уничтожить впечатление от его разоблачающей обстановки, а может быть, был просто плохо осведомлен в этом пункте.
— Ваша «боевая организация», — заявил он, — находится в данное время в Царском Селе с Савинковым во главе…
«Боевая организация» в действительности находилась очень далеко от Царского Села.
Бурцеву вся эта трагическая сцена стала известна. Расследование, которое он произвел относительно саратовской истории, оказалось еще более странным.
Мы приводим здесь рассказ одного из участников этой странной истории.
В середине августа 1905 г. Азеф явился в Саратов. Там уже больше месяца поджидала его Е. Брешковская.
Она в начале июля пробралась в Россию, проехала прямо в Саратов и проживала там большею частью на даче Ракитниковых вполне благополучно. Но незадолго, до приезда Азефа стали показываться около дачи подозрительные лица. Расспрашивали соседей, кто живет на даче. Когда приехал Азеф, наблюдение за дачей стало уже вполне очевидным, Брешковская, правда, не придавала этому никакого значения и не хотела верить, что наблюдение относится к ней. «Кому нужна такая старуха, как я?» — говорила она.
Тем не менее решено было пересадить ее в город. И в тот же день вечером к одному товарищу в городе несколько раз заходил незнакомый господин, добиваясь его видеть. Свиделись они только ночью, и вот что сказал незнакомец, назвавшийся служащим в охранке:
— Из Парижа получена телеграмма такого содержания: выехала в Россию террористка Брешковская, проживает в Саратове у Ракитниковых. По этой телеграмме приехал в Саратов чиновник департамента полиции с 6 филерами. За дачей установлено наблюдение.
В ту же ночь это предупреждение стало известно целому ряду товарищей и поразило всех, как громом из ясного неба. До сих пор слежку приписывали местным охранникам и не придавали ей большого значения: где, мол, им сообразить, с кем имеют дело. Теперь нельзя было медлить ни минуты, и на следующий же день решено было увезти Брешковскую на лошадях за несколько десятков верст, доставить ее на одну из пристаней и посадить там на пароход. Надеялись, что шпики прозевали ее отъезд с дачи, почему и план спасения выработали сравнительно простой. Около 5 часов вечера 19 августа Брешковская очень благополучно, не замечая за собою абсолютно никакой слежки (хотя ехать приходилось по пустынным улицам), перебралась из своего городского убежища на квартиру одного чиновника, села вместе с ним и уехала. Видимое отсутствие слежки, казалось, вполне подтверждало предположение, что охране было неизвестно ее городское местопребывание.
О сведениях, полученных из охранки, был предупрежден, конечно, и, Азеф. Ясно, что и ему угрожала немалая опасность. Правда, его фамилия не упоминалась в сообщении, но это еще не значило, что его не узнали петербургские ищейки… Тем не менее он явился на квартиру, где вырабатывался план увоза Брешковской и происходило совещание со всеми лицами, привлеченными к делу. О себе он рассказал, что за ним тоже следили… Уезжать он хотел с вокзала с пятичасовым поездом. План увоза Брешковской он знал. Все понемногу начали успокаиваться от пережитых волнений. Но в 7 часов вечера пришел товарищ, видевшийся накануне с охранником, и рассказал, что около 3 часов тот вторично приходил к нему, встретил его около его квартиры и, прогуливаясь с ним по улице, сообщил следующее: «Брешковская теперь уже не на даче у Р., а в городе на Соляной ул., д. № 5 — не то у А., не то у Н. Ну да все равно: дом окружен и из него никого не выпустят». Кроме того, он прибавил, что в охранном отделении сегодня, шел большой спор: наш настаивал на немедленном аресте всех, а приезжий чиновник говорил, что это не входит в его виды (разрядка авторов). Рассказывая это, охранник все время боязливо осматривался по сторонам, как бы опасаясь быть замеченным кем-либо из сослуживцев.
Сведения охранника были точны, но не полны. Мы решили остановиться на худшем предположении: охранке известно было местопребывание Брешковской, стало быть, известен ее отъезд. Если он удался, то только потому, что был неожиданным для полиции. Но если так, то надо было ждать погони. Решено было ехать одному из товарищей верхом вдогонку за Брешковской, догнать ее на месте предположенной для нее ночевки, передать ей все новые сведения и предложить: ни в каком случае не садиться на пароход, а вместо того проехать верст 15–20 на лодке, а там взять лошадей и ехать на ближайшую станцию железной дороги. Против парохода говорили и полученные от одной барышни сведения, что за пристанями в городе установлено тщательное наблюдение. Так и было сделано, с тем только отличием, что после поездки на лодке Брешковская взяла лошадей в одно имение к знакомому помещику, прожила там несколько дней и потом преблагополучно проехала дальше. Погони за ней почти наверное не было, так как, послушавши ямщика, заленившегося ехать темной ночью, она заночевала вместе со своим спутником на ближайшей же почтовой станции, не доехав до того знакомого, к которому ее направили. К нему она добраласъ только на другой день рано утром. Если бы была погоня, ее, наверное, настигли бы на этой же станции. Вообще Брешковская лучше всех сохранила спокойствие и хладнокровие во всей этой истории. Взять хоть бы эту ночевку в 25 верстах от Саратова, по просьбе ямщика, когда каждая минута была дорога и каждый потерянный час грозил провалом. Так и вспоминаешь потерянный чубук, за которым Тарас Бульба вернулся в самую гущу своих врагов.
Впечатление от этой полуфантастической истории получилось тяжелое, даже несколько жуткое. Приоткрылась завеса, до того скрывавшая от нас мир сыска. В нескольких случаях, по нескольким поводам нам удалось заглянуть за эту завесу, — и мы были поражены той огромной осведомленностью, которую имел о нас наш враг. Мы точно разводили наши конспирации под стеклянным колпаком. Или еще лучше, казалось, что мы все сидим на гигантской полицейской ладони, под внимательным взором нашего врага, — и все-таки ладонь почему-то не сжимается, враг почему-то предоставляет нам заниматься самыми рискованными для него делами. Мало мы тогда думали о провокации.
Саратовская история имела свое продолжение уже во время дней свободы. Опять начались встречи охранника с тем же товарищем, к которому он приходил со своим предупреждением относительно Брешковской. Во время одного из этих свиданий охранник рассказывал, что среди лиц, собиравшихся в августе месяце у Ракитниковых, был очень важный шпион. Он не мог припомнить его фамилию но его легко будет узнать по таким признакам: он останавливался в гостинице на Московской улице и заходил в день отъезда старушки в квартиру г. X., где виделся с Р. Эти признаки сходились на Азефе, так как из всех лиц, принимавших участие в совещании, один он останавливался в указанной гостинице.
Бурцев только в общих чертах узнал о всех перипетиях саратовской истории, но что он узнал, было вполне достаточно для подтверждения его догадки о предательстве Азефа.
К несчастью, он в это время лишился помощи Бакая. Полиция не замедлила узнать о новой роли своего бывшего чиновника. Его сношения с Бурцевым, было не трудно установить. За ним стали следить день и ночь, и когда Бакай, наконец, заметил за собою слежку и решил, по совету Бурцева, бежать, — было уже слишком поздно. В ту минуту, когда он собирался сесть на поезд на Финляндском вокзале, он обратил внимание на странное, непонятное для него оживление вокруг и… отложил поездку. Бывший помощник начальника варшавской охранки не допускает все же возможности, чтоб решились его арестовать. Однако через несколько дней после описанной сцены, 31 марта 1907 г., на рассвете жандармы явились на его квартиру, описали все находившиеся там бумаги и рукописи, в которых разоблачались жестокости и зверства варшавской охранки, и объявили Бакаю, что он арестован.
По правде сказать, власти сами очень затруднялись, как им в дальнейшем поступить с этим политическим преступником столь странной породы. Они не решались предавать его открыто суду из боязни сенсационных разоблачений с его стороны, но все же намеревались раз навсегда избавиться от него. После восьмимесячного заключения в Петропавловской крепости Бакай был административным путем выслан на три года в самый отдаленный уголок северной Сибири, в Обдорский край, населенный одними самоедами и остяками и, кажется, очень плохо известный даже ученым географам, этнологам и проч.
«Надеялись таким образом заткнуть мне рот, — писал потом в своих „Воспоминаниях“, — в холодных тундрах нечего было бояться им свидетельства человека, на уста которого они наложили ледяную печать. Я был бессилен. Я был близок к отчаянию. Но дружба тех, кто верил мне, придавала бодрость мне».
В самом деле В. Л. Бурцев с первого же дня ареста и ссылки Бакая не переставал заботиться о нем и придумывать средства организовать ему побег. Необходимо было прежде всего необходимые для этого деньги. Бурцев обратился к соц. — рев., которые предоставили а его распоряжение сумму в сто рублей. Через некоторое время Азеф лично принес ему от имени центрального комитета еще дополнительные пятьдесят рублей. Но по странному совпадению полиция именно в это время телеграфировала в Обдорск, чтоб Бакая перевели в еще более недоступный край. Как будто ей стали известны все замыслы о побеге. Но телеграмма опоздала. Бакай успел бежать, пробравшись через Тюмень, Пермь, потом через Европейскую Россию, Финляндию, и попал в Швецию. Оттуда он немедленно направился в Париж, где ждал его избавитель.
Бурцев покинул Россию в апреле 1907 г. и с тех пор все время жил в Париже. Он попытался было сообщить там все собранные им факты ЦК партии, но к величайшему его изумлению наткнулся на всеобщее недоверие, а его разоблачения вызывали одни только насмешки.
Прошло еще несколько месяцев. 9 февраля 1908 г. весь «северный летучий отряд» попался в руки царской полиции. Все члены этой организации были взяты одновременно в различных местах. Это было для партии настоящей катастрофой, неожиданной и страшной. «Северный летучий отряд» должен был совершить грандиозный террористический акт, но все его планы и вся подготовительная работа до мельчайших подробностей стали известны правительству… Если в уме Бурцева до тех пор шевелились еще кое-какие слабые сомнения, то это событие окончательно уничтожило и рассеяло их. Отбросив всякие колебания, он выступил открыто и решительно, как обвинитель Азефа. Через своих друзей и знакомых он стал доводить до сведения революционеров, без различия организации, что Азеф — агент-провокатор.
Приблизительно в это время (апрель 1908 г.) Бурцев впервые произнес перед Бакаем имя Азефа. Он попросил Бакая сообщить ему все, что тому было известно о главе «боевой организации». Бакай, знавший наперечет имена всех террористов, даже самых малозначительных, с удивлением ответил, что он никогда не слыхал о существовании террориста Азефа… Ко всем остальным доказательствам прибавилось новое. Бурцев рассуждал так: если главари сыска не считали нужным осведомлять своих второстепенных агентов о личности верховного вождя «боевой организации», — значит, на это у них были свои причины, и причины немаловажные.
Опыт, произведенный с агентом охраны Дубрицким (он же Доброскоков), дал не менее решительные результаты. По, указаниям Бурцева Бакай вступил в переписку с этим своим бывшим сослуживцем, специально заведовавшим наблюдением за террористами. Он притворялся слепо доверяющим Дубрицкому и всем сведениям, которые тот счел бы возможным ему сообщить. Бакай описывал ему кампанию, которую он вел в печати против провокации, и говорил о долге всякого честного человека помогать этой работе общественного оздоровления.
Дубрицкий выразил полное согласие помочь ему и воспользоваться этим случаем, чтоб сообщить ему список мнимых провокаторов и кучу якобы подлинных документов, между прочим, апокрифический поддельный доклад министра Макарова. За провокаторов, конечно, выдавались безукоризненно честные и преданные работники, которых полиция хотела таким, образом дискредитировать в глазах их товарищей.
Бакай под руководством и по совету Бурцева ответил Дубрицкому, что он ему очень благодарен за присланные сведения, и просил, не может ли тот ему что-нибудь сообщить о тех лицах, насчет которых в партии возникли некоторые подозрения. И он ему указал также на Азефа, поместив его имя между именем одного воображаемого лица и именем настоящего, недавно разоблаченного провокатора. Дубрицкий поспешил сейчас же написать, что «охране все три имени совершенно неизвестны». Нельзя было более грубо и неуклюже себя выдать и обнаружить связь Азефа с полицией.
Весною 1908 г. Бурцев формально довел до сведения центрального комитета партии с.-р. свое обвинение, основанное на глубоком убеждении и на ряде почти неопровержимых доказательств против Азефа как предателя.
Заявление Бурцева вызвало неописуемое волнение. Настоящая буря ярости и возмущений поднялась в высших кругах партии социалистов-революционеров, когда стала известной эта резкая попытка выступить с обвинением против человека, «который, благодаря своим необыкновенным способностям, огромным услугам, оказанным им партии и революции, поставил себя выше Гершуни и рядом с Желябовым»[15].
«Если Азеф — провокатор, так мы все — провокаторы!» — заявляли члены центрального комитета. «Если Азеф — провокатор, то нам пришлось бы всем пустить себе пулю в лоб», — заявляли другие[16].
Целый ряд резких нападок посыпался на Бурцева. В «Знамени Труда», центральном органе партии, его «обвиняли в шпиономании и провокаторомании»[17]. Центральный комитет одновременно постановил допросить всех, кто способствовал распространению «грязных клеветнических слухов», и привлечь их к ответственности.
Вера в Азефа была так велика, так безгранична, что даже прозорливый, непримиримый Гершуни, лежавший, на смертном одре в Швейцарии, чуть ли не потерял сознание от охватившего его глубокого возмущения при вести о том, что на Азефа возводятся подобные обвинения. Придя в себя, он воскликнул, что «как только поправится, он уедет в Петербург и там совместно с Азефом организует покушение против царя, чтоб раз и навсегда положить конец всем этим басням, всем этим бессмысленным слухам».
16 марта левая группа с.-р. вынесла, однако, резолюцию, наделавшую много шуму, «о провокации в партии». Группа подверглась многочисленным нападкам, но она все же мужественно стала на сторону Бурцева. Между этим последним и центральными учреждениями началась открытая борьба.
Согласно инструкциям, данным центральным комитетом, «специальная комиссия по расследованию провокаций» решила в апреле, мае, июне и июле допросить целый ряд лиц и, между прочим, Бурцева.
Бурцев с настойчивостью и жаром отстаивал свое обвинение. Большинство членов комиссии соглашалось, что в партии сидит провокатор, занимающий очень крупное положение, но энергично отвергало, что этот провокатор Азеф.
К концу июля и в начале августа в Лондоне состоялась конференция партии социалистов-революционеров; с глубоким чувством беспокойства и изумления Бурцев узнал, что Азеф принимает участие в ее работах. Его негодование вылилось в резком письме, досланном на имя одного эмигранта, Теплова, который присутствовал на съезде в качестве «почетного гостя»[18].
Бурцев бесхитростно, прямо заявил в этом письме, что «глава боевой организации-агент-провокатор». Теплов передал письмо центральному комитету. Однако этот последний не счел нужным ни поднять вопрос об обвинениях Бурцева на самой конференции, ни ознакомить с этими обвинениями совет партии, состоявший из 5 представителей от 13 областных федераций и 5 представителей центрального комитета. По окончании конференции собравшемуся совету был только сделан доклад о работах комиссии, образованной для расследования причин, вызвавших последние неудачи в области террора[19].
Но Бурцев не сложил оружия. Он с еще большей резкостью продолжал поддерживать свои обвинения и заявил, что будет преследовать свою цель до конца, то есть до полного обнаружения истины.
Центральный комитет решил покончить со всеми этими «клеветническими обвинениями» и привлечь Бурцева к товарищескому суду[20], назначения такого суда потребовал с бесстыдной смелостью сам Азеф.
Но какой характер должен был иметь этот суд? Центральный комитет некоторое время колебался между двумя формами: вначале предполагался третейский суд, назначенный по выбору с обеих сторон, потом предпочтение было отдано суду чести, все три члена которого должны были быть назначены центральным комитетом.
Это решение ЦК стало известно Бурцеву только к концу сентября. Раздраженный бесконечными затруднениями, оговорками, проволочками, он 20 сентября послал центральному комитету корректурный лист заявления, которое он намеревался выпустить только в нескольких экземплярах и в котором он кратко формулировал свои обвинения против Азефа.
Он просил указать ему те изменения, которые ЦК найдет, может быть, нужным сделать в тексте. Он требовал, чтобы документ не был сообщен Азефу. Ему ответили, что его условия неприемлемы[21]. Одновременно с этим он получил извещение о том, что суд соберется в самом ближайшем будущем.
Центральный комитет был твердо уверен, что на первых же заседаниях невинность Азефа ярко обнаружится в глазах всех и Бурцев будет осужден за клевету.
Но не таково было мнение самого Бурцева. После неимоверных усилий, после всех пережитых волнений, тревог, несмотря на насмешки и издевательства слепых приверженцев Азефа, на недоверие одних и третирование в шпиономании других — Бурцев, наконец, добился суда, а следовательно, серьезного расследования дела. Правда, его еще ожидали тяжелая борьба и действительные, не воображаемые опасности, но развязка была близка…
Чтобы дать себе явный отчет о реальных опасностях, которые грозили тогда Бурцеву, нужно вспомнить, что в среде приверженцев Азефа и ЦК о нем открыто говорили как о человеке, находящемся «в сношениях с департаментом полиции», который пользовался им как орудием, допуская, однако ж, что он мог также быть сам жертвой полицейской интриги… Нападки на него переходили иногда в прямые угрозы террористической расправы…
Глава II Евно Азеф
Вскрыть психологическую сущность такого необыкновенного авантюриста, как Евно Азеф, который в продолжение чуть ли не четверти века сумел с таким искусством носить свою личину, что даже самые близкие друзья его до конца не догадывались, какова была настоящая его личность, — задача нелегкая, почти невозможная. Из заговорщицкого омута, где преступление так чудовищно переплелось с подвигом, на нас всегда будет загадочно выглядывать эта маска двуликого Януса провокации и террора, идола охранников и идола революционеров, перед которым благоговели и преклонялись и те и другие. Тайна той безграничной веры, которую он — воплощение лжи и бездушия — внушал одинаково и вождям партии, и членам правительства, тайна того личного влияния, которое он, лишенный всяких, нравственных устоев, оказывал на людей, стоявших на недосягаемой нравственной высоте и часто Далеко превосходивших его в умственном отношении, не может быть объяснена одними внешними особенностями его полицейско-террористической карьеры. Но к этому вопросу — кто же такой собственно был Азеф? — мы еще неоднократно вернёмся. Большинство партийных деятелей, лично сталкивавшихся с Азефом, сохранили о нём воспоминания как о человеке скрытном, замкнутом, угрюмом и молчаливом. На частных собраниях он лишь изредка, и то неохотно и вскользь, вставлял свое слово; на все вопросы отвечал коротким обрывистым «да» или «нет», точно ему досадно было нарушить свое сосредоточенное молчание, в которое он спешил вновь погрузиться.
На многих эти особенности его характера производили тяжелое впечатление. Но зато его близкие друзья и соратники именно благодаря им относились к Азефу с еще большим уважением; они восхищались этой молчаливостью и скромностью гения, избегавшего ненужных проявлений, всегда поглощенного огромной внутренней работой созидания новых планов, новых средств борьбы.
Внешний облик Азефа также мало располагал к себе, хотя, как нас уверили, первое неприятное впечатление быстро изглаживалось, когда с ним ближе знакомились[22]. Высокого роста, плотный, широкоплечий, широкоскулый, с врозь торчащими крупными ушами, с низким тяжелым лбом, плоским носом и толстыми отвислыми губами, он представлял резко выраженный монгольский тип. Только глаза его были красивы и выразительны и во время оживленного спора загорались глубоким внутренним светом. Пискливый тонкий голос как-то странно-нелепо соединялся с его крупным телом. Всегда чисто выбритый, он носил короткие усы, одевался с изяществом и по моде.
Супруга В. М. Чернова[23], члена центрального комитета, впоследствии министра земледелия Временного правительства, рассказывала нам, что, несмотря на свой холодный сумрачный и сдержанный вид, Азеф умел с удивительным тактом и мастерством прилаживаться к своим собеседникам, «обнаруживал чуткое, преданное и любимое сердце» по отношению к маленьким партийным работникам, входил в интересы их личной жизни, их нужд и их видов на будущее; зато лицо его принимало высокомерное и недоступное выражение в присутствии «лидеров», вожаков и главарей партии…[24]
Однажды товарищ, бежавший из каторжной тюрьмы на Сахалине, описывал перед ним те ужасные нравственные и физические пытки, которые ему пришлось испытать на проклятом острове, подвергшись позору и мукам телесного наказания. Азеф не выдержал и разразился безутешным плачем.
Присутствовавший при этой сцене Михаил Гоц[25], один из основателей партии эсеров, обратившись к своему соседу, заметил: «Посмотри, какой он в сущности добрый и отзывчивый». А между тем несчастный, над страданиями которого Азеф так горько сокрушался, был, может быть, одной из его многочисленных жертв…
В другой раз, получив сведения, из которых он сделал, роковое заключение (оказавшееся, впрочем, ошибочным) об уничтожении организации, созданной им против Плеве, он принялся рыдать, как ребенок.
То же самое лицо сообщило нам любопытный факт Азеф как-то гостил у них в семье на даче в Финляндии. Однажды среди ночи они были разбужены подавленными криками и стонами, исходившими из комнаты, где спал их друг. Приоткрыв осторожно дверь, они увидели Азефа, скрежетавшего во сне зубами и хриплым задыхающимся голосом повторявшего бессвязные, непонятные, жуткие слова: «Нет… Так невозможно… невозможно. Это не может дальше длиться… Нужно иначе… иначе…»
Часто ли бывали у Азефа подобные кошмары и чем они вызывались? Угрызением совести? Или неотвязною мыслью о возмездии, которая его преследовала даже во сне?
Как далеки были от таких толкований свидетели этой сцены. Наоборот, в сотрясениях большого, сильного тела они видели бессознательно вырвавшуюся наружу, тщательно скрываемую от всех «трагедию», какою была в их глазах, вся жизнь Азефа с ее беспрерывными волнениями, с ее острою болью и горькими сожалениями о тех, кого не стало, кого унесли злые силы, с ее вечной настороженностью и ожиданием подстерегающей смерти, с ее усталостью от минувших опасностей, с ее мерещащимися всюду образами виселицы, тюрьмы, каторги и жестокой необходимостью всегда проливать чужую кровь…
Азеф и во сне не терял своей страшной власти над собою. Загадочные фразы, вырвавшиеся у него во время кошмара, как бы замирали на его устах, точно сверхъестественным усилием воли предатель подавлял готовое сорваться признание. Азеф никогда ничем себя не выдал.
А друзья окружали его после таких случаев еще большим вниманием, еще большей любовью, проникаясь к нему бесконечною нежностью, новым, лучшим чувством, которое присоединялось к старым чувствам дружбы и уважения, созданным многолетней общностью борьбы, тревог и надежд.
Азеф умел всем своим поведением, являвшим изумительную смесь непосредственности и глубокого расчета, укреплять и питать легенду, создавшуюся вокруг его имени и его деяний. Так, иногда после горячего спора между товарищами он внезапно вставал, быстро подходил к тому, кто с наибольшей страстностью и убеждением отстаивал свои взгляды, и беэ слов целовал его в лоб, потом так же внезапно удалялся…
Такие же иудины поцелуи он не раз в «горячем порыве» давал возвращавшимся целыми и невредимыми с какого-нибудь опасного дела, террористам, когда оставался: с ними наедине, с глазу на глаз.
Азеф родился в 1869 г. в семье портного в Ростове-на-Дону. Его точное имя (как оно прописано в его метрическом свидетельстве) — Евно Мейер Фишелевич Азеф.
О детстве и отрочестве Азефа имеются очень скудные и, кроме того, крайне сбивчивые и противоречивые сведения. Первоначальное образование получил в родном городе, где он учился в реальном училище. Школьные годы его, видно, протекли не в особенно отрадной обстановке. Отношение товарищей к молодому Азефу было самое скверное. Его считали скрытной душой и «фискалом». Соседи, относившиеся с большим уважением к старику Азефу, выбивавшемуся из сил, чтоб дать детям образование, тоже недолюбливали грубого и черствого Евно, которого школьные товарищи окрестили нелестным прозвищем «толстая свинья». Азеф насилу дотянул до шестого класса и был за какую-то историю исключен из училища. В продолжение следовавших затем трех лет он жил в страшной нужде, на мизерный заработок, выручаемый от частных уроков. В то же время он готовился к экзамену на аттестат зрелости. Его положение значительно улучшилось, когда ему удалось получить место хроникера в местной газете «Донская Пчела». Затем он поступил на службу в какой-то торговый дом, исполняя одновременно обязанности секретари при одном фабричном инспекторе.
Если верить некоторым слухам, Азеф уехал из своего города при очень подозрительных обстоятельствах. Его будто бы обвиняли в краже крупной суммы денег у владельца фирмы, где он служил, и в незаконном присвоении себе чужого диплома. Однако нам не удалось, несмотря на наши расспросы и изыскания, нигде найти подтверждения этим слухам.
Азеф, решивший закончить свое образование в Германии, поселился в Карлсруэ, где поступил в Политехническую школу. В Карлсруэ в это время, в 1892 г., училось очень мало русских. Все они часто собирались в своей библиотеке. Появление Азефа не могло пройти незамеченным, но вряд ли кому-либо из тогдашних его товарищей могла прийти в голову мысль, что этому коротенькому имени суждено будет прогреметь в такой мрачной славе на весь мир.
Маленькая студенческая колония, насчитывавшая не больше 30–35 человек[26], распадалась на несколько групп, принадлежавших к различным политическим течениям. Азеф, занимавший комнату сообща с одним ростовцем, неким Козиным, примкнул к социал-демократической группе, в которой он считался среди самых «умеренных». Иногда даже он пытался убеждать своих друзей в необходимости избегать «крайних» средств и методов. Но обычно Азеф предпочитал молчать и слушать. Он скоро приобрел репутацию человека большого, сильного ума, обладающего серьезными знаниями и недюжинным талантом, но с крайне неприятным, скрытым и, тяжелым характером.
Азеф пробыл два года в механическом отделении Политехнической школы в Карлсруэ; вследствие своего сильного влечения к вопросам электричества он решил перекочевать в Дармштадт, где существовала Высшая электромеханическая школа, одна из лучших в Германии. В 1897 г. Азеф блестяще сдал экзамен и получил диплом инженера.
Азеф скоро находит применение своим специальным знаниям в самой Германии. Он получает место инженера в центральной электрической компании в Берлине, но недолго остается жить там. Возвратившись в Россию, он сразу поступает на службу во Всеобщую электрическую компанию в Москве с жалованием 175 рублей в месяц. Через полгода он бросает и это место и переезжает в Петербург. Его служба в той же компании в Петербурге была еще более кратковременной. Неаккуратность, частые манкирования и отлучки, пренебрежение, с которым он выслушивал замечания главных представителей администрации, должны были неизбежно привести к разрыву. Так оно и случилось. После одного бурного объяснения с директором Азеф получил отставку и окончательно бросил службу.
К этому его, впрочем, побудили особые соображения. Другие занятия стали целиком поглощать его время.
Уже от природы молчаливый и угрюмый, он становился все более скупым на внешние проявления жизни. Какие тяжелые думы осаждали его? Какие уродливые замыслы копошились в его нездоровом уме? Какие мрачные пропасти разверзались перед ним, когда он заглядывал в будущее, пропасти, к которым он чувствовал себя увлеченным фатально, бесповоротно? И какие безнадежные, отчаянные средства придумывал он, чтоб вырваться из острых зубов полицейской машины, которой он отдавал себя по собственной воле? Кто знает? Может быть, когда-нибудь Азеф, ушедший от мести преданных им друзей, от правосудия и приговора страны, решится написать свою исповедь и раскрыть перед людьми тайну чудовищной двойственности величайшего предателя, какого когда-либо знала история…
Азеф был женат и имел двоих детей. Азеф семьянин! Какой богатый материал для художника и психолога чудовищного! Замешанный в десятки кровавых событий, Азеф, все существование которого было спутанным клубком преступлений и интриг, воплощавший, казалось бы, наиболее яркий тип «одинокого», «отверженного», по ставившего себя за пределы человеческого и… Азеф в кругу семьи! Иуда Искариот, наслаждающийся мещанским счастьем за семейным очагом!
В годы своего студенчества Азеф часто приезжает из Карлсруэ в Швейцарию, где он познакомился с молодой эмигранткой по имени Менкина. Менкина была в России модисткой, во очень много работала над своим самообразованием; увлекшись жаждой знания и духовного развития, она — подобно тысячам других молодых девушек — решила покинуть свой родной город и поехать учиться в Швейцарию. Здесь она сошлась с Азефом. В 1895 г. у молодой четы родился первый ребенок, через семь лет — другой, оба мальчика.
Возможно ли допустить, чтоб в продолжение пятнадцати лет, проведенных вместе, бок о бок, в тесном и беспрерывном общении, жена предателя оставалась в полном неведении относительно настоящей, неказовой стороны жизни Азефа?… Не многие этому поверят. А между тем есть основание думать, что именно так оно и было.
Жена Азефа сохранила до конца свои скромные студенческие привычки. Она целиком посвятила себя воспитанию детей, которые вырастали в атмосфере, насыщенной восхищением и преклонением перед «гением» их отца, великого революционера, боровшегося где-то там, далеко-далеко, против притеснителей и угнетателей народа и только изредка и ненадолго навещавшего их в Париже, куда он приезжал, чтоб отдохнуть среди своих от «опасных трудов».
Ничто не могло омрачить ее чистой веры. Малейшее сомнение показалось бы — да и не только ей[27], — святотатством, осквернением всего, что есть самого святого в мире. Не являлся ли он ей окруженный ореолом славы, на недосягаемом пьедестале, воздвигнутом лучшими борцами Революции? Не доходили ли беспрестанно до ее ушей отголоски о его подвигах, преувеличенных, раздутых в восторженной передаче его друзей? Как она могла допустить даже тень подозрения при виде той радости, того счастья, непринужденной веселости, которую он проявлял, как только оказывался в родном кругу? Как могла она поверить, чтобы эти сильные руки, которые с такой неподдельной нежностью подхватывали ее малышей, заставляя их скакать, прыгать и переворачивать все вверх дном, были запятнаны преступлением? Мог ли этот большой человек, превращавшийся среди детей сам в маленького, принимавший горячее участие в их играх и шалостях, нередко вместе с ними катавшийся по земле среди звонкого смеха и веселых возгласов, — мог ли он внушать мысли об измене и предательстве?
Как ни невероятен сам по себе этот факт, но его приходится принимать. Он нисколько, впрочем, не противоречит тому толкованию личности и характера Азефа, которое мы даем ниже, и даже подтверждает его правильность.
Азеф сумел все скрыть от своей жены. Крайняя подозрительность, заставлявшая его всегда держаться настороже, уже сама исключала всякую «возможность откровенных разговоров. Если вначале, когда он был невидным деятелем, еще мыслимо было, чтобы в порыве нежности или в минуту слабости и самозабвения у него вырвалось бы невольное признание, то со временем такой акт становился выше человеческих сил. С каждым днем увеличивалась для него невозможность разбить те таинственные чары, которым была окутана вся его жизнь, и обнаружить под маской героя лицо предателя.
Однажды бывший директор департамента полиции А. Лопухин, беседуя об Азефе с бывшим начальником политической полиция за границей, известным шпионом Ратаевым, с любопытством спросил его:
— Скажите, пожалуйста, а его жена?
— Она искренняя революционерка, — ответил Ратаев, — она ничего не знает об его предательстве[28].
— Но что же он делает со своими деньгами?
— Он очень скуп. Он помещает их в банк…
В самом деле, семья Азефа жила очень скромно.
Маленькая квартирка, которую она занимала на Монруже, незатейливые туалеты жены Азефа, серенькая мещанская обстановка — все это, конечно, не позволяло предполагать, что Азеф располагал ежегодно огромными суммами. Всего за несколько месяцев до разоблачения жена Азефа горько жаловалась одной своей подруге, что не может, несмотря на свое страстное желание, взять для своих сыновей учительницу музыки.
Когда предательство Азефа раскрылось, жена не поверила. Она заклинала его оправдать себя в ее глазах, доказать свою невиновность. На последнее письмо ее Азеф не ответил. Это было для нее равносильно признанию, и она с тех пор не хотела больше знать его. Она отказалась принять очень крупную сумму денег, которую Азеф прислал ей из России, и сама стала работать, чтоб жить и воспитывать своих детей.
Вечная двойственность азефского характера была обнаружена впоследствии и в частной, семейной жизни провокатора. Образцовый супруг, суровый, нетерпимый моралист, когда речь заходила о половых вопросах, ригорист, о котором товарищи говорили, что он не прикасается ни к табаку, ни к спиртным напиткам, ни к женщинам, оказался в действительности развратником. Это внезапно всплыло благодаря сближению целого ряда обрывочных сведений и показаний, полученных от лиц, которые раньше скрывали то, что они знали.
Кое-кто догадывался и раньше. Говорили, что у Азефа завелась в Финляндии какая-то любовная связь с одной актрисой. Но никто, разумеется, не верил „вздорным“ слухам.
Однажды Азеф при выходе из магазина одного петербургского ювелира, где он только что купил великолепное жемчужное ожерелье, столкнулся с товарищем, который полуудивленно спросил его, кому предназначалась эта драгоценность. „Это для моей жены…“ — спокойно ответил Азеф. Лицо, рассказывавшее нам об этом случае, не могло удержаться от смеха при мысли о непритязательной, простенько одетой жене Азефа, шею которой будет украшать это дорогое жемчужное ожерелье…
Были и другие встречи, более подозрительные. Азеф в Париже и в Петербурге был завсегдатаем всех music hall'oв, всех кафе-шантанов, всех кабаре-кабачков и даже вертепов. Эта сторона его жизни не могла, конечно, ускользнуть от внимания петербургских товарищей, но, когда эти последние встречали его в обществе каких-нибудь экстравагантных, шикарных дам, они по-своему истолковывали эти неожиданные проявления деятельности Азефа и объясняли их особыми его планами.
— Азеф что-то такое готовит… — шепотом передавали они друг другу.
Если бы они немного внимательнее, вдумчивее и проницательнее отнеслись к этим похождениям, то в низких страстях и глубоком разврате Азефа легко различили бы признаки нравственной несостоятельности, которая заставила бы их задуматься и над многим другим…
…
Азеф во время своего пребывания в Карлсруэ примкнул, как мы уже сказали, к социал-демократической студенческой группе. Он очень недолго оставался в этой организации и в 1895 г. вступил в „Союз русских социалистов-революционеров“. Эта маленькая группа, основанная в эпоху, когда влияние марксизма было господствующим в русском движении, вновь возвращалась к старой террористической программе, которая должна была вскоре лечь в основу новой партии социалистов-революционеров, считавшей себя продолжательницей и наследницей преданий славной „Народной Воли“.
Вернувшись в Россию, Азеф сейчас же примкнул в Москве (в 1899 г.) к „Северному союзу социалистов-революционеров“, основанному Аргуновым, Павловым и некоторыми другими. Эта организация выпускала свою газету „Революционная Россия“. Но только два номера успели появиться в свет, как полиция, вскоре после вступления Азефа в союз, напала на след нелегальной типографии в Томске и арестовала ее…
Главари союза обратились тогда к Азефу с просьбой поставить более широко дело; тот согласился, немедленно вошел в сношения с „Южным союзом социалистов-революционеров“ и стал деятельно подготовлять слияние обоих союзов. Из объединения, в котором Азеф играл вместе с Гершуни первенствующую роль, и вышла в декабре 1901 г. партия социалистов-революционеров.
Новая партия немедленно приступила к возобновлению „Революционной России“, ставшей официальным органом. Азефу поручено было пригласить Михаила Гоца и Чернова редакторами газеты и одновременно начать переговоры с „Вестником Русской Революции“, который должен был стать теоретическим органом партии.
На Азефа же возложена была обязанность заключить договор с аграрно-социалистической лигой. К этому времени относится также и выработка нового плана террористической кампании, в которой Азеф играл значительную роль. Первым актом должно было быть убийство министра Сипягина.
Избранный в центральный комитет в 1902 г., Азеф организует через Финляндию ввоз в широких размерах революционной литературы, объезжает в том же году все партийные организации в России, одним словом, проявляет многостороннюю и кипучую деятельность. Вместе с Гершуни он становится во главе образовавшейся скоро „боевой организации“. Когда год спустя царской полиции удается захватить Григория Гершуни, власть Азефа в „боевой организации“ делается неограниченной.
В мае 1903 г. происходит покушение на Богдановича, в подготовлении которого Азеф играл, как и в деле против князя Оболенского, чуть ли не первенствующую роль.
После ареста, казавшегося тогда необъяснимым, первого главы „боевой организации“ Азеф уезжает за границу, где вначале посвящает себя всецело устройству почти безопасной переправы в Россию нелегальной литературы в холодильных аппаратах. Потом все его внимание сосредоточивается на изучении взрывчатых веществ как технического средства террористической борьбы.
В январе 1904 г., по возвращении в Россию, Азеф немедленно приступает к преобразованию и пополнению „боевой организации“.
Единоличной властью намечает он новых избранников, выдвигает таких людей, как Каляев, Сазонов, Покотилов, Швейцер, которым предназначаются ответственные роли в решенных, ими тщательно разработанных крупных покушениях против министра внутренних дел фон Плеве и великого князя Сергея Александровича.
Одновременно с этим он устанавливает в Петрограде динамитную лабораторию.
Облеченный центральным комитетом высшими полномочиями, Азеф находит время исполнять множество тайных поручений. Он вступает в сношения с различными автономными организациями, как, например, с организацией молодых аграрников, намеревавшихся перенести террористические методы борьбы в деревню, и др. Все планы этих организаций становятся, конечно, известным» департаменту полиции.
Азеф тщательно затем подготовляет, до мельчайших подробностей, целый ряд покушений против великого князя Николая Николаевича, против генерала Трепова, против великого князя Владимира Александровича, против петербургского охранного отделения, против Клейгельса, Дурново, адмирала Дубасова и др. Но все эти покушения кончаются полным неуспехом. Некоторые другие, правда, удаются, как, например, покушения, направленные против петербургского градоначальника фон дер Лауница, губернатора Сахарова, прокурора Павлова, графа Игнатьева. Отметим многозначащую мелочь. Очень часто нити предприятия в последнюю минуту ускользали из рук их инициатора…
Так было, например, в деле фон дер Лауница. Деятельность Азефа колоссальна. Он не ограничивался одними только покушениями против министров, генералов, великих князей, предателей и провокаторов (как Татаров и Гапон). Он принимает деятельное участие в переправе значительного количества оружия для вооруженного восстания через Финляндию (дело парохода «Джон Кравтон»).
После роспуска I Думы (июль 1906 г.) «боевая организация» решает организовать покушение против министра-председателя Столыпина. Но вмешательство Азефа, заявившего в последнюю минуту, что технические средства, которыми он располагает, не достаточны, расстраивает дело. Азеф складывает свои обязанности. «Боевая организация» распущена.
В феврале 1907 г. Азеф, однако, вновь возвращается в Россию, где остается вплоть до лета 1908 г. Он занят подготовлением нового покушения, которое должно явиться для партии увенчанием его террористической карьеры. Дело шло об убийстве Николая II. Все было тщательно обдумано и подготовлено. И если Николай II не погиб, то у членов центрального комитета имелись неоспоримые данные, что Азеф сделал все, что мог, и даже превзошел самого себя. Действительно. Азеф был ни причем в этой неудаче… Чтоб дать полную картину внешней политической деятельности Азефа, следует прибавить, что он играл довольно значительную роль в великие революционные дни 1905–1906 гг. Мы ниже остановимся более подробно на его участии в московском и кронштадтском восстаниях.
Во время сессии первых двух дум Азеф находился в постоянных сношениях с главными лидерами «крайних фракций». Когда первый русский парламент был распущен и в Териоках состоялось совещание перводумцев для выработки воззвания к народу, армии и флоту — Азеф не только участвовал на этом совещании, но, если верить заявлениям авторитетных лиц, исполнял там обязанности секретаря[29].
Азеф оставался с 1902 г. беспрерывно в главном центральном комитете партии социалистов-революционеров. Он участвовал как представитель партии на международных социалистических съездах в Амстердаме и Штутгарте. В центральном комитете он занимал чуть ли не первое место, благодаря исключительной роли, которую он играл во всех террористических актах, и своим «техническим способностям». Но он сам скромно стушевывался, когда поднимались оживленные прения по каким-нибудь вопросам теории или тактики. Кроме того, черта весьма любопытная — Азеф всегда оказывался с «умеренным меньшинством», настаивая на том, что прежде всего необходимо «всеми возможными средствами» завоевать политические свободы, а потом уж подумать о всяческих экономических и социальных проблемах, которые он, кстати сказать, считал второстепенными.
— Ну да, ну да, все это, конечно, хорошо, — говорил он, — но не сейчас, а гораздо позже, позже…
Однажды один из наиболее видных членов центрального комитета, редактор официального органа партии, после долгого спора с улыбкой сказал ему:
— В сущности, Азеф, вы настоящий кадет плюс бомбы[30].
Вся практическая жизнь партии зиждилась на нем и направлялась им. После ряда крупных покушений, успех которых приписывался исключительно его гению, его авторитет и власть в партии стали безусловными, абсолютными, непогрешимыми. На другой день после казни Плеве Екатерина Брешковская воскликнула, говоря об Азефе:
— Перед этим человеком нужно поклониться низко-низко… в ножки.
Азефу всегда принадлежало право решать в последнем счете. Иногда ему случалось в «боевой организации» уступать мнению других боевиков. Но во всех спорных вопросах он решал единоличной властью. Его самодержавная воля служила законом[31].
Среди пятидесяти террористов, которые за, время существования «боевой организации» входили в состав, об Азефе не было двух различных, мнений. Все перед ним преклонялись и обоготворяли его.
Бросить обвинение в предательстве против всемогущего Азефа, прошлое которого, казалось, возносило его на недосягаемую высоту, мог только или умалишенный, или человек, действительно обладавший неопровержимыми доказательствами и фантастической верой в его виновность.
Глава III Суд
Суд состоялся в Париже в октябре 1908 г. Заседания происходили в одном из отдельных и мирных кварталов, в Пасси. Всеобщая молва утверждала, что один французский друг, занимавший некогда высший пост при одном известном министре, предоставил свое роскошное помещение для работы партийного трибунала. Тут произошла явная путаница. На квартире талантливого адвоката, постоянно выказывавшего свое сочувствие русскому освободительному движению, разбиралось другое дело, в котором обвинителем выступал тот же В. Л. Бурцев.
В действительности суд над Бурцевым по делу Азефа все время собирался в скромном помещении одного эмигранта.
В состав суда входили три известных деятеля русской революции, имена которых служили достаточной гарантией, что приговор будет беспристрастным, твердым и правым.
То был прежде всего знаменитый географ и геолог Петр Кропоткин, более известный как теоретик и философ анархического коммунизма, чем как ученый и старый деятель русского революционного движения. Всякий, кто читал его удивительную автобиографию «Вокруг одной жизни», наверное, помнит, при каких необыкновенных обстоятельствах молодой Кропоткин, происходивший из одного из самых аристократических родов — Кропоткин был прямой Рюрикович, и в революционной среде над ним не раз подсмеивались, говоря, что у него, собственно, больше права на русский престол, чем у Николая Романова, — резко порвал со своей средой, отказался от блестящего положения, от почестей и выгод царедворца, чтоб в рядах революционеров бороться за лучшее будущее народа.
Более сорока лет Кропоткин прожил в изгнании, главным образом в Англии. Его высокая представительная фигура, в очках и с длинной бородой, придававшей ему вид патриарха, хорошо знакома в лондонском East-End'e, как и во всех либеральных и демократических кругах.
Мы уже сказали, что прежде чем Кропоткин стал великим апостолом догматического анархизма, он принимал деятельное участие в революционном движении своей родины.
Вторым судьей Бурцева, менее известным европейской публике, но столь же высоко в свое время ценимым русскими революционерами, оказался Герман Лопатин, один из славнейших и энергичнейших деятелей «Народной Воли», друг и переводчик Карла Маркса. Его безумно-смелая, легендарная попытка увезти из Сибири Чернышевского, его фантастические побеги, его короткая, но бурная деятельность выдвигают его, несомненно, в первые ряды героев революции. Герман Лопатин провел двадцать три года — лучшие годы своей жизни — заживо погребенным в склепах Шлиссельбургской крепости. Первая победа русского пролетариата должна была раскрыть перед ним, как и перед многими, двери казематов, когда перепуганный всеобщей стачкой царь вынужден был обнародовать манифест 17/30 октября и провозгласить политическую амнистию.
Что касается третьего судьи, то он принадлежал к той героической плеяде самоотверженных женщин, которые в прошлом столетии смело восстали против царского деспотизма и чью нравственную красоту Тургенев воспел в изумительном стихотворении в прозе: без сожаления, без страха, без слов, зная, что впереди их ждут лишения, гнев и проклятия своих, гонения, надругательства, тюрьма и даже сама смерть, они спокойно жертвуют собою во имя блага других.
Вера Фигнер, которую Анатоль Франс назвал в красноречивой импровизации Жанной д'Арк русской революции, принадлежала, как Софья Перовская, к высшему привилегированному классу и, как та, боролась в первых рядах «Народной Воли» против самодержавного строя.
После казни Желябова и его друзей она одно время оказывается чуть ли не единственной руководительницей партии. Мы уже выше рассказали, каким образом она была предана знаменитым предшественником Азефа Дегаевым и брошена затем в темницу Шлиссельбургской крепости.
Подобно Лопатину, Вера Фигнер сумела каким то чудом сохранить после двадцатитрехлетнего заключения в этом каменном мешке все свои умственные способности, всю свежесть и полноту своей жизни.
Но как бы ни был велик авторитет этого революционного трибунала, он все же представлял собою странную особенность, что был целиком избран одной из сторон. За несколько дней до его открытия к Бурцеву явились два лидера партии, из которых один являлся идейным руководителем, а другой практическим вождем с.-р., и заявили ему, что ввиду необходимости раскрытия перед судом самых сокровенных партийных тайн, признается совершенно невозможным, чтоб состав суда был назначен кем-либо другим, кроме членов центрального комитета. Этими лидерами были Виктор Чернов, самый крупный теоретик партии, автор ее аграрной программы и редактор официального органа, и Борис Савинков, ближайший сотрудник Азефа и по «боевой организации»[32]. Бурцев без всяких колебаний немедленно согласился. Он готов был предстать перед каким угодно судом, а тот состав, который ему предложили, представлял, кроме того, почти полные гарантии.
Отчеты заседания этого единственного в своем роде судилища никогда не появились. Не было также составлено официального протокола происходивших прений. Все письменные материалы сводятся к коротенькой «записке» первого заседания, содержащей сухое перечисление условий и порядка дискуссий, обсуждения и указания обстоятельств, принятых обеими сторонами.
Бурцев сам описал нам в дружеской беседе перипетии этого замечательного революционного процесса. Не вдаваясь во все многосложные подробности прений, мы здесь ограничиваемся общей яркой картиной.
«Мое положение в начале прений было очень тяжелое, — рассказывал нам Бурцев. — Находившиеся предо мною судьи и „товарищи-обвинители“ не допускали даже возможности ошибки с их стороны. Мне позволили предлагать какие мне заблагорассудится вопросы о делах и тайнах партий, но потребовали, чтоб я в свою очередь рассказал все мельчайшие подробности своей личной интимной жизни и сообщил о тех средствах, при помощи которых мне удалось добыть свои сведения.
Большинство судей было, несомненно, настроено в пользу Азефа. Я был окружен каким-то враждебным кольцом. Мои друзья с тревогой следили за ходом процесса и дрожали за мою судьбу.
На первом заседании было решено, что до тех пор, пока будут длиться прения, обе стороны обязаны воздержаться от всяких публичных выступлений или заявлений. Но, не будучи уверенным в благоприятном исходе процесса, я сохранил за собою право, в случае если мои противники не убедят меня в невиновности Азефа, продолжать открыто свои разоблачения и довести их до конца. Я слишком был проникнут огромным политическим значением раскрытия азефского предательства, чтоб остановиться на полдороге.
На следующем заседании Виктор Чернов произнес большую речь, в которой описал плодотворную деятельность Азефа и перечислял все полицейские ловушки и махинации, при помощи которых „правительство уже не раз пыталось дискредитировать его в глазах революционеров“. Он подробно остановился на анализе „пресловутого“ письма „дамы под вуалью“, полученного в августе 1905 г. и способствовавшего установлению измены Татарова. С большой силой и горячностью он доказывал, что это письмо не только не составляло „улики“ против Азефа, но, наоборот, показывало, свидетельствовало о том, как полиция настойчиво стремилась скомпрометировать и погубить его.
Я отвечал на другой день. Я начал с характеристики моих источников. Я решительно заявил, что питаю полное доверие к Бакаю. Допуская возможность невольных ошибок с его стороны, я с силой отвергал гипотезу, что он сознательно хотел обмануть нас. Все, что Бакай утверждал, было, несомненно, верно. В доказательство я ссылался на свой личный и долгий опыт за все время моего с ним знакомства, опыт, основанный на беспрерывных сношениях и неопровержимых данных его искренности. Я прибавил, что товарищи из Польской социалистической партии, которым Бакай сообщил список шестидесяти четырех провокаторов и шпионов, проникших в их ряды, признали абсолютную верность всех его сведений.
В свою очередь, я остановился на анализе знаменитого письма X., доставленного дамой под вуалью, установил точное его происхождение[33], способ, каким оно было доставлено из охранного отделения Петербурга, и те доводы, которые можно было извлечь из него против Азефа. Я объяснил побуждения автора этого письма, конечно, совершенно иначе, чем это делал Чернов. Я сводил их в значительной мере к желанию мести со стороны какого-нибудь обойденного или задетого в его служебном тщеславии охранника, не отрицая, что могли существовать и другие причины. Но я подчеркивал всю несостоятельность и неправдоподобность положения Чернова, согласно которому охрана решилась пожертвовать одним из лучших своих агентов, Татаровым, чтоб скомпрометировать „революционера“ Азефа. Татаров и Азеф изобличались на одном и том же листке бумаги, одной и той же рукой, в одно и то же время и их обвинитель подчинялся одному и тому же побуждению. Если обвинение, направленное против Татарова, было справедливо — в чем тогда уж не могли усомниться — то было одинаково правильно обвинение, выдвинутое против Азефа.
Я почувствовал, что двое из моих судей склонялись на мою сторону и придавали большое значение этому документу.
Я обратился тогда к суду с предложением сообщить им, на известных условиях, новые данные обвинения. Судьи могли свободно пользоваться этими данными, но не „товарищи-обвинители“. Судьи имели право располагать ими по своему усмотрению, даже против моей воли, но обязывались предварительно меня об этом уведомлять».
Речь шла о необычайной встрече, которая произошла за несколько недель до этого суда между Бурцевым и бывшим директором департамента полиции А. Л. Лопухиным. Во время этой встречи выяснилась вся истина, реальная, точная, неоспоримая. Свидание с Лопухиным, носившее случайный характер, произошло на поезде, в Германии. Бурцев нашел Лопухина в обществе его жены. Они оказались давнишними знакомыми, так как Лопухин несколько раз в Петербурге заходил в редакцию «Былого», чтоб договориться с Бурцевым о напечатании воспоминаний своего близкого родственника князя Урусова, в которых разоблачались преступный произвол самодержавия и сообщничество полиции в еврейских погромах. Рассказав вкратце суду о внешних обстоятельствах этой встречи, Бурцев продолжал:
«Когда я кончил описывать Лопухину ту страшную роль, которую провокатор одновременно играл среди революционеров и среди охранников, я мог заметить, что мои слова произвели на него ошеломляющее впечатление. Я, как теперь, вижу его искаженное от ужаса, лицо, чувствую его волнение, граничащее с ужасом, страхом перед совершившимся грандиозным, непоправимым преступлением…»
В маленькой комнатке, где собрались судьи, обвинители и обвиняемый, царило глубокое молчание. Вот в каких выражениях Бурцев описал нам сам эту памятную ему сцену.
«Пока длился мой рассказ, никто ни разу не прервал меня. Было тихо и… душно. Каждое мое слово падало. Я вслух передавал, излагал уж раз пережитое, и сам вновь был во власти этого пережитого…
Вера Фигнер сидела немного в стороне, бледная, без кровинки в лице, близкая, казалось, к обмороку. В ее больших прекрасных глазах застыло выражение ужаса и муки. Кропоткин и Лопатин слушали со сосредоточенным вниманием, придвинув свои стулья ближе ко мне, словно боясь проронить, пропустить хоть единое слово.
До конца своего рассказа я старательно избегал упоминать имя Азефа, точно так же как я ни разу не произносил его имени перед Лопухиным… Я говорил о Раскине, о Виноградове, Татарове, Кременецком, о своих доказательствах, об уличающих признаках… Но когда я дошел до того места, где Лопухин взволнованно сказал мне:
„Я знаю инженера Евно Азефа, которого видел два раза“, — напряженное молчание, сковывавшее до тех пор собрание, внезапно нарушилось. Все заговорили сразу, кто с подавленным удивлением, а кто с гневными и негодующими восклицаниями. Один из членов суда[34] во власти крайнего возбуждения подошел ко мне и прерывающимся голосом сказал мне:
— Владимир Львович! Дайте мне честное слово революционера, что все, что вы нам только что рассказали, вы действительно слышали…
И прежде чем я успел что-либо ответить, он, махнув рукою, с горечью прибавил:
— Да, что я спрашиваю у вас? Это нелепо. Простите, что обратился с такой просьбой…
Обвинители тоже казались взволнованными, но видно было, что гипноз, который мешал им различать истину, не рассеялся. Один из них, Натансон, сказал мне:
„Ну да, еще бы! Вы так подробно все расписали Лопухину, что тому, по совести, легко было догадаться, о ком вы говорили и чье имя вы хотели услышать“.
Эти слова лишний раз показали мне, как трудно будет поколебать безграничную слепую веру приверженцев Азефа в их кумира.
Во время возобновившихся прений Савинков вдруг вполголоса заметил мне:
— Но вы забыли, Владимир Львович, что Лопухин сказал вам еще…
Эта неоконченная фраза самого деятельного члена „боевой организации“ вызвала большое волнение среди присутствующих.
— Как случилось, — спрашивали у Савинкова, — что вы знали об этой встрече и ничего нам до сих пор не сказали о ней?
В самом деле Савинкову эта встреча была известна уж несколько дней. Сейчас же по возвращении из Германии Бурцев сообщил ему, что им получены „новые данные, подтверждающие виновность Азефа“. Усталый, разбитый, не успевший еще отдохнуть от своего длинного и тяжелого путешествия, Бурцев под видом абсолютной тайны рассказал ему о своем свидании с Лопухиным. Предварительно Бурцев спросил у Савинкова его мнение о бывшем директоре департамента полиции, на что тот ответил, что к Лопухину можно питать известное доверие, так как он открыто разорвал со своей средой. Рассказ Бурцева произвел сильное впечатление на Савинкова, который даже остановился на точном и подробном выяснении некоторых важных пунктов. Однако в конце беседы он спокойно заявил, что чудовищно и нелепо обвинять Азефа в измене.
— Я, разумеется, допускаю, — сказал он, — что Лопухин вам все это рассказал. Но он мог ошибиться. Ему могли выдать за Азефа какое-нибудь другое лицо. Кроме того, не забудем, что Лопухин, в конце концов, ведь все-таки бывший директор департамента полиций.
Бурцев расстался с ними глубоко обескураженный. Он снова наткнулся на слепую, непоколебимую веру в Азефа и понял, как трудно, почти невозможно будет бороться против провокатора; Что касается Савинкова, то, связанный честным словом, он никому из своих товарищей ничего, конечно, не сказал о том, что ему было известно.
Второе заседание закончилось среди всеобщего смущения и беспорядка, вызванного разоблачениями Бурцева.
„В тот же день, — рассказывал нам Бурцев, — я встретил поздно ночью одного из своих друзей, только что видавшего Кропоткина. По его словам, Кропоткин был глубоко потрясен моими заявлениями и находил, что я ими нанес страшный удар защитникам Азефа.
Однако я заметил, что на следующем заседании мои противники держались так, как будто ничего не случилось. К ним вернулась их прежняя самоуверенность. Было очевидно, что в их глазах Лопухин или искренно ошибался, или сознательно хотел меня обмануть.
Они даже пытались доказать это, но неудачно, и, ввиду отсутствия фактических данных, потребовали, чтоб никакое решение по этому вопросу не было принято, пока не будет произведено тщательное расследование о ценности моих заявлений.
В промежутках между заседаниями Савинков и Чернов видали Азефа и сообщили ему все, что происходило на суде. Хотя имя Лопухина не было ими произнесено — я в этом не сомневаюсь, я знаю, что они говорили негодяю: „Не следует дальше скрываться за нашими спинами. Появись перед судом. Защищайся сам. Мы не можем дальше одни бороться против Бурцева, которому большинство судей доверяет“…
Но Азеф ответил им, что он устал, болен, что он надеется, что товарищи сумеют его защитить… Он отказывался сам предстать перед судом…
После того как были выслушаны таким образом обе противные стороны, суд приступил к допросу свидетелей.
Самым важным из них был, конечно, Бакай. Его допрашивали в продолжение двух дней подряд. Он должен был рассказать не только все, что он знал об Азефе, но и все, что касалось его личного прошлого — до его поступления и за все время его службы в охранном отделении.
Из членов суда двое относились к нему с доверием и считали его показания искренними. Если кое-какие неточности проскальзывали в его рассказах, они их склонны были приписать скорее невольной ошибке, чем злому предумышленному намерению.
Мои обвинители, наоборот, с уверенностью и с апломбом говорили о Бакае, как о человеке, подосланном правительством, чтоб втереться ко мне в доверие и осуществить через мое посредничество свою полицейскую интригу.
Я еле удерживался от смеха, выслушивая эту наивную и нелепую гипотезу. Итак, мы, как заговорщики, сходились на тайный суд, скрывая свои имена, заметая свои следы, принимая тысячи конспиративных предосторожностей… чтобы допросить „шпика“, специально подосланного царским правительством… Поистине нужно было быть совершенно ослепленным Азефом, чтоб дойти до такой бессмыслицы.
До чего велико было обаяние Азефа, тот моральный гипноз, который он производил на боевиков и членов ЦК, показывает следующая характерная мелочь.
Во время прений все старательно избегали произносить имя „великого революционера“… Делалось это, конечно, из конспиративных соображений. И всякий раз, когда по рассеянности, я громко называл его, вокруг меня поднималось возмущенное шиканье: „Говорите тише, тише! А лучше называйте его Иваном Николаевичем“.
Бакай под перекрестным огнем вопросов рассказал всю свою жизнь. Суду необходимо было окончательно выяснить свое отношение к нему и решить, заслуживает ли он доверие или нет. В последнем случае все его показания должны“, были быть отвергнуты. Бакай, правда, не, знал лично Азефа, но он обладал достаточными сведениями, чтоб доказать, что все, что он знал о Раскине, вполне применимо к Азефу.
Если мне трудно было доказать искренность Бакая, то моим обвинителям еще менее легко было доказать его двуличие. Во всяком случае было очевидно, что данные, приведенные им, оказали известное влияние на умонастроение большинства судей.
Благодаря сопоставлению известных фактов и чисел удалось установить, что в тот момент, когда таинственный провокатор Раскин приезжал в Варшаву, чтобы повидаться с железнодорожником, находившимся под надзором полиции, Азеф также приезжал в этот город для свидания с тем же лицом.
Почти все остальные показания Бакая должны были быть признаны серьезными и основательными, как, например, сведения, относившиеся к выдаче нелегальной типографии в Томске, провал, который считался до тех пор центральным комитетом совершенно нормальным.
На последнем заседании, состоявшемся 29 октября 1908 г., центральный комитет намеревался одним сильным ударом опрокинуть все мои построения. В блестящей стройной аргументации должны были быть сосредоточены, как в фокусе, все доводы, неопровержимо доказывавшие абсолютную невозможность обвинения Азефа. Предполагалось, что эти доводы подействовали на мой упрямый ум и заронят в нем серьезные сомнения.
Позже я узнал, что по предложению самого Азефа было решено раскрыть предо мною все его прошлое, чтоб окончательно меня осрамить. Эта трудная и ответственная задача была возложена на Б. Савинкова, который справился с нею с бесподобным мастерством. Его речь была сильна, красочна, гибка, восторженна и умна. Он обрисовал Азефа, как человека исключительных нравственных качеств, личная жизнь которого стояла на такой же высоте, как его общественная жизнь. Добрый семьянин, образцовый супруг, никогда не вступавший ни в какие компромиссы, обладавший всеми добродетелями революционера-идеалиста.
Затем, искусно сгруппировав все известные ему факты, Савинков развернул перед нами потрясающую картину революционной и террористической деятельности Азефа, описав до мельчайших подробностей его первенствующую роль в жизни партии, в подготовлении и устройстве всех крупных покушений, в особенности его участие в деле Плеве, которого он был инициатором, вдохновителем и главным творцом.
С понятным волнением Савинков продолжал рассказывать о других „делах Азефа“ — убийстве великого князя Сергея, покушении на Дубасова и т. д.,- покрывших главу „боевой организации“ неувядаемой революционной славой…
Ни одно крупное террористическое предприятие не было совершено без участия Азефа…
Допускать, что Азеф был провокатором и не выдал всех этих покушений, направленных против высших сановников империи, было бы безумием, отрицанием здравого смысла…
И Савинков продолжал… Наконец, он дошел до покушения против царя. Организация этого дела доведена была Азефом до редкого совершенства… Никакая сила в мире не в состоянии была спасти Николая II, если бы сами исполнители не дрогнули в последнюю минуту… Даже вмешательство Азефа не могло бы предотвратить развязки… И не его была вина, если дело не удалось…
Окончив свою речь, Савинков повернулся в мою сторону и сказал мне:
— Владимир Львович, вы историк, — более чем кто-либо другой, вы знакомы с революционным и социалистическим движением в России. Можете ли вы указать на биографию другого революционного деятеля, которая по своему блеску и величию могла бы сравниться с биографией Ивана Николаевича. И станете ли вы отрицать, что даже личности и деяние Желябова и Гершуни бледнеют перед делами Азефа…
— Нет, — ответил я, — подобной биографии я не знаю в истории… Но к вашему описанию я кое-что прибавлю: „Азеф не революционер, а агент-провокатор, за которым скрывается царская полиция…
Речь Савинкова произвела на всех глубокое впечатление. Она, признаться, подействовала и на меня, хотя не поколебала моего убеждения.
Вера Фигнер обратилась ко мне с вопросом:
— И вы все еще уверены, что Иван Николаевич провокатор?
— Да, все еще уверен! Ведь ни один из моих доводов не оказался разбитым. Что же касается фактов, которые здесь приводились, чтоб доказать, что Азеф выше всяких подозрений, то они легче всего объясняются именно при предложении, что Азеф провокатор.
Так закончилось последнее заседание. Судьи не вынесли никаких заключений по поводу происходивших дебатов. Однако мои „обвинители“ поняли, что они не имеют право дальше отвергать без строгого расследования мои собственные обвинения.
Суд больше не собирался. Он решил прервать на время свои работы, до тех пор, пока не будут собраны новые доказательства, обеляющие или окончательно уличающие Азефа“.
Прошло полтора месяца. Дело, казалось, не подвигалось ни на шаг. Однако центральный комитет, все еще сохранивший свою глубокую веру в Азефа, вел деятельное расследование» Бурцев, потерявший всякий контакт со своими «обвинителями», встретил как-то раз, в декабре месяце, на одной революционной вечеринке Савинкова, который со смущенным видом спросил его: «Ну, что? Как ваше дело?» Бурцев ответил, что он всегда готов возобновить борьбу… Через несколько дней после этого к нему зашла Вера Фигнер. По ее голосу, глазам, обхождению, он сразу заметил, что произошло что-то новое, необычайное. Фигнер все время говорила об Азефе. Казалось, она вся была поглощена его делом, но уж не было у нее прежней уверенности и спокойствия. В тот же день к нему зашел Савинков. Зная, что он готовит к выпуску ближайший номер «Былого», Савинков спросил его, не собирается ли он посвятить в журнале статью делу Азефа. Бурцев ответил, что он считает себя связанным обязательствами, принятыми перед судом, но что в «Былом» все же будут содержаться кое-какие намеки на дело.
— Сохрани вас бог напечатать что-либо, — воскликнул Савинков, — если что-нибудь есть, то вы только вспугнете птицу…
Бурцев и виду не показал ни Савинкову, ни Вере Фигнер, что он заметил, как переменилось их отношение к нему, но для него было ясно, что их вера в Азефа поколеблена. Через некоторое время он получил от Савинкова приглашение зайти к нему, и как только они остались одни, с глазу на глаз, Савинков протянул ему обе руки сказал ему:
— Поздравляю вас… Вы победили. Иван Николаевич-провокатор… Вот что произошло.
На одном из последних заседаний суд постановил, чтобы центральный комитет послал трех своих представителей в Петербург для того, чтоб добиться личного свидания с Лопухиным и из его собственных уст услышать подтверждение его разговора с Бурцевым. Это решение должно было иметь неисчисленные последствия. Оно повлекло за собою целый ряд событий, которые вернее, чем все доводы и доказательства Бурцева, подорвали убеждение руководящих кругов партии в непогрешимости Азефа.
Узнав, что ЦК собирается привести в исполнение это решение суда, Азеф до того растерялся, что, забыв свою обычную осторожность, решился на шаг, который должен был оказаться для него роковым. Под предлогом усталости и нездоровья от пережитых дрязг и волнений он заявляет товарищам, что уезжает отдохнуть на некоторое время в Мюнхен, На самом деле он через Мюнхен только проехал, направляясь в Берлин, откуда в Петербург, где сейчас же по приезде помчался к Лопухину, чуть ли не насильно ворвался к нему на квартиру и, очутившись перед бывшим директором департамента полиции, стал умолять его не губить его и не называть его, Азефа, имени эмиссарам социалистов-революционеров, которые к нему явятся за справками. Лопухин с брезгливостью и высокомерием потребовал, чтоб тот удалился… Но Азеф настаивал… Тогда жена Лопухина, слышавшая весь этот разговор из смежной комнаты, вошла в кабинет и, приблизившись к провокатору, бросила ему в лицо презрительную фразу:
«Если мой муж откажется открыть, кто вы такой, то я сама все скажу»…
Азеф удалился.
Но он не отказался от своего плана. Еще более встревоженный и испуганный, окончательно потеряв голову, Азеф отправился к начальнику охранного отделения генералу Герасимову и уговорил его поехать к Лопухину, чтоб дать ему понять, какие важные последствия могут иметь для него компрометирующие ответы, которые он даст эмиссарам революционеров. У Лопухина разыгралась бурная сцена. Не обращая внимания на удивленный и высокомерный вид, с которым его приняли, Герасимов стал требовать от Лопухина, чтоб тот формально обязался ничего не говорить об Азефе, выдача которого явится нарушением государственной тайны. Не добившись результата и без того раздраженный презрительным тоном своего собеседника, генерал, наконец, не выдержал и, придя в неистовое бешенство, с угрозой крикнул:
— Вы, видно, забыли, что охрана еще существует. Разговор на этом оборвался. Лопухин без всяких объяснений потребовал от зарвавшегося охранника, чтоб тот очистил его квартиру.
В тот же день он отправил председателю совета министров Столыпину следующее письмо:
Милостивый государь Петр Аркадьевич! Около 9 часов вечера, 11 сего ноября ко мне на квартиру в доме № 7 по Таврической улице явился известный мне в бытность мою директором департамента полиции, с мая 1902 г; по январь 1905 г., как агент находящегося в Париже чиновника департамента полиций, Евно Азеф и, войдя без предупреждения ко мне в кабинет, где я в это время занимался, обратился ко мне с заявлением, что в партию социалистов-революционеров, членом коей он состоит, проникли сведения об его деятельности в качестве агента полиции, что над ним происходит поэтому суд членов партии, что этот суд имеет обратиться ко мне за разъяснениями по этому поводу и что вследствие этого его, Азефа, жизнь находилась в зависимости от меня.
Около 3 часов дня, 21 ноября ко мне при той же обстановке, без доклада о себе, явился в кабинет начальник СПБ охранного отделения Герасимов и заявил мне, что обращается ко мне по поручению того же Азефа с просьбой сообщить, как поступлю я, если члены товарищеского суда над Азефом в какой-либо форме обратятся ко Мне за разъяснениями по интересующему их делу. При этом начальник охранного отделения сказал мне, что ему все, что будет происходить в означенном суде, имена всех имеющих быть опрошенными судом лиц и их объяснения будут хорошо известны.
Усматривая из требования Азефа в сопоставлении с заявлением начальника охранного отделения Герасимова о будущей осведомленности его о ходе товарищеского расследования над Азефом прямую, направленную против меня угрозу, я обо всем этом считаю долгом довести до сведения Вашего Превосходительства, покорнейше прося оградить меня от назойливости и нарушающих мой покой, а может быть, угрожающих моей безопасности действий агентов политического сыска.
В случае, если Ваше Превосходительство найдет нужным повидать меня по поводу содержания настоящего письма, считаю своим долгом известить вас, что 23 сего месяца я намереваюсь выехать из Петербурга за границу, на две недели, по своим личным делам.
Прошу Ваше Превосходительство принять выражение моего уважения.
А. Лопухин. 21 ноября, 1909 г.
Благодаря некоторым обстоятельствам, это письмо попало в руки революционеров. Одновременно один из членов партии встретил Азефа на Невском проспекте и немедленно об этом уведомил центральный комитет. Когда Азеф вернулся из своего мнимого путешествия, в Германию, ему было предложено точно установить, как и где он провел свое время. Азеф ответил, что он не выезжал из Германии, кочуя между Мюнхеном и Берлином. Его тогда попросили указать в точности и подробно свой маршрут. При этом обнаружилась пятидневная дыра.
Азеф уверил, что он эти пять дней провел в Берлине, где он остановился под вымышленным именем Даниельсона в меблированных комнатах некоего Черномордика. Центральный комитет, подозрения которого были, наконец, возбуждены этим фактом, решил послать специального эмиссара в Германию, чтоб произвести расследование на месте. Проницательный следователь поселился сам у Черномордика, с целью разузнать все, что только возможно будет; о хозяине, у которого жил Азеф, и попутно искусными расспросами выведать у прислуги, действительно ли останавливался у них Даниельсон и кто был этот Даниельсон. Это ему блестяще удалось. Даже больше, ему посчастливилось обманом ознакомиться с коммерческими книгами Черномордика, который оказался очень подозрительным субъектом, полуполяком, полупруссаком, комиссионером, посредником и чичероне, на службе у берлинского Polizei-Präsidium (нечто вроде нашей охранки), человеком на все руки, оказывавшим, очевидно, немаловажные услуги и русской тайной полиции…
Ознакомившись со списком путешественников, эмиссар убедился, что Даниельсон действительно останавливался в этом доме, но пробыл там всего только сутки. Что касается хозяина, то его подозрения еще больше усилились, когда он заметил, что этот господин усиленно следил за ним. Каждый раз, когда он отправлялся по делу или в гости к своим товарищам-эмигрантам, за ним, как тень, крался Черномордик.
Обнаружившийся таким образом пустой промежуток, на этот раз «четырехдневная дыра», в поездках и пребывании Азефа в Германии, подозрительный содержатель комнат, которые он, строгий конспиратор, выбрал для себя в Берлине, все его умолчания и экивоки окончательно разрушили его хитроумное сплетение алиби и устанавливали почти с безошибочностью его виновность.
Последней, самой сильной уликой явилось личное показание Лопухина. Три члена ЦК и «боевой организации», Чернов, Савинков и Аргунов, согласно принятому решению, отправились 16 декабря в Лондон для свидания с Лопухиным. Этот последний собирался уже выехать в Россию, когда к нему явились представители партии с.-р. Внимательно выслушав их, Лопухин согласился с ними, что вопрос об Азефе слишком крупный и важный, чтоб его можно было оставить открытым или замять. Ясно я определенно он заявил, что он, в бытность свою директором департамента полиции, находился лично в служебных сношениях с Азефом.
Глава IV Разоблачение предателя
Отныне события развертываются с ужасающей быстротой. Последние и самые упрямые защитники Азефа в центральном комитете хотя еще и колеблются и не решаются открыто сознаться перед общественным мнением в той перемене, которая медленно совершалась в их сознании, чувствуют, однако, близость развязки. После 3 января В. Чернов, которому было поручено его товарищами по ЦК составить доклад, резюмирующий все данные обвинения и защиты Азефа, заключает по существу виновность Азефа. Но прежде чем предпринимать решительные действия, необходимо было, однако, дождаться подтверждения- последнего ложного алиби в Берлине.
Во вторник, 5 января, в два часа пополудни получилась, наконец, телеграмма от эмиссара центрального комитета в Берлине, с лаконической краткостью извещавшая о решительных результатах расследования, убийственных для Азефа; Центральный комитет решился в тот же день на последний и крайний шаг. В десять часов вечера трое членов центрального комитета и «боевой организации» явились на квартиру Азефа и попросили его уделить им некоторое время для очень важного и безотлагательного разговора.
Когда они остались од ни, с глазу на глаз, они сразу заметили страшную перемену, происшедшую в лице и в манерах Азефа. Растерянный — в буквальном смысле слова «остолбеневший», как заявил нам один из свидетелей этой сцены, — Азеф торопливым лихорадочным движением схватил доклад саратовского комитета партии, который ему протягивал один из его обвинителей. С очевидным намерением скрыть свое волнение он стал читать и перечитывать подробности своих похождений в большом приволжском городе, странные совладения, обнаруженные участниками и свидетелями саратовской истории, которые, при новом освещении, образовывали неразрывную цепь уничтожающих улик. Азеф, казалось, углубился в чтение документа, но по лицу его видно было; что его мысль далеко и что его глаза только механически следят за строчками… (см. приложение № 2).
Затем последовало бурное объяснение.
Теснимый со всех сторон, путаясь и сбиваясь в своих ответах, попадая беспрестанно под перекрестным огнем неожиданных вопросов в безысходные противоречия, Азеф понял, что Дело проиграно. Несколько часов спустя он так объяснял эту сцену своей жене:
— Нет ничего удивительного, что я растерялся и стал противоречить себе… Я был как труп в их руках. Впрочем, ведь я только в мелочах…
В самом деле, бесподобный актер, никогда ни словом, ни жестом, ни выражением ни в чем не выдававший себя, предатель вскоре оправился, готовый с своим обычным самообладанием отпарировать все удары. Усилием своей железной воли он в несколько минут овладел собой и стал прежним Азефом. Спокойный, высокомерный, он сообщил все подробнейшие обстоятельства своего пребывания в Берлине. Потом вдруг с угрюмостью отказался отвечать на вопросы. Разговор, длившийся полтора часа, закончился словами, дышавшими непримиримой ненавистью и глухими угрозами смерти.
Едва поздние гости успели выйти, как жена Азефа, испуганная его расстроенным мрачным видом, стала допрашивать его:
— Что случилось… Что они тебе сказали… Для чего они приходили?
— Они решили убить меня…
И лицо Азефа, до тех пор остававшееся холодным, неподвижным, выражало при этом самую безумную тревогу.
Несчастная женщина, которой не были известны последние неоспоримые улики и которая продолжала верить в своего мужа, как в самую себя, охваченная паническим страхом за его жизнь, стала уговаривать его сейчас же, не теряя ни минуты, ни секунды, бежать.
— Уезжай! Уезжай! Прежде всего спасай себя. Когда ты будешь в безопасности далеко отсюда, ты предпримешь все для своей защиты, для восстановления своего имени, своей чести…
В сопровождении жены Азеф осторожно, крадучись, выбрался из дому. Странное, фантастическое, жуткое бегство от невидимых врагов, от преследующих призраков началось по городу. Под порывами холодного пронизывающего ветра, в продолжение долгих часов скитались они по улицам спящего Парижа, едва обмениваясь редкими словами, подавленные каждый своими думами: он полный страха и, может быть, позднего раскаяния изобличенного преступника, чувствующего свою окончательную гибель, она — проникнутая сложным чувством боли, обиды, негодования за него, за его поруганную честь…
На каждом повороте, на каждом перекрестке помутившемуся воображению Азефа мерещились чьи-то подозрительные тени.
— Люба, Люба… Посмотри, вон там на углу…
— Это они… агенты центрального комитета. Они нас выследили и теперь следуют за нами…
— Но ведь это нелепо, разве ты не видишь, что это простые французы… Умоляю тебя, успокойся.
— Да, да, они все предусмотрели… Знаю, что мне знакомы в лицо все парижские эмигранты, они наняли частных сыщиков, чтоб следить за мною и не терять меня из виду… Мне не избежать их мести…
Азеф изменился до неузнаваемости… Прохожие возбуждали в нем непреодолимый страх. С боязливой пытливостью всматривался он в лицо каждого встречного, и не один поздний гуляка впоследствии с недоумением, наверное, спрашивал себя, чем он мог вызвать такой страшный испуг у этого куда-то торопившегося толстяка с покорно следовавшей за ним женщиной…
В смертельной тревоге, без цели, без направления переходили они с улицы на улицу, охваченные одним стремлением: бежать, бежать… Под утро они очутились, сами не зная как, — вряд ли они помнили о пройденном ими пути, — у входа Гар дю Нор (Северный вокзал), и там им пришлось еще целый мучительный час прождать в громадном, нетопленном зале, до отхода курьерского поезда в Кельн[35].
Азеф бежал. Центральный комитет, грозный карательный аппарат которого наводил такой ужас на Азефа во время его бегства, не позаботился в действительности устроить хотя бы наблюдение за его домом. Не было произведено также и необходимого обыска на его квартире. Колеблющиеся, неуверенные, не решаясь еще принять какие-нибудь меры, представитетели центрального комитета ограничились в последнюю ночь наивным приглашением провокатора на новое свидание, назначенное на другой день.
Не следует, однако, удивляться этому бездействию ЦК, который впоследствии многие из левых с.-р. обвиняли даже в попустительстве. Дело в том, что, несмотря на подавляющие улики, вера в Азефа у значительной части его сторонников осталась еще очень сильной. Так, например, на собрании партии большинство, в том числе трагически покончившая с собою спустя некоторое время Лапина, высказалось против каких бы то ни было решительных действий по отношению к Азефу. Положение создалось чрезвычайно острое, запутанное и тревожное. Так, уже после обнаружения его провокации один из боевиков заявил, что перестреляет членов центрального комитета, если они посмеют тронуть Азефа[36]. Даже после его бегства некоторые продолжали все еще верить…[37]
В такой обстановке понятны были колебания представителей центрального комитета.
Но не прошло и двух дней, как обозначился резкий перелом. Настроение даже среди самых закоренелых приверженцев Азефа изменилось. Все сомнения рассеялись. Но какой горькою, дорогою ценой была куплена истина — Азеф бежал без всякой надежды спасти положение. И все-таки он же мог отказаться от последнего слова. Из Берлина он на другой же день пишет письмо (помеченное четвергом 7/I) жене, в котором повторяет, что он невинен. В то же самое время он посылает одному из членов центрального комитета другое письмо, которое является настоящим шедевром бесстыдства, письмо, сильное своей цельностью и дерзостью, насквозь фальшивое и все же не лишенное известного чувства. В этом «человеческом документе» сказался весь Азеф — величайший предатель современности.
Мы приведем здесь полный и точный текст этого письма.
«7 января 1809 (вместо 1909 г.). Ваш приход в мою квартиру вечером 5 января и предъявление мне какого-то гнусного ультиматума, без суда надо мною, без дачи мне какой-либо возможности защититься против возведенного полицией и ее агентами гнусного на меня обвинения, возмутителен и противоречит всем понятиям и представлениям о революционной чести и этике. Даже Татарову, работавшему в нашей партии без году неделю, дали возможность выслушать все обвинения против него и защищаться.
Мне же, одному из основателей партии социалистов-революционеров, вынесшему на своих плечах всю ее работу в разные периоды и поднявшему, благодаря своей энергии и настойчивости, партию на высоту, на которой никогда не стояла другая революционная организация, приходят и говорят: „сознайся или мы тебя убьем!“
Это ваше поведение будет, конечно, историей оценено. Мне же такое ваше поведение дает моральную силу предпринять самому на свой риск все действия для установления своей правоты и очистки своей чести, запятнанной полицией и вами.
Оскорбление такое, какое мне нанесено, вам, знайте, не прощу, и не забывайте — будет время, когда вы дадите отчет за это перед партией и моими близкими. В этом я уверен. В настоящее время я счастлив, что чувствую силу с вами, господа, не считаться.
Моя работа в прошлом дает мне эти силы, подымает меня над смрадом и грязью, которыми вы теперь и забросали меня.
„Иван Николаевич“: Я требую, чтоб это письмо стало известно большому кругу социалистов-революционеров».
Через несколько часов по получении этого необыкновенного послания центральный комитет после предварительного обсуждения решил выпустить следующее заявление, которое было воспроизведено потом всей мировой печатью.
«Центральный комитет партии с.-р. доводит до сведения партийных товарищей, что инженер Евгений Филиппович Азеф, 38 лет (партийная клички: „Толстый“, „Иван Николаевич“, „Валентин Кузьмич“), состоявший членом партии с.-р. с самого основания, неоднократно избиравшийся в центральные учреждения партии, состоявший членом „боевой организации“ и ЦК, уличен в сношениях с русской политической полицией и объявляется провокатором.
Скрывшись до окончания следствия над ним, Азеф, в виду своих личных качеств, является человеком крайне опасным и вредным для партии. Подробные сведения о провокаторской деятельности Азефа и ее разоблачения будут напечатаны в ближайшем времени.
26 декабря 1908 г. 8 января 1909 г.
Центральный комитет».Глубокое волнение охватило всю русскую колонию в Париже по мере того, как сенсационная новость распространялась в широких ее кругах. Эта новость взволновала также, не в таких, конечно, размерах, и французское общественное мнение, как только подробности дела стали известны из газет «Temps» и «Humanité».
В Англии, Италии, Германии и других странах печать, следуя примеру французской, из которой она черпала значительную часть своих сведений, уделяла неслыханной полицейской панаме чуть ли не первое место. В России царское правительство вначале запретило говорить об Азефе, но потом вынуждено было снять запрет, и дело Азефа вызвало настоящую бурю.
В среде политических эмигрантов раскрытие измены Азефа произвело ошеломляющее впечатление. День и ночь происходили беспрерывные споры и обмен мнений по поводу провокации Азефа, политической подкладки дела и т. д. Устраивались закрытые собрания, читались доклады, происходили ожесточенные схватки между сторонниками «центра» и левой группой с.-р. Азефщина отодвинула на задний план все другие интересы, заслонила их собою. Но чудовищное предательство вызывало также у многих общую нравственную подавленность, отвращение к жизни и даже случаи самоубийства.
Спор, возникший между Бурцевым и главарями партии с.-р. об истинной роли Азефа, не только не прекратился, но, наоборот, возобновился в новой еще более острой форме. В «Извещении», напечатанном в «Humanité»[38], центральный комитет, описывая роль Азефа в жизни партии и историю его предательства, указал, между прочим, на то, что Азеф ставил террористическую работу против министра Плеве, направил из-за границы отряд Савинкова для убийства великого князя Сергея Александровича, в январе 1906 г. ставил покушение на министра Дурново, перед роспуском I Думы работал над организацией покушения против председателя совета министров Столыпина, в период же времени с лета 1907 г. до лета 1908 г. вел в широких размерах дело по подготовке покушения на государя. В том же «Извещении» центральный комитет заявил, что он, считая себя ответственным за случившееся, примет меры к собранию такого полномочного партийного коллектива, которому он мог бы передать отставку.
«Положение, созданное провокацией Азефа, — говорилось в „Извещении“, — несомненно угрожающее. Правда, вскрыта и уничтожена язва, разъедавшая и ослаблявшая партию, вырвано оружие, которым пользовалась так долго государственная полиция, но вместе с тем нанесен тяжелый удар моральному сознанию партийных товарищей, обнаружена шаткость многих лиц и предприятий… Партия переживает глубокий кризис. Тем больше становится долг каждого отдельного члена партии помочь ей выйти из настоящего положения. Раскрытие опасности должно послужить для истинно партийных людей в этот час испытания призывом к усиленной, исключительной деятельности по восстановлению рядов партии и сплочению и объединению партийной мысли и действия. Центральный комитет выражает твердую уверенность, что из этого небывалого в истории испытания партии „Партия Социалистов-Революционеров“ выйдет победительницей».
Несколько дней спустя после опубликования этого «Извещения» центральный комитет выпустил дополнение к нему и в нем вновь категорически подтвердил, что Азеф подготовлял покушение на императора Николая II «Предпринятая „боевой организацией“, — значится в дополнении, — кампания против царя была начата летом 1907 г. и продолжалась до осени 1908 г.
За этот период имели место несколько неудавшихся попыток цареубийства, которыми руководил Азеф, участники этих попыток правительством не были обнаружены. Расследование этих попыток, уже после обнаружения факта провокации Азефа, указывает на то, что Азеф употреблял все усилия довести покушение до конца; их неудачи следует отнести за счет случайных обстоятельств».
Партия социалистов-революционеров, убедившись в его измене, объявила ему смертный приговор, правительство же, не имея тогда в своем распоряжении всех данных относительно непосредственного участия Азефа в важнейших преступлениях, до убийства великого князя включительно, еще продолжало смотреть на него только как на секретного агента, «сотрудника», вредившего партии. Уже много позже правительство поверило в его двойную игру и провокацию и объявило его подлежащим розыску на предмет предания суду.
Бурцев отвечал, что гипотеза «двойной игры» совершенно бессмысленна, и подкреплял свое положение следующими доводами:
«От 1902 до 1905 г. Азеф до такой степени превратился в покорное орудие высших чинов охраны, что для него было бы абсолютно невозможно скрывать от них свое участие в крупнейших покушениях, как, например, убийство Богдановича, Плеве и великого князя Сергея. Нет сомнения, что полиции все было известно»[39].
И он добавлял:
«Если бы даже Азеф захотел обмануть полицию, другие провокаторы открыли бы ей глаза на двойственную роль Азефа. Так, Татаров, казненный по постановлению партии, до своего разоблачения пользовавшийся огромным доверием, не преминул бы, конечно, осведомить полицию о настоящей роли Азефа»[40].
Бурцев приводил еще целый ряд второстепенных доводов, устанавливавших всю неправдоподобность гипотезы центрального комитета.
В этой полемике Бурцев встретил поддержку со стороны левой группы социалистов-революционеров, натянутые, отношения которой к центральному комитету еще больше обострились после разоблачения Азефа. Эта группа настойчиво требовала немедленной реорганизации партии[41].
Тем временем со всех сторон о деятельности и прошлом Азефа, как из рога изобилия, посыпались тысячи сведений, тысячи слухов, в которых фантастическое переплеталось с действительным, грубый вымысел с неоспоримыми фактами, явный вздор с яркой истиной. Создались целые мифы и легенды, из-за которых настоящий образ провокатора туманно расплывался или вырастал до размеров сверхчеловека, сатанински насмехавшегося и над правительством и над революцией и одинаково предававшего и правительство и революцию. Согласно старому психологическому закону все вдруг стали утверждать, что давно предчувствовали, давно угадывали в Азефе провокатора. Не обошлось и без комических аберраций. Некоторые русские газеты поведали своим изумленным читателям, что еще ребенком, в реальном училище, Азеф был заподозрен своими малолетними товарищами как агент-провокатор.
Но среди кучи бессмысленных измышлений и басен оказалось множество фактов, точных, достоверных, которые проливали такой яркий свет на истинную роль Азефа, что становилось почти непонятным, как они давно уже не возбудили сомнений и прямых подозрений против провокатора.
Значительная часть этих фактов была собрана «конспиративной комиссией». Эта комиссия была образована за год до разоблачения Азефа левой парижской группой с.-р., всполошенной неожиданным провалом «северного летучего боевого отряда», который во всем своем составе попал в руки полиции при обстоятельствах, невольно возбуждавших крайнее недоверие. Комиссия деятельно занялась расследованием этого провала. Ее работа, протекавшая параллельно с работой Бурцева, не закончилась таким шумным успехом, но все же немало способствовала раскрытию измены в центре партии.
Первым результатом расследований комиссии было точное установление того. Что арест всего «северного летучего отряда», накануне совершения им задуманного и подготовленного акта, не мог быть объяснен иначе, как предательством.
Точно так же свирепый и совершенно непонятный приговор, вынесенный против двух членов «центрального боевого отряда» Льва Зильберберга и Сулятицкого, не мог быть объяснен иначе, как при предположении, что Правительство было точнейшим образом осведомлено об их настоящей роли.
Единственной уликой, выдвинутой против них на суде, являлось свидетельское показание полового из гостиницы. Этот сомнительный свидетель заявил, что видел их в обществе неизвестного, скрывавшегося под кличкой «Адмирал», который убил градоначальника фон дер Лауница и вслед за тем сам покончил с собою.
Как бы ни было безжалостно и жестоко царское правосудие — даже военно-полевых судов, — казалось невероятным, что оба революционера были осуждены и казнены 16 июля 1907 г. только на основании такого ничтожного обвинения. «Конспиративная комиссия» справедливо узрела в этом деле руку агента-провокатора.
Два других факта, гораздо более значительные, стали известны членам «конспиративной комиссии».
Одному шлиссельбургскому узнику, а именно Мельникову, осужденному по делу Гершуни, вспомнилось в заключении кое-что подозрительное в личности и в положении Азефа. При обыске у одного товарища полицией было захвачено вместе с другими документами письмо с адресом, по которому легко было добраться до Азефа, жившего тогда в Москве. Несмотря на это, последнего даже не потревожили.
Мельников сообщил сомнения и тревоги Гершуни, который, схватившись за голову, воскликнул:
«Азеф — провокатор! Тогда и на отца родного нельзя положиться».
Через некоторое время Егор Сазонов, попавший после казни Плеве тоже в Шлиссельбургскую крепость, сообщил Мельникову, вероятно по поручению Гершуни, что «Азеф безукоризненный революционер и продолжает работать в партии».
Мельников не был единственным революционером, который смутно догадывался о настоящей роли Азефа. Максималист Рысс, основываясь на совершенно иных данных, формально обвинял Азефа в 1906 г. как провокатора. Брат казненного сообщил в «Avanti» чрезвычайно интересные сведения об его бесплодной борьбе против Азефа, проливающие любопытный свет на факты, сообщенные «конспиративной комиссией».
«В начале 1906 г., - пишет он, — мой брат Соломон Рысс, известный в революционных кругах под именем „Мортимер“, был арестован, когда со своими товарищами пытался произвести экспроприацию. Ввиду того, что Мортимер был одним из видных максималистов, последние решили устроить ему побег и с этой целью вошли в сношение со стражей, предлагая ей крупную сумму за содействие побегу. Стража согласилась, но в последний момент жандарм, охранявший камеру, струсил и сообщил обо всем своему начальству. Тогда киевский начальник охранного отделения Кулябко дал знать Мортимеру, что ему устроят побег, буде он согласится служить в департаменте полиции.
Получив это предложение, Мортимер решил использовать его в интересах революции и дал согласие. Жандарм и городовой, охранявшие камеру, получили приказ не мешать побегу — и Мортимер скрылся.
На свободе Рысс-Мортимер немедленно сообщил своим товарищам о данном им обещании служить в охранном отделении, заявив, что хотел воспользоваться этим для революционных целей. Товарищи Мортимера, руководители партии максималистов, выразили ему доверие, дав согласие на его службу в департаменте полиции.
Благодаря своей способности обращаться с людьми Мортимер проник в тайны департамента и тотчас же узнал, что Евгений Азеф, он же „Толстый“, он же „Иван Николаевич“, служит в департаменте на амплуа агента-провокатора.
В начале сентября 1906 г., встретив меня в Петербурге на улице, Мортимер просил меня немедленно передать социалистам-революционерам о роли Азефа.
Я счел своим долгом в тот же день сообщить об этом лицу, имевшему сношения с с.-р. и „боевой организацией“. Однако заявление мое было встречено возмущением и даже угрозами по моему адресу: „Дорого заплатите за клевету“.
Желая в корне убить слухи об Азефе и загрязнить источник слухов, ЦК партии с.-р. стал усиленно распространять слухи о „провокаторе Мортимере“.
В октябре 1907 г. Рысс-Мортимер был арестован в Юзовке, в кандалах доставлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. В феврале месяце он был отвезен, закованный в ручные и ножные кандалы, в Киев, судим военно-окружным судом и казнен.
Приехав в Париж весной того же года, я открыто заявил о провокаторстве Азефа, предъявляя в то же время требование ЦК партии с.-р. представить данные о роли, приписываемой им Мортимеру. Приглашенный в июне ЦК, я повторил свое требование. В ответ мне было заявлено, что ЦК намерен меня привлечь к суду за распространяемые слухи „о некоем лице“ и предлагает мне представить ЦК документы о провокаторстве „этого лица“. Не питая никакого доверия к ЦК, я ему никаких данных дать не желал, Но заявил, что охотно пойду на суд и предпочитаю, чтоб суд этот состоялся в ближайшем времени. Однако мои требования не дали никаких результатов».
Из подозрений, относящихся к более раннему периоду, только одно кажется нам заслуживающим доверия. В открытом письме бывший председатель союза союзов Петерс, опровергая появившийся в печати рассказ о нем, как о друге Азефа, заявил, что он в действительности был товарищем Азефа по университету в Карлсруэ и что уже тогда до него доходили темные слухи, обвиняющие Азефа в сношениях с полицией и посольством[42].
Все эти косвенные улики, прямые доказательства, личные обвинения, прибавленные к тем фактам, которые нами приводились в главе о борьбе и показаниях Бурцева, а именно к саратовской истории, к одновременному посещению Азефом и Раскиным железнодорожника в Варшаве, к подозрительному поведению Азефа в деле Трепова и, наконец, к знаменитому письму Меньщикова, в котором обвиняется наряду с Татаровым и Азеф, — образуют вместе поистине страшный обвинительный акт.
И все-таки этот обвинительный акт не в состоянии был хоть сколько-нибудь поколебать положение Азефа.
Понадобились исключительные усилия и исключительное стечение обстоятельств, чтоб сорвать, наконец, маску с предателя[43].
Глава V Жизнь провокатора
1. Первые шаги
Борьба «за» и «против» Азефа внутри партии кончилась. Азеф был объявлен провокатором. С трудом укладывавшееся в обычные рамки, противоестественное представление об Азефе — основателе партии, главе боевой, организации и т. д. и сотруднике департамента полиции было, наконец, принято, усвоено и распространено, несмотря на всю свою чудовищность. Но все-таки некоторые иллюзии еще сохранились. В революционной среде преобладающее мнение было, что, прежде чем спуститься до гнусной роли агента-провокатора, Азеф в продолжение нескольких лет, по крайней мере, оставался искренним революционером. Однако и это последнее предположение оказалось ошибочным и должно было рухнуть после торжественной декларации Столыпина в Государственной думе. В самом деле, председатель совета министров категорически за явил, что Евно Азеф принадлежал к русскому политическому сыску еще с 1892 г.
Первая связь Азефа с русским правительством относится, таким образом, ко времени его пребывания в Карлсруэ. Там, будучи студентом Политехнической школы, он вступил в сношение с посольством и представителями русской политической полиции за границей. Такова официальная версия. Но не исключена, конечно, возможность, что еще прежде, чем покинуть Россию, Азеф соприкасался с полицейским миром. Азеф еще в старших классах реального училища был замечен в предательстве: так он якобы выдал несколько тайных кружков, которые в Ростове-на-Дону, как и во всех других городах России, составлялись из наиболее пылкой, великодушной и развитой части учащейся молодежи. На деньги, получаемые от полиции, ему удалось, по словам некоторых, кончить свое учение.
Роль Азефа в Карлсруэ в точности не установлена. Задача его заключалась, по-видимому, в том, чтоб наблюдать и шпионить за своими товарищами, проведывать обо всём мало-мальски подозрительном и посылать пространные доклады своему начальству. На него в это время смотрели, вероятно, как на мелкого, хотя и не бесполезного сотрудника[44].
Что заставило Азефа вступить в позорную связь с охранниками? Какая сила толкнула его на путь измены и предательства? Мы здесь в области самых смелых и произвольных догадок. Все, что мы знаем и что могло бы хоть несколько осветить этот вопрос, отличается крайней обрывочностью, разрозненностью и сбивчивостью. Несомненно одно: Азеф был очень беден. С раннего детства он испытал все виды нужды; крайние лишения, может и были причиной его первого грехопадения. Страсть к интригам, лживость, скрытность, чрезмерное себялюбие, грубые и низкие склонности, то есть все те качества, которыми в таком изобилии наделяли Азефа после его разоблачения и которые в известной мере были ему действительно свойственны, делали из него легкую добычу для полицейских.
И первая же встреча с ними должна была бесповоротно определить все его будущее…
Но каковы бы ни были побуждения, заставившие Азефа продаться охранке, действовал ли он из алчности или нужды или других причин, связался ли он с нею случайно или по холодному преднамеренному расчету — для непредубежденного ума должно быть яснее ясного, что Азеф никогда не играл да и не мог играть роли того простого осведомителя, введенного правительством в ряды революционеров, как это перед всей Думой утверждал Столыпин. Вряд ли сам Столыпин верил тому, что говорил, и вряд ли деятельность Азефа представлялась ему такой простой и невинной.
Азеф даже в первом периоде не подходит под характеристику правительственного осведомителя, данную Столыпиным. Он, без сомнения, не был никогда обыкновенным шпионом.
С самого начала своей необычайной карьеры Азеф стал вести то двойственное существование, которое ему удалось на протяжении семнадцати лет так искусно скрыть от всех, что никому и в голову не могла прийти мысль задавать себе нелепый вопрос об искренности и убежденности Азефа. Его разоблачение вызвало резкую реакцию. Белое стало сплошь черным, беспорочная чистота революционера Азефа — сплошной нечистой порочностью Азефа-провокатора…
Все позволят, однако, думать, что в первые годы Азеф смотрел на полицию как на источник, из которого он мог извлекать денежные выгоды, — служа одновременно революции, он, может быть, даже надеялся, что сможет при желании порвать с нею… Но не порвал, а, наоборот, стал ее вернейшим соратником.
Виктор Чернов дал прекрасный анализ его положения в этот период: «Грошовое на первых порах полицейское вознаграждение в его положении-целое богатство; полицейские деньги, а может быть, и рекомендации делают не редко знавшего голод и лишения Евно Азефа инженером-электротехником, на прекрасном жаловании, с постепенно растущим „дополнительным доходом“ в полиции. Перед ним открывается путь в новый мир — мир материальных благ и наслаждений, мир неизведанный и соблазнительный со своим контрастом с эпохой жалкого прозябания в пригнетенной, презираемой бедствующей семье портного… и его спаситель — полиция, с которой он отныне связан такими узами, освободиться от которых и при желании трудно. Здесь коготок увяз — всей птичке пропасть.
Письма Азефа к его будущей жене Менкиной, относящиеся к этому периоду (эти письма были нам предоставлены для ознакомления), дают некоторый ключ к пониманию тогдашних его настроений.
При чтении этих интимных писем (за период от 1894 до 1899 г.) ни на одну секунду не возникает мысль об их неискренности и диким кажется, что их писал человек, на совести которого лежало не одно мерзкое преступление. Все они полны какого-то раздумья и глубокой грусти „народного печальника“ и одновременно порывов борца, проникнутого пламенным идеализмом. Со страстностью Азеф обсуждает в них важнейшие проблемы революционной тактики, разбирает и критикует все прочитанные книги и брошюры.
Часто в письмах повторяется один и тот же припев:
„Я очень несчастлив“, „моя жизнь печальна…“ Полный романтического лиризма, он пишет: „Буду ли я всегда похож на того молодого человека с самыми смелыми надеждами, который, для того чтоб добиться успеха, должен совершать большое путешествие, но который во время переезда терпит кораблекрушение? Осужденный оставаться на необитаемом острове, он чувствует, как трудно ему вернуться к жизни, и приходит в отчаяние перед окружающими силами, которые мешают ему… Он мечтает об избавлении, но все, что кругом него, так мало похоже на его мечты…“ (1896).
Что означает эта туманная и немного наивная символистика? Что это, угрызения совести мучившие Азефа, или просто бесцельная, никчемная фразеология? Невольно напрашивается сравнение между тогдашним положением Азефа и этими странными жалобами, и встает вопрос, не происходила ли в нем, в самом деле, в это время жестокая внутренняя борьба?
Почти во всех письмах первых лет попадаются горячие выражения любви к жене и… преданности делу.
„Клянусь тебе всем, что для нас есть самого дорогого, нашим счастьем, нашим революционным делом освобождения нашего народа, что все, что я тебе говорю, не отражение мечты, а действительное проявление моей любви к тебе…“ (тот же период). И он продолжает: „Что я люблю а тебе, — это твою благородную, прекрасную, чистую душу. Почему тебя нет здесь возле меня… Мне так нужно твое присутствие…“
И беспрестанно повторяются также советы учиться, читать, писать:
„Для великой борьбы нужны великие силы, нужно работать“ работать… Береги свое здоровье… Я хочу, чтоб та, кого я люблю, была сильной, энергичной подругой, которую не страшили бы никакие опасности борьбы…»
В письмах рассыпаны частые жалобы на денежную нужду, на лишения, на тяжелые материальные затруднения всякого рода… Было ли то простым комедиантством и ловким притворством, или действительно он очень нуждался, получая еще слишком ничтожную плату от мало ценившего его правительства.
Его роль в этот период была, во всяком случае, посредственная, и сведения, доставляемые им, крайне незначительны.
Мы уже указали, что после кратковременного пребывания в социал-демократической группе в Карлсруэ Азеф примкнул в 1895 г. к новой возникшей тогда организации «Союз — социалистов-революционеров».
Раппопорт, один из основателей «Союза», рассказывал нам, что он сохранил лишь смутное воспоминание об Азефе, который, во всяком случае, был совершенно незначительной фигурой в их кружке. Азеф производил на него неприятное впечатление, и, насколько он помнит, о его личных нравах и частной жизни шли очень неблагоприятные слухи…
Деятельность «Союза», составленного главным образом из эмигрантов, была очень ограничена, почти ничтожна. Он издавал небольшую газетку «Русский рабочий». В 1896 г. «Союз» попытался послать своего представителя на Международный лондонский социалистический съезд, но натолкнулся на резковраждебное отношение со стороны русской социал-демократической делегации. Г. В. Плеханов, стоявший во главе этой делегации, со злой иронией выразился, что «все члены союза могли бы прекрасно поместиться на небольшом диванчике», что у «Союза» не было никаких связей с настоящим движением в России.
Услуги Азефа как члена этой маловажной организации с крайне эфемерным будущим не могли, конечно, иметь большую ценность в глазах полиции. Да и обо всем ли доносил ей Азеф? Трудно сказать. Так, например, один из наиболее деятельных членов группы Розенблюм был арестован на границе с транспортом пропагандистских брошюр и довольно большого количества «Русского рабочего». Этот провал мог быть случайным. Но возможно также, что Розенблюм был выдан Азефом.
Главнейшие моменты его предательской деятельности за этот период совершенно ускользают от всякого изучения. В 1899 г. мы его встречаем в Москве, где он примкнул к «Северному союзу социалистов-революционеров», в котором он сразу, стал играть выдающуюся роль. С его выступлением всякого рода несчастья начали обрушиваться на молодую организацию.
Тайная типография, которая выпустила первые два номера ее органа «Революционная Россия», была арестована в Томске, угроза провала нависла почти над всеми членами «Союза».
В неизданном отрывке своих воспоминаний напечатанных в «Былом», Бакай следующим образом передает эпизод с томской типографией, в котором главную роль он приписывает Раскину. В это время (когда был им написан приводимый нами отрывок) он еще не знал, кто скрывается за таинственным именем этого провокатора, и поэтому сообщаемые им сведения могут считаться абсолютно достоверными:
«В охранке, — пишет он, — мне представилась возможность ознакомиться с докладом Зубатова об аресте томской типографии. Этот официальный документ, точно так же как и разговоры с Мельниковым, с тем же Зубатовым и с агентом Дмитрием Яковлевым, специально занятым филерской частью, убедили меня, что какой-то инженер, член партии социалистов-революционеров, которая в то время перестраивалась, был провокатором. Он в охранке носил кличку Раскина. Он состоял на постоянном жалованье департамента полиции.
От этого Раскина получалась сведения, что такого-то числа такое-то лицо — я забыл его имя — отправляется в юго-восточную часть России с поручением от партии. В случае, если бы этот революционер не проехал через Москву, он должен прямо направиться в Томск, где была установлена тайная типография для напечатания „Революционной России“.
К означенному лицу были приставлены для наблюдения два агента, Яковлев и, если не ошибаюсь, Попов, которые всюду следовали за ним по пятам. Благодаря слежке им удалось открыть местонахождение типографии, что не представляло, впрочем, большого труда»[45].
А те, которых Азеф предавал, собирались в это время поручить ему самую высокую и ответственную миссию, состоявшую в том, чтоб начать переговоры между различными террористическими группами, рассеянными по России, и добиться их слияния. Эту миссию Азеф вместе с Гершуни блестяще выполнил в 1901 г.
По жестокой иронии судьбы первое крупное предательство Азефа должно было послужить отправной точкой для его быстрого возвышения в революционном мире.
Азеф с этих пор начинает получать от полиции триста пятьдесят рублей в месяц. Его значение растет в лагере охранников.
2. Первые покушения
После провала томской типографии в течение двух следовавших затем лет, 1900-й и 1901-й, деятельность Азефа беспрерывно росла и расширялась. Он с неутомимой энергией принялся за дело объединения социал-революционных элементов, раздробленных и разбросанных по громадной территории империи и большею частью лишенных даже возможности сообщаться между собою. Благодаря его упорству, его умению преодолевать все препятствия, улаживать все конфликты, осуществление намеченной цели — создание новой партии социалистов-революционеров — перешло скоро из области намерений и планов в область живой, конкретной действительности. В 1901 г. Азеф отправился в Швейцарию со всеми связями и полномочиями, полученными им от «Северного союза с.-р.», самой сильной и влиятельной террористической организации, и примыкавших к ней групп, чтобы встретиться с Гершуни, приехавшим с юга как представитель всех южных, поволжских и некоторых других организаций. В Женеве Азеф и Гершуни вместе вырабатывают договорные отношения и закладывают общий фундамент будущей партии.
В декабре месяце того же года партия социалистов-революционеров была формально образована. Гершуни и Азеф включили в нее Михаила Гоца, В. Чернова и др., живших тогда за границей, и поручили им редактирование центрального органа «Революционная Россия». Через шесть-семь месяцев из этих лиц составился центральный комитет, действующими силами которого Азеф и Гершуни стали на театре революционных действий в России.
Азеф был не только членом центрального комитета, он одновременно стал душою петербургского комитета. Его деятельность обнимала решительно все области, где только проявлялась жизнь партии. Он объезжал все провинциальные организации и группы; основывал новые там, где было нужно; организовывал в большом масштабе ввоз революционных брошюр и листков в домашних ледниках или в бочках с салом; устраивал склады литературы; ставил типографии; одним словом, проявлял весь свой «практический гений» в общеорганизационной работе, как должен был скоро проявлять его в области террора…
И рядом одновременно с этим продолжал свое предательское дело. Его «работа» в охранке отличалась такой «Азефской» тщательностью, продуманностью, тонкостью, что не только не могла подорвать его престижа среди революционеров, но даже вызвать малейшую тень подозрения. Полиция никогда не производила обысков и арестов прямо по его данным, что могло бы внушить мысль о предательстве. Все делалось так, чтоб рука провокатора не была видна. Провалы литературных транспортов, аресты революционеров приписывались партией, благодаря искусной инсценировке, ловкости и организованности охраны, а не внутренней измене. Пока Азеф лично руководил каким-нибудь делом, полиция тщательно избегала вмешиваться в него, и только тогда, когда дело переходило в другие руки и Азеф совершенно отделялся от него «и по существу и даже географически», она приступала к его ликвидации, выбрав для этого какой-нибудь удачный внешний повод, который в глазах революционеров легко объяснил бы их неудачу. Несомненно также, что Азеф с этой целью давал полиции неясные и неполные сведения с рассчитанными опозданиями, с намеренными искажениями, скомбинированными так, чтоб полиции пришлось долго кружиться, прежде чем напасть на настоящий, верный след.
Два известных нам случая дают яркое представление о приемах Азефа и его дьявольской изобретательности.
Большой транспорт нелегальной литературы должен был быть отправлен через Лодзь. Департамент полиции, предупрежденный Азефом, сообщил местному сыску лишь имя лица (Шнеурова), которое было контрагентом по этому делу, но умолчал о способе транспортирования. Бакай, служивший тогда в Варшавском охранном отделении, поручил двум филерам следить за Шнеуровым. Филеры ничего не выследили. На соответствующее донесение департаменту полиции о бесплодных результатах установленного наблюдения последний ответил приказанием следить с большим усердием. Наконец, по данным от киевской агентуры был прослежен при поездке в Лодзь и арестован на обратном пути с литературой член тамошней организации. После этого только полиция решилась произвести обыск у Шнеурова, «наткнулась» на комнатные ледники и случайно, из-за поцарапанной стенки одного из них, вскрыла и нашла пустое место там, где должен был находиться исландский мох. Факт транспортирования, как и его оригинальный способ, были таким образом точно установлены.
Еще более «тонко» было проведено другое дело. Приемщик бочек с салом, наполненных революционными изданиями, был арестован благодаря адресу, случайно найденному во время одного обыска. Полиция «не обратила внимания» на сало, которое было продано потом с аукциона самым естественным образом. Но каково же было изумление и ужас торговца, когда вместо сала в купленных им бочках оказалась запрещенная литература. Само собою разумеется, что он сейчас же дал знать о своей необычайной находке полиции. Делу был дан новый оборот.
Оба провала в свое время не возбудили, конечно, ни в ком ни малейшего подозрения…
Общепартийная «работа» Азефа охватывает 1902–1904 и часть 1905 г. Но терроризм, служивший одной из главных основ новой партии, мало-помалу начал поглощать почти всю ее деятельность и отнимал все ее крупные живые силы. Азеф почти целиком отдался террору. И тут перед ним открылось гораздо более широкое поприще для его предательской деятельности, чем прежде, когда он ограничивался одной выдачей мелких пропагандистских организаций или провалом тайных типографий и транспортов с литературой…
Гершуни и Азеф в 1901 г. выработали план террористической кампании и как необходимое средство новой действенной тактики партии создали «боевую организацию», которая в продолжение шести лет сосредоточивала на себе почти всю работу по террору.
Но еще до создания «боевой организации», или, вернее, прежде чем она стала функционировать, был совершен довольно крупный террористический акт. Душою предприятия был Гершуни, который, однако, действовал в этом деле в полном согласии с Азефом.
Григорий Гершуни был романтиком революции. Борец и поэт, с железной волей и самой пылкой фантазией, он любил придавать подготовляемым им покушениям внешнюю декоративность и блеск; он всегда стремился сочетать безупречную технику, мастерство исполнения с красивой формой. Редко кто из революционных деятелей умел оказывать на рядовых революции такое глубокое влияние своим словом, своим примером, своей верой и несокрушимой волей. Для него самого не было ничего выше революционного дела, все его интересы, все его помыслы были сосредоточены на служение революции, которой он отдавал свою молодость и свою жизнь. И русская история сохранила об этом выдающемся деятеле дореволюционного периода самую светлую память.
Первые удары должны были быть направлены согласно выработанному террористами плану против двух наиболее ненавистных и опасных столпов самодержавия: министра Сипягина и всемогущего обер-прокурора Святейшего синода Г. Победоносцева.
Выбор остановился прежде всего на Сипягине, который в недавнем прошлом отличился своими бесчеловечными и кровавыми репрессиями. Сипягину была поручена царем расправа с университетским движением. Студенческие демонстрации в период 1899 и 1901 гг. были им подавлены с невероятной жестокостью. На другой день после студенческих беспорядков он грозил «потопить Петербург в крови», если будет сделана другая попытка уличных манифестаций.
Исполнение приговора было поручено молодому и смелому революционеру Степану Балмашеву. Балмашев родился в революционной семье: его отец принимал когда-то участие в движении и был сослан в Архангельскую губернию. Воспитание, врожденный революционный темперамент, исключительная сила воли и отважность характера делали его наиболее пригодным для задуманного дела. С гордым радостным чувством принял он опасную миссию, которую партия ему доверила.
Во вторник, 2 апреля 1902 г., приблизительно в час дня к подъезду Мариинского дворца подкатила шикарная пролетка; из нее вышел молодой флигель-адъютант и обратился к дежурившему унтер-офицеру с вопросом, приехал ли уже министр внутренних дел. Получив отрицательный ответ, флигель-адъютант сперва заявил, что он в таком случае поедет к министру на дом, но потом раздумал и решил подождать его во дворце. Его блестящий вид, его спокойное и естественное обращение, его властные манеры и повелительный голос произвели такое благоприятное впечатление, что никому и в голову не приходило заподозрить его в самозванстве. Войдя в приемную, он заявил, что он с личным поручением к министру от великого князя Сергея Александровича. Несмотря на натянутые отношения, существовавшие между министром и царским дядей, это заявление никого не удивило и не вызвало ни в ком недоверия.
Ровно в час в Мариинский дворец прибыл Сипягин. Ему доложили, что в приемной его дожидается специальный курьер великого князя Сергея Александровича. Крайне изумленный Сипягин направился в приемную и с протянутой рукой пошел навстречу Балмашеву, чтобы взять протянутый им пакет…
— Этот пакет, — громко сказал Балмашев, — передан мне от имени великого князя для вручения вашему высокопревосходительству…
— От чьего имени? — с удивлением спросил Сипягин.
— От имени великого князя Сергея Александровича.
И, отступив на два шага назад, мнимый флигель-адъютант направил прямо на министра свой браунинг, из которого сделал несколько выстрелов.
— Так поступают с врагами народа! — громовым голосом воскликнул он.
Через несколько, минут смертельно раненный Сипягин скончался.
Балмашев был предан военному суду. Его поведение на суде было мужественное и гордое. На вопрос, были ли у него сообщники, он вначале отказался ответить, но потом воскликнул:
— Мои сообщники — правительство с царем во главе.
Им место — здесь, на скамье подсудимых.
Свой смертный приговор Балмашев выслушал спокойно, с холодным равнодушием. Его мать хлопотала о его помиловании, но царь ответил, что оно будет даровано осужденному только в том случае, если он сам подаст прошение. Дурново ходил в одиночную камеру Балмашева и уговаривал его подать это прошение, но все попытки его кончились полной неудачей. По собственному выражению Дурново, он «натолкнулся на скалу».
— Вам гораздо труднее меня повесить, — иронически кинул ему на прощание Балмашев, — чем мне умереть. Я от вас не хочу никаких милостей. Единственное, о чем я прошу, это выбрать веревку покрепче, так как вы и вешать-то не умеете как следует тех, кого вы приговариваете к смерти[46].
3 мая 1902 г., в пять часов утра, Степан Балмашев был повешен на тюремном дворе Шлиссельбургской крепости. Спокойствие и мужество не покидали молодого революционера до самого последнего мгновения, и, когда перед смертью поп попытался подойти к нему и причастить его, он твердым, недопускающим возражения голосом сказал ему:
— Я не умею лицемерить…
Роль Азефа в организации этого покушения установлена только в общих чертах. Известно, что он в нем принимал, по крайней мере, такое же деятельное участие, как и Григорий Гершуни.
Обвинительный акт против Л. А. Лопухина, содержащий подробный, хотя и неполный разбор «услуг», оказанных Азефом, указывает среди этих «услуг» на доклад, посланный им после смерти министра внутренних дел и в котором перечислены все участники дела Сипягина. Но чиновник, который составлял этот удивительный документ для личной надобности и осведомления Столыпина, не заметил грубой и нелепой ошибки, совершенной им цитированием этого доклада, доказывающего, что Азеф все знало приготовлениях затевающегося убийства Сипягина. Нельзя же, в самом деле, допустить, чтоб он узнал все подробности дела сейчас же после его исполнения.
Так или иначе, но полиция узнала через Азефа, что убийство Сипягина было организовано Гершуни вместе с Михаилом Мельниковым и Павлом Крафтом. Благодаря его указаниям Мельников попал через некоторое время в руки полиции.
За казнью Сипягина должно было последовать убийство Победоносцева. Всесильный обер-прокурор Святейшего синода был живым воплощением самодержавия, которого он являлся самым умным и талантливым теоретиком и самым убежденным защитником. «Великий инквизитор», как прозвали этого действительно русского Торквемаду, был вплоть до самой своей смерти предметом самой страстной ненависти со стороны всей свободомыслящей России. Его мрачная тень легла на целые десятилетия умственного и политического развития России.
Покушение на Победоносцева было назначено в день погребения Сипягина. Обер-прокурор Святейшего синода должен был участвовать в похоронном шествии, и убийство предполагалось совершить или во время шествия, или же во время самого обряда погребения[47].
Два артиллерийских офицера Михаил Григорьев и Недаров взялись за выполнение приговора над Победоносцевым. Оба они были преданы Азефом и арестованы. М. Григорьев в тюрьме стал выдавать под влиянием своей жены, игравшей плачевную и позорную роль.
Он дал «чистосердечные» показания обо всем, что ему было известно.
Покушение на Победоносцева никогда больше не повторилось. Если этому вреднейшему изуверу царизма, задержавшему русское народное образование на много лет, оказавшему гибельное влияние на все решительно стороны русской жизни, суждено было умереть спокойной естественной смертью, то это, главным образом, благодаря предательству Азефа.
Между покушениями на Сипягина и Победоносцева и последующими покушениями лежит промежуток времени в три месяца, ознаменовавшийся гибелью террористической группы, основанной фельдшерицей Ременниковой, близкой и преданной сотрудницей Гершуни. Провал, несомненно, был делом рук Азефа.
«Боевая организация» наметила следующей жертвой харьковского губернатора князя Оболенского. Этот губернский чиновник стяжал себе мрачную славу жестоким подавлением аграрных беспорядков, вспыхнувших в Харьковской губернии. Усмиренные крестьяне были подвергнуты по его приказу позорным телесным наказаниям. Партия решила для примера казнить его, чтобы показать, что подобные преступления не могут оставаться безнаказанными:
Фома Качура, простой крестьянин, приехавший в Харьков из Екатеринослава, познакомился с Гершуни незадолго до покушения. Он просился в «боевую организаций», предлагая себя для выполнения первого террористического акта, который партия сочтет необходимым совершить.
22 июля 1902 г., около десяти часов вечера, в саду увеселительного заведения «Тиволи» Качура спешными шагами приблизился к прогуливавшемуся там кн. Оболенскому и выстрелил в него из своего револьвера. Но боязнь попасть при этом в даму, которая шла об руку с князем, помешала ему хорошо прицелиться, и пуля только слегка задела князя за шею. Вторая пуля не попала в цель, потому что дама схватила Качуру в это время за руку. Сбежавшиеся со всех сторон сыщики и городовые накинулись на Качуру, который успел тем не менее дать еще два выстрела, ранив в ногу харьковского полицмейстера Вессонова.
Заключенный в Шлиссельбургскую крепость Качура в конце первого же года поддался обольщениям полиции и сделался предателем. Он выдал одного из своих товарищей Вейценфельда, участие которого в покушении было ничтожно. Правительство сумело, таким образом, составить обвинительный акт так, что туда могли войти все данные, которые оно получало от своих «сотрудников». Ведь и Азеф предупреждал о готовящемся покушении, а между тем его показания не могли по вполне естественным причинам фигурировать в официальных документах.
Среди тогдашних провинциальных бурбонов особенно дурной славой пользовался уфимский губернатор Богданович, отличившийся своими репрессалиями против рабочих. Во время мирной манифестации, устроенной златоустовскими рудокопами, Богданович приказал войскам открыть без предупреждения стрельбу по безоружной толпе, не ждавшей такого вероломно-преступного нападения. На месте осталось большое количество убитых, среди которых были женщины и дети.
6 мая 1903 г. в пять часов вечера губернатор Богданович прогуливался в городском саду, как вдруг на одной из уединенных боковых аллей он очутился лицом к лицу с каким-то незнакомцем, который на него набросился. Раздалось несколько револьверных выстрелов, и генерал, окровавленный, упал без сознания на землю. Сбежавшаяся публика и сыщики нашли его при последнем издыхании. Все их попытки задержать революционера, стрелявшего в Богдановича, остались тщетными. Этот смелый террорист вместе с сопровождавшими его товарищами, отстреливаясь на бегу и держа на почтительном расстоянии преследовавших, успел скрыться, не оставив за собою никаких следов.
На земле рядом с жертвой был найден конверт:
«Смертный приговор „боевой организации“ с.-р. генералу Богдановичу за его гнусную роль в златоустовских событиях».
Несмотря на все отчаянные усилия, уфимской охранке не удалось обнаружить преступников.
Какую роль играл Азеф в этом покушении? Если бы нам пришлось судить о ней по данным обвинительного акта против Лопухина, то мы из него должны были бы заключить, что Азеф не имел никакого прикосновения к этому делу: официальный судебный документ ни одного слова, ни одного намека не содержит относительно убийства Богдановича. В действительности же Азеф участвовал вместе с Гершуни в выработке плана и в мельчайших подготовлениях к уфимскому покушению, одновременно осведомляя департамент полиции о ходе событий. Террорист Б. В. Савинков, который сообщил нам для нашей книги немалоценных сведений, передавал нам, что Азеф лично участвовал в выборе двух революционеров, первоначально назначенных для уфимского дела. Эти два революционера были недолго спустя, вероятно по доносу Азефа, арестованы в Двинске.
Но Гершуни нашел других исполнителей и лично поехал в Уфу, чтоб иметь возможность на месте наблюдать за приготовлениями, а также чтоб ускорить покушение.
Департамент полиции, всесторонне осведомленный о роли Гершуни, давно уже отдал приказ о его розыске и даже назначил крупную премию (10 000 руб.) за его, спешную поимку. Когда из донесений Азефа стало известно, что Гершуни собирается в Уфу, чтоб организовать покушение против Богдановича, туда немедленно был послан Пресловутый Медников. К несчастью для этого охранника, он не успел вовремя приехать в Уфу и по дороге, в поезде, получил телеграмму Азефа, извещавшего его, что покушение совершилось и что Гершуни уехал в Киев. Гершуни был арестован в Киеве 13 мая, то есть ровно через неделю после убийства Богдановича, но только другим сыщиком, которому больше повезло, чем Медникову, и который получил обещанную награду.
Зная, что за ним охотятся, Гершуни принял все меры предосторожности, чтоб не попасться в руки полиции. Вместо того чтоб доехать до самого Киева, он сошел на одной из пригородных станций. Но там его уже ждали пять охранников, которые арестовали его и препроводили в киевское охранное отделение, где один из главных чиновников встретил его, прямо называя по имени (арестовавшие его сыщики сами не знали, с кем они имеют дело). Гершуни сразу овладели смутные подозрения, он понял, что кем-то был выдан, но его подозрения были беспредметные, не падая ни на одно определенное лицо. В своих «записках» он рассказывает, что за ним не было никакой слежки и что, видно, он был арестован по приказу и указаниям, полученным свыше. Он не скрывает дальше своего недоверчивого отношения к правительственной версии, согласно которой его арест произошел будто бы благодаря доносу какого-то студента, случайно узнавшего о его приезде в Киев и продавшего свой секрет жандармам за крупную сумму денег.
Преданный военному суду Григорий Гершуни держал себя на суде так, что вызвал восхищение даже у злейших своих врагов. Какой-то великий князь, внимательно следивший за процессом, воскликнул в присутствии своих приближенных: «Этот еврей — герой», а один из судей заявил:
«Вот человек».
Гершуни был приговорен к смертной казни. Но самодержавное правительство почему-то не сочло нужным привести в исполнение этот приговор, и несмотря на то, что Гершуни решительно отказался просить помилования, как это ему предлагали, смертная казнь была ему заменена бессрочным заключением в Шлиссельбургскую крепость, откуда через несколько лет он был переведен в Сибирь.
Об обстоятельствах, при которых совершилось покушение на губернатора Богдановича, существуют самые разнообразные и противоречивые данные. Если верить заявлениям Лопухина, сделанным им Борису Савинкову во время их свидания в Лондоне, департамент полиции, как учреждение, не был предупрежден нисколько о том, что затевалось в Уфе. В своих показаниях на суде Лопухин подтвердил это свое заявление. Возможно, мы эту гипотезу не считаем исключенной, что полицейская банда, во главе которой находился Рачковский, была — в этом случае, как и во многих других, — хорошо осведомлена, но скрывала от директора департамента и от правительства дело, сулившее ей несомненные выгоды. Рачковский и К° всячески избегали сообщать что-либо уфимской охранке, преследуя свои особые цели, и тем позволили террористам привести в исполнение задуманный ими террористический акт. Впрочем, во время прений на своем процессе Лопухин заявил по этому поводу, что Азеф «не был в непосредственном распоряжении департамента полиции… и что сношения с ним имели исключительно Рачковский и Ратаев»[48].
Убийство Богдановича и последовавший затем арест Гершуни знаменуют собою конец первого периода террористической деятельности Азефа. До тех пор он разделял власть вместе с незабвенным Гершуни, своим «ближайшим другом», которого он упрятал сперва в Шлиссельбургскую крепость, потом в Акатуйскую каторжную тюрьму, в Сибири. С устранением Гершуни верховное, единоличное и полновластное руководительство «боевой организацией» переходит исключительно к нему.
Отныне вся партия в руках Азефа.
В одном из своих писем к жене, относящихся к этому периоду и представляющих яркий образчик двоедушия и лицемерия, он пишет:
«Какое несчастье, что в нашей революционной партии так мало инициативы. Приходится все делать самому; когда меня нет, — все делается спустя рукава. Думаешь, что имеешь дело со взрослыми, разумными людьми, — на самом же деле это мальчишки… Я был в Москве, виделся кое с кем из стариков, но и там все разговоры, разговоры, а дела мало… Больше болтают, чем делом занимаются… А то, что делается, — делается со страхом и колебаниями»…
Мы в следующие главах увидим, каков был на деле сам автор этих строк, столь чудовищным образом воплощавший в себе идею террора.
У Новицкого была, таким образом, возможность следить шаг за шагом за приготовлениями покушения против губернатора Богдановича.
Он знал имена всех участников, и когда через портного и его дочь ему стало известно, что они собираются уже ехать в Уфу, то он послал шифрованную телеграмму министру внутренних дел фон Плеве с подробным изложением дела и с просьбой немедленно послать ему соответствующие инструкции.
Телеграмма ушла в 11 часов вечера. Новицкий надеялся получить ответ к двум-трем часам ночи. Он мог бы тогда приступить к арестам с раннего утра.
Но наступил третий час, прошел еще час — ответа, не было. Тогда Новицкий телеграфировал вторично. Никакого ответа. Между тем каждая минута дорога — надо было спешить. Наконец, в 10 часов утра пришла телеграмма министра, которая ошеломила бравого генерала, когда он ее расшифровал. Плеве приказывал ему ограничиваться получением сведений и немедленной их передачей по телеграфу министру. Новицкий повиновался. Он дал террористам спокойно уехать, а через два-три дня Богданович был убит.
Согласно этой версии, которую мы здесь воспроизводим ввиду ее крайней пикантности, но к которой мы относимся с большим недоверием, Плеве сознательно дал совершиться этому покушению для того, чтоб оправдать свою политику жестоких репрессий.
3. Возвышение Азефа
«Великое дело» Азефа, которое создало ему революционную славу, сделало из него общепризнанного вождя и окружило небывалым обаянием, — это два действительно удивительных по размаху, устройству и исполнению покушения против диктатора фон Плеве и великого князя Сергея Александровича. Понятно, почему эта слава делала Азефа в продолжение многих лет совершенно неуязвимым для всяких подозрений и обвинений, откуда бы они ни исходили.
После ареста Гершуни Азеф немедленно уехал, в мае 1903 г., в Женеву. Там он занялся изучением тех условий, при которых сызнова могла бы быть налажена революционно-террористическая деятельность партии. Он приходит к выводу о необходимости употребления новых, более могучих и действительных средств и в короткое время убеждает всех в верности своих взглядов. Уже старые террористы эпохи 1879–1880 гг. пришли на основании своего богатого террористического опыта к подобному же заключению. Их аргументация была метко и ярко выражена в любимой народовольческой поговорке «мало веры в револьверы». Гершуни часто повторял эту поговорку, восхищаясь ее краткостью и силой. Но Гершуни только мечтал о новых методах борьбы…
Азеф ввел террор в более высокий фазис развития. Он разрешил вопрос о, новой динамитной основе террора. Это считалось одной из крупнейших его заслуг. Он лично занялся тщательным изучением взрывчатых веществ и руководил оборудованием лабораторий. Азеф выработал целую систему чрезвычайно важных приемов, обеспечивавших впоследствии, по мнению боевиков, успех предприятий. Эти приемы беспрекословно были приняты партией, и Азеф следил за строгим и систематическим проведением их в жизнь. Они сводились к следующим основным принципам. Боевое дело должно было быть абсолютно отделено от общепартийной среды. Отделение это заходило так далеко, что боевики не имели права пользоваться никакими явками и квартирами, полученными через общую организацию, прерывали все связи с лицами, принадлежавшими к этой организации, и не должны были даже пользоваться ее паспортами, которые изготовляли или добывались самостоятельно «боевой организацией».
С своей обычной хладнокровной смелостью Азеф утверждал, что «при большой распространенности провокации в организациях массового характера, общение с ними для боевого дела будет гибельно».
Такое изолированное положение лишало, конечно, террористический отряд возможности получать от общей организации попадающие в ее руки сведения об образе жизни высокопоставленных лиц их привычках, знакомствах, деловых или должностных выездах и т. д. Но Азеф категорически утверждал, что и такие сведения дают мало пользы, часто проблематичны, а вместе с тем опасны. Он их отвергал, возводя зато в целую систему внешнее наблюдение за этими лицами, силами самой «боевой организаций». Все пускалось в ход, для этого азефская изобретательность была неисчерпаема.
Переодетые разносчиками, газетчиками, посыльными, извозчиками, простыми фланерами, нанимателями квартир в стратегических пунктах и т. п. революционеры деятельно собирали необходимые сведения. Дифференциация и обособленность шли еще дальше. Слежка, техника и выполнители были строго отделены друг от друга и связь между ними поддерживалась специальными лицами, на которых возлагались обязанности посредничества и руководства.
До тех пор пока покушение не было окончательно подготовлено, будущие исполнителя часто жили мирной «подчеркнуто-обывательской жизнью вдали», но зато когда наступил их час, со сцены сходили, по общему правилу, все те, чья помощь не нужна была, одним словом, все лишние люди. Оставались лишь революционеры, которые должны были по плану идти с бомбами, затем техник, изготовляющий бомбы и в случае неудачи снова принимающий и разряжающий их, да наконец, «старший офицер», служивший посредником между ними и лично наблюдающий за выполнением плана[49].
Картина, нарисованная выше, была бы неполной, если бы мы не прибавили к этому, что Азеф ввел в «боевую организацию» железную дисциплину, которой слепо подчинялись все находившиеся под его руководством боевики.
На этих новых началах Азеф преобразовал в июле 1903 г. «боевую организацию» и выработал во всех мельчайших подробностях план покушения против Плеве.
Преемник Сипягина, бывший директор департамента полиции фон Плеве, стал первым лицом в империи, чем-то вроде диктатора, без присвоения этого названия, облеченным безграничной и бесконтрольной властью над страной. Достигнув высшей ступени бюрократической лестницы, новый министр внутренних дел открыл новую эру самой разнузданной реакции. В лице этого бессердечного, холодно-жестокого честолюбца самодержавие приобрело крупную силу, беспощадную в репрессиях, хитрую, изворотливую, изобретательную и неутомимую в своей борьбе с революцией. Плеве не останавливался ни перед какими средствами для достижения своих целей. Первые кровавые погромы в Гомеле и Кишиневе были организованы, несомненно, им при помощи подонков общества, знаменитой впоследствии «Черной сотней», которой Плеве по праву может считаться в широкой степени основателем. Террористы надеялись, казнив его, обезглавить реакцию.
В начале 1903 г., когда еще Гершуни находился вместе с Азефом во главе «боевой организации», была сделана попытка покончить с Плеве, но средства, которыми располагали террористы, оказались недостаточными. Кроме того, полиция, предупрежденная Азефом, как это подтвердил обвинительный акт по делу Лопухина, приняла все меры предосторожности. Однако Азеф, сила влияния которого была построена главным образом на искусно рассчитанном обмане обеих сторон, не счел на этот раз нужным или выгодным для себя выдать террористов полиции, как не счел, вероятно, выгодным дать террористам убить Плеве. Имена участников покушения были им тщательно скрыты от правительства. Но полиции, благодаря указаниям Азефа, достаточно было изменить маршрут министра, чтоб покушение не удалось. Гершуни, приведенный в отчаяние этой неудачей, воскликнул: «Нет, видно это дело мне не по плечу».
И вот Азеф взялся, при восторженном одобрении своих ближайших друзей, привести в исполнение это трудное дело, оказавшееся не по силам Григорию Гершуни. В обстановке самой глубокой тайны, с крайней разборчивостью и проницательностью, привлекая самых одаренных, смелых и преданных молодых революционеров, он составил отборный отряд из Сазонова, Швейцера, Каляева, Доры Бриллиант, Покотилова, Савинкова и многих других. В этой работе ему оказывал некоторую поддержку только один Михаил Гоц.
Дальнейшие подготовления в продолжение последних месяцев 1903 г. происходили в Париже, куда Азеф перенес весь свой главный штаб. Члены «боевой организации», снабженные исправными паспортами, отправились по распоряжению Азефа один за другим в Россию. Через несколько недель Азеф сам последовал за ними, чтоб на месте лично руководить их действиями.
Как раз в это время против всемогущего министра внутренних дел велось аналогичное предприятие одной независимой революционной группой. Во главе этой группы находилась молодая террористка Серафима Клитчоглу. Когда Азеф при осуществлении своего плана наткнулся на параллельную деятельность этой группы, он заявил Клитчоглу и ее товарищам, что они должны немедленно отказаться от своих намерений и прекратить немедленно свою работу. Клитчоглу наотрез отказалась выполнить это требование. Азеф продолжал настаивать на своем. Он отрицал за своими соперниками право на свой риск и страх предпринимать дела, принадлежавшие исключительно ведению одной «боевой организации». Видя бесплодность дальнейших переговоров, Азеф резко порвал с Клитчоглу. Спустя некоторое время группа вся целиком попала в руки полиции. Среди революционеров этот крупный провал объясняли неопытностью и неосторожностью молодых террористов, которых Азеф тщательно пытался предостеречь и отвлечь, от слишком большого, непосильного дела, но которые, к несчастью, не хотели считаться с его «добрыми советами». На самом деле Клитчоглу с товарищами были выданы Азефом. Провокатор не любил соперничества и противоречия и без жалости отстранял все препятствия, оказывавшиеся на его пути. Донос повлек за собою не только гибель всей группы, но и многочисленные аресты среди революционеров, имевших непосредственные сношения с группой. В Петербурге в связи с этим делом было арестовано 31 человек, в Москве — 12, в Киеве — 14, в Ростове-на-Дону — 1 и т. д.[50]
Но, выдавая одной рукою отряд Клитчоглу, Азеф другою продолжал налаживать свое «лучшее дело» против Плеве. Полицейская его деятельность здесь наиболее чудовищным образом переплелась с его террористической деятельностью; обе они взаимно укрепляли и обеспечивали друг друга; в полицейском и в революционном мирах устанавливалось искреннее и глубокое убеждение, что Азеф служил каждому из них правдой и верой, между тем как он, в сущности, не служил ни тому ни другому. Доказательств этого слепого доверия верхов революции мы привели достаточно. Речь, произнесенная Столыпиным в Государственной думе, отрывки которой мы приводим в главе о политических последствиях азефщины, служит яркой иллюстрацией отношения к нему со стороны правительства.
Первая попытка «боевой организации» имела место 18 марта, поблизости от дома Плеве. За три недели до совершения убийства Азеф приехал в Петербург, поселился на конспиративной квартире Савинкова и Сазонова, прожил там безвыездно десять дней и оттуда руководил всем заговором. Когда последние подготовления были закончены, последние распоряжения отданы, Азеф, по своему обыкновению, покинул Петербург под предлогом чрезвычайно важного дела, которое требовало его присутствия в центральном комитете. Исполнение плана было поручено определенному числу террористов, между прочим, Сазонову, Каляеву, Савинкову, Швейцеру, Покотилову и др. Сазонов был переодет извозчиком. Четыре метальщика с бомбами ждали проезда министра. Но несмотря на предварительную добросовестную слежку, террористический отряд прождал напрасно два часа на своих постах и должен был удалиться, не встретившись с Плеве. Азеф назначил свидание Савинкову в Двинске. Но Савинков его там не нашел и в продолжение трех недель оставался вместе с остальными товарищами по «боевой организации» без всяких сведений о нем. Судьба Азефа их очень беспокоила, и некоторые высказывали опасение, не был ли он где-нибудь арестован. Тем не менее они упорно преследовали осуществление намеченного плана. Покушение было вторично назначено во второй раз на десятое апреля. За несколько дней до этого Покотилов по дороге в Петербург встретил случайно в поезде Азефа. Он рассказал ему о глубокой тревоге и опасениях, которое вызвало в «боевой организации» его исчезновение, о неудачах, постигших террористов, и об условиях, в которых они продолжают работать над делом Плеве. Азеф одобрил все принятые ими меры. Но в Петербург он все-таки не поехал[51].
Но не успел Покотилов пробыть несколько дней в Петербурге, как страшная катастрофа разразилась над террористами и расстроила все их планы. Покотилов поселился под вымышленным именем в Северной гостинице. Первого апреля привезенные им бомбы по неизвестной несчастной случайности взорвались, убив его наповал… Прошло несколько месяцев, прежде чем властям удалось установить личность погибшего… но и тут не обошлось без, правда, запоздалой помощи Азефа, который в обстоятельном донесении от 4 июля выяснил личность убитого.
Придя в уныние от этой новой постигшей их неудачи, члены «боевой организации», на которых отсутствие их «великого вождя» тоже действовало угнетающим образом, решили употребить свои силы на более легкое сравнительно предприятие. Постановлено было казнить свирепого киевского губернатора генерала Клейгельса, имя которого стало синонимом зверской расправы и мстительных бесчеловечных преследований революции.
Савинков и его товарищи направились в Киев. В этом городе Савинков внезапно очутился лицом к лицу с Азефом, которому он поспешил сообщить новые планы организации. Верховный глава «боевой организации» не скрыл своего крайнего недовольства этим явным нарушением его распоряжений: «Мы решили начать дело Плеве, — сказал он, — нужно довести его до конца. Как ваш глава, я формально запрещаю предприятие против Клейгельса и требую, чтоб вы вернулись в Петербург».
Террористы подчинились этому решению и вернулись в столицу.
В продолжение двух месяцев шли лихорадочные приготовления к «великому делу». В отряд были введены Азефом новые члены; техника доведена им до еще большего совершенства; все, что могло обеспечить успех и что могло быть предвидено человеческим умом, сделано. Покушение было назначено на 8 июля. Кольцо фатально смыкалось вокруг жизни Плеве. Но сама судьба, казалось, ожесточилась против террористов, преследуя их своими неудачами и точно охраняя жизнь первого министра Николая II. Один из главных участников покушения опоздал на поезд, который должен был доставить его в Петербург, и остальные члены «боевой организации» не могли из-за этой нелепой случайности собраться вовремя в назначенном месте. Исполнение плана было еще раз отложено на 15 июля[52].
Накануне 8 июля Азеф под предлогом нового неотложного дела уехал в Вильно. После неудачи между ним и Савинковым состоялось в этом городе условленное свидание. Азеф через него передал свои последние распоряжения «боевой организации» и назначил Савинкову свидание в Варшаве после покушения, которое на этот раз должно было, заявил Азеф, во что бы то ни стало удасться. Савинков, родившийся и долгое время живший в Варшаве, заметил Азефу на неудобства, которые представляет для него свидание в этом городе, где его легко могли узнать и арестовать. «Как, — насмешливо ответил ему Азеф, — ты боишься?» Насмешка достигла своей цели. Савинков, едва ли когда-либо испытывавший чувство страха, спокойно и коротко ответил: «Хорошо. Как хочешь. Я буду в Варшаве».
Савинков молча удалился. Никто за ним не следил. В тот же день он без всяких затруднений выехал из Петербурга. За исключением Сазонова и Сикорского, арестованных на месте взрыва, всем остальным членам «боевой организации» удалось разъехаться и отправиться за границу. Швейцер покинул столицу только на другой день, увезя с собою мешок с динамитом; несмотря на то, что вокзалы, о которых накануне растерявшаяся и ополоумевшая полиция совершенно забыла, охранялись полчищами шпионов и жандармов, ему удалось благополучно выбраться со своим опасным грузом.
В Варшаве Савинкова ждало разочарование. Азефа там не оказалось. Он выехал оттуда в Вену и из этого города послал в самый день покушения телеграмму в департамент полиции, создавая себе, таким образом, благоразумное и верное алиби.
Трудно разрешить запутанный и сложный вопрос о роли Азефа как «сотрудника» в этом необыкновенном деле. В какой степени полицейская камарилья, орудием которой он являлся, была осведомлена о действиях провокатора и прикрывала его? Эти вопросы связаны с общим и основным толкованием деятельности Азефа. Мы ниже изложим все гипотезы, которые были приведены, и подвергнем их беспристрастному анализу и оценке при свете собранных нами фактов.
Согласно гипотезе Бурцева «хозяин» Азефа, начальник политической полиции за границей Рачковский, все знал о заговоре. Эта странная личность, роль которой в организации русской провокации на протяжении чуть ли не нескольких десятков лет громадна, попала неизвестно по какой причине в опалу при всемогущем Плеве. Одним из мотивов удаления Рачковского явилось, как об этом заявил представитель социал-демократической фракции в Думе Покровский, его участие в провокационном убийстве в Париже генерала Сильвестрова, посланного за границу для наблюдения за русскими революционерами.
По другой версии, которую мы здесь приводим с большими оговорками и то только вследствие ее любопытного анекдотического характера, отстранение от дел всесильного сверхсыщика Рачковского имело другие, более «серьезные» причины. Царь Николай очень приблизил к себе некоего Филиппа, марсельца, спирита и пройдоху, которому удалось при помощи столоверчения, вызывания духов, в том числе духа «обожаемого родителя», совершенно овладеть духом самого всероссийского самодержца. Некоторые придворные котерии, которым новый фаворит стал поперек дороги, решили во что бы то ни стало отделаться от него и обратились к Плеве с просьбой выяснить темное прошлое авантюриста. Плеве это дело поручил Рачковскому. Но Филипп каким-то образом пронюхал о готовящейся против него интриге и прямо пошел горько жаловаться на это царю. Разгневанный Николай II приказал Плеве немедленно отрешить от должности Рачковского, что тем и было исполнено.
С этого дня Рачковский якобы возненавидел всеми силами своей души всемогущего министра. После своей опалы он занял пост директора какой-то кружевной фабрики в Варшаве, принадлежавшей бельгийской компании. Но мирная работа администратора мало удовлетворяла «мастера сыска», который глубоко тосковал по своей старой профессии. Он постоянно мечтал о возвращении к делам и мести виновнику своих бедствий.
Как бы там ни было и как бы маловероятной ни казалась эта версия, не подлежит никакому сомнению, что Рачковский поддерживал постоянные сношения с Азефом во время подготовительного периода покушения против Плеве и несколько раз встречался с ним в Варшаве, как об этом свидетельствует Бакай, служивший тогда в варшавском охранное отделении. Настойчивость Азефа при назначении свидания с Савинковым именно в Варшаве отчасти также подтверждает гипотезу о возможности сообщничества Рачковского.
Спустя две недели после казни Плеве Азеф участвовал в качестве члена русской делегации партии с.-р. на Международном социалистическом конгрессе в Амстердаме, о котором послал русскому правительству чрезвычайно обстоятельный доклад[53]. «Законспирированный с ног до головы», он в силу необходимости вынужден был на этом съезде стушеваться и избегать слишком публичных выступлений. Из конспиративных же соображений его друзья соскоблили на негативе фотографии, на которой были сняты участники конгресса, изображение главы «боевой организации».
В том же году, в сентябре, Азеф выдал правительству одного из наиболее преданных и одаренных пропагандистов партии, Слетова, который лично рассказал нам об обстоятельствах, предшествовавших его аресту и, по всей вероятности, определивших его. Между Слетовым и Азефом произошло крупное столкновение в одной группе по одному внутреннему организационному вопросу. После очень оживленных прений Слетов решил в знак протеста выйти из группы. Через некоторое время он отправился в Россию с очень важной пропагандистской миссией, которая была известна Азефу и нескольким старым лидерам. На границе Слетов был арестован. Впоследствии стало известно, что о его прибытии власти были предупреждены обстоятельной телеграммой в самый день его отъезда из Парижа[54].
Осенью 1904 года состоялась в Париже конференция всех оппозиционных партий России, за исключением российской соц. — дем. рабочей партии[55]. Азеф и Чернов представляли на этой конференции партию социалистов-революционеров, рядом с делегатами кадетов, Милюковым, П. Струве, кн. Долгоруким и представителями польских и финляндских партий. Эта конференция должна была быть строго конспиративной. Она должна была выработать общий план действий всех оппозиционных сил страны против царизма. План этот стал известен правительству даже прежде, чем он был сообщен главнейшим деятелям заинтересованных партий. Азеф в своем донесений описал все, что происходило на конференции, подробно излагая ход прений и воспроизводя все принятые там резолюции.
Благодаря Азефу в этот же период расстраиваются два довольно значительных террористических акта. В Сибири подготовлялось покушение против иркутского генерал-губернатора гр. Кутайсова. Азеф выдал террориста, которому было поручено совершение этого акта, и предприятие не удалось. По какой-то непонятной причине этот террорист не был арестован. Одновременно с этим Азеф освещает деятельность социалистов-революционеров на Кавказе и дает точные указания о покушении, готовящемся Владимиром Вольским против бакинского губернатора князя Накашидзе[56]. Вольский был арестован и предан военному суду.
Князь Дмитрий Хилков, известный аграрный деятель, решил вернуться в Россию, чтоб организовать крестьянские дружины. Азеф донес об этом намерении департаменту полиции. Он известил также об отправке отряда революционеров-техников в Болгарию для изучения особых способов изготовления взрывчатых веществ чрезвычайной силы, известных под названием «македонских снарядов».
Этой своей усиленной предательской деятельностью Азеф как будто старался сгладить или, вернее, уничтожить в правительственном лагере чьи-то подозрения, которые могли возникнуть после убийства Плеве. Возможно также, что он рассчитывал выдавать правительству как можно больше жертв в этот период, чтоб тем свободнее действовать впоследствии, создавая для себя и ближайших своих помощников своего рода полицейский иммунитет. Со слов Столыпина видно, что департамент полиции, слепо доверявший Азефу, руководился во всем, что касается террора, показаниями Азефа. Молчание Азефа было часто равносильно гарантии безопасности… Как бы там ни было, это обилие предательств в промежутке между двумя самыми крупными «делами» Азефа очень знаменательно.
Члены «боевой организация», не видавшие Азефа со времени покушения на Плеве, встретились с ним осенью 1904 г. в Женеве. При ближайшем участии Швейцера Азеф выработал план террористической кампании на следующий год. Дело Плеве, доставившее громкую славу «боевой организации» и вызвавшее сочувственный отголосок во всем мире, привлекло множество молодых революционеров из других общепартийных организаций к террору; Азеф выбрал из числа желающих несколько человек и затем разделил пополненную таким образом и усилившуюся «боевую организацию» на три отряда. Во главе первого отряда был поставлен Швейцер. Азеф отправил его в Петербург для исполнения приговора над генералом Треповым и великим князем Владимиром Александровичем, тем самым, который 9/22 января 1905 года устроил избиение рабочего народа Петербурга.
Второй отряд, предводительствуемый Борисом Савинковым, был послан в Москву. Его целью является убийство царского дяди, великого князя Сергея Александровича, прославившегося своим реакционным изуверством и своим усердным покровительством черносотенцев и союза русского народа.
Наконец, третий отряд, имевший своим назначением Киев, должен был организовать казнь генерал-губернатора Клейгельса.
Азеф до мельчайших подробностей выработал план каждого из этих покушений. Он снабдил террористов паспортами, при помощи которых они переправились через границу. Им же был дан динамит, которым была впоследствии начинена бомба Каляева. Все роли были им предварительно распределены, все случайности предвидены, всевозможные затруднения учтены и заранее устранены. Сам глава «боевой организации» остался за границей, где он рассчитывал пробыть в Женеве или в Париже до середины 1905 г.
Из всех предполагавшихся покушений наименее значительным было покушение на Клейгельса. Киевский отряд был поэтому также и менее многочисленным. Самый сильный и многочисленный отряд был петербургский. Среднее место занимал московский отряд под командою Савинкова. Казнь великого князя Сергея, которая среди террористических актов может быть поставлена почти наряду с казнью Александра II, была совершена сравнительно слабыми силами.
В Киеве террористов преследовала неудача за неудачей. Все их попытки разбивались о выраставшие непредвиденные препятствия. Казалось, что полиция была предупреждена и рядом искусных мер расстраивала все сложные махинации и планы революционеров. Однако ни один из участников этого дела не был арестован.
Заговор против великого князя Сергея, руководимый Савинковым, принял с самого начала благоприятный оборот. Начальник отряда следовал при выполнении плана точным и подробнейшим предначертаниям Азефа. Исполнителем был избран Каляев. Вначале покушение было назначено на 2 февраля. Оно не состоялось в этот день по причинам, о которых в ярких и прочувствованных выражениях Савинков рассказал потом в своих воспоминаниях о Каляеве.
«Великий князь уже в театре. Его карета мелькнула белыми огнями и скрылась. Прошли мгновения, годы… И я ничего не слышал…
Мгла и холод. Одинокие фонари мерцают. В далеких углах — ни зги, только какие-то тени…
И над башнями Кремля тучи — тяжелые, черные.
Вот он идет. Идет тревожно. Ищет глазами меня. Замерзший, усталый. Снег хрустит под ногами, и он уже близко, молчит и смотрит.
Пойми… Я боюсь: не преступленье ли против нас всех… Но иначе не мог, пойми… не мог… Рука сама опустилась… Ведь женщина, дети… Дети… За что… Пусть судят все, пусть ты судишь… Ведь ты мне веришь… Я не мог, я и теперь не могу… он весь дрожит и окоченевшими пальцами крепко сжимает свой сверток. Как бы боится расстаться.
Скажи, хорошо ли?… Ведь хорошо… Пусть живут… Разве они виноваты? Или ты думаешь, я боюсь. Нет, ты так не думаешь… Я подбежал к самой карете. Я замахнулся… Я увидел их и его… И хотел бросить… в него… и не мог… Рука опустилась… Понял, — умрут и они… Что делать?… Что делать?…
Поднимается ветер. По темным дорожкам сада вьется морозная пыль. Деревья стонут и осыпают нас искрами инея. Холодно. Пусть. Мы молчим и близко-близко жмемся друг к другу. Он говорит. И я слушаю его:
— Решай ты. Я один не берусь. Если нужно для нас, для партии, для всех, — на обратном пути их не будет. Ни его, ни ее, ни детей…
И опять молчит. Потом тихо добавляет:
— Ни меня… Думай. Но не обо мне. О партии и о них. Как решим, так и будет… Понял?! Как решим, так и будет!
Я вижу его глаза… И мне становится страшно. Мы вместе выходим. Вьюга бьет нас. Свистит и колет снежными иглами. Где-то вверху жалобно стонут куранты… Я целую его… И вдруг — жгучая боль, счастье без имени, без слов и без предела».
4 февраля великий князь был убит. В два часа с половиною пополудни карета Сергея Александровича покинула Николаевский дворец; когда она приблизилась к Сенатской площади, раздался оглушительный взрыв, который был слышен даже на отдаленных окраинах обширного города. Бомба, брошенная Каляевым, сразу убила великого князя, тело которого оказалось разорванным, раздробленным на мелкие клочья. Голова, шея, грудь и правая рука были оторваны и превращены в неузнаваемую массу, левая рука была сломана. Карета была разбита на тысячу мелких кусков, а кучер тяжело, смертельно ранен.
На одной из смежных улиц, спускавшейся к Кремлю, Савинков и Дора Бриллиант, которая изготовила бомбу Каляева, ждали развязки. Молодая девушка была взволнована, но непреклонна и сурова, проникнутая, как и ее сотоварищ, мыслью, что нельзя чувствовать жалости к тому, кто никогда не испытывал ее к другим, сожалеть о пролитой крови того, кто безжалостно и потоками проливал «черную» кровь.
Вдруг вдали показался бегущий куда-то в изорванном платье, без шапки уличный мальчишка, выкрикивающий испуганным задыхающимся голосом:
— Великого князя убили. Ему оторвало голову. Каляев был арестован через несколько минут после покушения, весь окровавленный, но со спокойным и ясным выражением на лице. Преданный военно-полевому суду, он был приговорен к смертной Казни. Всем известна история посещения его в тюрьме великой княгиней Елизаветой, женой убитого сатрапа. Каляев сам описал в потрясающем рассказе это свидание и свой разговор с княгиней. В этом столкновении с особенной яркостью выделилась простая и благородная личность террориста с его немного наивною и глубоко мистическою верой в великое дело. Для Каляева революция была религией. И смерть его была смертью великомученика.
Иван Платонович Каляев был казнен 11 мая в Петербурге, в Петропавловской крепости. Когда, за несколько дней до смерти, он узнал из письма матери, что в городе распространились слухи о его помиловании, он немедленно написал министру юстиции: «Как революционер, верный преданиям Народной Воли, я считаю, что долг и совесть моя приказывают мне отказаться от помилования».
При его казни присутствовали только несколько официальных лиц. Перед самой смертью он обернулся к дежурному офицеру и произнес с глубокой силой следующие слова:
— Скажите моим товарищам, что я вечно буду с ними…
Как в деле Плеве, так и в деле вел. кн. Сергея, Азеф резко отступил от своей обычной тактики, заключавшейся в том, что он отчасти, а иногда целиком, разрушал одной рукой, в интересах охраны, то, что создавал другой, в интересах революции. Азеф не дал департаменту полиции ни одного сведения, ни одного указания, ни одного косвенного намека о готовящихся покушениях в Москве, Киеве и Петербурге[57]. Действуя таким образом, он, несомненно, следовал не голосу убеждения или темного революционного чувства, как склонны были думать некоторые, а холодного, бессердечного, расчета, подсказывавшего авантюристу необходимость укрепить навсегда свое положение в партии.
Мы считаем тем не менее небесполезным дать здесь место тем многоразличным толкованиям этого наиболее крупного и вместе с тем наиболее темного дела Азефа.
В каждом из этих толкований могут содержаться кое-какие крупицы истины.
Все шаги и начертания террористического отряда были известны московской охранке. Но Петербург ничего не знал. Директор департамента полиции Лопухин ни о чем не был предупрежден своими подчиненными, Рачковским и др. Московские сыщики в продолжение нескольких дней не прекращали внешнего наблюдения за террористами и по пятам следили в особенности за тремя из них, в том числе Каляевым. Они даже телеграфировали в Петербург, испрашивая разрешения арестовать участников заговора, но им ответили, что не следует ничего предпринимать до получения специальных инструкций из столицы. Великий князь Сергей был тоже оставлен, как уверяет Бакай, в полном неведении о грозящей ему опасности. Охрана ограничилась усилением полицейской охраны, которой он обычно был окружен. В день покушения вел. князь выехал, не предупредив охраны. В тот же день получился, наконец, приказ об аресте Б. Савинкова и его сообщников… Но было уже поздно… Он не был даже арестован после покушения и ему удалось, благодаря паспорту, который ему был дан Азефом, покинуть без всяких затруднений первопрестольную. С такой же легкостью выбралась из Москвы и Дора Бриллиант, в продолжение многих месяцев свободно разъезжавшая потом по югу России.
Что произошло в Москве? Убийство великого князя совершилось ли вследствие нерадения местной охраны, не торопившейся с арестами из-за вмешательства департамента полиции?… Существовали ли еще и другие скрытные факторы, более могущественные, которые сознательно и умышленно не давали Рачковскому и его сообщникам действовать вовремя? Погиб ли дядя царя жертвой одной из тех драм, как об этом писал Жорес, которые вызываются беспощадной борьбою котерий, неизбежных в самодержавном строе? Вряд ли мы когда-нибудь об этом узнаем точную фактическую истину.
Но если даже допустить соучастие или сообщничество царской полиции в этом покушении, а следовательно, и ее осведомленность, то вопрос о роли Азефа должен быть разрешен отрицательно: Азеф ничего не сообщил полиции. Полученные ею сведения, если действительно таковые она получила, исходили, как и сведения о петербургском отряде, из другого источника.
Судьба этого последнего отряда была самая трагическая. Несмотря на его многочисленность, на его строгую организованность, на совершенство планов, выработанных до мельчайших деталей, ни одна из поставленных им целей не была осуществлена. Все члены его были выданы Татаровым, который сообщил правительству все, что он знал о заговоре, а знал он многое. Уже после провала отряда Азеф послал дополнительные[58] сведения. Почти весь отряд был захвачен; предательство Татарова стоило жизни многим из участников неудавшихся покушений.
Дело вообще началось при дурных предзнаменованиях. Глава отряда Максимилиан Швейцер, вернувшийся в Россию под видом английского артиста Мак-Куллоха, остановился в Петербурге в гостинице «Бристоль». 26 февраля в комнате швейцара, где он хранил в чемодане привезенные им бомбы, произошел неизвестно от какой причины страшный взрыв, во время которого погиб и сам Швейцер. Но несмотря на эту жестокую потерю, отряд все-таки продолжал свою работу.
В продолжение девятнадцати дней полиция оставляла террористов на свободе. Система Рачковского заключалась в том, что в делах, освещаемых секретными сотрудниками, к арестам приступали только в последнюю минуту, накануне или в самый день покушения, чтоб дать участникам как можно больше бы себя скомпрометировать и позволить полиции собрать о них как можно больше сведений. Таким образом, первоисточник этих сведений мог быть скрыт и от «сотрудника» отметались возможные подозрения[59].
Террористы были переодеты извозчиками, рассыльными и т. д. Взрывчатые вещества и бомбы хранились в верном месте, куда, казалось, охранники никогда не догадались бы сами направить свои поиски, а именно: на квартире дочери владимирского губернатора Татьяны Леонтьевой, прославившейся впоследствии своим убийством в Люцерне мирного французского коммерсанта, которого она приняла за Дурново[60].
Леонтьева состояла в это время членом «боевой организации». Полиция усиленно следила за террористами. Ни один их шаг не ускользал от внимательно наблюдавших за ними филерами. Начиная с 14 марта заговорщики стали бродить или поблизости от дома Трепова, или в окрестностях, где жил Булыгин, или же возле Мариинского дворца, где собирался совет министров. 16-го были произведены массовые аресты на улицах. Было взято больше двадцати человек. Среди арестованных оказались Татьяна Леонтьева, Барышанский, Марков, Трофимов, Моисеенко и др. У некоторых — Барышанского и Маркова — были с собою бомбы. Трофимов оказал при аресте энергичное сопротивление полиции. Он был осужден вместе с Марковым и Барышанским к бессрочной каторге. Остальные подпали под амнистию, провозглашенную после манифеста 30 октября.
Но все эти тяжелые неудачи с лихвой искупались блестящим успехом 4 февраля. После казни великого князя Сергея слава Азефа достигла своей высшей точки. Никогда еще в русских революционных партиях вождь не пользовался таким авторитетом и обаянием и таким слепым доверием своих товарищей. Под прикрытием партийного иммунитета, чувствуя свою полную безнаказанность и неуязвимость, Азеф открывает новую кровавую серию измен и предательств, точно стремясь окончательно упрочить свое положение в мире сыска и охраны.
Первою его жертвой стала Зинаида Коноплянникова, убившая впоследствии генерала Мина. Молодая террористка устроила в Москве динамитную мастерскую и организовала покушение против московского генерал-губернатора Дурново и московского же градоначальника ген. Медена. Выданная Азефом, Коноплянникова была арестована 12 сентября в Смоленске. В ее сумке была найдена гремучая ртуть для бомб и разные препараты, необходимые для изготовления взрывчатых веществ.
К этому же времени относится знаменитая саратовская история с выдачей и бегством «бабушки» Екатерины Брешковской, о которой нам уже пришлось говорить в предыдущих главах.
Азефская «манера» особенно ярко проявилась в этот период.
После последних покушений из членов «боевой организации» уцелело только три человека: Савинков, Дора Бриллиант и Азеф. Весною того же года Азеф обновил ее состав и принял в нее Зильберберга и несколько других террористов. Савинков и Зильберберг отправились в Киев для казни Клейгельса. Предприятие опять не удалось, так как Азеф предупредил полицию о готовящемся террористическом акте. Тогда ввиду трудности и сложности положения Азеф созвал в Нижний Новгород виднейших деятелей партии для обсуждения и выработки плана террористических действий в ближайшем будущем. На конференции он предложил организовать покушение на нижегородского губернатора Унтерберга. В то же самоё время он донес департаменту полиции о собравшейся, по его собственной инициативе, конференции и сообщил о принятом на ней решении убить Унтерберга. Затем Азеф на несколько дней уехал в Москву и по возвращении предупредил членов конференции, что они выслежены полицией и что им следовало немедленно разъехаться. Таким образом, предатель своим двойным ходом убил двух зайцев: добился одобрения в департаменте полиции за ценные указания и благодарности со стороны революционеров за то, что он «спас конференцию».
Савинкову, которому Азеф назначил свидание в Петербурге, он заметил, что слежка за ним не прекратилась. Савинков отправился к одному своему другу, у которого провел несколько часов. После его ухода полиция нагрянула к этому другу и, не найдя гостя, которого она искала, арестовала хозяина. В Финляндии Савинков узнал об этом аресте. Одновременно до него дошла другая новость, более печальная и более тяжелая: центральный комитет в Петербурге получил письмо, в котором известный политический деятель Татаров обвинялся в провокации. Речь, очевидно, шла об известной анонимке Меньшикова. Были также какие-то неясные слухи об Азефе. Но они не зародили в Савинкове «и тени сомнения в честности Азефа».
Глава «боевой организации» был выше всяких подозрений!
4. Азеф и революция
Русско-японская война, погубившая сотни тысяч людей ради империалистических грабительских интересов кучки царедворцев, бюрократов и промышленных дельцов, разбудила от вековой спячки темные массы народа, который мало-помалу стал понимать смысл бойни, устроенной самодержавием на далеких, чуждых полях Маньчжурии. Недовольство широко разливалось по стране. Все растущее сознание пролетарских масс в больших городах, организованных и воспитанных социал-демократией, оказывало свое влияние и на многомиллионную деревню, для которой не прошло бесследно освободительное движение последних десятилетий. Выступление рабочего класса всколыхнуло и крестьянство.
Началось это с грандиозного и мирного шествия рабочих к царю «за правдой» 9/22 января 1905 г., которое, как известно, кончилось кровавым побоищем. Волнения охватили всю страну. Они росли, крепли, усиливались и расширялись, проникая в самые отдаленные провинции. В ответ на забастовку петербургского пролетариата откликнулись все рабочие России. К забастовке сразу примкнули железнодорожники. Движение, точно по мановению волшебного жезла, остановилось всюду. В городах заводы, фабрики, мастерские и трамваи прекратили свою работу. Точно вся жизнь замерла, и, казалось, сосредоточенная, напряженная, сознавшая свою мощь страна ждала, готовая к отпору или к революционному нападению. Против самодержавия ополчились все общественные силы: интеллигенция, студенчество, часть крестьянства и даже часть буржуазии. Перепуганный надвигающейся революцией, царь капитулировал и 17 октября издал манифест, призывавший выборных народа к законодательству и управлению страной. Под напором народного движения правительство вынуждено было открыть двери тюрем и даровать свободу своим злейшим вчерашним врагам.
Ввиду создавшегося нового положения центральный комитет партии социалистов-революционеров постановил прекратить террор и распустить «боевую организацию».
Однако террористическая деятельность должна была в скором времени возродиться как в провинции, так и в самом Петербурге.
Реакция не сложила оружия и не признала себя побежденной. На другой же день после обнародования манифеста от одного конца империи до другого раздался клич, призывавший все «патриотические» элементы страны сплотиться вокруг «царя и православной веры» для борьбы с революцией. В сотнях городов были устроены «черной сотней» или «Союзом русского народа» при благосклонном содействии властей кровавые контрреволюционные беспорядки. Были организованы также многочисленные еврейские погромы. Но избивались без различия национальностей студенты, интеллигенты, сознательные рабочие, одним словом, все, кто только был заподозрен в сочувствии революции.
В ответ на все более и более угрожающий ход контрреволюции Советы рабочих депутатов в Петербурге и Москве решили провозгласить вторую всеобщую забастовку в ноябре месяце. Забастовка прошла с блестящим успехом в столице, но не распространилась на остальную Россию. Третья всеобщая забастовка, вызванная провокационной политикой обнаглевшего правительства, кончилась еще более плачевно: она потерпела полное крушение в Петербурге, несмотря на то, что была единодушно поддержана провинцией.
Пока в России развертывались эти трагические события, Азеф не бездействовал. Существуют, правда, самые противоречивые и смутные сведения об этой полосе его деятельности. Ему приписывали чрезвычайно крупную роль в московском и кронштадтских восстаниях. Он якобы находился во главе значительных революционных сил, которые он сознательно, предательски вел к гибели…
Но еще раньше, как только стали намечаться грозные революционные события, Азеф занялся выработкой обширного террористического плана против петербургского охранного отделения. Несколько раз он возвращался к этому плану, хотя мы напрасно стали бы искать упоминания о нём в официальных документах или заявлениях. Все осталось только в области проекта. Не было приступлено даже к попытке его осуществления. Тем не менее этот план, зародившийся в голове предателя в момент, когда торжество революции казалось некоторым почти обеспеченным, представляет огромный психологический интерес. Боязнь разоблачения, почти неизбежного при новом режиме, заставила его решиться на смелый фантастический и кошмарно-преступный шаг. Единственное спасение представлялось ему в уничтожении всех следов и живых свидетелей его преступлений. Громадные здания, хранившие документы политического сыска, вместе с его обитателями должны были быть разрушены, похоронив под своими развалинами личную тайну Азефа. С дьявольской изобретательностью он стал изыскивать и скоро нашел практический способ осуществления своего плана, требовавшего, правда, гибели нескольких террористов. Но чужая жизнь давно уж не имела никакой ценности в глазах Азефа, привыкшего ради личных своих целей с полным равнодушием посылать на виселицу даже «близких товарищей».
Специальный отряд террористов должен был в определенный час и день проникнуть в охранное отделение. На каждом из участников дела должен быть начиненный динамитом пояс. Это им давало бы большую свободу действий и отвлекало бы подозрение, которое вызывал бы непременно сверток в руках каждого из них. По условному знаку террористы, превратившиеся, таким образом, в живые бомбы, должны были одновременно взорвать себя и разрушить своим героическим жестом вековой архив худших преступлений царизма. Этот акт был бы, по словам Азефа, достойным завершением террористической деятельности партии.
Относительно достоверности этого плана не может быть никаких сомнений. Он нам лично был подтвержден Борисом Савинковым. Странным кажется лишь то, что Азеф не сделал ни малейшей попытки его практического осуществления. Подействовал ли на него быстрый упадок революции, которая (он не мог этого не предвидеть) была тогда уже проиграна, были ли у него еще какие-нибудь другие соображения, но он больше никогда не возвращался к своему фантастическому плану.
Вторая ноябрьская всеобщая стачка, как известно, ограничилась только Петербургом. Москва оказалась тогда неготовой и не поддержала столицы. Но это происходило не вследствие ее нереволюционности. Через несколько недель после ноябрьской попытки в Москве вспыхнуло могучее революционное восстание. Вся первопрестольная оказалась в одну ночь покрытой бесчисленными баррикадами. Перетрусившее правительство решило, однако, исчерпать все насильственные средства, чтоб раздавить восстание, прекрасно понимая, что речь идет о том, быть или не быть самодержавию, и что малейшая слабость, малейшее колебание, проявленное им, будет равносильно окончательному поражению и смерти старого строя. Из Петербурга были вызваны два гвардейских полка: Преображенский и Семеновский для подкрепления. Адмирал Дубасов, командовавший правительственными войсками, получил самые широкие полномочия и не остановился перед разрушением целых кварталов. В ход была пущена даже тяжелая артиллерия. Расстрелу подвергались отдельные дома, в которых засели революционеры. Несмотря на отчаянное сопротивление московских рабочих революция была побеждена. Порядок был водворен, зловещий «порядок» военно-полевых судов и виселиц.
Главная роль в организации и руководство московским революционным движением принадлежали социал-демократии. Понятно, что деятельность Азефа, даже в том случае, если бы он принимал непосредственное участие в революционных событиях, могла бы быть только второстепенной, не выходя из рамок деятельности его собственной партии. Склонность видеть во всех несчастьях, во всех неудачах и провалах предательскую руку Азефа заставила многих преувеличить его значение и его влияние там, где оно было ничтожно или где его совсем не было. По имеющимся у нас точным сведениям, которые мы лично почерпнули в официальном источнике партии социалистов-революционеров, Азеф приезжал в Москву в сопровождении В. Чернова до восстания и пробыл там всего несколько дней. Он даже высказывался против восстания, которое было неизбежно, неотвратимо. Вряд ли он мог в таких условиях значительно способствовать поражению революционных сил. Возможно, конечно, что хорошо осведомленный обо всем, что происходило в Москве, он сообщал департаменту или Рачковскому все, что ему было известно.
Иначе обстояло дело в Петербурге. Азеф предупредил правительство о подготовляемом партией социалистов-революционеров восстании в столице и выдал динамитную лабораторию, в которой Дора Бриллиант изготовляла бомбы для этого восстания. В продолжение всего этого периода терроризм был децентрализован и принял форму, главным образом, аграрных репрессий. Круг влияния Азефа, как и круг его предательства, оказался сильно суженным. Один за другим следовали казни саратовского губернатора С. Ахарова, черниговского — Хвостова, тамбовского вице-губернатора Богдановича и т. д. К этому же времени относится знаменитый террористический акт Марии Спиридоновой против организатора черной сотни Луженовского. Всем памятно мученичество этой молодой девушки, подвергшейся грубым насилиям и обесчещенной двумя казацкими офицерами, которые впоследствии заплатили жизнью за свое гнусное и преступное поведение.
После второй всеобщей стачки и Московского вооруженного восстания правительственный произвол проявляется с особенной разнузданностью вплоть до мая 1906 г., то есть до момента созыва I Государственной думы. Партия социалистов-революционеров решила возобновить свою террористическую деятельность еще в январе 1906 г. Целый ряд покушений был организован против министра Дурново, представлявшего самые крайние реакционные элементы в кабинете Витте, против адмирала Дубасова — усмирителя Москвы, против военного министра генерала Редигера, против великого князя Николая Николаевича, против генералов Мина и Римана и министра юстиции Акимова. В деятельности Азефа происходит резкая перемена. Он теперь служит исключительно интересам охраны. Он ничего не скрывает, ничего не утаивает от главарей сыска. Он систематически расстраивает и проваливает все предприятия, внося в ряды партии разрушение и несчастье. И только в последний год, когда над его головой стали собираться мрачные тучи подозрения, опять наметился поворот к старой тактике обмана на два фронта. Но к этому последнему периоду его карьеры мы еще вернемся ниже.
В мае 1906 г. Государственная дума собралась в Таврическом дворце. Первая сессия русского парламента, в котором преобладало оппозиционное большинство, вызвало в стране большие надежды. От Думы некоторые ждали разрешения всех жгучих, наболевших вопросов русской действительности. Партия с.-р. решила опять прекратить на время свою террористическую деятельность, которая возобновилась только после разгона первого русского представительного собрания. В тот момент, когда члены собрания приступили к разрешению аграрного вопроса… правительство вооруженной силой заставило их разойтись. Большинство депутатов, собравшихся в Выборге, решили выпустить воззвание, в котором советовали народу отказаться от уплаты налогов и военной службы. Почти одновременно трудовики и социал-демократы, заседавшие в Териоках, выпустили обращение к армии и флоту, призывая их восстать на защиту свободы.
Во многих городах отдельные воинские части откликнулись на призыв. Но эти беспорядочные бунты, не связанные между собою одним организационным планом, были всюду быстро подавлены. Самой крупной из этих попыток следует считать кронштадтское восстание, вспыхнувшее вслед за выступлением свеаборгского гарнизона. К восставшим примкнули пехота, часть кавалерии и матросы. На стороне революционеров оказались значительные силы, и в их руки попала большая часть фортов.
Во главе восстания находился исполнительный комитет, состоявший из пяти представителей социал-демократической партии и партии социалистов-революционеров. Кроме того, в работах комитета участвовали два делегата от центральных учреждений обеих партий. Если верить Бурцеву, Азеф был одним из этих делегатов и его роль и влияние было самым пагубным. Экипажи многих военных судов должны были перейти на сторону восстания, но когда к ним являлись с вестью, что все готово, то оказывалось, что они даже не были предупреждены. Часть из них выступала, но остальные войска, участие которых обеспечило бы победу, отказывались.
Кроме того, значительный отряд «бунтовщиков» был введен в заблуждение своим начальником, который, — может быть, по приказу Азефа, — вместо того чтоб овладеть некоторыми фортами, как это было заранее условлено, направил своих людей в противоположную сторону, где они столкнулись с «верными» правительственными войсками.
Восстание было жестоко подавлено. В продолжение многих недель военно-полевой суд выносил беспрерывно смертные приговоры или же осуждения на бессрочную каторгу. Террористы решили взорвать это кровавое судилище. Выбор Азефа пал на двух молодых женщин Мамаеву и Бенедиктову, которые без колебания и с героическим самопожертвованием согласились выполнить революционный приговор. Но в планы Азефа не входило успешное доведение до конца этого дела. Он обо всем предупредил полицию. Обе террористки были арестованы на одной из улиц Кронштадта в день покушения. На них были найдены две бомбы и они были приговорены к смертной казни. Бенедиктова, несмотря на свою беременность, — царские судьи не считались с подобными сентиментальностями — была расстреляна вместе со своей подругой.
5. Соперники
Положение Азефа в полицейском мире было исключительным. Правительство высоко ценило своего тайного сотрудника за неисчислимые услуги, оказываемые им в течение его многолетней службы. Если оно и знало о кое-каких его революционных «грехах», то охотно закрывало глаза на неизбежное зло. Чем выше поднимался Азеф, благодаря своей террористической деятельности, по революционной лестнице, тем больше дорожили им служители и охранители трона. Но как ни велика была, в их мнении, осведомленность провокатора, охранники пытались ввести в центр и других сотрудников. Два раза Азеф наталкивался на двух значительных соперников, которые, как и он, старались создать себе выгодное и крупное положение в партии и в полиции. И оба раза Азеф сумел удачно воспользоваться случайными обстоятельствами, чтоб избавиться от опасных конкурентов.
Мы уже упоминали выше об анонимке Меньщикова, полученной центральным комитетом в августе 1905 г. В этом документе разоблачались «некий Азиев» и бывший ссыльный Татаров. Но в то время как первый обвинялся в сравнительно мелких предательствах, второму приписывались такие крупные преступления, как выдача заговора против Трепова. В очень интересной статье С. Р. «Мои отношения к Азефу», помещенной в 9-10-й книжке «Былого», автор сообщает любопытные подробности об этой анонимке. Он находился на квартире у Р. как раз в то время, когда тому принесли знаменитое письмо. Р., просмотрев письмо, бросился в переднюю, чтобы расспросить посыльного, но того уже и след простыл. В письме, между прочим, указывался один из псевдонимов Азефа (Валуйский), под которым он прожил несколько дней в Москве. В тот же день Азеф зашел к Р. Тот, знавший Азефа только по партийной кличке «Ивана Николаевича», счел необходимым ознакомить его, как представителя центрального комитета, с полученной анонимкой. Азеф, прочитав письмо, возвратил его хозяину и заявил, что один из обвиняемых, а именно Азиев, это он — Иван Николаевич. Азеф был страшно взволнован и растерян. В Москве, куда он скоро уехал, Азеф явился к одному видному работнику, со слезами рассказал ему о случившемся заявил, что ему ничего другого не остается, как пустить себе пулю в лоб. Товарищ его стал успокаивать, уверяя его, что ни один партийный человек не усумнится в политическом характере доноса, явной целью которого являлось желание погубить «великого террориста», организовавшего дело Плеве и великого князя Сергея. Но эти слова, казалось, не умиротворили Азефа.
Письмо еще долго продолжало волновать и беспокоить его. Б. В. Савинков рассказывал нам, что, встретившись с Азефом некоторое время спустя, за границей, у М. Гоца, он стал ему передавать что-то об анонимке. Азеф его прервал, сказав, что он обо всем уже знает от самого Р. Он казался раздраженным, недовольным, говорил с возмущением о «гнусном письме», заявил, что ему нужно отдохнуть, что он устал, переработался и что, кроме того; его утомили все эти дрязги. Азеф уехал после этого в Италию.
Если донос не в состоянии был набросить даже тень недоверия и подозрения на Азефа, громкое прошлое которого создавало ему род партийной неприкосновенности, то он не мог во всяком случае пройти бесследно для Татарова. Известна интерпретация этого документа: чтоб погубить «неуловимого» и страшного ей террориста, полиция решила пожертвовать настоящим, подлинным и очень ценным сотрудником. Партия назначила комиссию для суда над Татаровым. Расследование по этому делу затянулось с осени 1905 г. до марта 1906 г. В сентябре вернувшемуся из Италии Азефу сообщили о медленном ходе работы комиссии.
— Эх вы! Зря тянете с этим делом! — презрительно воскликнул Азеф. — Тут не расследовать надо, а убить! Каких вам еще надо улик? Разве в таких делах бывают достаточные улики? Разве не видите, что это провокатор?!
Татаров защищался с мужеством отчаяния. Во время одного из допросов он пытался свалить всю вину на Азефа, которого он обвинил в свою очередь как агента-провокатора. Но в его обвинении ясно было желание выгородить себя — и на него не обратили никакого внимания. Кроме того, от некоторых партийных работников, амнистированных после 30 октября, получились показания, неопровержимым образом установившие роль Татарова в деле Трепова. Предатель был убит 22 марта в Варшаве. Один из членов «боевой организации» явился к нему неожиданно на квартиру и, не говоря ни слова, быстро вынул свой револьвер и выстрелил в него в упор. Татаров тут же скончался. Его убийца никогда не был раскрыт.
Татаров занимал в партии довольно крупное положение. Он был кандидатом в центральный комитет. В охранке на него, вероятно, тоже смотрели, как на восходящую звезду. Азефа это не могло не беспокоить. Татаров его стеснял. Он грозил ему в будущем всяческими Осложнениями. Не мудрено, что Азеф ухватился за первую же возможность отделаться от соперника.
Гапон казался, Азефу более серьезным и опасным противником, чем Татаров. И сообразно с этим его роль в казни запутавшегося в интригах священника была гораздо более активная и решительная. Жизнь Гапона зависела от Азефа. И казнь совершилась, потому что такова была воля Азефа.
Мы уже указывали, что побуждения, приведшие героя 9/22 января к сделке с царским правительством и царской полицией, остались еще до сих пор крайне неясными. Мы не можем здесь заняться вопросом о том, продался ли Гапон грубо и корыстно за деньги, или же он пытался двусмысленной тактикой, понятной у человека, лишённого твердых социалистических принципов и нравственного и политического чутья, обмануть бдительность врага и тем легче добиться осуществления своих революционных целей. Мы должны признать, что эта вторая гипотеза, разделявшаяся довольно значительной частью русского общественного мнения, находится в непримиримом противоречии с резкими и категорическими утверждениями Петра Рутенберга, организовавшего убийство Гапона.
В заявлении, напечатанном в центральном органе партии с.-р. «Знамя Труда», П. Рутенберг подробно изложил как историю измены Гапона, так и ту огромную, ответственную роль, которую Азеф сыграл в его трагическом конце.
9/22 января, когда петербургский рабочий люд разбегался в панике под братоубийственным огнем, открытым по нему по приказанию великого князя Владимира темной массой солдат, Гапон чуть было не погиб.
Он свалился рядом с Рутенбергом. Когда он пришел в себя, кругом него направо и налево валялись трупы. Рутенберг предложил выбраться оттуда, и они ползком добрались до какого-то двора, переполненного ранеными рабочими. По настоянию Рутенберга Гапон надел пальто и шапку одного из рабочих и передал ему все компрометирующие бумаги: доверенность от рабочих и петиции, которые он нес царю. Потом Рутенберг предложил ему остричься. Гапон не возражал. Окружавшие их рабочие с обнаженными головами и с благоговением, точно при великом таинстве, следили за этим символическим пострижением.
Волосы Гапона разошлись потом среди петербургских рабочих и хранились ими как реликвии.
С большим трудом Рутенбергу удалось спасти Гапона. С тех пор, несмотря на частое расхождение в мнениях, Рутенберг сделался его самым преданным другом. В своих воспоминаниях, в которых немного поражает суровость суждения автора о Гапоне даже первого периода, Рутенберг подробно рассказал всю историю взаимных отношений между ним и Гапоном. После 9 января он почти безотлучно состоял при Гапоне, поехал вслед за ним за границу и там сопровождал его всюду, помогая ему, направляя его и часто удерживая от ошибок и выпутывая его, из неловких положений, в которые он попадал благодаря своему полному незнанию революционной среды и неумению разбираться в партийных различиях и разногласиях. Вообще, если верить Рутенбергу, то он имел большое и благотворное влияние на Гапона, хотя с тревогой и болью замечал, что тот все мельчал, и нравственно и духовно падал под влиянием многочисленных и сложных факторов. Рутенберг должен был по поручению партии уезжать несколько раз в Россию, был даже раз арестован, и в его сношениях с Гапоном происходили значительные перерывы. После возвращения Гапона в Россию Рутенберг лишь случайно сталкивается с ним, относясь отрицательно к его возобновившейся деятельности среди рабочих, и, наконец, с декабря 1905 г., вследствие своего перехода на нелегальное положение, совершенно потерял его из виду.
6 февраля 1906 г. Гапон явился к нему в Москву и, если верить его заявлению, в грубой циничной форме предложил ему вступить в сношения с Рачковским, обещавшим 100 000 рублей за выдачу «боевой организации». В то же самое время Гапон рассказал ему о своих сношениях с министрами Витте и Дурново и с высшими чинами департамента полиции Рачковским, Лопухиным, Мануйловым и Герасимовым. Он также сообщил, что получил от правительства 30 000 рублей для организации рабочих и фальшивый паспорт для проживания за границей.
Рутенберг немедленно решил известить обо всем центральный комитет. Для этого он выехал в Петербург, но так никого не застал. Узнав, что Иван Николаевич (Азеф) находится в Выборге, он направился туда и передал ему со всеми подробностями свой разговор с Гапоном. Азеф был возмущен и ошеломлен рассказом Рутенберга и заявил, что с Гапоном нужно покончить, как с гадиной. Первоначально он предложил вызвать его на свидание в Крестовский сад, остаться там ужинать поздно ночью и, когда все разъедутся, поехать на лихаче «боевой организации» в лес и там «ткнуть его ножом и выбросить из саней». Но Азеф сам отказался от этого плана. Посоветовавшись с приехавшим членом центрального комитета Красновым, который указал на то, что при слепой вере в попа значительной части рабочих может создаться легенда, что он убит из-за зависти революционерами, которым он мешал и которые выдумали, что он предатель. Азеф пришел к выводу, что ввиду отсутствия всяких существенных доказательств виновности Гапона лучшим решением вопроса следует признать его убийство на месте преступления, во время его свидания с Рачковским. Рутенберг должен был согласиться на предложение Гапона, пойти вместе с ним в условленный ресторан для личных переговоров с Рачковским и там, в отдельном кабинете, убить их обоих. Азеф при этом заявил, что его особенно удовлетворит двойной удар: Гапон и Рачковский, так как давно уже думал о покушении на Рачковского… План был целиком выработан Азефом. Предполагалось симулировать убийство Дурново, чтоб поднять ценность Рутенберга в глазах Рачковского и заставить его вопреки своей обычной подозрительности искать свидания с Рутенбергом. Азеф дал этому последнему детальные инструкции: где, на каких улицах, в какие часы ставить извозчиков, где, в каких ресторанах бывать, как сноситься с ним, как получить разрывной снаряд и т. д. Рутенберг должен был порвать все связи с партийными организациями, не имел права ни с кем видеться, ни с кем сноситься. В случае неудачи Рутенберг должен был убить одного Гапона. Азеф, предвидевший возможность этой неудачи, все подготовил для убийства одного Гапона, которое по его настойчивому требованию должно было совершиться в Финляндии, между Петербургом и Выборгом… Но в последнюю минуту Рутенберг отступил от данных ему инструкций, увидя всю неуместность этого акта на финляндской территории, и нанял дачу в Озерках…
Рачковский назначил Рутенбергу свидание на 17 марта, в 10 час. вечера в отдельном кабинете у Контана. Но это, видно, был только пробный камень. Мастер сыска на свидание не явился. В начавшихся затем переговорах искусившийся в уловлении душ сыщик дал понять, что на свидание он согласится только в том случае, если Рутенберг докажет свои искренние намерения предварительной выдачей через посредство Гапона кое-каких ценных и секретных сведений.
Против Гапона начался как раз в это время жестокий поход в большой печати. Его обвиняли в присвоении рабочих денег, истраченных им на личные нужды, и в подозрительных сношениях с правительством[61]. Над Гапоном, отчасти по его собственной инициативе, должен был состояться общественный суд, в состав которого входили представители различных партий, в том числе и партии с.-р., публично изъявившей согласие на участие в этом суде. Рутенберг, конечно, не мог об этом не знать. И убедившись, что ему не удастся казнить одновременно Рачковского и Гапона и, следовательно, отмести возможные в будущем недоразумения, он решил еще раз повидаться с Азефом, чтоб получить определенные приказания от центрального комитета. Узнав, что его инструкции не исполнялись, Азеф «обозлился, стал грубо обвинять Рутенберга… в его неумелости, проваливающей все и всех»… и так и не дал определенного ответа[62]. Это было последнее свидание с Азефом. «В пятницу 24 марта, — пишет Рутенберг, — я сообщил лицу, через которое сносился с центральным комитетом (Азефом), что все готово. Но ни дня, ни места не сообщил. В субботу это лицо передало это лично Азефу. Азеф при этом имел возможность снестись со мною лично или через посредника по телефону»… Разумеется, не в интересах Азефа было предупредить приближавшуюся трагическую развязку… Со свойственной ему, ловкостью создав все условия преступления, сделав его почти неизбежным, он сам остался в стороне и мог впоследствии утверждать, что Рутенберг действовал на свой риск и страх. Если поведение Азефа, оперировавшего, кстати сказать, с крайней осторожностью в этом деле, вполне ясно, то этого отнюдь, к сожалению, нельзя сказать о поведении Рутенберга, принявшего молчание Азефа за согласие ЦК (принципиально не могшего дать подобного согласия ввиду суда) и забывшего, что все, что он знал о предательстве Гапона, он знал один и что если казнь Гапона вместе с Рачковским не нуждалась в санкциях и объяснениях, то убийство одного только Гапона должно было остаться загадочным…
Правда, Рутенберг решил заменить «улику» Рачковского «свидетельскими показаниями» и для этого пригласил группу рабочих, которые должны были подслушать разговор с Гапоном и убедиться в его виновности. Но несмотря на то, что этот план Рутенберга вполне удался, нельзя при чтении его записок отделаться от мысли, что, может быть, последние слова Гапона были искренни и что он действительно надеялся перехитрить правительство и ценою маленького предательства добиться великого успеха- Может быть, общественный суд был бы более справедливым и политически разумным решением вопроса, чем казнь… Но не следует упускать из виду, что по субъективным причинам Рутенберг не мог поступить иначе, чем он поступил…
Мы здесь воспроизводим почти целиком рассказ Рутенберга о трагическом конце Гапона.
Рутенберг вызвал его приехать в Озерки во вторник 28 марта.
«Гапона я застал в условленном месте… Встретил он меня, подсмеиваясь над моей нерешительностью: хочу, да духу не хватает идти к Рачковскому. Я ответил, что главная причина моих колебаний то, что люди погибнут. Всех повесят.
Гапон возражал и успокаивал меня:
— Можно будет их предупредить, они скроются. Наконец сорганизовать побег…
Он спрашивал, сколько это может стоить, предлагал деньги для этого… и развивал разные планы, как избавить тех, которых он выдал, от виселицы…
Мы подошли к даче… Рабочие находились в верхнем этаже, в боковой маленькой комнате, за дверью с висячим замком. Предполагалось, что я открою эту дверь, чтоб войти вместе с Гапоном, рабочие его обезоружат. Если надо будет — связать его, а потом судить.
Гапон первый поднялся наверх. Войдя в первую большую комнату, сбросил с себя шубу и уселся на диване, стоявшем в противоположном от дверей углу. Открыть дверь и выпустить оттуда людей я не мог. Началась бы стрельба, и я все и всех провалил бы. Я ходил по комнате, думая как быть. А Гапон говорил. И неожиданно для меня заговорил так цинично, каким я его ни разу не слыхал. Он был уверен, что мы одни, что теперь ему следует говорить со мною начистую.
Он был совершенно откровенен. Рабочие все слышали. Мне осталось только поддерживать разговор.
— Надо кончать. И чего ты ломаешься? 25 000 большие деньги.
— Ты ведь говорил мне в Москве, что Рачковский дает сто тысяч.
— Я тебе этого не говорил. Это недоразумение. Они предлагают хорошие деньги. Ты напрасно не решаешься. И это за одно дело, за одно. Но можешь свободно заработать и сто тысяч за четыре дела.
И Гапон повторил, что Рачковский божится, клянется, что дело Леонтьевой обошлось им в 5000 рублей всего.
— Они в очень затруднительном положении. Рачковский говорит, что у с.-р. у них сейчас никого нет. Были да провалились.
— Он назвал кого-нибудь?
— Нет. Сказал только, что два человека очень серьезные совсем было добрались до центра. Да провалились. Товарищи узнали. А им надо — понимаешь. А что, в Москве у вас есть что-нибудь? — спросил он, вспомнив что-то.
— Есть. С Дубасовым.
Он больше не расспрашивал, предоставив, очевидно, дальнейшее Рачковскому.
Я высказал опасение, что Рачковский меня обманет. Все расскажу, а он денег не даст. Гапон уверял, что этого не случится.
— Завтра в 10 часов вечера у Кюба. Ты можешь свободно ему все говорить. Он безусловно порядочный человек (sic!) и не надует. Заплатит даже с благодарностью, как только убедится, что дело серьезное. Ты в этом не сомневайся. Я тебе говорю. На всякий случай можно сразу всех карт не открывать. А если надует, мы его убьем.
Я ему опять сказал, что главное препятствие для меня в том, что люди погибнут.
— Да ты не смущайся. Ведь я тебе рассказывал, что они арестовывают только тогда, когда все созреет, как бутон. Значит, ты сможешь предупредить товарищей. Скажешь, что узнал из верного источника, что неладно и что надо немедленно скрыться. И все. А мы тут ни при чем. Мы скажем Рачковскому, что люди заметили слежку и разбежались.
— Как же они скроются. Рачковский на другой день после нашего свидания приставит к каждому из них по десяти сыщиков. Ведь их всех повесят.
— Как нибудь устроим побег.
— Ну убежит часть. Остальных все-таки повесят.
— Жаль… Ничего не поделаешь. Посылаешь же ты, наконец, Каляева на виселицу…
— Да, ну ладно.
Я заговорил о риске с моей стороны.
— Если X. узнает о моих сношениях с Рачковским, он без разговоров пустит мне пулю в лоб.
— Неужели пустит?
— И глазом не моргнет.
Некоторое время молчание. Гапон ходит в раздумье по комнате.
— Нет, не сможет он этого сделать. А главное-доказательств нет. Не пойман за руку — не вор. Пусть докажут. Документов ведь никаких нет. А обставить дело практически так, чтоб товарищи тебя не заподозрили, об этом позаботится Рачковский. Он человек опытный. В его практике много уж таких случаев было. Те теперь благоденствуют. Почтенные члены общества. И никто ничего не знает…
Я спросил, сколько он получает от Рачковского за это дело. Гапон ответил, что покуда ничего, а сколько получит — не знает.
— Ты богач теперь. У тебя много денег должно быть.
— Почему?
— За книгу получил тысячу фунтов стерлингов. Да 50 000 от Сокова.
— Все израсходовано. (Гапон говорил об этом не охотно.) Рабочим много денег отдал. У меня теперь рублей тысяча всего осталось. Но мне и не надо много… Ты видел, как я скромно живу.
— Куда же ты девал деньги? Ведь отделы ты устраивал на виттевские.
— Петров за границу уезжал. Пришлось на дорогу дать. Другим еще. Есть семьи рабочих, которые я поддерживаю каждый месяц.
Рутенберг спросил его, что он думает о суде, о выдвинутых против него обвинениях в расхищении рабочих денег, которые ему были доверены. Гапон ответил с пренебрежением, что это пустяки.
— Ну, а если бы рабочие, хотя бы твои, узнали про твои сношения с Рачковским?
— Ничего они не узнают. А если бы я узнали, я скажу, что сносился для их же пользы.
— А если бы они узнали все, что я про тебя знаю. Что ты меня назвал Рачковскому членом боевой организации, другими словами, выдал меня; что ты взялся соблазнить меня в провокаторы, что ты взялся узнать через меня и выдать боевую организацию, записал покаянное письмо Дурново?…
— Никто этого не знает и узнать не может.
— А если бы я опубликовал все это?
— Ты, конечно, этого не сделаешь и говорить не стоит. (Подумав немного.) А если бы и сделал, я напечатал бы в газетах, что ты сумасшедший, что я знать ничего не знаю. Ни доказательств, ни свидетелей у тебя нет. И мне, конечно, поверили бы.
Я невольно направился к двери, чтобы показать ему „свидетелей“, но сдержался… Говорить мне с ним больше незачем было. Но чтоб выиграть время, сообразить и решить, как быть, я возвращался к прежним вопросам и опасениям. Из его ответов я узнал, что о „нашем деле“ знают только Рачковский, Дурново и царь.
Тут произошла следующее. Гапон меня спросил, где уборная. Я спустился с ним вниз, показал и сам хотел вернуться наверх.
Дверь уборной находилась рядом с дверью черной лестницы, ведущей на верх дачи. Товарищ, игравший роль „слуги“, находился не вместе с другими, в маленькой комнате, а рядом за дверью. Когда он услышал, что мы спускаемся, ему вздумалось тоже сойти вниз но своей лестнице. А когда Гапон подошел к уборной, они столкнулись лицом к лицу. Слуга опешил и бросился назад по лестнице. Гапон в свою очередь кинулся ко мне, на стеклянную террасу, выходящую на озеро.
— Какой ужас. Нас слушали.
— Кто слушал?
Он стал описывать одежду и лицо человека.
— У тебя револьвер есть? — вдруг спросил он.
— Нет. У тебя есть?
— Тоже нет. Всегда ношу с собою, а сегодня, как нарочно, не взял. Пойдем посмотрим.
Мы прошли низом дачи и поднялись наверх. Гапон шел впереди. Заметив открытую дверь на черную лестницу, он прошел туда, заглянул за дверь и увидел того, кого искал.
Он отскочил, как ужаленный. Молча, с остановившимися зрачками, стал меня толкать туда. Потом шепотом сказал:
— Он там.
Я пошел. Вывел за руку оттуда „слугу“ и не успел слова сказать, как Гапон одним прыжком бросился на него, умудрился в один миг обшарить его, уцепился за руку и карман, где у того был револьвер, и прижал его к стене.
— У него револьвер. Его надо убить. Я подошел, засунул руку в карман „слуги“, забрал револьвер, опустил его молча в свой карман.
Я дернул замок, открыл дверь и позвал рабочих.
— Вот мои свидетели, — сказал я Гапону. То, что рабочие услышали, стоя за дверью, превзошло все их ожидания. Они давно ждали, чтоб я их выпустил. Теперь они не вышли, а выскочили, прыжками, бросились на него со стоном: „А-а-а-а!“ и вцепились в него. Гапон крикнул было в первую минуту: „Мартын!“ — но увидел перед собою знакомое лицо рабочего и понял все.
Они его поволокли в маленькую комнату. А он просил:
— Товарищи, дорогие товарищи. Не надо.
— Мы тебе не товарищи. Молчи. Рабочие его связали. Он отчаянно боролся.
— Товарищи, все, что вы слышали — неправда, — говорил он, пытаясь кричать.
— Знаем. Молчи!
— Я сделал все это ради бывшей у меня идеи…
— Знаем твои идеи!
Все было ясно. Гапон — предатель, провокатор, растратил деньги рабочих. Он осквернил честь и память товарищей, павших 9 января. Гапона казнить…
Гапону дали предсмертное слово.
Он просил пощадить его во имя прошлого.
— Нет у тебя прошлого. Ты его бросил к ногам грязных сыщиков, — ответил ему один из присутствующих.
…В семь часов вечера все было кончено.
Я не присутствовал при казни. Поднялся наверх, только когда мне сказали, что Гапон скончался. Я видел его висящим на крюке вешалки в петле. На этом крюке он остался висеть. Его только развязали и укрыли шубой…
Все ушли… Дачу заперли».
Смерть Гапона, в котором многие продолжали видеть славного героя 9 января, произвела ошеломляющее впечатление на русское общество. Всех волновал вопрос: кем был убит Гапон — революционерами или правительством. Молва утверждала даже, что труп, найденный в Озерках, вовсе не был трупом Гапона. И вокруг загадочного исчезновения создавалась медленно целая легенда.
На Рутенберга отказ центрального комитета признать убийство Гапона партийным актом подействовал потрясающим образом. Напрасно он доказывал в целом ряде официальных писем и обращений, что он получил вполне ясные и точные инструкции от Азефа (принятые этим последним на совещании с Субботиным и Красновым, в присутствии самого Рутенберга), — центральный комитет это отрицал. Да и на самом деле Азеф сумел себя так поставить, что формально был прав. Напрасно также Рутенберг требовал назначения следствия — Азеф этому воспротивился. Этого было вполне достаточно. Азефу слепо доверяли. К его мнению присоединились, не вникнув в сущность дела. И только после разоблачения провокатора стал понятен истинный смысл его роли в убийстве Гапона.
Сообщал ли Азеф о готовящемся убийстве Гапона Рачковскому? Вряд ли. Против этого говорит слишком искреннее желание Азефа отделаться одновременно от своего «вдохновителя и учителя». И не его была вина, если «двойной удар, который его особенно удовлетворил бы», не удался. Он мог по крайней мере утешаться тем, что хоть часть плана выполнена и опасный конкурент навсегда устранен.
Возможно, что Рачковский сам предвидел кровавую развязку в Озерках. Он был слишком опытный совратитель и знаток, чтоб понимать, куда заведет Гапона его опасная игра. Ведь он должен был знать, что Рутенберг не принадлежал к «боевой организации» (через Азефа или Татарова), и, вероятно, догадывался, что тем руководят иные побуждения, чем желание продаться в провокаторы. К тому же Рутенберг вопреки инструкциям Азефа ничего не сделал для симуляции убийства Дурново, что Рачковскому нетрудно было установить и сделать надлежащий вывод.
Сам Гапон как «сотрудник» не представлял никакой ценности, так как он был слишком скомпрометирован. Но он представлял известную опасность для правительства своим влиянием на рабочих и возможностью повторения 9 января. Рачковский, кажется, разгадал Гапона, способного на падения, но способного также наделать и большие неприятности в будущем. И он решил толкнуть его на «вешалку».
6. Разгул предательства
Систематический и всесторонний обман, основанный на тонком, почти безошибочном, математическом расчете, проходит красной нитью через всю деятельность Азефа, вплоть до 1906 г. Вся эта деятельность- искусная, двойная игра, сложная и замысловатая интрига, соединение предательства, холодного и бессердечного, с «упорным, безупречным служением революции», постоянного расстраивания одних покушений с умелым ведением и доведением до конца других, и притом таких смелых, как предприятие против Плеве и великого князя Сергея. Однако уже за этот, самый продолжительный, период его деятельности, легко установить, что предательский, полицейский элемент постоянно, последовательно нарастал… Но с 1906 г. в «тактике» Азефа произошел неожиданный и резкий перелом. Почти все террористические покушения стали неизменно проваливаться, и если некоторые удавались, то только благодаря необыкновенным стечениям обстоятельств, совершенно ускользающим от человеческого предвидения и против которых оказывались бессильными все полицейские ухищрения.
Вместе с провалом предприятий, которым, казалось, был обеспечен верный успех, погибали целые организации. Когда дело касалось «боевой организации», то есть непосредственных сотрудников Азефа, то всегда как-то так выходило, что в последнюю минуту, при, казалось, безвыходном положении, она ускользала от окончательной гибели. Азеф «спасал» ее, заставляя «всех удивляться своей ловкости». Щадили ли эту центральную группу ради ее главы, или действительно Азеф искусным ходом ее выводил из опасного тупика, куда сам толкнул ее, — трудно сказать. Но так или иначе, а все попытки террористов кончались для них полным посрамлением; Работа «боевой организации» превращалась в бесплодное и деморализующее топтание на одном месте.
Судьба независимых и автономных организаций была гораздо плачевнее. Азефу и полиции незачем было их сохранять. И каждый раз, когда Азефу попадали в руки какие-нибудь тайные сведения о готовившихся покушениях, он не только старался расстраивать их, но выдавал головою их организаторов. Вот эти-то повторные и частые провалы, эти катастрофические бедствия, разражавшиеся над целыми коллективами, это упорное, методическое разрушение, вносимое опытной рукой в спаянные железной дисциплиной и непроницаемой конспиративностью боевые группы и отряды, и привели многих к убеждению в центральной провокации: мало-помалу все подозрения концентрировались на Азефе. Эти подозрения встречали, конечно, резкий, негодующий отпор со стороны центра, который помимо «славного прошлого» был еще ослеплен фактом сохранности «боевой организации», то есть непосредственных помощников, сотрудников и подчиненных Азефа, как вообще всех близко с ним соприкасавшихся работников. Обвинения, помимо всего остального, не находили реальной почвы и отвергались с омерзением и угрозами.
Последний фазис полного, безудержного разгула предательства в деятельности Азефа совпадает с моментом его ареста в марте 1906 г. в Петрограде. В своем показании на процессе Лопухина генерал Герасимов рассказал, при каких обстоятельствах произошло это странное событие. Агенты охраны в результате слежки арестовали какого-то неизвестного, предъявившего бумаги на имя Черкасова. Через два дня после его задержания он объявил, что он раньше служил в департаменте полиции, под именем Виноградова. По словам Герасимова, Азеф с некоторого времени порвал свои сношения с полицией. Но это заявление также, «вероятно», соответствовало истине, как другое утверждение генерала-охранника, что Виноградов-Черкасов-Раскин-Азеф только к этому времени вступил в «боевую организацию».
По мнению Бориса Савинкова, этот арест имел целью заставить Азефа с большим усердием и добросовестностью относиться к своим полицейским обязанностям. Его упрекали в том, что он скрыл от департамента полиции много известных ему фактов, и предостерегали от подобной забывчивости в будущем, намекая на неприятные последствия, которые это может повлечь. Во всяком случае, с этой минуты Азеф больше не подавал политическому сыску поводов к недовольству…
Первый ряд крупных террористических неудач относится к концу января и началу мая 1906 г., то есть ко времени открытия Государственной думы. Многочисленные покушения, направленные против Дурново, которыми Азеф сам руководил на месте (с Савинковым, в качестве главного помощника), все без исключения проваливаются или вследствие постоянных изменений маршрута (предупреждений) министра, или же вследствие усиленной слежки (по счастью), вовремя обнаруживаемой Азефом. Затем следуют бесплодные попытки, кончающиеся неуспехом по аналогичным же причинам, против великого князя Николая Николаевича, министров Акимова и Редигера, генералов Римана и Минна, которые совместно с русским Галиффе-Дубасовым — поработали над кровавым подавлением московского вооруженного восстания. Против адмирала Дубасова было организовано, по крайне мере, 9 покушений. Все эти покушения постигает одна и та же жалкая участь. В последнем из них роль Азефа была более двусмысленной.
Это покушение (23 апреля 1906 г.) отличалось чрезвычайной драматичностью. Азеф лично расставлял террористов по улицам, по которым должен был проезжать Дубасов. Кровавый адмирал мог выбрать один из трех имевшихся путей, а между тем в динамитной лаборатории успели изготовить только две бомбы, с которыми метальщики заняли два господствующих пункта. Но, видно, сама судьба преследовала террористов. Дубасов «выбрал» третий путь… Борис Мищенко-Вноровский, один из участников этого дела — он в предыдущих попытках участвовал то одетый кучером богатого аристократического дома, то корнетом, то мичманом Черноморского флота, — вдруг заметил Дубасова, проезжавшего по другой улице. С бомбой в руках — он с нею не расставался в продолжение последних нескольких недель — он бросился вперед на эту улицу, на которой не было метальщика, и, добежав на десяток шагов от кареты Дубасова, размахнулся и с силою кинул в нее свой снаряд. Бомба легко ранила самого Дубасова, убив наповал его адъютанта, графа Коновницына, и виновника взрыва, самоотверженного Мищенко-Вноровского.
В этом деле (и в деле Дурново) Азеф круто изменил свои личные приемы. Обыкновенно, даже при самых крупных покушениях, организованных, им, он в последнюю минуту удалялся, стараясь находиться как можно дальше от театра террористических действий. На этот раз он сам на месте руководил всем заговором: Он все время находился поблизости, в кофейной Филиппова, следя за ходом развертывающихся событий и готовый в любую минуту отдавать необходимые приказания. Когда после взрыва полиция стала хватать и арестовывать всех, казавшихся ей подозрительными, Азеф попался вместе с другими. Само собой разумеется, что дело замяли, и Азефа скоро отпустили… Товарищам он рассказал, что его задержали, но что в участке он сумел так импонировать своим видом и своими прекрасными бумагами, что полиция, извинившись, его немедленно освободила. Нетрудно догадаться; какого рода были эти «бумаги».
После перерыва террористических действий, вызванного созывом первой Государственной думы, партия решила возобновить свои активные выступления против правительства, которое отдало приказ о разгоне Думы. Первый удар должен был быть направлен против виновника государственного переворота, председателя совета министров Столыпина. «Боевая организация» в продолжение нескольких недель деятельно занимается внешним наблюдением за Столыпиным, устанавливает точно его маршруты, часы его выездов и вообще перемещений, но каждый раз, когда она пытается перейти к реализации своих планов, она наталкивается на непреодолимые препятствия. Якобы обескураженный, Азеф, наконец, заявляет, что он не может больше руководить боевой деятельностью, что при наличных технических средствах борьбы, которыми он располагает, он бессилен достигнуть каких-нибудь существенных результатов… В специальном докладе ЦК он подробно изложил эту свою точку зрения, прибавив, что, пока «не будут найдены более могучие технические средства борьбы», он не сможет продолжать свою работу. Распустив «боевую организацию» (дело происходило осенью 1906 г.), Азеф уехал за границу.
Весь состав «боевой организации» стал на точку зрения Азефа. Все решили уйти от работы, чтоб вернуться к ней лишь тогда… «когда создастся новая техническая база борьбы, настолько же высшая по сравнению с динамитной, насколько динамит действительнее традиционного браунинга».
Какие тайные цели преследовал Азеф? Стремился ли он привести партию к упразднению, под благовидным предлогом, террора? Или же им руководили личные соображения, и, чувствуя, что игра, которую он вел последний год, слишком опасна и может привести его к страшному провалу, хотел с честью выйти из создавшегося положения, сохранив неприкосновенным и свой былой авторитет, и ореол прошлого величия? Возможно, что действовали разом оба побуждения.
Центральный комитет партии, хотя и не протестовал против роспуска «боевой организации», отнесся, однако, отрицательно к этому акту. Он не разделял точки зрения Азефа. Часть боевиков поколебалась и вернулась к работе, но террор перешел теперь в руки независимых автономных организаций, состоявших часто из бывших боевиков центра, но действовавших за собственный риск и страх и под своей ответственностью. Центральный комитет и Азеф, конечно, были осведомлены о всех предприятиях, затеваемых ими. На этот раз дело далеко перешло границы невинной «игры вничью». Зловещие пророчества Азефа сбылись. Наступила полоса провалов и виселиц. Гибель грозила всем, и ничто не могло спасти их. Ведь Азеф был «непричастен» к этим организациям.
Террор в этот период сосредоточился, главным образом, в руках двух «летучих отрядов» — центрального и северного, которые взяли на себя задачу беспощадной противоправительственной борьбы. Во главе «центрального боевого отряда» находился, бывший член «боевой организации» Лев Зильберберг, более известный под именем Штифтаря, молодой студент-естественник Московского университета, двадцати одного года: Штифтарь был присужден к четырехлетней ссылке в Сибирь. Благодаря амнистии 30 октября ему не пришлось отбывать срок ссылки. Выйдя на свободу, он вскоре вступил в главную террористическую организацию. Летом 1906 г. он устроил успешный побег Савинкова. В партии на него смотрели как на выдающуюся сильную личность.
Первая попытка «центрального боевого отряда» была направлена против графа Игнатьева, одного из столпов ультрареакционной придворной камарильи, вдохновителя и щедрого покровителя черной сотни. Этот свирепый царский опричник пал 9/22 декабря 1906 г. под выстрелами Сергея Николаевича Минского.
Азефа тогда не было в России. Но как член ЦК он внимательно следил за деятельностью «летучих отрядов», и в своем уме решив их участь, собирался сообщить полиции все известные ему данные. В деле гр. Игнатьева не оказалось никаких следов его предательства. Непосредственно за этим убийством отряд приступил к организации нового покушения — против петербургского градоначальника фон дер Лауница. Этот крупный чиновник давно уже был предметом ненависти широких слоев населения. Еще в бытность свою тамбовским губернатором он отличился своим жестоким характером, безграничным произволом и самодурством, проявленными им в вверенном ему крае, и в особенности своим бесчеловечным отношением к политическим. При нем произошла история с Марией Спиридоновой…
В Петербурге он успел восстановить против себя решительно всех своими репрессивными мерами.
Азеф предупредил департамент полиции о подготовлении длившегося несколько недель покушения против петербургского градоначальника, но, находясь за границей, он не мог сообщать полиции о тех видоизменениях, которые обстоятельства заставляли иногда внезапно вносить в первоначальный план революционеров.
Три члена «центрального боевого отряда» играли главную роль в этом деле. Это были: Лев Зильберберг, Сулятицкий и террорист, носивший кличку «Адмирал» и настоящее имя которого так и осталось нераскрытым.
В последнюю минуту «Адмиралу» удалось раздобыть пригласительный билет на освящение какой-то больницы, на котором должен был присутствовать фон дер Лауниц, Это обстоятельство опрокинуло все планы «центрального боевого отряда» и ускорило час развязки. «Адмирал», не предупреждая товарищей, отправился (21 декабря 1906 г.) на официальное торжество и там, приблизившись к фон дер Лауницу, стоявшему рядом с принцессой Ольденбургской, произвел в него из браунинга три выстрела. Фон дер Лауниц, тяжело раненный, упал и через несколько минут скончался. Во время происшедшей затем паники «Адмирал» был убит двумя выстрелами в упор каким-то жандармским офицером. Таким образом, в этом покушении непредвиденное обстоятельство и быстрое и внезапное решение одного из организаторов разрушили все хитроумные расчеты полиции и Азефа.
Спустя короткое время уцелевшие главари «центрального боевого отряда», Зильберберг и Сулятицкий, были захвачены полицией. Их арест совпал с возвращением Азефа в Россию.
Мы уже указывали (в главе «Разоблачение предателя») на некоторые подозрительные странности Шемякина суда, устроенного над этими молодыми террористами. Нет никакого сомнения, что смертный приговор и казнь были результатом «добросовестного освещения» их деятельности Азефом, который сообщил исчерпывающие в убийственные данные о них полиции. На основании этих показаний предателя Зильберберг и Сулятицкий обвинялись не только в соучастии в деле убийства фон дер Лауница, но и в попытках покушения против великого князя Николая Николаевича, ставшего после смерти Сергея и полуотстранения Владимира средоточением всех реакционных элементов при дворе.
План «центрального боевого отряда», состоявший в том, чтоб взорвать поезд, в котором великий князь ездил в Царское Село, отличался чрезвычайной простотой и тем не менее план пришлось слегка изменить. Последняя попытка практически осуществить его потерпела неудачу из-за бессмысленной случайности. За несколько минут до прихода поезда один из исполнителей проник через калитку, ключ от которой революционеры успели предварительно достать, на полотно железнодорожного пути, воспрещенного для доступа посторонних лиц. Исполнитель был одет железнодорожным служащим. Но в то время, как он опускал на землю свой ящик с гремучей ртутью, к нему подошел какой-то контролер, которому его поведение показалось, видно, подозрительным. Видя, что дело провалено, террорист выхватил револьвер и приставил его прямо к груди контролера, который с криком в ужасе пустился от него бежать во весь дух. На вокзале произошло неописуемое смятение. Поезд великого князя был немедленно остановлен телеграфным приказанием. Что касается виновника неудавшегося покушения, то ему удалось скрыться в первые же минуты замешательства.
Вина за разгром другой независимой организации также всецело лежит на совести Евно Азефа. «Северный летучий боевой отряд» состоял исключительно из одаренных революционеров, замечательных техников, людей редкой отваги и конспиративной выдержки. В их числе можно назвать Альберта Трауберга, известного под именем Карла, находившегося во главе отряда; Лебединцева, вернувшегося в Россию с итальянским паспортом на имя журналиста Кальвино и казненного под этим ложным именем; Лидии Стурэ, молодой студентки, умной, энергичной и самоотверженной, под сильным нравственным обаянием которой находились все знавшие ее, и много других…
«Северный летучий боевой отряд» привел в исполнение два террористических плена, о которых Азеф случайно не знал или, вернее, узнал только с некоторым опозданием.
Первым из этих актов была казнь военного прокурора Павлова, того самого Павлова, которого Государственная дума в порыве возмущения чуть ли не единодушно позорно изгнала из зала при криках «убийца». 27 января 1907 г. этот царский палач был убит террористом Егоровым.
Вторым было покушение против начальника тюремного ведомства Максимовского, который прославился своими издевательствами над политическими заключенными. Мстительницей должна была явиться, как в некоторых других аналогичных случаях, женщина: Рогозинникова. Она выполнила революционный приговор просто, спокойно, без колебания. После убийства Максимовского у арестованной Рогозинниковой нашли сверток динамита, обернутый вокруг ее тела, и адскую машину, которая легко могла взорвать на воздух все здание московского охранного отделения. В письме к своим друзьям Рогозинникова заявила, что только мысль и опасение о невинных жертвах удержали ее от исполнения страшного плана. Она была приговорена к смертной казни и повешена.
За несколько минут до смерти молодая девушка написала удивительное письмо к своей матери и родным, которое является замечательным документом психологии террориста. Наряду с редкой нравственной красотой переживаний и благородным чувством самоотвержения в этом письме можно найти наиболее яркое выражение наивной сентиментальной веры в сверхценность личности, способной единичными усилиями разрушить целый политический и социальный строй… Это письмо убийцы вызывало крики восторга даже у такого закоренелого реакционера, как Эдуард Друммон, который посвятил ему длинную статью в своей газете «La Parole Libre».
Однако дни «северного летучего боевого отряда» были сочтены. Грозная катастрофа надвигалась. Она разразилась неожиданно и уничтожила весь отряд, целиком. Азеф, посвященный во все тайны и планы этой организации, выдал полиции не только вождей, но и весь ее состав. На этот раз полиция была более предусмотрительной и не стала дожидаться начала террористических действий или попыток к осуществлению задуманных планов, чтобы покончить с террористами.
«Карл» Трауберг выработал несколько обширных и смелых проектов. Наблюдение и слежка, организованные им, распространялись на самых видных членов царской семьи и наиболее влиятельных и вредных министров. Между прочим, он предполагал разрушить при помощи динамита весь Государственный совет в момент пленарного заседания. Но 22 декабря 1907 г. «Карл» был арестован вместе с Еленой Ивановой, Альвином Шаубергом и некоторыми другими, взятыми полицией на несколько дней позже. В числе одиннадцати человек они были преданы военному суду, приговорившему двоих к смертной казни, а остальных к каторжным работам.
Но главный удар «северному летучему боевому отряду» был нанесен 7 февраля 1908 г, когда были захвачены все остальные его члены. Это было последнее крупное предательство Азефа. Оно явилось венцом его полицейско-террористической карьеры. Но оно также явилось началом ее конца.
«Северный летучий боевой отряд», во главе которого после гибели Трауберга находился Кальвино-Лебединцев, сосредоточил все свои силы на покушении против великого князя Николая Николаевича. Полиция, подробнейшим образом[63] осведомленная Азефом о готовившемся акте, зорко следила за террористами. В самый день, назначенный для совершения убийства, организаторы его были все арестованы: Лидия Стурэ, Лев Синегуб, Анна Распутина, С. Баранов и др. были взяты вблизи великокняжеского дворца. У Л. Синегуба нашли разрывной снаряд, скрытый у него под пальто, где он особым способом был прикреплен к поясу. Лидия Стурэ оказала при своем аресте отчаянное сопротивление и выстрелила в одного из охранников.
На одной из близприлегавших улиц был схвачен сам Кальвино-Лебединцев, при котором тоже был обнаружен разрывной снаряд.
Все эти провалы не прошли бесследно для революционеров. У многих возникли смутные подозрения. И все они прямым путем приводили к Азефу. Последний понимал, что положение его в партии может поколебаться и рухнуть. И вот, чтоб предотвратить беду, он серьезно взялся за ведение дела против царя, смерть которого сделала бы его абсолютно недосягаемым и уничтожила бы в корне всякую возможность подозрений. И, вероятно, так оно и было бы, удайся Азефу цареубийство, и никакие обвинения, никакой суд не были бы страшны предателю.
Уже в мае 1907 года Азеф сообща с Гершуни выработал план покушения против царя. Но этот план, точно так же как и следующий, выработанный незначительно позже, почти не осуществлялся. По словам одного видного деятеля, Азеф вел это дело чисто формально, закутывая его в непроницаемый туман, доведенный до крайних пределов конспирации. Совершенно в ином свете представляется позднейшая его попытка в начале 1908 года[64].
Азеф тщательно подготовляет заговор против Николая II. Если верить официальным заявлениям центрального комитета партии социалистов-революционеров и некоторым более подробным сообщениям, сделанным нам лично наиболее видными его членами, Азефу ни в коем случае не может быть поставлена в вину неудача этого дела. Покушение должно было произойти на царской яхте. Два матроса должны были привести в исполнение революционный приговор. Оба они до того с радостью и с гордостью согласились. Но в последнюю минуту, когда нужно было нанести удар, они оба вдруг пали духом, и Николай II остался жив.
7. Азеф и его вдохновители
Самые разнообразные непротиворечивые толкования были даны об истинной роли Азефа. Мы уже вскользь упоминали о полемике, возникшей по этому поводу между Владимиром Бурцевым и центральным комитетом партии с.-р. Даже сама личность «великого провокатора», казавшаяся очень многим настоящей загадкой, сделалась предметом взаимно исключающих друг друга оценок, поражающих своей крайней смелостью, фантастичностью и порою грубой необоснованностью.
Среди большой публики, не исключая революционной, об Азефе сложилось представление, как о существе демоническом, находившем высочайшее удовлетворение в том, чтоб сеять кругом себя смерть и разрушение, и с одинаковым равнодушием игравшем жизнью преданных ему террористов и веривших ему сановников. Законспирированный с ног до головы и благодаря этому почти никому не известный, он находил особое острое наслаждение в сознании своего «анонимного» могущества, своей чудовищной власти над партией.
Другие, наоборот, видели в нем заурядного преступника, очень ограниченного, грубого, жестокого, лишенного всяких нравственных устоев, «кретина», как писала «Ре-волюционная Мысль», который в своих руках держал судьбы партии, но который был обязан ореолом своей славы исключительно слепому доверию центрального комитета.
Обе оценки личности Евно Азефа кажутся нам одинаково преувеличенными и необоснованными.
Что касается его политической роли, то о ней существуют многочисленные гипотезы, из которых мы здесь приведем главнейшие три.
Правящие круги партии в лице ее центрального комитета, точка зрения которого нашла себе выражение в ряде остроумных статей Виктора Чернова («Знамя Труда»), выставляют его как крупного авантюриста, чрезвычайно одаренного, но с наличностью ярких патологических свойств, полуреволюционера и полусыщика всю свою жизнь стремившегося болезненно концентрировать на себе общее внимание, играть первую роль, быть в центре какой-нибудь сложной и хитросплетенной интриги, и одновременно, а иногда и попеременно служившего революции и полиции.
Вторая гипотеза, которую нам лично изложил Борис Савинков и которая разделялась значительным кругом лиц, менее сложна. Она представляет тем больший интерес, что принадлежит человеку, который в продолжение долгих лет был в «боевой организации» правой рукой Азефа и верил ему до самой последней минуты. Сущность ее такова: Азеф был простым агентом-провокатором, но только не все свои тайны выдавал полиции. Терроризм для него являлся неисчерпаемым источником выгод и наслаждений, и он считал безрассудным и нерасчетливым убивать курицу, приносившую ему золотые яйца. Естественно, что он всячески скрывал от полиции некоторые из своих предприятий, оберегал от нее своих ближайших сотрудников. Сохранить «боевую организацию» значило для него сохранить те тридцать тысяч сребреников, которые он получал от департамента полиции.
Гипотеза центрального комитета прежде всего наталкивалась на чисто логическое и непреодолимое препятствие: невозможность одновременного служения и революции и полиции. Кроме того, Бурцев выдвинул против нее целый ряд очень сильных доводов. Как, например, было объяснить, что непосредственное начальство Азефа якобы ничего не знало о террористической деятельности его, имея в рядах партии других провокаторов (и таких влиятельных, как Татаров, Жученко и др.), которые не могли не быть осведомлены о том, что было известно всякому среднему работнику. С другой стороны, множество темных событий, на которые гипотеза Чернова, казалось, проливала яркий свет истины, оказалось после опубликования обвинительного акта против А. Лопухина, простыми случаями предательства. Выводы, к которым В. Бурцев пришел чисто дедуктивным путем, мало-помалу подтверждались по мере того, как обнаруживались новые факты или же делались правительством вынужденные признания.
Что касается гипотезы Бориса Савинкова, то она нам кажется верной лишь постольку, поскольку она может, быть применена к какому бы то ни было провокатору. Но она в то же самое время совершенно ошибочна, потому что она неполна. Если бы желание Азефа сохранить «боевую организацию», обеспечивавшую ему его четырнадцать тысяч рублей, не совпадало с определенными интересами охраны, он долго не мог бы нести свою опасную игру и неминуемо на этой игре сломил бы себе шею.
В действительности вся преступная деятельность провокатора могла быть объяснена только при допущении известного дуализма царского политического сыска и постоянной общности интересов одной ее части с личными интересами Евно Азефа.
На протяжении чуть ли не всей жизненной карьеры Азефа мы часто наталкивались на любопытную фигуру начальника политической полиции Рачковского, который, несомненно, был главным вдохновителем предателя. Рачковский создал из провокации настоящее специфическое искусство. Его рука видна во всех крупнейших «провокационных актах» начиная с 1892 г., когда он с прославившимся впоследствии Ландезеном-Гартингом организовал в Париже динамитную лабораторию и подстроил знаменитое «дело бомбистов», к которому мы еще вернемся ниже. К какому году относится начало его сношений с Азефом, неизвестно, но уже в 1902 г. он обратился к бывшему тогда директором департамента полиции А. А. Лопухину с ходатайством о выдаче пятисот рублей Е. Азефу для передачи Гершуни «на устройство тайной типографии и динамитной мастерской».
После казни фон Плеве, которая расчистила ему путь к возвращению на службу, Рачковский, конечно, прекрасно был осведомлен о настоящем положении своего выученика в партии социалистов-революционеров. Во время процесса Лопухина один из свидетелей, бывший министр внутренних дел князь Святополк-Мирский, показал, что в 1904 г. непосредственно подчиненный ему Лопухин докладывал ему, что «сотрудник» Азеф вступил в центральный комитет партии с.-р. и что поэтому он предложил бы отказаться в будущем от его услуг. Лопухин находил, что подобное сочетание функций члена центрального комитета и правительственного агента не может быть терпимо в современном государстве и является вопиющим противозаконном. Однако Азеф остался. Рачковский, знавший о нем гораздо больше, обладал, видно, более гибкой совестью и менее наивными взглядами на задачи полицейского сыска. Волнение Лопухина должно было казаться ему смешным, сведения, получаемые им от Азефа, способствовали его быстрому повышению. Все неудачи террористов, как, например, в деле Трепова, великого князя Владимира и др., ставились ему в заслугу. Он вскоре в вознаграждение был назначен директором или заведующим политическим отделом с совершенно независимым, автономным положением и перестал давать отчет в своих действиях не только непосредственному своему начальству, но даже и министрам.
Рачковский завел в Москве своих клевретов. Он там организовал свою специальную агентуру, которая вступила в глухую борьбу с местным настоящим полицейским сатрапом. С каждым неудачным покушением влияние его усиливалось. Помимо чинов и орденов, он из своего исключительного положения извлекал значительные денежные выгоды. Так, за свои «услуги» в подавлении московского вооруженного восстания он получил от благодарного царя подарок в 72 000 рублей. «Боевая организация» была в руках Рачковского вернейшим орудием, которым он умело пользовался для достижения личных, корыстных целей. В департаменте полиции мало кто догадывался о прикосновенности Рачковского к самым темным делам, к самым чудовищным интригам. А между тем этот «величайший мастер сыска», лишенный элементарных чувств совести и чести, никогда не останавливался ни перед какими преступлениями и нередко прибегал к убийству как к средству приобретения иди сохранения власти. Несмотря на то что он согласно официальным заявлениям был якобы после разоблачения Азефа отстранен от департамента полиции, Рачковский продолжал, без сомнения, оказывать влияние на ведение сыска провокации через своих ставленников, вроде ген. Герасимова. Если верить Бурцеву, Рачковский пользовался «высоким правом» адресовать свои доклады лично царю Николаю[65]. Одно это делало его всемогущим и страшным даже для верхов бюрократии.
Отношения Азефа и Рачковского были отношениями друзей-сообщников. Многолетняя тесная связь исключала «долговечность» революционной «тайны» Азефа, а общность интересов должна была быстро привести их к тайному соглашению.
8. Две полиции
Темные безответственные силы всегда являлись неизбежным порождением самодержавного строя. Власть в таких государствах часто попадает в руки случайных фаворитов придворной своры, отдельных министров-ставленников этой своры, которая произвольно и самолично распоряжается судьбами страны. С другой стороны, в большом современном государстве необходимым орудием деспотизма является бюрократия. Но могущество этой последней, держащей в своих руках весь государственный аппарат, превращает ее в силу ее бесконтрольности в настоящую олигархию.
Русская царская полиция представляла наиболее поучительный пример такого бесконтрольного аппарата. Ей присваивались обширные права, так как правительство на нее возлагало задачи по борьбе со всеми «неблагонадежными» элементами, которые она обязана была обезвреживать и уничтожать. Даже сам А. А. Лопухин, еще в бытность свою директором департамента полиции, представил в совет министров (в 1904 г.) обстоятельный доклад, ярко характеризующий вею русскую полицию.
«К обыскам прибегают, — писал он, — как к средству удостоверения политической благонадежности населения». Все полицейские чиновники, до простых городовых включительно, считают себя вправе производить обыски и очень часто пользуются этим правом. В этом отношении «произвол до такой степени вошел в нравы полиции и административной власти, что само министерство бессильно помешать ему, тем более что оно при этом не может опираться на закон (?)». То же самое относится к арестам, на которые власти смотрели не только как на меры, пресечения, но исправления и которые очень часто производились с целью помещать судебным властям вмешиваться «не в свое дело». Достаточно было агенту сделать соответствующее донесение, чтоб людей арестовали. И часто даже центральная администрация была лишена всякого контроля над действиями местных и низших чинов полиции.
«Ибо, — писал Лопухин, — только жалобы самих арестованных или их родных могут позволить проверить законность полицейских мер». Но такие жалобы приносились чрезвычайно редко, так как в обществе укоренилась уверенность, что все аресты производятся согласно приказаниям департамента полиции. Что же касается административной ссылки, «то она применяется с некоторого времени к студентам за участие в университетских беспорядках, не имеющих никакого политического характера; к рабочим за мирные стачки, преследующие исключительно экономические цели; к крестьянам, которые после бесконечных ссор и столкновений с крупными земле владельцами запахивают землю, предмет их спора; к лицам, виновным в уголовных преступлениях, следствие над которыми сопряжено для полиции с известными затруднениями; наконец, к ней прибегают даже в случаях оскорбления должностных лиц». Конечно, административная ссылка применялась также и к лицам «действительно опасным для государства: но она постигает еще и всех независимо мыслящих и гораздо чаще этих последних, чем первых».
Таким образом, при старом строе полиция, благодаря своей полной безнаказанности и безответственности, становилась мало-помалу независимой силой, действовавшей в своих собственных интересах в такой же степени, в какой она служила интересам абсолютного государства.
Чины полиции под предлогом охраны царского строя принимали участие в подготовлении покушений и заговоров, которые они должны были бы уничтожать в самом корне, но которые давали им возможность отличаться, получать чины, места и деньги. Дело Азефа явилось только наиболее ярким и чудовищным выражением этой системы, но оно далеко не было единственным, случайным эпизодом. В прошлом мы находим прототип этого дела в неудавшейся попытке Дегаева. За последние двадцать лет (1895–1915) в России разыгрывались в меньшем, конечно, масштабе тысячи маленьких азевиад. В своих записках Бакай приводит десятки типичных разоблачений из практики польской охраны. Другие не менее красноречивые примеры цитировались с думской трибуны во время запроса по делу Азефа. Местные власти по примеру центральных учреждений пользовались широко излюбленным средством борьбы против революционеров — провокацией; нередко им удавалось даже перещеголять Рачковских и Ратаевых.
В силу специфических условий царского режима деятельность полиции неизбежно выражалась в деятельности соперничающих и воюющих полицейских кланов. Рядом с департаментом полиции, как мы это видели при изучении роли Рачковского, существовал и процветал независимый и конкурирующий орган. К регулярной политической полиции, исполнительными агентами которой являлись жандармы, прибавлялась, а часто противополагалась охрана, полицейское учреждение исключительно гражданского характера, существовавшее только в некоторых городах империи.
Внутри самого департамента полиции, как и в охранных отделениях, произвол и интрига свили себе прочное гнездо. В интересах клики или отдельных лиц совершались самые кровавые преступления. Гнуснейшие заговоры замышлялись ими, поощрялись с прямого ведома полицейских воротил. Все незаконные действия, творившиеся этими своеобразными исполнителями закона, совершались, конечно, в величайшей тайне и глубочайшем мраке. Такая взаимная борьба различных полицейских учреждений не составляла, впрочем, исключительного свойства русского политического сыска. Она всюду на Западе, как и в России, являлась и является прямым и неизбежным результатом самого существования различных полиций. Во Франции в эпоху первой Империи, подвизалось несколько полиций: Фушэ, Мюрата, Дюрока, Ренье, Савари и др., которые зорко следили друг за другом и стремились наперерыв отличиться раскрытием какого-нибудь сенсационного заговора, нередко ими же спровоцированного. Все эти полиции набирались из подонков общества и наводили неописуемый ужас на мирных обывателей. Из мемуаров Керары, парижского префекта начала Третьей республики, видно, что множество соперничающих друг с другом полиций существовало и при Наполеоне III. К 4 сентября в Париже была масса полиций: императрица имела свою полицию, император имел другую, Руэр и Пьетри и их подчиненные Нюсс и Лагранж имели в своем распоряжении отдельные полицейские штаты, и всем этим агентам, мало или совершенно не знавшим друг друга, было поручено наблюдать и шпионить один за другим. Нервом этой своеобразной конкуренции многочисленных и разнородных агентур является самая наглая и разнузданная провокация: сыщики изощряют свою изобретательность в деле искоренения «крамолы», и ни один почти заговор не обходился без их участия или содействия.
Директор департамента большею частью совершенно не знал о тех темных закулисных интригах и злоумышлениях, которые затевались в его ведомстве его непосредственными подчиненными. Лопухин в ярких и резких выражениях описал это положение вещей, хотя он далеко не все знал из того, что происходило иногда в его непосредственной близости. В письме, адресованном П. Столыпину — отрывки из него мы воспроизводим ниже, — он разоблачал прямое и действенное участие некоторых высших чинов своего ведомства в подготовлении еврейских погромов, являвшихся другим излюбленным средством царского правительства в его борьбе против освободительного движения. Царская полиция издавна пользовалась темнотою и невежеством народных масс, разжигая в них национальную и расовую вражду и искусно направляя накопившееся социальное недовольство по ложному пути. Провокация масс к погромам составляла интегральную часть общей системы провокации.
А. А. Лопухин открыл в самом помещении департамента тайную типографию, установленную и прекрасно оборудованную Рачковским. В этой типографии печатались прокламации и воззвания, содержавшие проповедь погромов и избиения евреев. Жандармы и жандармские офицеры набирали эту черносотенную литературу, которая тут же печаталась на собственных машинах.
Когда Лопухин довел об этом до сведения тогдашнего министра внутренних дел гр. Витте, этот последний пригласил к себе немедленно главного сотрудника Рачковского жандармского подполковника Комиссарова, который ему во всем признался, не скрыв ничего из своей «литературно-погромной деятельности». По приказу министра Комиссаров распорядился о том, чтоб машины были приведены в негодность, несмотря на формальное воспрещение Рачковского, который не хотел отказаться от своего предприятия.
И Лопухин, описав этот невероятный случай, продолжает свой рассказ:
«В настоящее время любой полицейский чиновник, любой жандармский офицер со своими секретными агентами становится полным господином всякого жителя и в последнем счете всей России».
Понятно, что эта записка навлекла на их автора всю ненависть, на которую только были способны те, кто, по собственному выражению Лопухина, «были способны на все». Мы воспроизвели здесь отрывки из этой записки ввиду ее несомненного интереса и ее документального характера, позволяющего составить себе ясное и точное представление о функционировании полицейско-правительственной машины.
Записки Бакая дают не менее богатый материал для изучения нравов русской полиции. Они переносят нас в совершенно особый мир, отличающийся своеобразной психологией и этикой, и воочию показывают, что провокация является естественным плодом самого общественного бытия царской полиции. Вот один из многочисленных примеров, приводимых Бакаем.
«Однажды, — пишет он, — зайдя в кабинет Шевякова, я там застал Щигельского.
Последний докладывал начальнику охраны о замышлявшемся несколькими молодыми людьми изготовлении бомб к предстоявшему первому маю.
— Известны ли вам имена этих молодых людей? — спросил его Шевяков.
— Нет, — ответил агент-провокатор, — ни их имен, ни их местожительства я не знаю. Но мне известны клички некоторых из них.
— Так постарайтесь открыть, где изготовляют бомбы, чтоб их можно было захватить на месте преступления. Вы получите щедрую награду…
Щигельский обещал постараться… Через пару дней Щигельский вновь явился к Шевякову и заявил ему, что революционеры ввиду отсутствия подходящего помещения для изготовления бомб решили отказаться от своего замысла.
Шевяков принял разочарованный вид и с неудовольствием воззрился на доносчика.
Но Щигельский сразу успокоил его.
— У меня есть свой план, — сказал он. — Я предложу революционерам воспользоваться для своих целей находящимся в моем распоряжении сараем. Когда все будет готово, я предупрежу полицию, которая должна будет немедленно нагрянуть в указанное место. Что касается меня лично, то подозрения легко будет отвлечь от меня следующим образом: я выведу товарищей на двор, оттуда легче всего будет скрыться от полиции, остальное — кого поймает, кого нет — дело самой полиции.
Этот план очень понравился Шевякову, и он тут же был разработан во всех его деталях.
В условный день значительное число секретных агентов было сосредоточено поблизости от сарая Щигельского. По знаку, данному Щигельским, охранники проникли во двор и арестовали всех находившихся там. В числе, арестованных оказались лица, совершенно неприкосновенные к делу.
Сам Щигельский тоже был взят. Ему не удалось бежать из-за неловкости или ошибки одного из охранников. В сарае была найдена бомба и взрывчатые вещества.
По указаниям Щигельского были задержаны и подвергнуты тюремному заключению только четверо из арестованных революционеров: Калловский, Шушенэк, Зелинский и Курек. Остальные были выпущены на свободу вместе с Щигельским. Таким образом, освобождение Щигельского не вызывало ничьего подозрения в его предательстве.
Даже следствие, произведенное чинами охранного отделения, установило главенствующую и гнусную роль Щигельского в этом деле. Арестованные рабочие хотя и добыли взрывчатые вещества, но по разным соображениям отказались в известный момент от своих намерений и собирались эти вещества уничтожить. Щигельский настаивал на необходимости действовать. Он сам участвовал в изготовлении бомбы. Когда бомба была готова, он предложил оставить ее в своем сарае: Его провокационная роль была ясна, и, когда следственные документы были переданы в руки прокурора, этот последний запросил охранное отделение, на каком основании оно выпустило на свободу Щигельского, который являлся главным виновником заговора.
Шевяков ответил, что в день обнаружения бомбы в сарае Щигельского и ареста находившихся там людей, были выпущены охраной множество лиц, казавшиеся неприкосновенными».
Глава VI Политические последствия. Азефщина и Государственная Дума
Существуют факты, которые несмотря на их очевидность, на их материальную, так сказать, осязаемость отвергаются возмущенным разумом как совершенно не возможные, противоестественные, немыслимые в реальной жизни. К числу таких чудовищных явлений относится и Евно Азеф. В его лице русская действительность воплотила тип предателя, какого не могла бы создать самая разнузданная фантазия. Неудивительно также и то, что потом в глазах русского общественного мнения — да и не только русского — фигура провокатора выросла до легендарных размеров. По мере того как эта «полицейская панама» русского царизма развертывалась, приподнимая с каждым днем все больше и больше завесу над закулисной работой правительственного механизма, роль Азефа постепенно извращалась в ежедневной прессе, которая печатала самые несуразные небылицы о «Великом Азефе» перемешивая наивную ложь с самой страшной истиной.
После поражения русской революций в 1905 г. ничто, казалось, неспособно было стряхнуть с русского общества охватившую его апатию. Соучастие правительственных агентов в покушениях, направленных против высших сановников империи, взволновало это общество и заставило его немного зашевелиться. Все заговорили о провокации как о системе, лежащей в самой основе царистской политики. Газеты, без различия направлений, посвящали сенсационному делу целые столбцы, с жадностью ловя всякую новинку, всякую не изданную и не известную еще мелочь не пренебрегая в погоне за информацией заведомо подозрительными источниками. И в этом «Новое Время» не уступало «Речи», «Гражданин»-«Русскому Слову». Правительство попыталось было вначале замять дело, с бесстыдством отрицая прикосновенность Азефа к тайной полиции. Многие издания были оштрафованы за напечатание статей об Азефе, некоторые даже конфискованы или временно закрыты. Но хлынувший поток разоблачений разбил и опрокинул все столыпинские измышления, которыми надеялись затмить истину; вскоре сам первый министр должен был начать отступление по всей линии и признать, что Азеф действительно служил в департаменте полиции. Но чтоб спасти хоть сколько-нибудь свой «престиж за границей», правительство старалось свести роль Азефа к роли обыкновенного шпиона. В смехотворных сообщениях, разосланных в иностранные газеты, оно представляло Азефа как удивительного Шерлока Холмса, который благодаря своей изворотливости, ловкости и необычайному упорству сумел проникнуть в самое сердце террористической организации, в которой он занял такое место, что мог почти с верностью предотвращать все покушения[66].
Но своим приказом арестовать А. Лопухина (18/31 января 1909 г.) правительство само доказало, самым неоспоримым образом всю свою виновность. Против бывшего директора департамента полиции было выдвинуто обвинение в «преступных сношениях с революционерами и в принадлежности к их сообществу». Ему, главным образом, ставили в вину опубликование его знаменитого письма к Столыпину, которое одновременно появилось в лондонском «Times» и в парижской «Humanité».
Арест А. Лопухина был произведен при очень драматических условиях. С раннего утра его помещение на Таврической улице было оцеплено довольно значительным полицейским и жандармским нарядом. Прокурор, генерал Камышанский, — близкий друг и сообщник Рачковского — лично руководил их действиями. С большим достоинством и спокойствием Лопухин вручил прокурору только что полученное им от Вл. Бурцева письмо, в котором тот горячо благодарил его за все то, что он сделал для раскрытия истины и «крепко, крепко жал ему обе руки».
В тот же день и в последующие дни был произведен, ряд обысков у многих чиновников и присяжных поверенных, добрые отношения которых с Лопухиным были всем известны.
Через сорок восемь часов дело было перенесено на думскую почву.
Два запроса были внесены в Думу: один из них, подписанный социал-демократической фракцией, ставил вопрос во всей его широте; другой, составленный в более робких выражениях, исходил от фракции конституционалистов-демократов (кадет).
Единственная мера, которая казалась рациональной и необходимой, заключалась в том, чтоб немедленно назначить специальную комиссию с самыми неограниченными следственными полномочиями, которая приступила бы к серьезному расследованию дела, выяснила бы его размеры и истинную природу. Но с самого же начала для всех было до очевидности ясно, что нечего было ждать от «черной думы», которая только о том и заботилась, чтоб избежать столкновения с правительством, создавшим ее при помощи настоящего Coup d'Etat. Это обнаружилось при первых же прениях.
Запрос социал-демократической фракции после краткого и яркого изложения мотивов кончался следующим заключением:
1) известно ли министру внутренних дел, что состоящий на жаловании у департамента полиции агент по сыскной части Азеф, состоявший в прямых сношениях с чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел и фактическим руководителем как охранных отделений, так и политического сыска за границей Рачковским, с ведома департамента полиции занимался провокаторской деятельностью среди революционеров и состоял одновременно со службой департаменту членом центрального комитета партии социалистов-революционеров и одним из руководителей «боевой организации» той же партии, в качестве какового принимал участие в организации крупных террористических актов, совершенных за время от 1902 по 1909 г.;
2) известно ли министру внутренних дел, что вышеуказанные деяния Рачковского и Азефа не являются обособленным эпизодом в деятельности охранных отделений и агентов политического сыска, но представляет собою органическую часть деятельности политической полиции, особенно ярко проявившейся и достигшей своего кульминационного пункта в настоящее время с деятельностью Рачковского и Азефа;
3) какие меры приняты министром внутренних дел для преследования в судебном порядке Рачковского, Азефа и прочих чинов полиции, принимавших участие в преступно-провокационной деятельности, и для того, чтоб охранить русских граждан от таковой деятельности охранных отделений.
Ввиду того, что в деятельности департамента полиции и его органов видна выдержанная последовательно проводимая система политической провокации, что эта провокационная тактика угрожает безопасности и жизни частных лиц и вносит в общество глубокую деморализацию; что в настоящее время правительство особенно широко пользуется этой провокационной деятельностью в целях усиления реакции и оправдания исключительных положений; что при первых же случаях возможности внесения запроса по этому поводу в Государственную думу, правительство стало принимать меры, чтоб пресечь возможность разоблачений вопиющего факта этой провокационной деятельности, производя в ночь на 18 сего января ряд обысков и, между прочим, у бывшего директора департамента полиции Лопухина, — предъявившие запрос просят признать запрос спешным[67].
От имени социал-демократической фракций по запросу выступал Покровский. Его речь была яркая, сильная и резко боевая. Думский зал и хоры были переполнены. Странно выделялись только пустые министерские скамьи. Но Столыпин был вынужден отказаться от этого подчеркнуто-аффективного равнодушия и пренебрежения; во время вторых больших дебатов, вызванных делом Азефа, уже присутствовали вместе с главой правительства почти все министры.
С бичующей силой Покровский прежде всего указал, что «язва чересчур глубоко проникла и приняла омерзительный, гадкий вид и грозит заразить весь государственный организм». Провокация проявляется не только в отдельных случаях, она имеет характер всеобщности. Дело политического сыска покрыто густой мглой таинственности, охраняемою за страх и совесть всеми казенными ведомствами… И Покровский привел красноречивый пример пристава его собственного Пятигорского округа, который в сотрудничестве со своим братом, начальником местного жандармского отделения, задумал и привел в исполнение покушение на собственную жизнь для того, чтоб использовать это в своих служебных целях. Эта гнусная комедия стоила жизни одному неповинному человеку, а пристав остался на службе.
Покровский перечислял целый ряд других аналогичных случаев; затем, напомнив Думе бесстыдные заявления помощника министра внутренних дел Макарова, о которых мы уже говорили выше, показал, каким ярким опровержением лживых этих заявлений явилось дело Азефа.
Лидер социал-демократов, основываясь на официальных документах партии социалистов-революционеров, установил при помощи неопровержимых и многочисленных данных участие Азефа во всех покушениях «боевой организации». Он ярко осветил сообщничество Рачковского с Азефом и смело и резко поставил вопрос: почему Азеф и Рачковский еще на свободе, почему не привлечен к ответственности генерал Герасимов, а, наоборот, арестован с крайней поспешностью А. А. Лопухин. И, делая общие выводы, он закончил свою речь следующими словами:
«Пусть правительство ответит категорически перед страной, признает ли оно систему провокации недопустимой или оно считает эту систему основным нервом, основной пружиной своей внутренней политики… Настоящие плоды этой политики, которая, я говорю, остается постоянной и неизменной, страна чувствует на себе. Она сказывается (шум справа; голоса: какая страна)… в угнетении, в полном угнетении всякой гражданской жизни, в полицейском насилии, в ужасе полицейских застенков, в тюрьмах и виселицах»… (рукоплескания слева).
Октябрист фон Анреп невольно выдал все смущение своей партий, выступив против спешности запроса и с предложением передать его в специальную комиссию. С комической важностью он заявил, что ему необходимо по крайней мере десять дней, чтоб «разжевать дело» и хорошенько его понять. В конце своей речи он попытался перейти к легкой диверсии, напав на социалистов-революционеров.
Трудовик Булат в злой, остроумной и едкой реплике высмеял октябристов, которые «одни на свете не знали о деле Азефа». Потом, возвысив тон своей полемики, он указал, что речь идет о том, да или нет, «правительство лишено нравственного чувства?». Для него не было сомнения, что ответ может быть только положительный.
После Булата выступили представители кадетской партии.
Но представители левых фракций не обольщали себя иллюзиями насчет намерения и настроения думского большинства. Спешность запроса была отклонена. Комиссии по запросам было поручено представить доклад по делу Азефа в десятидневный срок. Этот доклад был сделан комиссией 11/24 февраля, причем комиссия решительно отвергала запрос социал-демократов.
В общем, первое думское заседание от 2 февраля прошло как-то вяло, бледно и безжизненно; в нем прежде всего образовалось желание Думы избежать во что бы то ни стало столкновения с правительством. Разочарование общества, которое ждало от вмешательства Думы в это чудовищное дело положительных результатов, было полное. Однако волнение, вызванное азефщиной в общественном мнении, не улеглось, и когда дело снова было вынесено на обсуждение Думы, оно достигло высшего своего напряжения.
Таврический дворец в день дискуссии был битком набит, В залах царило лихорадочное возбуждение. Министерские скамьи были все заняты. В трибунах можно было заметить некоторых членов царской семьи и представителей иностранных держав. Присутствовали также почти все члены Государственного совета.
Докладчик комиссии, гр. Бобринский, единственный не совсем бездарный представитель правой в III Думе, прочитал чрезвычайно краткий и сжатый отчет, в котором он прежде всего объяснил, почему комиссия отклонила запрос соц. — демократов, основанный на «рискованных» и «беспочвенных» обобщениях. «Даже если факты, приведенные в запросе, были бы доказаны, — заявил он, — то все же нельзя сделать тех заключений, которые ими сделаны».
Первым выступил от имени социал-демократической фракции Покровский с резкой, уничтожающей критикой доклада, который был им мастерски разобран и осмеян, особенно в той части, в которой доказывалась неосновательность запроса его фракции. В громовой речи он широкими мазками набросал яркую картину преступно-провокационных деянии Азефа и с неопровержимой логичностью установил ответственность правительства. Основываясь на анализе полицейско-розыскных правил, из которых Покровский привел некоторые цитаты, он доказывал, что действия Азефа должны были быть известны во всех мелочах его ближайшему начальству, с которым он находился в постоянных и непосредственных сношениях. Он напомнил, что в 1892 г. Рачковский испросил у директора департамента полиции сумму в 500 рублей «для внесения ее в кассу социалистов-революционеров через своего секретного сотрудника, лично знакомого с Гершуни».
Оратор, обрисовав личность Азефа как правительственного агента, перешел к его деятельности в роли-террориста и главы «боевой организации».
«Дума и общество ждут, — воскликнул он, — чтоб мы представили непреложные доказательства; официальных документов с приложением казенной печати по таким вопросам достать нельзя. Но мы обращаемся к другой стороне и черпаем сведения из другого источника, из сообщений партии социалистов-революционеров».
Правительство и докладчик старались опорочить эти сведения как несоответствующие действительности. Покровский доказывал, что если даже принять на веру их возражения и отказаться от опороченного источника, то мы все же неизбежно должны будем прийти путем дедуктивных заключений к установлению преступной роли Азефа.
«Допустим, как делает это правительство, что Азеф был исправным правительственным служакой, всегда аккуратно доносил. Но неужели мы можем сказать, что в этой деятельности Азефа нет ничего преступного? Неужели она допустима? Неужели правительственные агенты могут не только знать, но и участвовать в составлении плана кровавых дел, могут содействовать доведению этих дел до конца и доносить, предупреждать правительство, доносить своевременно или несвоевременно, предупреждая покушения или не предупреждая? Неужели это доносительство снимает с агента правительства, не скажу нравственную, а уголовную ответственность? Ведь пособничество поощрения, содействие преступлению наказуется уголовным законом… Как равноправный член „боевой организации“ организации небольшой, в высшей степени конспиративной и, как показывает само название, активной, он не мог занимать только наблюдательное положение. Он должен был действовать на два фронта, он должен был проявлять особую деятельность для того, чтоб заслужить необходимое доверие и чтоб поддержать это доверие, которое, как известно, несколько раз поколебалось…»
Покровский привел ряд типичных фактов провокации провинциальных агентов, которые вдохновляются примером свыше, остановившись подробно на данных сведениях, сообщенных ему адвокатом Жозефом Латуром:
«В 1907 и 1908 г. членом социал-революционной польской партии М. Вольгемутом, слесарем, было организовано нападение на станцию Межеречье и Соколы, а также совершены многие другие террористические акты. За участие в этих делах вышеназванный Вольгемут был приговорен к смертной казни вместе с другими 14 участниками. Тогда он предложил свои услуги охране, и смертная казнь была заменена 15-летней каторгой. Вскоре дважды тот же суд приговорил его к такому же наказанию с лишением всех прав состояния, но, вместо того чтоб вступивший в законную силу приговор о нем привести в исполнение, варшавская охрана зачислила каторжника Вольгемута в число своих агентов. На основании его заявлений присуждено к смерти, каторге, ссылке много лиц.
И свое письмо ко мне Латур заключает следующими словами: „Ввиду изложенного, интересно было бы запросить нового военного прокурора, почему до сих пор не приведен в исполнение над М. Вольгемутом приговор варшавского суда, и министра внутренних дел, известен ли ему факт, что судьба многих граждан находится в руках каторжника-охранника“».
Покровский закончил свою длинную речь следующей фразой: «Правительство не в состоянии опровергнуть всей нарисованной нами картины, а мы уверены, что при всем обладании полностью документов оно опровергнуть этих данных не может, у правительства остается одно: заявить, что центральное правительство ко всему этому не причастно, что центральное правительство ничего об этом не знает, как отчасти оно уж это сделало в своем втором сообщении.
Граф Бобринский, желая довести до абсурда наши выводы, говорит; „Что же, по-вашему, получается, что Столыпин организует сам на себя покушение?“ Да, скажем мы… Столыпин, санкционирующий систему провокации, должен считаться с возможными ее последствиями. Если Столыпин чувствует себя за спиною Азефа в безопасности, то ведь чувствует себя в безопасности только до тех пор и постольку, поскольку он доверяет предателю.
Правительство не может дать удовлетворительного ответа, потому что правительство не может отказаться от системы провокации… Не может отказаться от провокации правительство азиатского деспотизма, не может отказаться от провокаторской деятельности правительство канибальски-кровожадное с его политикой каторги, пыток и виселиц. А чтоб быть таковым, для него один путь — погибнуть!» (Рукоплескания слева. Шум справа.)
После Покровского выступил трудовик Булат. Главный интерес его речи заключался в двух очень важных документах, с которыми он ознакомил Думу, а через нее общественное мнение, и которые устанавливали с неоспоримою очевидностью активное участие Азефа в крупнейших террористических покушениях. Это было два письма Азефа. Одно из них читатель найдет в главе «Разоблачение предателя», другое, адресованное Савинкову накануне суда, мы помещаем в приложении. Эти письма, подлинность которых, по заявлению Булата, легко могла быть подтверждена экспертами, содержали подробнейшие сведения о революционной деятельности провокатора.
Указав на то, что провокация особенно усиленно культивировалась за последние двадцать лет. Булат закончил свою речь заявлением, что из последних событий можно сделать только один вывод: «Система провокации является венцом, завершающим пирамиду деятельности русского правительства. В борьбе с народом поставили квартального. Но показалось мало: над квартальным поставили жандармов. Над жандармами — охранное отделение. Но и этого оказалось мало и во главе всего поставили агента-провокатора».
Кадет Пергамент подчеркнул в своей речи ту мысль, что провокация Азефа отличается от других лишь своими более крупными размерами и более высоким размахом. Его жертвами являются министры и великие князья. Затем оратор указал на противоречивость правительственных заявлений относительно Рачковского, не имеющего якобы никакого отношения к политическому сыску и который, по последнему признанию, «находится еще на службе департамента полиции».
Речь первого министра Столыпина была очень искусной защитительной речью, хотя отличается больше пространностью, чем убедительностью, а местами представляла яркий образец сознательного политического лицемерия и недобросовестности. Только такое раболепное и послушное собрание, как III Дума, могла позволить представителю исполнительной власти говорить с нею таким языком.
Вся речь Столыпина была построена на голословном утверждении, что Азеф не был ни агентом-провокатором, принимавшим на себя инициативу преступлений, в которые он вовлекал других для их совершения, ни революционером, в части сообщавшим правительству о преступлениях, а в части участвовавшим в этих преступлениях, а был простым «осведомителем», «секретным сотрудником» департамента полиции. И с холодным бесстыдством царский министр прибавил, что такое положение было «очень печально и тяжело никак не для правительства, а для революционной партии». Чтоб свести роль Азефа до степени простого осведомителя, Столыпин должен был отрицать самые очевидные факты или обходить их молчанием. В своем подробном описании деятельности провокатора он систематически оставлял в тени все, что могло вредить его положениям. Так, например, он утверждал, что Азеф до 1906 г. не состоял членом центральных органов партии социалистов-революционеров и что он узнавал обо всем, что подготовлялось в партии, через своих «влиятельных знакомых», сидевших «в центре партии». Столыпин попытался извлечь для своей аргументации пользу и из того факта, что Азеф никогда не находился во время самых крупных покушений на «театре террористических действий». Мы уже указали в предыдущих главах, каким образом предатель, доведя каждое предприятие до конца, действительно старался обеспечить формальное алиби. Но какую ценность мог иметь этот довод после категорических и точных заявлений самых близких соратников по «боевой организации»?
В явном противоречии с развитою Столыпиным теорией находились удачные покушения, совершенные после 1906 г., как, например, убийство фон дер Лауница, Павлова, Максимовича. Нужно было найти им какое-нибудь удовлетворительное объяснение. Столыпин выпутался из затруднительного положения, приписав эти казни организации максималистов. Азеф, естественно, мог не знать о всех планах максималистов. Беда только в том, что утверждение министра относительно этих трех покушений оказывалось совершенно ложным. Максималисты не имели никакого отношения к этим актам. Что касается Азефа, то он о них был прекрасно осведомлен.
Вторая часть речи Столыпина была посвящена Бакаю, все темное прошлое которого было вытащено с плохо скрытым торжеством наружу, причем первый министр не поскупился на сгущение красок. И неслыханно циничными прозвучали заключительные слова премьера о бесчисленных виселицах, возведенных им по всей империи «во имя необходимости обновления и полного переустройства здания современной России».
После речи Столыпина выступил трудовик Дзюбинский с резкой критикой правительства, которое стремится во что бы то ни стало замять дело и прикрыть заведомого преступника. Он привел извещение ЦК партии с.-р., в котором подробно излагалась и описывалась революционная деятельность Азефа и из которого Столыпин мог бы почерпнуть все недостававшие ему доказательства, не говоря уже о собственноручных компрометирующих письмах предателя. Но для этого необходимо было политически честное отношение к делу. Затем Дзюбинский упомянул о последнем крупном предприятии Азефа, о покушении против царя, которое не удалось только из-за случайных обстоятельств. В том же духе были произнесены речи прогрессиста Соколова и социал-демократа Гегечкори.
Вскоре дело Азефа было перенесено с политической арены, где все усилия были приложены, чтоб замять его, на арену судебную. Через два месяца после думских прений, 28 апреля, начался процесс Лопухина перед специальной сенатской палатой. Суд состоял из шести сенаторов, в том числе председательствующего Варварина, и четырех сословных представителей. Прокурор Корсак выступал обвинителем, а Пассовер, один из наиболее популярных и талантливых адвокатов Петербурга, представлял защиту.
В своей думской речи Столыпин торжественно заявил, что «вся истина» будет обнаружена во время этого процесса. В действительности этот процесс от начала до конца явился жалкой и гнусной пародией правосудия.
В чем Лопухин обвинялся? В запрещенных сношениях с «преступной» организацией, которой он выдал «служебную тайну». В чем состояла его защита? В неоспоримых доказательствах того, что агент, предательство которого он изобличил, был не простым осведомителем на жаловании у правительства, но агентом-провокатором, которому принадлежала инициатива ужасающих преступлений и деятельность которого была крайне опасна не только для революционеров, но и для государства. Если бы эти утверждения Лопухина оказались доказанными, то его, разумеется, самое большое можно было обвинить только в легком служебном проступке. И вот вся тактика председательствующего сводилась к тому, чтоб помешать защите поставить вопрос в этой плоскости; каждый раз, когда защита или сам Лопухин пытались доказать, какова была истинная роль Азефа, этот русский Дельгорич прерывал их, заявляя, что это к делу не относится. Зато суд с большим вниманием отнесся к показаниям сыщиков: Андреева, Зубатова, Герасимова, Ратаева и, наконец, Рачковского, которые почти все были замешаны в самых преступных и темных интригах Евно Азефа. Все эти мастера сыска и провокации прислали письменные показания: ни один из них не имел мужества лично предстать перед судом. Точно по предварительному взаимному соглашению, все они стремились доказать, что разоблачения, сделанные Лопухиным Бурцеву в кёльнском поезде в сентябре 1908 г. и подтвержденные им в декабре того же года в Вардор-отеле в Лондоне делегации партии социалистов-революционеров, в широкой мере способствовали провалу Азефа, что, впрочем, вполне соответствовало истине. Но ни один из них ни словом не обмолвился о провокационных действиях, которые инкриминировались величайшему из предателей. Другие свидетели, как, например, князь Урусов, шурин Лопухина, показали, что бывший директор департамента полиции был сам ошеломлен сообщенными ему во время его беседы с Бурцевым фактами чудовищной провокации и что он долго спустя еще оставался в состоянии полного смятения под влиянием этих фактов. После этих показаний Лопухин попросил у суда разрешения огласить некоторые документы, приложенные к делу, и в частности и особенности доклад департамента полиции, содержавший список двадцати восьми покушений, в которых Азеф прямо или косвенно участвовал. Верная своим принципам и директивам свыше палата отказала обвиняемому в его просьбе. Она лишила его, таким образом, возможности доказать всю лживость утверждений обвинительного акта и Столыпина, согласно которым деятельность Азефа парализовалась якобы его вступлением в центральный комитет.
Прокурор, конечно, усвоил официальную интерпретацию роли Азефа, обвиняя Лопухина не только в преступном разглашении и выдаче революционерам государственной тайны, но еще отягощая это преступление курьезным утверждением, что бывший директор департамента полиции состоял «активным приверженцем» террористической партии!
Защитник Лопухина попутно с убийственной критикой — политической полиции и ярким выявлением роли Азефа доказывал, что его клиент не может быть обвиняем ни в сообщничестве, ни даже в пособничестве революции, что его действия диктовались высшими интересами государства и что единственно, что может быть ему поставлено в вину с формальной стороны, это нарушение профессиональной тайны, проступок, караемый специальным законом. Сам Лопухин в коротенькой и сильной речи подробно остановился на побуждениях, которые заставили его действовать.
«Я не мог не поверить Бурцеву, — воскликнул он в заключение, — и, поверив ему, я не мог молчать, потому что тогда всякое новое террористическое покушение лежало бы на моей совести. Но я никогда ничего общего не имел с революционерами». Это было очевидно. Многочисленные свидетели, в том числе бывший непосредственный начальник Лопухина, бывший министр внутренних дел князь Святополк-Мирский, в своих показаниях единодушно утверждали, что обвиняемый всегда отличался «крайне умеренным либерализмом», и все же, несмотря на блестящую защиту, на очевидную нелепость обвинения и на обнаружившуюся бесспорную лояльность действий Лопухина, суд после двухчасового совещания вынес приговор, осуждавший «бывшего действительного статского советника Лопухина на пять лет каторжных работ».
Почти вся русская печать единодушно выразила свое возмущение этим чудовищным судебным преступлением.
Единственный свидетель, показания которого могли бы иметь решающее значение для суда, не был вызван. Напрасно Бурцев хлопотал о пропуске в Россию для того, чтоб явиться на суд Лопухина. Правительство не сочло даже нужным чем-нибудь мотивировать свой молчаливый отказ.
Через некоторое время дело Лопухина разбиралось в новой инстанции: перед сенатом. Суд оказался и на этот раз жалкой пародией правосудия. Но особенно гнетущее впечатление произвел сам обвиняемый, которого, видно, сломило многомесячное заключение и который держал себя далеко не с той независимостью и достоинством, как на первом процессе. Приговор был смягчен до трех лет административной ссылки в Сибирь.
Осуждение Лопухина еще менее чем позорное решение Государственной думы замять дело Азефа способствовало успокоению общественного мнения. Возмущение общества достигло крайних пределов, когда было обнаружено сообщничество царской полиции в преступлениях «черной сотни», в частности в деле убийства Герценштейна и Иоллоса, в котором руководящая роль принадлежала председателю «союза русского народа» доктору Дубровину. Дело Гартинга послужило, так сказать, достойным завершением этого удивительного цикла полицейских скандалов. Раскрытие предательства таких многолетних сотрудников, как Зинаида Жученко и Серебрякова, десятки лет работавших в революции и в охранке, точно так же как дело Петрова (убившего полковника Карпова) и Богрова (убившего Столыпина), ничего не могли уже прибавить к общей характеристике нравов и приемов русского политического сыска. Некоторую оторопелость вызвало впоследствии разоблачение Малиновского, но в /этом кошмарном деле поражали не столько методы царского правительства, достаточно известные всем, сколько то, что оно осмелилось применять их даже в народном представительстве и ввести «сотрудника» в Государственную думу.
Наряду с общеполитическими последствиями азефщины следует отметить тот глубокий внутрипартийный кризис, который был вызван разоблачением главы «боевой организации». Перед партией социалистов-революционеров встал в крайне острой форме вопрос о пересмотре всей ее тактики. Со времени Дегаева не было еще в истории русского террора примера более яркого, более убедительного, который с такой очевидностью подтвердил бы всю основательность нападок и всю правильность критики противников «непосредственного действия». Отрицательные стороны террора стали понятны и ясны для многих прежних сторонников индивидуального начала в политической борьбе, а для тех, кто и раньше не склонен был преувеличивать роли террора, кто и раньше понимал, что устранением отдельных вредных лиц система нисколько не ослабляется, азефщина выявила еще и положительный вред, приносимый теорией и практикой политических убийств.
Если для русских социал-демократов, не перестававших со дня основания партии социалистов-революционеров усиленно бороться против отвлечения молодых революционных сил на бесплодные, самоличные атаки царизма, крушение террористической практики в азефщине было очевидным и совершившимся фактом, то сами обанкротившиеся террористы продолжали цепляться за жалкие отжившие формулы, бессильные в последовавший затем период (1909–1914) возродить или, вернее, воскресить умерший террор. Правда, в самой партии с.-р. возникло сильное течение против террора, и значительная часть руководящих органов требовала отказа от этой традиционной тактики и посвящения всех сил партии делу пропаганды и организации революционных масс для коллективных действий. Но на специальной конференции, созванной в мае 1909 г., большинство делегатов высказалось за сохранение террористической деятельности как наиболее необходимого средства борьбы против самодержавия. По делу Азефа конференция вынесла следующую резолюцию.
Конференция постановила реорганизовать все центральные партийные учреждения. Она хотя и выразила доверие старому центральному комитету, но высказала при этом свое сожаление, что в деле ликвидации азефщины он не проявил той энергии, которой от него требовали обстоятельства. Конференция приняла также решение об образовании «судебно-следственной комиссии», на которую возлагались обязанности окончательно ликвидировать положение, созданное раскрытием предательства Азефа и которой присваивалось право вызывать «в качестве обвиняемых или свидетелей» всех без исключения членов партии, имевших отношение к провокатору.
Судебно-следственная комиссия вызвала около двадцати своих свидетелей. Она издала довольно богатый материал своих работ. К сожалению, она не сумела всегда оставаться в роли холодных и бесстрастных судей, и на ее работах лежит печать известной тенденциозности, предубежденности, пристрастия, указывающих на ее близкую связь с центром…[68]
Ландезен-Гартинг
Не заглохли еще последние отголоски азефской бури, как разыгрался новый скандал, вновь взбудораживший всю Европу. Снова Бурцев выступил обвинителем, и спешно опубликованная новая одиссея Ландезен-Гартинга заполнила прессу всего мира и возбудила лихорадочные толки в коридорах Palais-Bourbon, в министерских канцеляриях и среди русских эмигрантов. Переполошились тайные русские шпионы, которых особенно много было в Париже. Более тяжелого удара не приходилось еще испытать преемникам Рачковского. Французское правительство по требованию Жореса вынуждено было, наконец, серьезно приняться за «тайны» русской тайной полиции и положить им конец.
Для того чтобы ясно понять ландезенскую одиссею, необходимо углубиться в историю русского революционного движения за четверть века до этого времени.
В 1887 г. готовилось покушение на Александра III, руководимое Ульяновым, братом Владимира Ильича Ленина. Покушение не удалось; большинство участников было арестовано; Ульянов и товарищи — казнены. Избежавшие же ареста спаслись в Цюрихе, где образовали революционный кружок, посвятивший себя, главным образом, изучению взрывчатых веществ.
22 февраля 1889 г. руководители кружка Дембо и Дембский, производя в окрестностях Цюриха опыты с изобретенными Дембо бомбами, были ранены упавшим к ногам снарядом. У Дембо были оторваны ноги, Дембский же, хотя и раненый, добрался до города и послал несколько товарищей перенести в госпиталь Дембо. Последний прожил еще несколько часов и перед смертью рассказал следователю, что он русский революционер, занимавшийся изготовлением снарядов с целью политических убийств. Происшествие заставило швейцарские власти произвести расследование, результатом которого 19 человек, находившихся в ближайших сношениях с Дембо и Дембским, были высланы из Швейцарии. Кружок перебрался в Париж, где вновь сорганизовался и принялся опять за старое дело.
Одним из наиболее деятельных членов кружка был Авраам Геккельман, пользовавшийся большим доверием своих товарищей. Геккельман прибыл в Париж после цюрихских событий, где он играл какую-то темную роль. В кружке Геккельман познакомился с Бурцевым.
Между членами кружка шли толки о возвращении в Россию, так как находили неудобным злоупотреблять гостеприимством чужой страны и производить здесь опыты со взрывчатыми веществами.
Геккельман, принявший впоследствии имя Ландезена, по паспорту одного таинственно исчезнувшего прибалтийского немца, был прекрасно осведомлен о всех действиях кружка, но ни он, ни его товарищи не подозревали об одновременном существовании в Париже другого кружка, деятельно занимавшегося фабрикацией бомб. Этому кружку достались взрывчатые части, оставшиеся после ликвидации цюрихского кружка, и он усердно продолжал свои опасные опыты.
При одном таком опыте близ местечка Raincy был опасно ранен революционер Теплов. Бурцев рассказывает, каким образом сведения о существовании второго кружка дошли до первого:
«Один друг Теплова состоял одновременно членом обоих кружков. Я ясно помню, как одним вечером он пришел к нам чрезвычайно встревоженный и приказал нам немедленно спрятать компрометирующие бумаги. По его встревоженному виду мы поняли, что случилось нечто серьезное, о чем он нам рассказать не мог. Более всех встревожился Ландезен. Он выказал живейший интерес и закидал вновь прибывшего вопросами. Из разговора мы поняли, что в Париже существует второй террористический кружок. Вскоре Ландезен удалился. Впоследствии я понял причину его ухода.
Путем энергичных уговоров и усилий Ландезену удалось соединить оба кружка в один. Опираясь на свое все увеличивающееся влияние, Ландезен теперь принял живейшее участие во всех работах. Между прочим, он настаивал на новом покушении на царя, чтобы тем самым способствовать освободительному движению в России и дать ему новую силу. 28 мая 1890 г. он распределил несколько бомб между товарищами и, убедившись, что они достаточно скомпрометированы, он подал сигнал. Утром 29 мая полиция ворвалась в квартиры русских эмигрантов и арестовала 27 человек, но за недостатком обвинения большинство было отпущено и только 9 человек привлечены к суду. Имена арестованных следующие: Рейнштейн с женою Анной, князь Георгиев-Накашидзе, Львов (под псевдонимом Теплова), Левренус, Степанов, Кашинцев, молодая девушка по имени Бромберг и, наконец, Ландезен-Геккельман. Но этот последний не предстал пред судом. На предварительном следствии, производимом следователем Аталиным, один из обвиняемых Рейнштейн заявил, что он и его товарищи пали жертвами гнусного провокатора — Ландезена. Через два дня адвокат одного из обвиняемых, Мильеран[69], подтвердил заявление Рейнштейна. Лишь 18 июня следователь подписал приказ об аресте Геккельмана, который, таким образом, имел достаточно времени для того, чтобы скрыться».
За несколько недель до этих событий Бурцев покинул Париж в сопровождении одного из товарищей и направился в Россию. Большинство членов кружка и не подозревали об его отъезде. Ландезен же раньше знал о его намерениях. Бурцев решил проехать в Россию с юга, но не успел он доехать до Румынии, как заметил, что за ними следят. Товарищ Бурцева не разделял его подозрений и согласился лишь разъединиться, не считая нужным принимать каких-нибудь мер предосторожности. Но не успел он доехать до границы Бессарабии, как был арестован русской полицией. Сам же Бурцев проехал из Бухареста в Константинополь. Долгое время он переписывался с Ландезеном, письма которого становились все более загадочными. Товарищи Бурцева отговаривали его от поездки в Россию, но Ландезен, наоборот, горячо настаивал на этой поездке для принятия деятельного участия в делах революции. Как раз в это время он узнал об арестах в Париже. Сопоставляя все мелочи, казавшиеся ему подозрительными в поведении Ландезена, Бурцев пришел к убеждению, что Ландезен — провокатор. Он сообщил о своих догадках своим парижским друзьям, и мы уже слышали, как эти подозрения были заявлены на суде одним из арестованных.
Но многие члены кружка продолжали питать к Ландезену неколебимое доверие. Один из членов кружка, содействовавший бегству Ландезена, горячо упрекал Бурцева в клевете. Революционеров судили 5 июня в девятом отделении суда по уголовным делам. Процесс произвел большую сенсацию; например, l'Eclair выпустил 4 иллюстрированных листа специального приложения. Провокаторская роль Ландезена неясно вырисовалась в этом процессе-она окончательно выяснилась лишь 19 лет спустя. Между тем показания Рейнштейна осветили многое; он рассказал, как Ландезен снабдил всех деньгами для покупки материала. Самому Рейнштейну он принес на хранение 12 бомб и впоследствии распределил их между арестованными товарищами. Он даже убеждал Рейнштейна снять квартиру для производства там опытов.
Дело Бромберг было не менее загадочно; у нее нашли сундук со взрывчатыми веществами, но она заявила, что не знала о его содержимом и что после 24 мая она его ни разу не открывала. Между тем одна из бомб была завернута в номер «Petit Journal» от 27 мая. Рейнштейн не колеблясь заявил, что Ландезен заходил к Бромберг в ее отсутствие и положил в сундук этот номер с его содержимым. Мильеран указал, со своей стороны, на большой промежуток времени с того дня, как следователь узнал о провокаторской роли Ландезена, и до дня приказа об его аресте. Он прямо заявил, что «если Ландезен не был арестован, то это было сделано преднамеренно».
Кроме того, Мильеран указывал на тот факт, что в обвинительном акте не упоминалось, каким образом полиция узнала о неудачном опыте близ Raincy. Из этого он выводил, что полиция пользовалась услугами темного агента. Конечно, суд отрицал это заявление. Мильеран вполне основательно считал виновниками такого провокационного процесса министра внутренних дел Констанса и префекта полиции Лозэ.
Рейнштейн, Накашидзе, Левренус, Львов, Степанов, Кашинцев были приговорены согласно закону 1871 г. о хранении у себя взрывчатых веществ к трем годам тюремного заключения. Жена Рейнштейна и Бромберг были оправданы. По отбытии наказания большинство революционеров было выслано. Что же касается Ландезена, то его как наиболее преступного заочно приговорили к 5 годам тюремного заключения. До этих пор симпатии Франции и всей Западной Европы были на стороне революционеров, теперь же мнения резко переменились. Констанс учредил строжайший надзор над русскими эмигрантами, имея деятельных помощников в этом деле в лице русских тайных агентов.
Русский посол барон Моренгейм потребовал, чтобы французское правительство парализовало все попытки революционеров. Фрайсинэ, Рибо и Констанс обещали ему это. Но Моренгейм все беспокоился, как бы кто-либо из революционеров незаметно не уехал бы в Россию. Он многократно посещал Констанса, требуя от него ареста своих соотечественников. Но Констанс заявил, что он не может арестовать без предъявления обвинения. Вскоре случилось президенту выехать из Парижа. Он должен был выехать 21 мая в сопровождении Констанса. Моренгейм очень волновался за все время отсутствия Констанса, распорядительность которого он очень ценил.
26 мая Моренгейм посетил префекта полиции и сообщил ему, что получил достоверные сведения о намерении некоторых самых опасных нигилистов выехать в Россию. Префект полиции и начальник охраны, с своей стороны, уже знали об этом от своих тайных агентов и заявили, что они ждут лишь возвращения Констанса, чтобы действовать. Для получения инструкции был послан к Констансу чиновник с докладом о случившемся. Констанс приказал ждать с арестом его возвращения, которое было назначено на 28 мая. Действительно, он прибыл в Париж 28 мая, а 29-го были арестованы 9 революционеров. Полиция овладела их бумагами, нашла взрывчатые материалы и несколько готовых бомб. Русский император, узнав от своего посла о происшедшем, выразил свою глубокую благодарность французскому послу в Петербурге. Лозэ получил благодарственные письма от Моренгейма и от Дурново. Если вспомнить, что вся фабрикация бомб производилась при живейшем участии Ландезена, который даже снабжал деньгами революционеров, будучи сам агентом тайной полиции, то становится очевидным, в какой гнусной комедий участвовало французское правительство и жертвами какого обмана пали несчастные русские революционеры.
Генерал Фон Гартинг
Память о нигилистическом процессе 1890 г. быстро исчезла даже среди тех, которые были в нем живо заинтересованы. Высланные после этого процесса революционеры переправились в Лондон, потеряв всякую надежду узнать точную подкладку этой таинственной истории. Ландезен с 1890 г. совершенно исчез, и о нем ходили самые разноречивые слухи. По одним версиям, он умер, другие утверждали, что он выехал в Южную Америку; третьи, наконец, уверяли, что он служит в чрезвычайной охране в Царском Селе.
В 1906 г. Бурцеву посчастливилось узнать от Лопухина, что Ландезен занимает какой-то важный пост в Германии, на который его назначило русское правительство в благодарность за услуги. Одновременно среди эмигрантов в Женеве, Берлине и Париже поднялись толки о каком-то таинственном лице, заменившем Рачковского и Ратаева на должности начальника русской тайной полиции за границей. Эта новая провокаторская деятельность в Германии принудила социал-демократическую партию рейхстага запросить канцлера фон Бюлова дать разъяснения по этому поводу.
Некий статский советник фон Гартинг, облеченный генеральским чином с титулом превосходительства, имел под своим началом целую армию тайных агентов русской полиции, действовавших всюду, где появлялись русские эмигранты. Сотрудник Бурцева Бакай сообщил ему однажды свои предположения, что Гартинг, вероятно, был некогда членом революционной организации в роли провокатора. Это заинтересовало Бурцева, и он решил дознаться, кто скрывается под этой маской. Долго все усилия были безрезультатны. В январе или феврале 1909 г., когда все были заняты делом Азефа, Бурцев получил несколько писем от Гартинга. При сравнении их с письмами Ландезена, хранившимися у него, его поразило сходство слога. Все же он не решился отожествить эти два лица.
Из собственноручных писем Гартинга явствовало, что он жил в Париже б 1890 г. Вскоре Бурцеву сообщил один его приятель, вращавшийся в высших петербургских сферах, что он слышал, как Гартинг заявил как-то, что Бурцеву известны все его тайны. Бурцев собрал все имеющиеся у него сведения; он узнал, что Гартинга зовут Аркадием; одновременно он вспомнил, что Ландезена все товарищи в 1890 г. звали Аркашей. Далее он вспомнил, что в это же время Ландезен ездил по делам в Брюссель и велел адресовать себе письма на имя Гартинг. Наконец, он получил от многих высокопоставленных лиц веские доказательства, что Ландезен и Гартинг одно и то же лицо. Автор этой книги направился в палату депутатов и сообщил об этом Жоресу, выражая несомненную уверенность, что Ландезен и Гартинг одно и то же лицо. Жорес заявил Бриану, который попросил Бурцева письменно изложить свои показания. На следующий день Бриан получил следующее письмо:
«Господин министр юстиции,
Сим имею честь сообщить Вам следующее: в 1890 г., некий Ландезен, которого настоящее имя Геккельман, был заочно приговорен сенским судом к 5 годам тюремного заключения как организатор динамитного покушения.
В то же самое время я познакомился с Ландезеном и поддерживал с ним знакомство в течение года. Настоящим довожу до Вашего сведения, что человек, именующий себя Гартингом, он же Петровский, Бэр и т. д., имеющий постоянное местожительство в Париже и лично знакомый с M. Hamard, здешним начальником охраны, с M. Ruichard и со многими другими высокопоставленными лицами, занимающий должность начальника тайной русской полиции в Париже, в действительности не кто иной, как Ландезен, в чем могу привести доказательства. Посему прошу выдать приказ об аресте названного Ландезена-Гартинга-Петровского-Бэра. Для подачи показаний ставлю себя всецело в Ваше распоряжение.
Примите уверения моего глубочайшего почтения.
Бурцев».
Процесс 1890 г. помог Ландезен-Геккельману отличиться и приобрести значительное влияние в высших сферах Петербурга. Ему удалось убедить царя, что он спас его от покушения и в награду за это Александр III назначил его на высокий пост. Вскоре после того он женился на молоденькой богатой бельгийке из Льежа, семье которой он представился как дипломат. В 1907 г. состоялось свидание русского императора с германским в Свинемюнде. Гартингу поручена была особая охрана царя и его семейства.
Вскоре после того его назначили начальником русской тайной полиции за границей с жалованьем 36 000 фр. в год, не считая косвенных доходов, дававших ему чуть ли не вдвое. Между прочим, он пользовался лишь 11 тайными агентами, тогда как жалованья отпускалось на 25. Кроме агентов в Париже и во всей Франции, ему были подчинены также агенты в Швейцарии, Италии, Германии, Англии и Швеции. В Швеции он проделал одну из своих самых больших гнусностей. Дело касается революционера Черняка, члена социал-революционной партии. Русское правительство потребовало от шведского его выдачи, хотя обвинение, представленное против него, не носило политического характера.
Сообщником и помощником Гартинга был Стендаль, арестовавший Черняка и заключивший его в тюрьму при очень грубом обращении. Лидер шведской социал-демократической партии Брантинг протестовал против незаконного ареста Черняка и потребовал его освобождения. Черняку удалось благополучно сесть на курьерский поезд, следующий в Антверпен. Но на другое утро его нашли мертвым в купе, отравленным самым таинственным образом.
В 1904 г. Гартингу поручено было сопровождать эскадру адмирала Рождественского. Он был облечен чрезвычайными полномочиями на все время путешествия. Есть основание думать, что знаменательный инцидент в Гулле был следствием его чрезмерного рвения и желания всюду видеть покушения и заговоры. Мирные рыбацкие лодки из Гулля были приняты им за японские миноносцы, и, как известно, бомбардировка этих лодок чуть было не послужила поводом к разрыву сношений между Англией и Россией. Прибывши на Дальний Восток, Гартинг покинул эскадру и продолжал путешествие на суше, где ему было поручено позондировать верноподданнические чувства русской армии, особенно офицерства. За свои неоцененные заслуги, совершенные во время путешествия, он получил награду в 100 000 фр.
Карьера Гартинга окончилась так же, как и карьера Азефа. Когда появились разоблачения Бурцева, он находился в Брюсселе, только что получив поручение принять все меры и подготовить безопасный приезд русского царя во Францию. Немедленно Гартинг собрал свои пожитки и исчез. Дело Гартинга было тяжелым ударом для русской тайной полиции. Клемансо в парламенте открыто запретил преемникам Рачковского продолжать свою преступную деятельность во Франции. Примеру Франции последовали и другие западноевропейские державы.
В Бельгии вся либеральная пресса резко протестовала против действий русских тайных агентов; в Англии Вильям Тори поднял этот вопрос в парламенте и потребовал от министра Асквита изгнания из пределов Англии всех русских провокаторов и тайных агентов.
Приложения
№ 1 Анонимное письмо, переданное дамой под вуалью
«Товарищи! Партии грозит погром. Ее предают два серьезных шпиона. Один из них бывший ссыльный, некий Татаров, весной лишь вернулся, кажется, из Иркутска, втерся в полное доверие к Тютчеву, провалил дело, Иваницкой, Барыкова; указал кроме того Фрейфельда, Николаева, Фейта, Старынковича, Лионовича, Сухомлина, много других, беглую каторжанку Акимову, за которой потом следили в Одессе, на Кавказе, в Нижнем, Москве, Питере (скоро наверное возьмут); другой шпион недавно прибыл из-за границы, какой-то инженер Азиев, еврей, называется и Валуйский; этот шпион выдал съезд, происходивший в Нижнем, покушение на тамошнего губернатора, Коноплянникову в Москве (мастерская), Веденяпина (привез динамит), Ломова в Самаре (военный), нелегального Чередина в Киеве (укрывается у Ракитниковых в Саратове)… Много жертв намечено предателями, Вы их обоих должны знать. Поэтому обращаемся к вам. Как честный человек и революционер, исполните (но пунктуально: надо помнить, что не все шпионы известны, и что многого мы еще не знаем) следующее: письмо это немедленно уничтожьте, не делайте из него копии и выписок. О получении его никому не говорите, а усвойте основательно содержание его и посвятите в эту тайну, придумав объяснение того, как ее узнали, только: или Брешковскую или Потапова (доктор в Москве) или Майнова (там же) или Прибызева, если он уедет из Питера, где около его трутся тоже какие-то шпионы. Переговорите с кем-нибудь из них лично (письменных сношений по этому делу не должно быть совсем) пусть тот действует уж от себя, не называя вас и не говоря, что сведения эти получены из Питера. Надо, не разглашая секрета, поспешить распорядиться. Все о ком знают предатели, пусть будут настороже, а также и те, кто с ними близки по делу. Нелегальные должны постараться избавиться от слежки и ни показываться в места, где они раньше бывали. Технику следует переменить сейчас же, поручив ее новым людям».
Письмо это полно орфографических ошибок и вольных искажений имен. Автор, Л. Меньщиков, надеялся таким образом внушить мысль, что тайна исходила от какого-нибудь мелкого служащего, чтоб отвлечь внимание от настоящего источника, в случае, если бы полиция пронюхала об этом доносе.
№ 2 Письмо саратовского комитета в ЦК партии с.-р
«Из источника компетентного нам сообщили следующее: в августе 1905 г. один из виднейших членов партии с-р. состоял в сношениях с департаментом полиции, получая от департамента определенное жалование. Лицо это — то самое, которое приезжало в Саратов для участия в бывших здесь совещаниях некоторых крупных партийных работников.
О том, что эти совещания должны состояться в Саратове, местное охранное отделение знало заблаговременно и даже получило сообщение, что на совещаниях должен был обсуждаться вопрос об организации крестьянских дружин и братств. Имена участников также были охранному отделению известны, а потому за всеми участниками совещания была учреждена слежка. Последнею руководил, ввиду особо важного значения, которое приписывалось охранкой совещаниям, специально командированный департаментом ветеран-сыщик ст. сов. Медников. Этот субъект, хотя и достиг высокого чина, однако, остался во всех своих привычках филером и свободное бремя проводил не с офицерами, а со старшим агентом местной охраны и с письмоводителем. Им-то Медников и сообщил, что среди приехавших в Саратов на съезд социалистов-революционеров, находится лицо, состоящее у департамента полиции на жаловании — получает 600 рублей в месяц. Охранники сильно заинтересовались получателем такого большого жалования и ходили смотреть его в сад Очкина (увеселительное место). Он казался очень солидным человеком, прекрасно одетым, с видом богатого коммерсанта или вообще человека больших средств.
Стоял он в Северной гостинице (угол Московской и Александровской, д. о-ва взаимного кредита) и был прописан под именем Сергея Мелитоновича (фамилия была нам источником сообщена, но мы ее, к сожалению, забыли).
Сергей Мелитонович, как лицо „дающее сведения“, был окружен особым надзором для контроля правильности его показаний: в Саратове его провожали из Нижнего через Москву два особых агента, звавших его в своих дневниках кличкой „Филипповский“.
Предполагался ли арест участников совещания или нет, неизвестно; но только участники были предупреждены, что за ними следят, и они тотчас же разъехались. Выехал из Саратова и Филипповский (назовем и мы его этой кличкой). Выехал он по железной дороге 19 августа, в 5 часов дня. Охрана не знала об отъезде революционеров и продолжала следить. 21 августа ночью (11 часов) в охрану была прислана из департамента телеграмма с приказом прекратить наблюдение за съездом. Телеграмма указывала, что участники съезда предупреждены были писарями охранного отделения, такого рода уведомление могло быть сделано только на основании сведений, полученных от кого-либо из участников съезда, и заставило предполагать, что сведения эти дал д-ту Филипповский, уехавший из Саратова в 5 часов или 6 часов вечера 19 августа и успевший доехать до Петербурга к ночи 21-го.
Незадолго до открытия I Думы, т. е. в апреле 1906 г., в Саратов возвратился из Петербурга начальник Саратовского охранного отделения Феодоров (убитый позднее при взрыве на Аптекарском о-ве, и рассказывал, что в момент его отъезда из Петербурга тамошнюю охранку опечаливал прискорбный факт: благодаря антагонизму между агентами департамента полиции и агентами с. — петербургской охраны был арестован Филипповский, имевший, по словам Феодорова, значение не меньшее, чем некогда Дегаев. Филипповский участвовал вместе с другими террористами в слежке, организованной революционерами за высокопоставленными лицами. Агенты СПБ охраны получили распоряжение арестовать террористов, занятых слежкой, и хотя они отлично знали, что Филипповский не подлежит аресту, но в пику агентам д-та прикинулись незнающими об этом и арестовали Филипповского, ухитрившись при этом привлечь к участию в аресте и наружную полицию. Последнее было сделано, чтоб затруднить освобождение Филипповского, так как раз в его аресте участвует наружная полиция, т. е. ведомство, постороннее охране, вообще лишние люди, то уж трудно покончить дело келейно, не обнаружив истинной роли Филипповского. Когда Феодоров выезжал из Петербурга, то еще не был придуман способ выпустить Филипповского, не возбудив у революционеров подозрений, Феодоров сообщил при этом, что в этот раз едва не был арестован хорошо известный филерам X, также участвовавший в слежке, переодетый извозчиком. Он и еще одно лицо успели скрыться».
№ 3. Письмо Азефа Б. В. Савинкову
«Дорогой мой! Спасибо тебе за твое письмо. Оно дышит теплотою и любовью. Спасибо, дорогой мой…
Переходя к делу, скажу, что теперь уж, вероятно, поздно отказываться от суда над Бурцевым. Я сегодня получил от В. письмо (получил его с опозданием на два дня, так как оно было заказное, а для получения заказного надо было визировать паспорт, иначе не выдавали), где он писал, что суд сегодня, в субботу, начнется и просил телеграфировать, согласен ли я на то, чтобы ты был третьим представителем от ЦК. Я сегодня же телеграфировал тебе и *** о своем желании этого.
Но если бы еще и можно было бы похерить суд над Бурцевым, то я скорее был бы против этого, чем за, но, конечно, не имел бы ничего, если бы вы там так решили это дело. Некоторые неудобства суда имеются. Я многое, указанное в твоем письме, разделяю, но не все. Мне кажется, дорогой мой, ты слишком преувеличиваешь то впечатление, которое может получиться от того, что выложит Бурцев. Конечно, ты делаешь предположение, что моя биография судьям неизвестна, и что Бакаю можно верить… Это предположение, на мой взгляд, лишнее: моя биография может стать известна судьям, а насколько можно верить Бакаю, то, может быть, и его биография (которая, по-моему, должна была бы быть несколько полнее, чем это приводится Бурцевым в „Былом“, что Бакай служил в полиции случайно и ему была эта служба противна, но по инерции служил и дослуживался) не так уж расположит к особенному доверию.
Ты не сердись, я сейчас говорю о моей биографии рядом с биографией Бакая. Я понимаю, что это недостойно меня и нас всех. Но, очевидно, может создаться такое положение. Но я даже становлюсь на точку зрения этого предположения, т. е. меня не знают, а Бакай, который указал провокатора среди п. с.-р., заслуживает доверия. И вот и при этих условиях, мне кажется, то, что выложит Бурцев, не может произвесть впечатления, ну, скажем, в его, Бурцева, пользу.
Я, конечно, не знаю всего, что имеет Бурцев сказать. Знаю только то, что сообщил мне ты при нашем свидании. И вот это, по-моему, не выдерживает никакой критики. Постараюсь доказать.
Может, я субъективен, но, во всяком случае, несознательно, — ибо стараюсь быть объективен, насколько только возможно. Основа — письмо (от) августа 1905 г, о Татарове и обо мне. Бакай передает со слов, кажется, Петерсона, что это письмо написал Кременецкий, желая насолить какому-то начальству или Рачковскому, и получил за сие действие наказание — перевели из Питера, где он был начальником охраны, в Сибирь — начальником же охраны. Всякий объективно думающий человек не поверит этому: такому легкому наказанию не может подвергнуться лицо, совершившее такое преступление. Выдача таких двух птиц, как в том письме, — и за это вместо Питера — Томск — и тоже начальником охраны. Все равно, если бы Татарову дали бы работу вместо Питера в другой области. Но для правдоподобия придумывается, что тогда была конституция и они растерялись. Рачковский-то! Да и притом, ведь письмо появилось в августе, а конституция- в октябре. Что же эти два месяца-то? Да и притом, как могли узнать, что Кременецкий писал: что сам он рассказал своему начальству?
Тут, мне кажется, нам бы следовало установить не только со слов Бурцева или Бакая факт действительно ли происходил перевод Кременецкого из Питера в Сибирь, а если происходил, то когда именно Может, окажется, что Кременецкий сидит в Сибири раньше появления этого письма, или перевели его гораздо позже, тогда вовсе нельзя и говорить о растерянности октябрьских дней. Это было бы важно установить. Может, это бы повлияло на самого Бурцева. Он увидел бы, что его дурачат, мягко выражаясь. Но как это сделать? Может, это и нетрудно; ведь известно публике, когда появляются новые начальники охраны, — хотя, черт его знает, может, это и нелегко.
Это письмо для меня загадка. Между прочим, кроме Кременецкого, другой охранник в Одессе тоже говорил, что он — автор этого письма. Если ты помнишь, это было в конце 1906 г., из Одессы приехал в ЦК от…, к которому ходил один охранник, указывая на меня, что, мол он писал это письмо и что, мол, с одним покончил, а другого не трогают. Если всему верить, то ведь два охранника писали одно и то же письмо и оба охранника спасают партию от меня. Я не думаю, что я путаю об одесском охраннике, мне это рассказал N тогда, т. е. два года назад.
Если даже и допустить, что Бакай не врет, а честно действует, то ведь он все это слышал от Петерсона, а Петерсон от Рачковского или Гуровича, или от обоих. Теперь, если думать, что высшие круги полиции почему-то выбрали путь пустить в ход мое имя в том письме, то и естественно, что им и дальше говорить о двух провокаторах было… выгодно и что один-де слава Богу еще и уцелел.
В истории провокаторства, говорит Бурцев, не было случая, чтобы для компрометации члена партии выдавали настоящего провокатора. Я истории не знаю — он знает. Ну, а было ли в истории полиции, чтобы начальник охраны выдавал для населения начальству важных провокаторов? Можно сказать, — когда выгодно, „а это бывает“, а ведь на самом-то деле это до сих пор не было. А в истории провокаторства разве было, чтобы из провокатора получился сотрудник „Былого“, а ведь теперь есть.
Итак, основа всего — письмо; неужели рассказы о нем не могут на кого-либо подействовать, чтобы думать, что Бурцев имел какое-либо нравственное право так уверенно распространяться обо мне, и не нужно знать мою биографию для того, чтобы сказать Бурцеву: этого мало, а если знать и биографию, — то можно и в физиономию Бурцеву плюнуть.
Что же с Бурцевым, когда он узнает от тебя биографию? Он от своей мысли не отказывается, а еще укрепляется и очень просто рассуждает. Плеве — это дела с его согласия… Рачковского. Рачковский был Плеве устранен от дел. Рачковский не у дел. Рачковский зол на Плеве. Рачковский и придумал: создавайте Б. О.! Убейте Плеве! Я — друг Рачковского, не могу же не убить его врага, Плеве. И вот создалась Б. О. Просто?
Но отчего историку не приходит в голову такой мысли. Ведь Рачковский не у дел. Департамент и охрана в Питере существуют (они, конечно, не знают о плане Рачковского и моем), но ведь все-таки они могут проследить работу Б. О. и арестовать и, конечно, меня, работающего на Плеве. И что же я, продажный человек (такой, конечно, и в глазах Рачковского), пойду спокойно на виселицу за идею дружбы Рачковского и не скажу совсем, что, помилуйте, да ведь я действовал по приказанию Рачковского — начальства своего? И что Рачковского ведь тоже наделили бы муравьевским галстухом? И что же, Рачковский готов и на виселицу, как член Б. О. или главный ее вдохновитель? Или Рачковский мог думать, что его за это переведут на службу только в Сибирь, или что я его (не) выдам и уж сам пойду на виселицу из дружбы к нему, а о нем ни гугу? Или Рачковский думал, он отвернется, скажет, что он тут ни при чем, что я, мол, сам это затеял; а я, мол, хотя и продажный, но все-таки дурак дураком — буду рисковать своей жизнью из-за Рачковского, который, между прочим, и не у дел, и, если попадусь и не сумею доказать, что я действовал с Рачковским.
Противно все это писать, но вместе с тем меня и смех разбирает? Уж больно смешон Бурцев, построив эту гипотезу, да еще с ссылкой на историю? Мол, в истории это уж и было. Судейкин хотел убить Толстого. Но, ведь, только хотел, ведь знаем только разговор с Дегаевым (и то, где его историческая неопровержимость?). А почему Судейкин не сделал? Может быть, от того, что Судейкин побоялся виселицы, чего не побоялся, по Бурцеву, Рачковский, а ведь Судейкину-то легче было сделать. Ведь он при делах и все дела были в его руках, тогда он царил, он был в смысле выслеживания революционных организаций и вне конкуренции и вне контроля, кажется. А Рачковский не у дел. Однако, он организации боевой не создал.
А вот историк Бурцев ссылается на историю 15-го июля.
Ты как-то сказал, что Бурцев единственный историк революции и провокации. Да, единственный. И вот это может действовать. Мне кажется, бояться нечего. К счастью, он единственный историк, а заседать будут не историки. А если немного посмотреть на до 15/VII и после 15/VII?»
1) Да, Б. О. началась, конечно, не Рачковским, а Гершуни.
О Сипягине я узнал только через несколько дней после акта, что это дело Гершуни. Вскоре приехал Гершуни ко мне, и мы сговаривались о совместной работе с ним в данном направлении. План начать кампанию против Плеве уже был тогда. В апреле, мае 1902 года одновременно был план и на Оболенского. Я тогда уезжал в июне и июле 1902 года в Питер, а Гершуни на юг России, где имел в виду Оболенского.
Не хочу распространяться, скажу только, что кроме Сипягинского дела, я был причастен и ко всем другим, т. е. Оболенского и еще ближе уже к Уфе, куда я людей посылал. Во всяком случае, надо считать и эти дела (кроме Сипягинского) за благословение начальства. А известно, что тогда еще цареубийство на очереди не стояло, кроме, конечно, как у Бурцева, а потому договор с начальством тоже не приходилось заключать: начальство, мол, разрешает всех убивать, кроме царя и Столыпина.
2) «А что касается (времени) после 15-го июля, то ты ведь знаешь. Скажу только о Сергее. Нет, раньше вот еще что. Ну, совершается 15-го июля. Плеве нет. Рачковский рад, враг его убит. Он не получает муравьевского галстуха. Знает он состав организации досконально, и по каким паспортам (кто) живет, — знает, что она разделилась на 3 части — в Москве, в Питере и в Киеве. Знает, что ты в Москве — словом знает все, что ты и я, — в результате — убивают Сергея. Бурцев говорит: не успели арестовать, — дали по оплошности убить. То есть знали в течение 3-х или больше месяцев, по какому паспорту ты живешь, по каким паспортам все уехали из Парижа, когда проезжали границу с динамитом, по какому делу живут в Москве, об извозчиках знали, словом, все, все в течение 3-х месяцев и дают убить Сергея. Не успевают и после убийства тоже никого не берут и не устанавливают долго Ивана Платоновича, дают всем разъехаться — ты, кажется, с паспортом, по которому жил (хорошо не помню), Дора разъезжает и возится еще долго. Хорош Рачковский.
Отчего бы партии не иметь Рачковских таких. Не скверно вовсе?
Бурцев знает вес из истории! предупреждали, не успели только взять, дали убить. Что делать, — медленно движется охранка? Если она будет знать все с самого начала, — работы организации и паспорта, по которым живут организаторы, — она все-таки прозевает все, и убить даст и разъехаться даст всем. В истории Бурцева может и это бывает?
Теперь о Варшавском посещении. Рассказ Бакая следующий. Из Питера сообщают ему, как охраннику- едет, мол, важный провокатор Раскин, он посетит такое-то лицо, снимите слежку у этого лица, дабы филеры не видели этого важного провокатора Раскина. Бурцев установил, что у этого лица был я. Мне безразлично, как он это установил, и можно ли это установить вообще. Факт тот, что я единственный раз за свою деятельность был по делу в Варшаве и посетил одно лицо. Фамилию этого лица совершенно сейчас не помню. Но помню, что это было… Был я по поручению Михаила Рафаиловича Гоца. По делу, насколько припоминаю, транспорта. Черт его знает, совсем не помню сейчас. Этот господин каким-то способом мог перевозить литературу. А Михаилу (Гоцу) об этом передавал… и кажется, я и являлся от N. Но этот господин мне сказал, что он ничего не знает и не ведает, — выпучил глаза только. Я и решил, что тут N наплел, и уехал. Господин этот, варшавским филерам неизвестный, мог совершенно проскользнуть мимо них. И что за нелепость, департаменту делать распоряжение о снятии филеров, дабы они не видели меня, провокатора. Да, потом, неужели всякий раз, когда провокаторы куда-нибудь ходят, то снимаются филеры. И здорово бы им приходилось со мной возиться, — так как раньше я очень много посещал и, вернее, из любопытства все филеры уже хотели бы взглянуть на этого знаменитого Раскина. Но это относится к истории. Мы тут ничего не понимаем. Но этот рассказ плохо согласуется с другим рассказом того же источника. Когда мы были в Нижнем, т. е. ты и я, то за нами следило по 6-ти человек, кажется, дабы. нас не арестовали нижегородские шпионы. В одном городе снимаются филеры, дабы они Раскина не видели, а в другой посылаются филеры, да еще по 6-ти на каждого, дабы они на Раскина смотрели! Кроме того, это предписание из Питера от деп. полиции или охраны говорит, что Раскин имел дело не только с Рачковским, но и с департаментом или охранкой, так что и департамент благословлял организацию убийства Плеве. Я думаю, что каждый, более или менее не желающий из меня сделать во что бы то ни стало провокатора, не будет считать все это более или менее важным и стоящим внимания.
Не знаю, что имеет Бурцев. N. пишет, что Бурцев припас какой-то ультра-сенсационный материал, который пока держит в тайне, рассчитывая поразить суд, — но то, что я знаю, действительно не выдерживает никакой критики, и всякий нормальный ум должен крикнуть: — „Купайся сам в грязи, но не пачкай других“. Я думаю, что все, что он держит в тайне, не лучшего достоинства. Кроме лжи и подделки быть не может. Потому, мне кажется, суд, может быть, и сумеет положить конец этой грязной клевете. По крайней мере, если Бурцев и будет кричать, то он останется единственным маниаком. Я надеюсь, что авторитет известных лиц будет для остальных известным образом удерживающим моментом. Если суда не будет — разговоры не уменьшатся, а увеличатся, а почва для них имеется: ведь биографии моей многие не знают. Ты говоришь: делами надо отвечать, работой… Теперь мне представляется, что заявление твое и N. все-таки не заставит молчать. Они слепые, будут говорить, а разве Вера Николаевна не работала с Дегаевым?
Конечно, мы унизились, — идя в суд с Бурцевым. Это недостойно нас, как организации. Но все приняло такие размеры, что приходится унизиться. Мне кажется, что молчать нельзя, — ты забываешь размеры огласки. Но если вы там найдете возможным наплевать, то готов плюнуть и я вместе с вами, если это уже не поздно, Я уверен, что товарищи пойдут до конца в защите чести товарища, а потому я готов и отступиться от своего мнения и отказаться от суда. Поговори с Я. Если хочешь, прочти ему и это письмо…
Прости, что написал тебе столь много и, вероятно, ты все это и сам знаешь и думал обо всем. Мне хотелось только не присутствовать во время этой процедуры. Я чувствую, что это меня совсем разобьет. Старайся, насколько возможно, меня избавить от этого. Пересылаю и письмо. Обнимаю и целую тебя крепко. Твой Иван. Пиши, только не заказным».
Примечания
1
Текст печатается по изданию Лонге Ж. и Зильбер Г. Террористы и охранка. М.: Прометей, 1924.
(обратно)2
«Causeries sur la Police» par D. В. — Paris, 1885.— P. 13.
(обратно)3
Ibid.
(обратно)4
Charles Virmaitre. Paris — Police.
(обратно)5
Подробности о роли провокаторов в первом Интернационале читатель может найти в кн.: Guillaume J. L'internationale, Paris, 3 vol.
(обратно)6
Эта беседа, проливающая яркий свет на психологию тех, кто управлял судьбами России, была опубликована в «Вестнике Народной Воли» Львом Тихомировым, сделавшимся впоследствии редактором реакционнейших «Московских Ведомостей». Тихомирову ее сообщил Дегаев, который уверял, что она ему была передана слово в слово самим Судейкиным.
(обратно)7
Интересна судьба самого Стародворского. Просидев чуть ли не два десятка лет в Шлиссельбургской крепости, он после своего освобождения попал в Париж, где примкнул к партии социалистов-революционеров. В 1908 г. в руки одного видного революционера попало покаянное прошение, поданное им на высочайшее имя во время его заключения. Был назначен суд. Но за отсутствием точных улик дело было прекращено и Стародворский оправдан. После падения царизма обнаружилось, что Стародворский не только подавал прошение, но состоял на службе у полиции. Он не получал регулярного жалованья, а «урывал» время от времени по 500–600 франков в обмен на случайные и отрывочные сведения, которые он доставлял охранке. В истории русской провокации это, может быть, самый темный и страшный случай. Дело Стародворского хранят под спудом, точно из боязни, чтоб эта грязь не пристала к партии или революции. Это плохой расчет. В пользу укрываний этого партизана-провокатора не может быть выдвинуто ни одно веское соображение.
(обратно)8
Родился в 1863 г. в дворянской семье. Будучи студентом, примкнул к партии социалистов-революционеров, занимаясь журналистской деятельностью в России и за границей. Еще до Февральской революции Бурцев изменил свое отношение к царизму, после же революции открыто перешел на сторону монархистов.
Просидев после Октября в Петропавловской крепости и выпущенный на свободу, он бежал за границу и поступил на службу к Деникину и Врангелю. В Париже он развернул свою газетку «Общее Дело», завывая с первого до последнего его номера на истерически высоких нотах о «проклятых большевиках», не дав за пять лет, с1917 по 1922 г., ни одной свежей мысли, ни одного отражения вихря революционных событий, — все остановилось на точке 17-го года, и никакого снисхождения, только «проклятье» и опять «проклятье вам, большевикам».
«Как-никак в прошлом своем Бурцев был все же врагом — царизма, но, видимо, действительно нельзя ходить по грязи и не запачкаться, и Бурцев, может быть, в результате своей близости к сферам охранки… мало-помалу превратился в очень жалкого певца славы: Деникина, Врангеля и своих французских хозяев». (Печать и Революция. IV 1923. С.62).-От изд.
(обратно)9
Былое. — Париж, 1908.-№ 7. — Авг. — С. 131–138.
(обратно)10
Помимо той роли, которую Бакай играл в деле Азефа, мы потому так долго остановились на нем, что Бакай стал бытовым явлением после революции 1905 г. Эти «двойные перебежчики» вряд ли заслуживают доверия, по крайней мере во всем, что касается личных их побуждений и целей.
(обратно)11
В действительности автором был не Кременицкий, а Л. Меньщиков.
(обратно)12
Далее по тексту возможно сокращение-с.-р.
(обратно)13
Ростковскому.
(обратно)14
По странной игре случая первым об этом письме узнал… Азеф. Вот при каких обстоятельствах Р., получивший анонимку, не знал ни Татарова, ни фамилии Азефа. Последнего он знал под партийной кличкой «Иван Николаевич». Когда т. Р. сидел, как оглушенный, над этим письмом, к нему заходил сам Азеф. Зная его как члена ЦК, т. Р. подает ему письмо, Азеф прочитал и вернул. Тов. Р. спрашивает, знает ли он, о ком в письме идет речь. — Да, знаю. Т. - это Татаров. А… Азиев… Азеф — это я. Повернулся и ушел (см.: Знамя Труда. № 31–32. С. 11).
(обратно)15
См. заявление Парижской группы партии с.-р. от 25 февраля 1909 г.
(обратно)16
Цит. по: Революционная Мысль. — 1909. - № 4. — Февр. — С. 11.
(обратно)17
Там же.
(обратно)18
Теплов был старым другом Бурцева. Он был замешан под именем Львова в пресловутом деле с бомбами, организованном в 1890 г. в Париже провокатором Ландезеном-Гартингом.
(обратно)19
Комиссия эта, поскольку мы знаем, не добилась никаких существенных результатов, и ее деятельность оказалась почти бесплодной.
(обратно)20
Центральный комитет нам заявил, что Бурцев сообщил третейскому суду некоторые документы и улики, о которых ЦК раньше ничего не знал. С другой стороны; Бурцев, опрошенный нами, ответил, что все материалы, которые им не были представлены в распоряжение ЦК, дошли до него самого гораздо позже.
(обратно)21
Эти подробности были нам сообщены самим В. Л. Бурцевым. Если верить «Революционной мысли», центральный комитет ответил ему: Азеф н ЦК — это одно и то же.
(обратно)22
Известны два случая, когда его не приняли в организации, несмотря на то что он имел все необходимые пароли: такое впечатление чего-то «чужого» произвели весь его облик солидного коммерсанта, вся его неинтеллигентная внешность, И тем не менее яркие качества его практического ума при более долгом знакомстве постоянно приводили к тому же самому: к выводу, что за невзрачной, грубой оболочкой, предметом частых шуток товарищей, кроется крупная революционная сила (Знамя Труда. № 15. С. 3).
(обратно)23
Чернов Виктор Михайлович, родился в 1876 г., из потомственных дворян. Окончил Московский университет. Один из основателей партии социал-революционеров, в которой до последнего времени занимает выдающееся положение как член центрального комитета. Вместе с Гоцем редактировал орган партии «Революционная Россия». После Февральской революции вернулся в Россию и в кабинете Керенского занимал пост министра земледелия. После Октября становятся ярым врагом большевизма и в настоящее время проживает за границей.
(обратно)24
Оставаясь в пределах центрального комитета в меньшинстве, он (Азеф), однако, и не думал приблизить своих взглядов к партийно-равнодействующей, напротив, всякое новое событие было для него поводом упрямо утверждать, что он один против всех был прав. Он был неуступчив, упорен, порою даже упрям, но не избегал конфликтов и выходил из них с большой твердостью.
(обратно)25
Гоц Михаил Рафаилович, родился в 1866 г., сын богатого московского купца, окончил московскую гимназию, учился в Московском университете, в 1886 г. арестован за принадлежиосгь к местному кружку «Народной воли» и сослан в Восточную Сибирь.
28 марта 1889 г. во время якутских беспорядков ранен и затем сослан на каторгу. В 1899 г. вернулся из ссылки и в 1901 г. выехал за границу, где принял самое деятельное участие в материальной и литературной постановке «Вестника русской революции», а затем и вообще в работе партии соцналистов-революционеров, членом центрального комитета которой он состоял с ее основания, до своей смерти. Занимал в партии выдающееся положение.
В 1903 г., по требованию русского правительства, был арестован в Неаполе, но вскоре освобожден. Скончался 26 августа 1906 г. после продолжительной, тяжелой болезни.
(обратно)26
До войны в Карлсруэ училось больше 250 русских студентов.
(обратно)27
В своих записках, которые, если не ошибаемся, подверглись некоторым существенным изменениям после разоблачения Азефа, Б. Савинков, говоря о первых подозрениях, объясняет, почему он не мог им верить: «Я был связан с Азефом дружбой. Долговременная совместная террористическая работа сблизила нас.
Я знал Азефа за человека большой воли, сильного практического ума и крупного организаторского таланта. Я видел его на работе. Я видел его неуклонную последовательность в революционном действии, его спокойное мужество террориста, наконец, его глубокую нежность к семье. В моих глазах, он был даровитым и опытным революционером и твердым решительным человеком. Это мнение в общих чертах разделялось всеми товарищами, работавшими с ним…
Ни неясные слухи, ни письмо анонимное 1905 г. (о письме 1907 г. я узнал только во время суда над Бурцевым), ни указания Бурцева не заронили во мне и теня сомнений в честности Азефа. Я не знал, чем объяснить появление этих слухов и указаний, но моя любовь и уважение к Азефу ими поколеблены не были».
(обратно)28
Этот разговор был повторен А. Лопухиным одному из членов нейтрального комитета партии с.-р., который нам лично сообщил его.
(обратно)29
Покойный С. Слетов этот факт оспаривает (Tribune russe, 1909).
(обратно)30
Все эти сведения были нам сообщены В. М. Черновым. «По взглядам своим, — пишет В. Тучкнн в статье „Евгений Азеф“, — он занимал в центральном комитете крайнюю правую позицию. Социальные проблемы он отодвигал в далекое будущее; в массы и массовое движение, как в непосредственную революционную силу, совершенно не верил. Единственным действенным средством, которым располагает революция, он признавал террор. Казалось иногда, что к работе пропаганды, агитации, организации масс он относится пренебрежительно, как к „культурничеству“, и „революцией“ признает лишь борьбу с оружием в руках, ведомую немногочисленными кадрами конспиративной организации». (Знамя Труда. 1909. № 15. Февр. С. 3).
(обратно)31
ibid. с. 4.
(обратно)32
Савинков, Борис Викторович, дворянин, родился в 1879 г. В 1902 г., студентом, был выслан в Вологду по делу социал-демократических групп «Социалист» и «Рабочее знамя». Под влиянием Брешко-Брешковской вступил в партию социалистов-революционеров. В июле 1903 г. бежал из ссылки, через Архангельск, за границу, явился в Женеву и занял в партии первенствующее положение. Вместе с Азефом он стоял долгое время во главе «боевой организации» и руководил важнейшими политическими убийствами.
После Февральской революции вернулся в Россию, где занял видный пост во Временном правительстве. Еще до Октябрьской революции Савинков становится одним из самых ярых врагов большевиков. Обвинительный акт по делу Савинкова (Известия ЦИК. 1924. № 197) инкриминирует ему, что с первых шагов своего появления в России после свержения царизма Борис Викторович Савинков проявил себя как решительный последовательный враг рабочего класса, беднейшего крестьянства и солдатских масс во всех проявлениях, их борьбы за углубление и расширение революционных завоеваний.
В бытность военным министром и военным комиссаром Б. В. Савинков использовал в борьбе с нарастающей пролетарской революцией свое имя старого революционера-террориста для провокационного вхождения в органы пролетарских классовых организаций и целый ряд солдатских комитетов и крестьянских союзов с целью задержки развития революционного настроения среди их участников, что приводило к их разложению и усиливало позицию буржуазии в борьбе против трудящихся.
После перехода власти в руки рабочих и крестьян Б. В. Савинков продолжал свою контрреволюционную деятельность, являясь вдохновителем и организатором контрреволюционеров, борющихся на стороне буржуазии с пролетарской революцией, принимал активное участие в организации наступления генерала Краснова на Петроград, лично пробрался в его штаб в Гатчине, где призывал к наиболее решительным мерам борьбы с питерскими рабочими, войсковыми частями и революционными матросами, побуждая к борьбе Керенского. Для привлечения других войсковых частей на помощь Краснову Б. В. Савинков отправился в распоряжение армии генерала Черемисова и принял меры к использованию польского добровольческого корпуса генерала Довбор-Мусницкого.
После поражения Краснова, в декабре 1917 г., Б. В. Савинков в личном сотрудничестве с генералами Калединым, Корниловым и Алексеевым принимал участие в работе по созданию генералами Алексеевым и, Корниловым Добровольческой армии. Затем создал новую контрреволюционную организацию — тайное общество для борьбы против большевиков под названием «Союз Защиты Родины и Свободы». Одновременно Савинков находился в непосредственном контакте с представителями союзного дипломатического корпуса в лице Нуланса и Массарика, которые, вели тайную контрреволюционную работу на территории РСФСР, и получал от них денежные субсидии через Массарика, на которые фактически велась, и расширялась вся, организационная работа «Союза Защиты Родины и Свободы».
Организованный Савинковым «Союз Защиты Родины и Свободы» имел свою контрразведку в Москве и разъездных агентов, главным образом на Украине. Союз начал широкую террористическую деятельность, и в первую очередь готовил покушения на Ленина и Троцкого, а также готовился к вооруженному выступлению, которое и состоялось по распоряжению «Национального Центра» в Рыбинске, Ярославле и Муроме. На все эти контрреволюционные дела от представителей союзных правительств Савинков получил значительную сумму и сам лично руководил организацией восстания — сначала в Ярославле, а потом в Рыбинске. Опору и поддержку, по признанию самого Савинкова, он находил среди торговцев и купцов города Рыбинска. После разгрома рыбинского, ярославского и муромского восстаний Савинков направил оставшиеся белогвардейские банды на разрозненную, партизанскую борьбу, взрыв мостов и налеты на советские центры, проводя в то же время подтягивание своего штаба и своих частей к расположению чехословацких войск для дальнейших действий с ними против рабочих и крестьян, отстаивающих свои революционные завоевания от покушений помещичье-дворянской и промышленно-торговой контрреволюции.
На территории, занятой чехословаками, Савинков поддерживал постоянную связь с представителями чехословацкого командования и с членами Самарского правительства. После разгрома и распада «Союза Защиты Родины и Свободы» Б. В. Савинков боролся против Совроссии в рядах колчаковской армии.
После разгрома Колчака и Юденича Савинков участвует в создании из остатков северо-западной армии новых формирований для Булак-Булаховича и Перемыкина, которые участвовали как составные части польской армии в советско-польской войне.
Поняв, что силами внутренней контрреволюции Советскую власть не свергнуть, Савинков начинает пропагандировать в белогвардейской печати и в личных переговорах с белогвардейскими политическими деятелями план борьбы путем интервенции. С присущей ему энергией он добивается личных свиданий с видными политическими деятелями Антанты — Мильераном, Черчиллем, а также с Пилсудским — главой Польского государства и главкомом армии, которая в то время вела войну с Советской Федерацией.
Таким образом Савинков добился поддержки со стороны Франции и Польши и получил источник материальных доходов, а также подготовил почву для образования новой контрреволюционной организации с такой программой и с такими лозунгами, что в нее могли вступать для борьбы с большевиками наиболее активные белогвардейские элементы начиная от монархистов и кончая меньшевиками. В полном сознании бесплодности дальнейшей борьбы с Советской властью Савинков предстал 27 августа 1924 г. перед Военной коллегией Верховного суда СССР.
«Пошел я против коммунистов, — объяснял он, — по многим причинам. Во-первых, по хвоим убеждениям я эсер, а следовательно, был обязан защищать Учредительное собрание; во-вторых, я думал, что преждевременно заключенный мир гибелен для России; а в-третьих, мне казалось, что если не бороться с коммунистами нам, демократам, то власть захватят монархисты; в-четвертых, кто мог бы в 1917 г. сказать, что русские рабочие и крестьяне в массе пойдут за РКП?.. Я разделял распространенное заблуждение, что октябрьский переворот не более как захват власти горстью смелых людей, захват, возможный только благодаря слабости и неразумию Керенского.
Будущее мне показало, что я был неправ во всем. Учредительное собрание выявило свою ничтожность, мир с Германией заключила бы любая дальновидная власть: коммунисты совершенно разбили монархистов и сделали невозможной реставрацию в каком бы то ни было виде; наконец, — это самое главное, — РКП была поддержана рабочими и крестьянами России, то есть русским народом. Все причины, побудившие меня поднять оружие, отпали. Остались только идейные разногласия: Интернационал или родина, диктатура пролетариата или свобода? Но из-за разногласий не подымают меч и не становятся врагами… К сожалению, истину я увидел только в процессе борьбы, но не раньше. Моя борьба с коммунистами научила меня многому — каждый день приносил разочарования, каждый день разрушал во мне веру в правильность моего пути и каждый день укреплял меня в мысли, что если за коммунистами большинство русских рабочих и крестьян, то я, русский, должен подчиниться их воле, какая бы она ни была. Я — революционер. А это значит, что я не только признаю все средства борьбы, вплоть до террористических актов, но и борюсь до конца, до той последней минуты, когда-либо погибаю, либо совершенно убеждаюсь в своей ошибке. Я имею мужество открыто сказать, что моя упорная, длительная, не на живот, а на смерть, всеми доступными мне средствами борьба не дала результатов. Раз это так, значит, русский народ был не с нами, а с РКП. И говорю еще раз: плох или хорош русский народ, заблуждается он или нет, я, русский, подчиняюсь ему. Судите меня, как хотите.
В 1923 г. передо мной во весь рост встал страшный вопрос. Вот пять лет я борюсь. Я всегда и неизменно побит. Почему? Потому ли только, что эмиграция разлагается, эсеры бездейственны, а генералы не научились и не могут научиться ничему? Потому ли только, что среди нас мало убежденных и стойких людей, зато много болтунов, бандитов и полубандитов? Потому ли только, что у нас нет денег и базы? Потому ли только, что мы не объединены? Потому ли только, что наша программа не совершенна? Или еще и прежде всего потому, что с коммунистами русские рабочие и крестьяне, то есть русский народ?
Я впервые ответил себе: „Да, я ошибся, коммунисты — не захватчики власти, они — власть, признанная русским народом. Русский народ поддержал их в гражданской войне, поддержал их в борьбе против нас. Что делать? Надо подчиниться народу“».
«Отречение» Савинкова вызвало в русской и заграничной печати большое недоумение и большие толки. Мнения разделились, одни считали повинную Савинкова чуть не провокацией, предательством, другие же, наоборот, называли его героем, искренно, логическим путем пришедшим к сознанию своей ошибки. Без сомнения, и те и другие неправы:
Савинков не предатель, не провокатор и не герой. Савинков представляет собой колоритнейший тип той же насквозь прогнившей мелкобуржуазной русской интеллигенции, из среды которой вышли Гапон, Керенский, патриарх Тихон — et tutti guanti, имя им легион. Это все та же плоть, та же кровь. Вечно шатающиеся, вечно позирующие, вечно блуждающие среди трех сосен, витающие в облаках, в поисках за какой-то неведомой синей птицей, только им доступной истиной, они ее видят и не хотят видеть то, что творится перед их глазами. При неудаче они могут только стонать и плакать или кликушествовать. Это не та гвардия, которая умирает, но не сдается, а те захудалые пехотинцы, которые сдаются и не хотят умирать.
Луначарский называет Савинкова артистом авантюры, трагическим героем, у которого нет ни серьезной идеи, ни серьезного чувства (Правда. 1924, № 201). «Эти люди, — говорит он, — настолько шатки в своих принципах, что переход для них в самую черную контрреволюцию совершенно нечувствителен» (Ibid). Плеханов также, считал его авантюристом, всегда позирующим, всегда играющим. «В мирное время он очень любил слушать рассказы Савинкова о его революционных похождениях, но был очень невысокого мнения о его понимании революционных задач и не любил его склонности к легкомысленным выступлениям, как в литературе, так и в политике» (Письмо Плехановой//Известия. 1924. № 201).
Приговором Верховного суда Савинков был приговорен к высшей мере наказания, замененной по ходатайству того же суда ПредЦИКСом 10-летним заключением. (От изд.).
(обратно)33
Происхождение письма не было еще тогда известно Бурцеву. Он его приписывал Кремеиецкому. Этим объясняется некоторая неточность в интерпретации мотивов его автора. Как обнаружилось впоследствии, письмо это было написано Л. Меньщиковым.
(обратно)34
В. Н. Фигнер.
(обратно)35
Все эти подробности о бегстве Азефа не являются поэтическим вымыслом авторов. Мы здесь точно воспроизводим рассказ, сделанный нам самой женой Азефа, недолго спустя после описанных, событий.
(обратно)36
Заключения судебно-следственной комиссии по делу Азефа.
(обратно)37
Члены «боевой организации» раскололись: многие из них упорно не желали верить в виновность Азефа и были очень решительно настроены…
«Когда члены ЦК представили ряду ближайших работников свои данные, обличающие сношения Азефа с полицией, многие отказались верить очевидности, говоря: но если Иван Николаевич провокатор, то кому же после этого верить? И как после этого жить?» (Знамя Труда. № 15. С. 4).
Но самым ярким образчиком того неограниченного слепого доверия, которое провокатор сумел внушить своим товарищам по партии, является, несомненно, следующий невероятный факт. Выдающийся с.-р., писатель, один из основателей «Союза социалистов-революционеров» X. Жнтловский (известный в литературе под псевдонимом Н. Григоровича) продолжал в Америке фанатически отстаивать Азефа в продолжение четырех месяцев после его разоблачения. Одному из авторов книги пришлось лично беседовать в Нью-Йорке с Жнтловскнм по этому поводу: «Я скорее мог усомниться в себе, чем поверить в то, что Азеф — провокатор. Нужно знать, чем для нас был Азеф, чтоб понять это… Я помню, когда-то в Берлине каждый приезд Азефа или Гершуни был для нас, заграничников, настоящим светлым праздником… С его именем для нас были связаны самые яркие проявления нашей партии. Кроме того, он с такой чуткостью и вниманием относился к нам всем; так, например, что касается лично меня, он всегда интересовался моими литературными планами и работами, давал советы, практически очень умные, указывая на наиболее подходящие к моменту сюжеты, и все это с такой дружеской теплотой, с такой сердечностью… Разоблачение Азефа казалось мне чудовищной ошибкой»…
(обратно)38
От 23 января 1909 г.
(обратно)39
См. интервью с Бурцевым, появившееся в «Journal» от 24 января и в «Humanité» от 24 и 26 января. Кроме того, с особенной силой и убедительностью развил он свою точку зрения в статье «Я обвиняю», появившейся через несколько дней в «Humanité».
(обратно)40
Любопытно сопоставить с этой догадкой Бурцева следующие строки, принадлежащие анонимному автору В. Т. (В. Чернов) в «Знамени Труда», вышедшем сейчас же после бегства Азефа. По приезде своем за границу первое время Татаров пользовался доверием, и здесь для него не могло не выясниться (разрядка авторов), что Азеф и Савинков — участники одних и тех же дел. Это — минимум. Но он мог узнать и больше, а именно, что Азеф в террористической организации по положению стоит впереди Савинкова. Теперь дальше. В декабре 1905 или в январе 1906 г. Татаров уже успел выведать через одного своего родственника, от Ратаева, что Азеф — провокатор. Татаров дважды об этом заявлял, со ссылкой на Ратаева, представителям ЦК, в то же время не сознаваясь в собственных сношениях с полицией («Не я провокатор, не я выдал боевиков, а Азеф?»). Указанию на Азефа и не поверили более всего благодаря тому, что посредством него Татаров пытался обелить себя, когда его виновность была (чего он, впрочем, не знал) уже неопровержимо доказана. Итак, Татарову в начале 1906 г. была уже известна двойная роль Азефа (разрядка авторов). Татаров в это время, как доказано документально, находился в оживленных сношениях с Рачковским и Гуревичем. Эти последние не могли, следовательно, не узнать — хотя бы и без деталей — о том, что Азеф имел скрытую от них полосу жизни в революции (Знамя Труда. № 15. С. 17).
(обратно)41
Левая группа партии с.-р. (или группа содействия) отличалась своими децентралнстическими и федералистическими тенденциями. Она энергично защищала мысль, что децентралистическая форма организации не позволила бы провокаторам играть такую страшную роль, какую играл Азеф, само существование которого было возможно «только потому, что террор был централизован». Азеф, войдя в центр, или, вернее, создав его, стал неограниченным господином всех его проявлений (Революционная Мысль. Февр. С 2). Ту же самую точку зрения проводила М. К. в «Temps Nouveaux» (1900. 23 янв.), органе анархистов-коммунистов.
(обратно)42
Заявления Столыпина в Государственной думе целиком и полностью подтверждали правильность этих ранних подозрений. В охранном отделении, еще будучи студентом в Карлсруэ, Азеф был известен под кличкой «Сотрудник из Кострюльки» — так писарь первоначально окрестил его вместо «Сотрудник из Карлсруэ».
(обратно)43
Имя Азефа для ЦК партии с.-р. было дороже имен тех жертв боевиков, которые гибли десятками и сотнями от предательства их «вождя». Но зато он вождь, которому низко-низко поклонялись, в самые ноженьки… Да еще какой вождь! Сам главнокомандующий всеми вооруженными силами «боевой организации»! — самой революции по понятию эсеров!.. Он, как жена Цезаря, вне подозрений, и даже «предательство» самой эсеровской божьей матери Брешковской, как это видно из ясного и категорического донесения саратовской организации, не могло стереть ореола личности Азефа.
Но стоило лишь низвергнуть этого «вождя», как рухнул и сам культ партии эсеров, как это показали ближайшие годы.
Для исследователя партии с.-р. в целом и ее вождей в отдельности азефщина дает действительно богатый и красочный исключительный материал. (От изд. — см. послесловие).
(обратно)44
По сведениям охранки, Азеф явился первым осведомителем основанного в Берне «Союза русских социалистов-революционеров». Спиридонов рассказывает, что с деятелями «Союза» вскоре после его образования познакомился проживавший тогда за границей ростовский мещанин, учившийся в Политехническом институте в Карлсруэ, Евно Азеф, находившийся в сношениях с департаментом полиции. Азеф разъезжал по русским студенческим колониям в Германия и Швейцарии, распространял нелегальную литературу, собирал деньги, устраивал кружки. Он выставлял себя террористом, придававшим серьезное значение только террору. В то же время он осведомлял департамент полиции о русских эмигрантских кружках.
Эти первые серьезные связи с социалистами-революционерами послужили для Азефа началом его карьеры и как революционного деятеля, и как агента — «сотрудника» департамента полиции (Спиридонов. Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. — Пг., 1918. С. 46).
(обратно)45
Этот отрывок не явился в «Былом» по чисто тактическим соображениям момента, которые потом отпали. Он нам был сообщен в рукописи В. Л. Бурцевым.
(обратно)46
Балмашев повторил знаменитую фразу декабриста Рылеева, который во время казни сорвался с веревки и с презрением и язвительностью высмеивал своих палачей, не умеющих даже вешать как следует.
(обратно)47
В своих «Воспоминаниях» Гершуни рассказывает, что Победоносцев должен был быть убит одновременно с Сипягиным террористом, переодетым бригадным генералом. Акт предполагалось совершить при выходе Победоносцева из Святейшего синода. Нелепая ошибка была причиной неудачи этого плана. Телеграмма, посланная мнимому генералу, не дошла по назначению, вследствие ошибки, допущенной в адресе (см.: Гершуни Г. Воспоминания.—С. 63).
(обратно)48
Существует другая интерпретация этих фактов. Она основана на записке, оставленной недавно умершим начальником киевского охранного отделения генералом Новицким.
Покушение, по мнению Новицкого, было подготовлено в Киеве. Гершуни жил в этом городе. Он занимал меблированную комнату у одного портного, родная дочь которого принадлежала к революционной организации. Гершуни был влюблен в эту девушку, и она, казалось, отвечала ему взаимностью (sic!). Он от нее ничего не скрывал, точно так же как и от ее отца, на которого он смотрел как на будущего своего тестя и который выражал глубокую преданность революционным идеям.
Портной и его дочь были секретными агентами полиции. Каждый вечер, смотря по обстоятельствам, он или она являлись к генералу Новицкому и докладывали обо всем, что делал или предполагал делать Гершуни.
Нужно прибавить, что Гершуни в это время уже был известен полиции как организатор покушения против покойного министра внутренних дел Сипягина.
(обратно)49
См.: Знамя Труда. — 1909.— № 15.— Февр. — С. 4. Центральный орган партии с.-р. дает такую характеристику «технического гения» Азефа, которым до его разоблачений объяснялся его блестящий успех в деле Плеве, Сергея Александровича и др. Он отличался, пишет В. Тучкин (В. Чернов), редким умением каждое предприятие продумывать до конца во всех деталях, с предвидением всех возможных затруднений, случайностей, возможностей. В этом отношении он со своим математическим умом чрезвычайно напоминал шахматного игрока, рассчитывающего наперед все ближайшие перемены в комбинации фигур на несколько ходов вперед.
(обратно)50
Эти сведения позаимствованы нами из «Тайных донесений департамента полиции», попавших в руки Бурцева. Незначительные извлечения из этих документов были напечатаны в «Былом». Мы пользовались для нашей работы подлинными, любезно предоставленными в ваше распоряжение данными.
(обратно)51
Савинков нам заявил, что эта встреча Азефа с Покотиловым стала нм известна уже значительно позже.
(обратно)52
В прокламации «боевой организации», выпущенной по поводу убийства Плеве, озаглавленной «15-е июля 1904 г.» с подзаголовком:
«По делам вашим воздается Вам», — говорилось между прочим: «Плеве убит… С 15 июля вся Россия устает повторять эти слова… Кто разорил страну и залил ее потоками крови? Кто вернул нас к средним векам с еврейским гетто, с кишиневской бойней, с разложившимся трупом святого Серафима? Кто душил финнов за то, что они финны, евреев за то, что они евреи, армян за Армению, поляков за Польшу? Кто стрелял в нас, голодных и обезоруженных, насиловал наших жен, отнимал последнее достояние? Кто, наконец, в уплату по счетам дряхлеющего самодержавия послал умирать десятки тысяч сынов народа и опозорил страну ненужной войною с Японией? Кто? Все тот же неограниченный хозяин России, старик в расшитом золотом мундире, благословенный царем и проклятый народом… Смерть Плеве только шаг вперед к пути освобождения народа. Путь далек и труден, но начало положено и дорога ясна: Карпович и Балмашев, Гершуни и Покотилов, неизвестные в Уфе и неизвестные у Варшавского вокзала указали ее нам. Судный день самодержавия близок. Побеждает тот, кто силен, кто чтит волю народа… И если смерть одного из многих слуг ненавидимого народом царя не знаменует еще крушения самодержавия, то организованный террор, завещанный нам братьями и отцами, довершит дело народной революции… Да здравствует „Народная Воля“! Да здравствует революционный социализм! Да погибнет царь и самодержавие» (полностью помещено в истор. сборнике «Да здравствует Народная Воля». Париж, 1907. № 1. С. 32–33).
(обратно)53
Обвинительный акт А. А. Лопухина.
(обратно)54
Речь Столыпина в Государственной думе по поводу запроса о деле Азефа: Стеногр. отчет. III созыв. II сессия. Заседание 50. Февр. 1909.
(обратно)55
Российская социал-демократическая рабочая партия заявила, что сами условия, при которых созывалась эта конференция, осуждали ее на полное бессилие и политическую бесплодность. Не должна ли она была заключать и нереволюционные элементы? Соглашение для общих действий могло быть достигнуто только на основе, приемлемой наиболее умеренными. Партия пролетариата отказывалась участвовать на этой конференции. Впрочем, существовали и другие веские причины…
(обратно)56
В своих показаниях на суде Лопухин утверждал, что не помнит этих донесений Азефа. Лишнее доказательство того, что Рачковский скрывал от своего непосредственного начальника большинство сведений и доносов Азефа.
(обратно)57
В заметке, опубликованной в «Былом», М. Бакай рассказывает, что после покушения русское правительство, ошеломленное и перепуганное, потребовало объяснения от московской охранки. Эта последняя, не желая раскрывать своей провокаторской игры, будто бы заявила, что убийство великого князя было для нее полной неожиданностью. Все филерские дневники (которые охранные сыщики вели изо дня в день) с отметками о наблюдении за террористами, точно так же как и все другие письменные доказательства осведомленности охраны, были уничтожены. Если верить заявлению, сделанному А. А. Лопухиным, эти дневники не были уничтожены, но в них были подделаны числа и выскоблены компрометирующие охранку места. Эта деликатная операция была совершена полковником Радько, тогдашним начальником московского сыска. После убийства вел. кн. Сергея Лопухин лично ездил в Москву, чтоб на месте выяснить это темное дело. Во время своего следствия он и натолкнулся на фальсификаторскую работу полк. Радько.
(обратно)58
См. речь Столыпина в Думе (Стеногр. отчет. III созыв. II сессия. Заседание 50. С. 1427). Из заявления Столыпина, который не преминул бы поставить в плюс предателю подобные сведения, с очевидностью вытекает, что Азеф тщательно скрывал от полиции все, что могло бы ее навести на след готовящихся покушений. И только тогда, когда все было уже кончено, он выступил снова в своей полицейской роли.
(обратно)59
Секретным «сотрудником», которого нужно было во что бы то ни стало выгородить, явился в данном случае Татаров.
(обратно)60
Леонтьева в это время не принадлежала больше к партии социалистов-революционеров, ни тем более к «боевой организации»; незадолго до своего безумного покушения в Люцерне она перешла на сторону «максималистов». Что касается убийства Мюллера, кажется так звали французского коммерсанта, то это был единоличный акт.
(обратно)61
Сношения Витте с Гапоном до сих пор недостаточно выяснены. В своих воспоминаниях Витте отрицает их вовсе. Вот что пишет Витте:
«Через несколько дней после того, как Мануйлов-Манусевич был прикомандирован к канцелярии, он явился ко мне и от имени князя Мещерского просил меня принять Гапона, который ввиду того, что громадное большинство рабочих находится в руках анархистов-революционеров, искренне раскаивается в своем поступке, приведшем рабочих к расстрелу 9 января 1905 г., желает теперь спасти рабочих и ввиду дарованной 17 октября конституции помочь правительству успокоить смуту. Я был очень удивлен, что Гапон в Петербурге, и спросил, неужели Гапон здесь и с каких пор? Мануйлов мне ответил, что он в Петербурге еще с августа месяца, т. е. последние месяцы диктаторства Трепова он был уже в Петербурге. Я Гапона в жизни ни ранее, ни после не видел и никогда не имел с ним никаких сношений. Когда Плеве вздумал распространять в Петербурге Зубатовщину, то я, уже узнавши об этом от фабричной инспекции, против этого протестовал, и при мне, т. е. покуда я был министром финансов, Зубатовщину в Петербурге старались скрыть.
С моим уходом с поста министра в августе 1903 г., когда Плеве стал хозяином положения, Зубатовщина в Петербурге расцвела, явился Гапон, и затем вся эта полицейская организация привела к 9 января 1905 г. я ответил Мануйлову, что никаких сношений с Гапоном иметь не желаю и что, если он в течение суток не покинет Петербург и не уедет за границу, то он будет арестован и судим за 9 января. Вечером того же дня я видел Дурново и спросил его, знает ли он, что Гапон в Петербурге. Он был очень удивлен этой новости и спросил меня, не могу ли я сообщить ему его адрес. Я адреса не знал, а потому и не мог его сообщить. На другой день ко мне явился Мануйлов и передал, что Гапон хочет ехать за границу, но не имеет денег, я дал Мануйлову 500 руб., сказав, что я даю ему эти деньги с тем, чтобы он довез Гапона до Вержболова и убедился, что Гапон покинул Россию.
Затем, дня через два, ко мне явился Мануйлов и доложил, что Гапон переехал в Вержболове границу и обещал, что он в Россию не возвратится. Может быть, тогда было бы правильнее его арестовать и судить, но ввиду того, что тогда все рабочие были в экстазе и Гапон пользовался еще между ними большой популярностью, я не хотел сейчас после 17 октября и амнистии усложнять положение вещей. Через некоторое время ко мне пришел князь Мещерский и убеждал меня разрешить Гапону вернуться в Петербург и принять его, говоря, что Гапон теперь принесет громадную пользу в борьбе с анархистами и революционерами ввиду его влияния на рабочих и полного отчуждения от революционеров-анархистов, после того как он с ними познакомился за границею. Я просил Мещерского оставить меня в покое и сказал, что Гапону не доверяю, никогда его не приму и ни в какие сношения с ним не вступлю. Затем в течение нескольких месяцев о Гапоне я ни слова не слыхал. В марте месяце мне как-то Дурново сказал, что Гапон в Финляндии и хочет выдать всю боевую организацию центрального революционного комитета и что за это просит сто тысяч рублей. Я его спросил: „А вы что же полагаете делать?“ На это мне Дурново ответил, что он с Гапоном ни в какие сношения не вступает и не желает вступать, что с ним ведет переговоры Рачковский, и на предложение Гапона он ответил, что готов за выдачу боевой дружины дать 25 тысяч рублей. На это я заметил, что я Гапону не верю, но, по-моему мнению, в данном случае 25 или 100 тысяч не составляют сути дела.
Затем я узнал, что Гапон убит в Финляндии.
Около 10 ноября, уже после того, как я отверг ходатайство Гапона через князя Мещерского (Мануйлов его воспитанник или, как он его называет, — духовный сын) и выпроводил Гапона за границу, управляющий моей канцелярией А. Н. Вуич, докладывая мне о лицах, желающих мне представиться, доложил, что, между прочим, представятся журналисты Матюшенский и Пильский. Уже в это время я не принимал без доклада по делам не экстренным лиц, совсем неизвестных. Он доложил мне, что оба эти журналиста работают в „Новостях“, по тому времени газете либеральной, но умеренной, и, по сведениям департамента полиции, это люди не опасные, что они желают меня видеть по делам профессиональных организаций рабочих с целью отвлечения их от анархических союзов. Через несколько дней я принял Матюшенского; в это время уже Гапон, по сведениям Мануйлова-Манусевича, был за границею. Матюшенский мне докладывал о том, что необходимо восстановить те библиотеки и читальни, которые были основаны до катастрофы 9 января и которые были после закрыты и опечатаны полицией, так как эти учреждения теперь могут оказать громадное содействие к отвлечению рабочих от революционных обществ анархического характера. Я сказал Матюшенскому, что против этого ничего принципиально не имею, но что он должен обратиться к министру торговли, который должен войти в детали этого дела, мне не известные. Затем он заговорил о том, что следовало бы помиловать Гапона, что я категорически отверг.
Потом он просил меня дать ему записку к министру торговли; я написал, прося выслушать Матюшенского, но, опасаясь дать ему записку в руки, позвал находившегося в канцелярии Мануйлова, передал ему записку, сказав, чтобы он передал ее Тимирязеву и одновременно представил Матюшенского. После этого я Матюшенского более не видел. Моя беседа с ним была весьма непродолжительна, и он мне крайне не понравился. На другой или на третий день был у меня Тимирязев и говорил, что он выслушал Матюшенского, что дело идет о восстановлении тех учреждений рабочих, которые были организованы во времена Плеве — Гапона и затем закрыты и опечатаны полицией после 9 января 1905 г., что он по нынешним временам, чтобы отвлечь рабочих от революционеров-анархистов, этому сочувствует и что для этого нужно будет денег.
Я ответил, что ничего против этого не имею, что относительно всего этого должен сговориться с министром внутренних дел, а относительно денег испросить их у государя из так называемого десятимиллионного фонда, ежегодно ассигнуемого по государственной росписи для чрезвычайных расходов, которые росписью не предвидены; при этом я ему сказал, что во всяком случае на это можно дать только несколько тысяч, помню сказал — не более шести и при условии контроля за их расходованием. Этот разговор был около 20 ноября, и затем Тимирязев ничего по этому делу не говорил, точно так же как мне ничего не говорил об этом деле Мануйлов, что со стороны последнего, впрочем, было довольно естественно, так как я ему никаких поручении, кроме передачи маленькой записочки и представления Матюшенского, не давал да, кроме того, я после предупреждения Вуича о том, что Мануйлов не заслуживает доверия, его не принимал.
Вдруг в конце января или начале февраля 1906 г. я узнал из газет, что Матюшенскому было выдано Тимирязевым 30 000 рублей на возобновление гапоновскнх организаций, что из них 23 000 Матюшенский похитил и скрылся. Это побудило меня запросить письмом, в чем дало, и из объяснений Тимирязева я узнал, что он испросил всеподданнейшим докладом у государя на организацию учреждении для рабочих 30 000, что выдал их Матюшенскому, что Матюшенскмй хотел украсть 23 000, что рабочие (организация умеренных рабочих) это узнали и затем, при содействии жандармской полиции, деньги эти нашли, что, наконец, Тимирязев даже видел Гапона и обо всем этом он мне никогда не говорил ни слова.
О том, что видел Гапона, он не только не говорил мне, но и не писал даже после того, как вся эта история раскрылась. Я узнал об этом уже по оставлении им поста министра из протокола его допроса судебным следователем по делу Матюшенского».
Богданович же в своих мемуарах утверждает, что Витте сам рассказывал у нее, что Гапон после 9 января ежедневно просиживал у него в приемной по 2 часа (Богданович. Три самодержца. 1924).
(обратно)62
Вся эта история кажется очень темной. Рутенберг должен был понимать, что ЦК с.-р. не мог дать своей санкции на казнь Гапона, раз он согласился участвовать в суде. С другой стороны, в своих записках он сам утверждает, что при последнем свидании с ним Азеф торопился куда-то по делу и уходя назначил ему вечером свидание, чтоб подумать, не оставить ли Рачковского и покончить только с Гапоном.
(обратно)63
Это как нельзя лучше видно из обвинительного акта по делу Лебединцева.
(обратно)64
Единственным источником по делу о цареубийстве служит официальное заявление ЦК партии с.-р. и устные сведения, сообщенные нам В. Черновым и др.
(обратно)65
«Я обвиняю». Статья Бурцева в «Humanité».
(обратно)66
См.: «Echo de Paris» от 11 февраля 1908 г. Статья петербургского корреспондента Гастона Дрю.
(обратно)67
См. стеногр. отчет. Государственная дума. III созыв. II сессия. Заседание 36. 20 января 1909 г С. 33–34.
(обратно)68
Да иначе не могло быть. Рука руку моет. Тем более что главные силы ЦК состояли в том же, в чем состоит вся сила самой партии с.-р., в культе личности, обоготворении личности за счет масс, потеря веры в массу, игра в «герои», следствием чего — потеря всякой революционной перспективы, позорнейший оппортунизм, политическое гниение.
Исправить эту «вину» ЦК — это значит уничтожить самую партию с.-р. со всеми ее мещанско-интеллигентскими потрохами. Но на это решиться, если бы даже она и напала, следственная комиссия не могла. Это совершила сама революция, уничтожив их и как «социалистов», и как «революционеров».
(обратно)69
Мильеран Александр, видный французский адвокат, парламентский деятель, известный впоследствии министр, в начале своей деятельности примкнул к гедистской рабочей партии, из которой потом вышел. Вместе с Мильераном к рабочей партии примкнул Жорес. А. Н. Потресов рассказывает, что он как-то спросил Лафарга, можно ли положиться на этих увлекшихся успехом рабочей партии парламентариев. Лафарг ответил ему, что хотя они оба чужды марксизма, но на Жореса положиться, по его мнению, можно, что касается Мильерана, то этот адвокат, наверное, изменит впоследствии. Пророчество это в точности сбылось (Мартов. Записки социал-демократа. М., 1924).
(обратно)
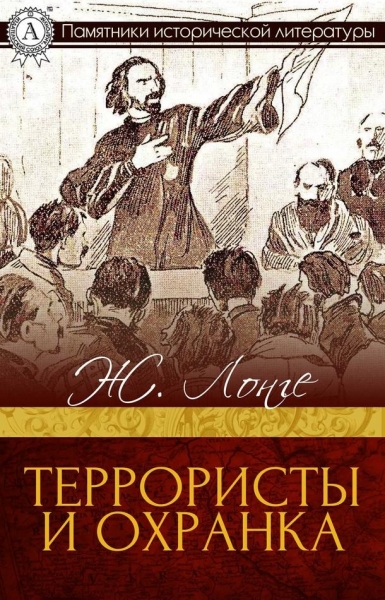

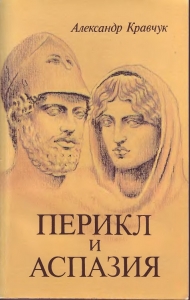

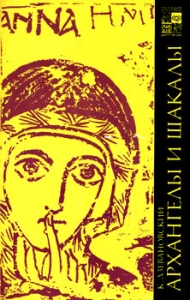

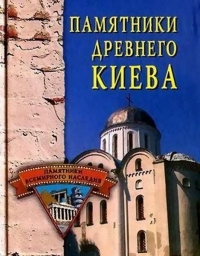
Комментарии к книге «Террористы и охранка», Робен-Жан Лонге
Всего 0 комментариев