Кавказские богатыри: очерки жизни и войны в Дагестане — Немирович-Данченко В.И.
Кавказские богатыри: очерки жизни и войны в Дагестане — Немирович-Данченко В.И.
Немирович-Данченко Василий И.
На скале, точно на ладони приподнятый к самому небу, весь в розовом сиянии утренней зари, лепился каменный, склеившийся из башен аул. С одной стороны над бездною он повис ласточкиным гнездом. В потёмках пропасти ворочалось и стонало неугомонное чудовище горного потока. Сакли будто выросли из самого утёса.
• Часть первая. Газават (Священная война)
• Аул
• Джамаат
• Газават
• Степан Груздев
• Пир в ауле
• Набег
• В ущелье
• Дело крови
• Месть
• Суд людской
• Божий суд
• Радость забытой крепости
• Нина
• Первая тревога
• Что такое мюриды?
• Да-а-вад
• Ночью
• Дербент в начале сороковых годов
• У коменданта
• Часть вторая. Кавказские богатыри. В огневом кольце
• Первый удар
• Атака
• Милость!
• Шамиль
• Нина за работой
• Кабардинские певцы
• В огненном кольце
• Ливень
• Суд Шамиля и удача крепости
• Удача Незамай-Козла
• Вызов Хатхуа
• Горе забытой крепости
• Часть третья. Кавказские богатыри. Победа!
• Есть нечего!
• Корабль в бурю
• Поход
• В завалах
• Бой в облаках
• Опять в Салтах
• Поход титанов
• Последняя ночь аула
• Тебе Бога хвалим!..
• После победы
• В освобождённой крепости
• Тифлис
• Первые впечатления
• У наместника
• Пленные
• В Петербурге
• У императора
• Дома
Часть первая. Газават (Священная война)
Аул
На скале, точно на ладони приподнятый к самому небу, весь в розовом сиянии утренней зари, лепился каменный, склеившийся из башен аул. С одной стороны над бездною он повис ласточкиным гнездом. В потёмках пропасти ворочалось и стонало неугомонное чудовище горного потока. Сакли будто выросли из самого утёса. По крайней мере, нельзя было определить, где кончался он и начинались те. От грохота воды, бушевавшей в теснинах, иной раз чудилось, точно вздрагивали горы. Во время оно крики таких же потоков подслушал грек-странник и создал дивный миф о Прометее, прикованном к кавказскому утёсу. Лезгины тоже одушевляли свою грозную природу: по ночам ангелы всемогущего Аллаха падающими звёздами поражают гордых шайтанов, и побеждённые демоны низвергаются в глубину дагестанских бездн и там, в пене и волнах студёных вод, мучатся от невыносимых страданий.
Одинокое дерево чуть-чуть выдалось кудрявою вершиною над зубчатою стеной у самого купола горной мечети, тоже похожей на башню. Напрягая зрение, отсюда, в ослепительном блеске уже родившегося дня, можно было бы отличить и на других утёсах далеко-далеко забравшиеся в самое поднебесье такие же аулы. Кажется, дунет ветер посильнее, и все их башни и стены разом снесёт в бездонные провалы по сторонам. Но годы проходят за годами; непогоды бешено громят горные узлы и твердыни Дагестана, а скалы лезгинских аулов стоят себе среди каменного великолепия своей сумрачной родины.
Тишина!..
Такая тишина, что шум потоков в безднах ещё более оттеняет её. Гулкий выстрел, прокатившийся по дну заполонённого туманом ущелья, повторился несчётно отдалённейшими долинами. Ему отозвались приветом на привет скалы, каких не разобрало бы око зоркого вершинного горца, привыкшего к безграничным горизонтам. В ближайшем ауле на плоскую кровлю сакли выбежал лезгин, приставил ладонь к бровям, пытаясь всмотреться вниз во мглу. Но там опять всё замерло, и, постояв немного, он сообразил, что по заре охотники-дидойцы выследили джейрана у воды. В самой сакле проснулась и на её каменный порог выбежала девушка с глиняным кувшином в руках.
— Эй, урус[1]! — задорно и громко крикнула она во мглу ещё не проснувшегося ущелья…
Из этой мглы выступала только тёмная плоская кровля затерявшейся там сакли.
— Урус! Тебя я зову! — смеялась она, сверкая большими, чёрными глазами, над которыми срастались тонкие брови.
Ей не отвечал никто.
— Спит ещё, должно быть!
Она стала уверенно спускаться вниз к потоку, шумевшему в тумане, по крохотным ступеням, вырубленным в цельной скале. Она даже не смотрела, куда идёт, до того освоилась с этою козьей тропою. Ей от прохлады внизу стало весело.
— Что ж это Аслан-Коз… и другие?.. Или я встала слишком рано.
Около был клочок земли, на котором раскрыли благоуханные венчики горные фиалки. Девушка поставила кувшин и, в ожидании других лезгинок, села на каменную ступень, глядя вниз. Её не смущало, что путь был пробит над пропастью, по карнизу, где только и помещалась её узенькая ступня. Она даже стала шаловливо раскачиваться, рискуя слететь в бездонную низину. Её в утреннем воздухе точно поддерживали крылья.
— Эй, урус! — крикнула она ещё раз.
Эхо замерло в далёком ущелье, но никто опять не отозвался.
Она ненадолго задумалась, о чём — и сама бы не ответила, и вдруг по всему этому ущелью прокатился её звучный, грудной голос. Казалось, чудной природе недоставало только песни, чтобы разом стряхнуть с себя очарование холодной ночи.
Полузажмурясь, девушка пела, нисколько не заботясь, слушает её кто или нет:
«Смертоносный клинок мой со мною,
Я очистил и дуло ружья.
Глаз мой верен и зорок… С тобою
Будет весело горной тропою
Убежать нам, орлица моя!
Пусть настигнет, исполненный мести,
Твой отец, нас обоих кляня.
Умереть не боимся мы вместе: —
Пуля меткая — в сердце невесте,
Смертоносный клинок — для меня.
Азраил унесёт нас высоко,
Где волшебные птицы поют.
У дворцов бирюзовых Пророка
Там прекрасные звёзды востока
На деревьях волшебных цветут».
Она даже подняла голову вверх, точно желая рассмотреть, не покажется ли и ей в густевшей уже синеве неба сказочный дворец, но, вместо его бирюзовых стен, она увидела своих подруг, по таким же узеньким тропинкам и лестницам бежавших с кувшинами на правом плече и звавших её.
— Селтанет, Селтанет! Ты всегда первая!.. Ранняя птичка!..
Они вместе сошли вниз, откуда скоро послышался звон воды, падавшей в кувшины, и громкий смех молодых лезгинок. Селтанет хохотала громче всех, точно отводя душу после долгого молчания в доме сурового отца.
— Что это с тобою? — спрашивали её другие девушки.
— Ей урус сегодня сорвёт ветку аксана!
Селтанет нахмурилась. Сорвать ветку этого горного куста значило то же, что посвататься.
— Мне незачем: меня ещё не собираются продавать туркам.
Одна из девушек беспечно захохотала.
— Это ты «на мою кровлю шелуху выбросила». Что ж, я нисколько не жалею, что меня отец продаёт. Мне уж надоело здесь на одних чуреках да на кислом арьяне[2] сидеть. Рубашки не на что сшить: одна, да и та в лохмотьях. А там богато живут: каждый день буду новые шёлковые шальвары надевать… С позументами. Чахлан[3] в золоте… Все мне позавидуют; без баранины есть не стану. Ни одна казикумукская невеста такой жизни не видала. Все вы станете завидовать Девлет-Кан. Каждое утро я буду пить душаб[4].
— Кукуруза дома лучше шербета на чужбине!
— Оставь её, Селтанет; ты видишь, девка с ума сошла совсем. Скорее заставишь змею хвостом шипеть, чем её убедишь.
Селтанет ещё раз оглянулась на толстую Девлет-Кан и, покачав головою, пошла вверх. За нею быстро подымалась та, которая первою отозвалась ей.
— Ну, что, Селтанет, ты всё сделала, что я советовала тебе?
— Да, Аслан-Коз! Положила себе на ночь под подушку турлан с жареными зёрнами ячменя.
— А турлан сама вырвала в поле?
— Как солнце садилось, — нашла эту траву и выдернула, глядя на запад, к Мекке.
— И всё зелёным шёлком завернула?
— Как ты говорила, так и сделала. Только Бог знает какие сны видели: душили меня, в воде я тонула, в пропасти падала.
— Это значит — «дивы» пошутили над тобою. Повтори ещё раз сегодня. Да! Ведь вчера суббота была, — тогда всё понятно. Суббота самый несчастный день в неделе, — в субботу, сама знаешь, никто ничего не предпринимает. А уж гадать и подавно не следует. Повтори опять сегодня, — увидишь. Я на прошлой неделе сделала это в ночь на четверг, — отличный сон видела. Как будто мой брат из набега привёз пропасть всякого добра, и шёлковых материй, и золотых монет. А Селим вместе с ним столько награбил, что сразу весь калым заплатил за меня отцу и женился на мне. Должно быть, скоро наши уйдут на газават[5], за Дербент и тогда сон мой исполнится. Жаль, Селтанет, что после таких снов просыпаться приходится! Вместе бы мы и свадьбу сыграли.
— Не вбивай гвоздя в стену для рогов, когда тур ещё по горам бегает.
— Сон на четверг лгать не может. Четверг не суббота. А мне жалко Девлет-Кан, всё-таки она росла с нами.
— Что её жалеть; тоже нашла! Она спит и видит, чтобы её продали скорее. И родня у неё всё такая. Бабка её у нас по горам славилась — колдунья была. Никто лучше её не мог найти хапулипхер[6] в поле. А искала ведь в тёмные ночи, когда ни одной звезды на небе не было!
— Зачем ей?
— Много она народа этим корнем испортила! Ты знаешь, он ведь на медвежью лапу похож. Рвать его надо с умом. Лечь на землю так, чтобы собою все его листья покрыть, вырвать сразу, — когда оканчиваешь заклятье, а потом высушить в печи и опрыскать кровью совы… Тогда примешай к просу или к айрану — и дай кому хочешь, сейчас же залает собакой, ум потеряет, высохнет весь и умрёт. Такого испорченного убить надо, потому что он на смерть может закусать каждого.
— Ну, Девлет-Кан не такая. Она просто глупа.
— Не такая? А я раз её на чем поймала. Иду мимо ночью, а она золу из дому выбрасывает[7]. Не такая! Нет, уж лучше пусть её туркам продадут. Может быть, и в самом деле ей там слаще будет.
Аслан-Коз оборвалась разом.
Над одной из башен вверху, стоявшей на самом темени утёса, показался мулла в зелёной чалме и, окинув взглядом горы и ущелья, вдруг приложил к губам ладони и на весь этот простор, над безлюдными улицами аула медленно и печально стал выкрикивать священные слова Корана:
— Ля-илляхи-иль-Алла!.. Магомет-рассуль-Алла!..[8]
Точно ожидавший этого призыва, на голос муэдзина со всех сторон на кровли саклей выползал народ. У каждого лезгина был коврик в руках, у кого такого не было, тот выходил с черкеской. Разостлав их на крыше, правоверные становились на колени.
Начинался самый важный из намазов — первый утренний. Все в ожидании его уже совершили положенное законом омовение и теперь, обращаясь лицом к Мекке, читали молитвы и делали установленные поклоны. Пропустить этот намаз — большой грех. Вышел на кровлю и отец Селтанет, снял верхнюю одежду, разостлал её и, сначала стоя, прочёл первую молитву — альхам:
«Во имя Бога милосердого, да будет благословен день и час сей. Хвала Господу всех тварей, Царю судного дня. Хвала Владыке добродеющему всем на земле, имеющим дыхание, и на том свете вознаграждающему добрых и карающему злых… Тебе мы служим, к Тебе прибегаем за помощью, настави нас на путь правый, угодный Тебе, отклони от нас всё злое. Избави нас от соблазнов шайтана. Да будет так, да будет так, да будет так!»
Старик теперь опустился на колени.
Окончив намаз, старик строго посмотрел на стоявших внизу в благоговении Селтанет и Аслан-Коз.
— Если бы вы не болтали внизу лишнего, — не опаздывали бы к молитве… Недаром наша пословица говорит: где соберутся две девушки, — там три зла, потому что между ними всегда шайтан!
Он дождался, когда зелёная чалма муллы исчезла с башни, заменявшей здесь минарет, и зорко начал вглядываться в глубину долин, откуда туман уж подымался вверх по утёсам и склонам гор. Сакля старого Гассана стояла у края аула — там, где защитниками его были построены про всякий случай каменные стены с зубцами. За ними — пропасть, по другую сторону которой далеко-далеко одно за другим раскидывались ущелья, и долины, и Бог весть где — в воздухе, у самого небосклона, голубел похожий на мираж Каспий.
Когда отец Селтанет устал смотреть вдаль, внимание его вызвал шум на узких улицах аула. Путь по ним шёл ступенями, то вверх, то вниз. Они змеились во все стороны, то огибая выступы скалы, то минуя трещину, дна которой было не видно, переплетались узлами, запутывались в лабиринты и распадались на другие но всякий раз так, чтобы любое место их можно было обстреливать, по крайней мере из трёх или четырёх пунктов сразу. Часто поперёк такой теснины между саклями торчала башня, опиравшаяся на их кровли и кое-как выложенная из дикого камня. Перегораживая улицу, она давала возможность нескольким удальцам, засевшим в неё, бить на выбор вверх или вниз всех, кто неосторожно забрался бы в эту западню. Проход для народа был под башней, а её бойницы грозно смотрели во все стороны. Самые сакли лезгинского аула были выстроены так, что всякая при необходимости могла обратиться в крепость. Окна узкие и чёрные были достаточны для ружейного дула, но слишком малы для того, чтобы свет проникал в темноту, за ними. Плоские кровли, крытые киром, тоже ступенями лестниц разбегались во все стороны. Эти ступени покрыли вершину горы, на самое темя которой взобралась старая мечеть. Каждая кровля была двориком для следующей, стоявшей над ней, сакли. От одной к другой часто опускались деревянные лесенки, и словоохотливые лезгинки вовсе не нуждались в улицах, чтобы с одного конца этого населённого и большого аула попасть на другой его край. Кое-где были площадки с ладонь. На них порою торчало жалкое деревцо, чаще всего карагач, не находившее достаточно соков в жёстком теле утёса, трещины, которого оно заполоняло своими цепкими корнями. Около мечети, вверху, по обычаю, раскидывалась главная аульная площадь — Гудекан, где происходил джамаат — народные собрания, советы стариков. Издали площади этой видно не было, но зато на неё снизу горцы нанесли в корзинах земли, и там выросла единственная здесь могучая чинара, покрывавшая её шатром своих ветвей. Со всех сторон на этой площади сделаны были навесы, под которыми в обыкновенные дни продавались всякая мелочь и оружие. В праздники здесь совершался суд по обычаю (адат), или по Корану (шариат). Старик Гассан вырос в этом ауле. В молодости он выезжал отсюда только в набеги на русские станицы; но когда глаза его стали плохо видеть, а душа охладела к боевым приключениям, он засел в скале и стал только принимать участие в джамаате. Влияние его на нём росло, и он вместе с другими «почётными стариками» стал красить себе бороду в красное — хною, занимал в мечети место у решётки, за которой заседали муталлимы, и во всех процессиях ему принадлежала завидная роль нести перед муллою саблю и рубить голову жертвенному барану, кровь которого непременно должна была брызнуть на ступень мечети. У Гассана была только одна дочь Селтанет, но он гордился ею. Такой красавицы не было ни в одном из окрестных аулов. Джансеид хотел жениться на ней, — но у кавказских горцев невест покупали, а старик знал цену своему товару и назначил за девушку такой калым, что юноше оставалось или отказаться от неё, или сделать отчаянный набег в русские пределы. Он ждал такого вместе с своим другом Селимом, женихом Аслан-Коз. В лезгинских аулах девушки были свободны. Они делались рабынями, только выходя замуж, когда старухи покрывали им лицо белыми чадрами.
Солнце начинало уже сильно пригревать.
Гассан сбросил длинную тавлинскую шубу с узкими рукавами в которые нельзя было просунуть руки, рукавами, падавшими на землю и волочившимися по ней, — и растянулся на плоской кровле. Он стал было засыпать, как вдруг вздрогнул и поднялся. Совсем не в урочное время «будун» — помощник муллы с верхушки башни стал выкрикивать на весь лезгинский аул — призыв на джамаат:
«Велик Аллах, велик Аллах!..
Свидетельствую: нет иного, кроме Единого!
Свидетельствую: Магомет — посол его!..
Приходите молиться,
Приходите к счастью:
Молитва лучше сна и покоя!..
Велик Бог, велик Бог! —
Нет Бога, кроме Бога —
Сходитесь, правоверные, к джамаату,
Бросайте сакли и занятия,
Торопитесь послужить делу веры,
И да будет проклят тот,
Кто отвратит сердце от этого призыва!..»
Аул ожил.
Точно кто-то расшевелил муравейник. Ступени узких улиц покрылись народом. Люди перескакивали с кровли на кровлю, перекликались с одной башни в другую. Старик Гассан оправил на поясе кинжал, с которым горец не расстаётся даже у себя в сакле, крикнул Селтанет, чтобы та подала ему пистолеты и папаху, опять надел на плечи длинную тавлинскую шубу и с важным видом сошёл в тень и прохладу закоулка, круто поднимавшегося вверх к мечети. По пути его нагнал другой «почётный старик», тоже с окрашенною хною бородою, но в зелёной чалме.
— Алла да благословит тебя, Гассан.
— Милость его на тебе.
Обоих разбирало любопытство: зачем их зовут на гудекан, что за джамаат должен там собраться? Но оба были бы слишком плохими горскими дипломатами, если бы выразили это хоть одним вопросом. Напротив, лица у обоих выражали, как будто каждый из них отлично знает в чём дело, но бережёт это про себя. Гассан тем не менее не выдержал и спросил у приятеля:
— Вчера кабардинский князь приехал и остановился в кунацкой у муллы?
— Я его видел. Шашка в золоте… Конь из Карабаха, — шерсть так и горит на солнце. Ночью привезли старого турецкого муллу, того самого, что недавно жил у казикумухцев и хунзахцев.
— Он у себя в Требизонде великий шейх.
Позади нетерпеливо подымалась толпа молодёжи. Их черкески были в позументах, оружие в серебре. Только несколько узденей между ними щеголяли лохмотьями, точно показывая презрение к пышности. Глаза у всех так и горели. Хотелось каждому узнать скорее, зачем зовут на джамаат, но никто не решался перегнать стариков, медленно подымавшихся впереди. Даже когда усталый Гассан остановился и рукою пригласил их идти далее, Джансеид и Селим, шедшие в голове этой внезапно присмиревшей орды, покорно сложили руки на груди и потупились в знак полного самоотречения.
— Идите, идите! Молодым соколам трудно ожидать старых ослабевших ворон.
— Нет, отец, — отозвался Джансеид, — у нас ещё только отрастают когти, — кому же, как не сильному лезгинскому орлу вести нас и в бой, и на джамаат.
Гассан ласково улыбнулся и положил руку на плечо Джансеиду.
— Помоги мне, соколёнок.
Он подымался вверх, опираясь на него, и Джансеид боялся только одного, как бы не оступиться, уравнивая свой шаг с медленною поступью отца своей Селтанет. Джансеид являлся образчиком горской красоты и старик Гассан искоса любовался им.
«Я сам был когда-то такой», — думал он.
Под чёрными сраставшимися бровями открыто смотрели пламенные глаза. Тонкий нос придавал лицу молодого лезгина что-то хищное. Смело улыбались губы, и выражение силы и мужества лежало на всей его фигуре, сказывалось в каждом его движении. Широкие плечи и тонкая, как у девушки, талия — по горской пословице, — если бы он лёг на бок, то под его станом свободно могла пробежать кошка.
Джамаат
Улочка, бежавшая вверх ступенями, изогнулась коленом, пропала во мраке под старою башней и снова по ту сторону выбежала на солнце. Тут построились аульные купцы и ремесленники. Сакли их открывались наружу, опуская над улицей пёстрые навесы, поддерживавшиеся тонкими жердями. В их тени кипела своеобразная жизнь дагестанского базара. Стучали молотки чеканщиков по медным тазам и подносам, шипело в маленьких горнах пламя горских кузнецов, и брызгали во все стороны искры от подков, выковывавшихся здесь на славу. Рядом кумухцы молчаливо и сосредоточенно расшивали золотыми шнурками и шелками сёдла, кожи для туфель; целыми сотнями приготовлялись чевяки. Своеобразные ювелиры наводили чернь на серебро. Зеваки стояли сплошною толпою перед оружейниками, набивавшими золотые узоры на узкие дула ружей, на сталь шашек и кинжалов. Сердолик, бирюза, рубины — вделывались на рукояти. Около небольших лавчонок с канаусом, дараей и верблюжьим сукном, безмолвными призраками мелькали лезгинки, закутанные с головой в серые от пыли и грязи чадры, глядя жадно на пёстрые персидские материи. Увидев молодёжь, стремившуюся в джамаат, — лезгинки по местному обычаю отвернулись лицом к стене и словно замерли, пропуская их мимо. Только несколько девочек-подростков с любопытством пялили большие глаза на мужчин. До тринадцати лет девочек не прятали, и они, бегая по улицам, росли на свободе, обвешанные серебряными монетами, звеневшими при каждом движении ребёнка. Одна из девочек подбежала к Гассану, застенчиво и дико ткнулась ему головою в руку, как котёнок, просящий ласки. Старик засмеялся, узнав племянницу, и погладил её голову, всю в мелко-мелко заплетённых и перевитых с золотыми шнурками косичках.
Отсюда уже было недалеко до площади перед мечетью.
Справа и слева в канавках журчала вода, бежавшая таким образом сверху из общественного бассейна. Ещё несколько шагов, и гудекан раскинулся перед Гассаном, киша большими группами собравшегося народа. Джансеид и Селим остались с другой молодёжью у края площади, а старики важно прошли вперёд на почётные места, под громадное дерево, с таким трудом ещё их прадедами выращенное перед мечетью. В тени его неподвижно и истово уж сидели крашеные бороды лезгинского аула. На приветствия подошедших они ответили также величаво и опять погрузились в вечное созерцание своего достоинства и в удивление к нему. Между ними шныряли муталлимы — ученики муллы, готовившие себя в служители пророку, и расстилали на земле небольшие коврики для остальных, которые ещё должны были собраться на призыв будуна.
— Да будет благословен твой приход! — прошептал такой же юноша, расстилавший коврик для Гассана.
— Магомет да вспомнит тебя, — ответил тот и медленно опустился, поглаживая бороду и смыкая глаза, точно от усталости.
Никто не обнаруживал любопытства, зачем их созвали сюда, хотя равнодушных в этом отношении здесь не было. Следовала ждать появление муллы, — поэтому старики нет-нет да и взглядывали исподлобья направо, где рядом с мечетью была в глухой стене прорезана калитка. Когда все коврики оказались занятыми, муталлимы кинулись опрометью к ней. Собрание замерло. Смолкла даже нетерпеливая молодёжь, толпившаяся по краям площади. Она не смела садиться в присутствии стариков и потому, по горскому обычаю, стояла, опираясь правою рукою на кинжал, а левую закинув назад за позумент отделанного серебром пояса. Джансеид с Селимом выдвинулись вперёд. У обоих не было отцов, и потому они пользовались значением старших в своих семействах.
Медленно отворилась калитка, и в ней показался в зелёной чалме и таком же халате согбенный турецкий мулла, накануне приехавший в аул. Длинная, седая борода его низко падала на грудь, в руках у него был посох. По всей толпе джамаата пробежал шёпот сдержанного приветствия, и руки присутствовавших замелькали, касаясь сердца, уст и головы. Мулла всмотрелся подслеповатыми глазами в толпу и, подхваченный муталлимами, не отвечая на горский поклон, тихо направился к своему месту. Через каждые пять шагов, по местному церемониалу он останавливался и отдыхал. За ним следовал местный мулла, наклонясь и стараясь всей особой изобразить величайшее почтение. Позади, сверкая богатым оружием, золотом ножен и рукоятей кинжала и шашки, широкими позументами черкески, серебром патронов и пистолетных головок, торчавших из-за пояса, гордо закинув на затылок белую папаху, показался кабардинский князь, гостивший в ауле, с целою свитою узденей и нукеров. И тотчас же плоские кровли саклей, выходивших на площадь, их балконы и веранды, крыша и карнизы мечети покрылись сплошь закутанными в белое женщинами; они усаживались одна к другой плотно, стараясь выгадать как можно больше места для соседок, знакомых, со всех концов аула торопившихся сюда по таким же кровлям и лесенкам. Со стороны показалось бы, что, испуганные какою-то страшною опасностью, они бегут от края аула к его центру, не разбирая, какими путями им приходится достигнуть этого убежища.
Мулла с гостями уселись.
Позади кабардинского князя стеною стала блестящая свита, гордо поглядывая на лезгин и щеголевато оправляясь. В лезгинских аулах кабардинцы считали себя прирождёнными господами и не без пренебрежения относились к своим союзникам и единоверцам.
— Честь и почёт нашим гостям, благословение народу! — тихо проговорил старый мулла.
И гости, и народ, наклоняясь, ответили шёпотом:
— Милосердие Аллаха да почиет над всеми нами.
Мулла обвёл глазами молодёжь и, остановив взгляд на Джансеиде, подозвал его к себе.
— Пойди, мой сын, и приведи на джамаат пленного уруса… Скажи, что он нужен народу, — пусть не боится. Здесь ему никто не сделает зла.
Когда ушёл Джансеид, — лезгинское народное собрание недолго хранило почтительное молчание. Мулла слишком долго думал, разглаживая длинную бороду, а турецкий гость не считал сообразным с своим достоинством начать беседу ранее, чем тот не предупредит стариков о том, кто он и зачем приехал. Но оба они рассчитали, не приняв в соображение нетерпения молодого кабардинского князя. Тому надоело стоять под лучами сильно уже припекавшего солнца, и он вдруг вскинул ещё более на бритый затылок папаху, вышел вперёд и вызывающе посмотрел на лезгин.
— Привет джамаату… Я пришёл к вам из вольной Кабарды узнать, не ткут ли у вас мужчины холстов, и не стали ли женщины носить за них ружья и кинжалы.
Старик Гассан вспыхнул. Его подслеповатые глаза загорелись молодым блеском. Он поднялся и громко заговорил, обращаясь к узденю:
— Лезгинские женщины не раз учили кабардинских князей храбрости, и, во всяком случае, ни у одной лезгинской матери не могло быть сына, не знающего, что когда старики молчат, — молодым щенкам лаять не следует.
Свита узденя схватилась за рукояти кинжалов. Сам князь, отступив назад, смерил с ног до головы Гассана и круто обернулся к тому углу площади, где собралась молодёжь.
— Мне неприлично мериться с крашеными бородами, но если из вас найдётся кто-нибудь…
Селим, очи которого из под нахмуренных бровей давно уже сверкали недобрым огоньком, в одно мгновение оказался лицом к лицу с кабардинцем. Рука его была, как и у противника, на рукояти кинжала… «Аман», — страстным воплем вырвалось из толпы женщин с ближайшей кровли. Испугавшаяся за своего жениха Аслан-Коз даже чадру сбросила и во весь рост выпрямилась. К счастью, мулла, наконец, поднялся и тихо заговорил, обращаясь к старикам, сидевшим вокруг:
— Успокойся, князь! Лезгинские юноши нисколько не благоразумнее тебя, и до сих пор ещё никто безнаказанно не садился к ним на плечи. А вы должны помнить, что наш гость Сефер-Хатхуа известен в горах давно, как первый джигит своего народа, что до сих пор всякий бой с неверными, в котором он участвовал, оканчивался торжеством нашей веры и гибелью гяуров. Сефер-Хатхуа со вчерашнего дня под защитою нашего аула.
Услышав фамилию кабардинского узденя, Селим отступил на шаг и, покорно сложив руки на груди, низко перед ним склонился. Тот опомнился тоже и, приветливо улыбаясь, проговорил:
— Я рад, если ты вместе со мною противу русских покажешь столько же смелости и горячности, сколько у тебя их было теперь.
— Привет джамаату! — продолжал мулла. — Аллах взыскал наш аул великою милостью: таких славных гостей давно уже не было в его каменных стенах. Вчера вечером сюда прибыл из Хунзаха знаменитый светильник веры Ибраим-мулла, к голосу которого с почтением прислушивается сам блистательный султан в Стамбуле. Ибраим-мулла привёз нам привет наших друзей и союзников турок и новости, от которых порадуется сердце всякого истинного лезгина. Мы живём на челе гор, и глаза наши видят далеко; на своей высоте мы ближе к Аллаху, чем жители долин, и потому более чем кто-либо мы должны ценить таких достославных послов. Сам Ибраим-мулла повторит вам то, что он мне сказал вчера. Слова его — цветы, выросшие на тучной почве Халиля. Слушайте его, и пусть ваши души, как и моя, исполнятся их благоуханием.
— Хорошо говорит мулла, — послышалось кругом. Одобрительный шёпот перекинулся к молодёжи и от неё перешёл на кровли к женщинам.
Турецкому мулле нельзя было оставаться в долгу.
— Я давно слышал, — медленно и важно начал он, — о глубокой мудрости муллы Керима и рад теперь, что жажда моей души вполне утолилась, внимая ему. Мулла Керим, таких, как ты, у пророка немного. Если бы Стамбул имел счастье считать тебя своим, — в совете у нашего султана (да продлит Аллах его дни!) было бы одним великим умом больше. Правда, что на высоте гор вы привыкли к орлам небесным, и ваше слово, как и они, тонет в недоступном другим величии. Шейх-уль-ислам много мне говорил о тебе, и сам великий визирь поручил мне испросить твоих великих молитв для него. О, трижды счастливы вы, жители Салтинские, внимающие каждый день мулле Кериму!
Выдержав паузу и заметив впечатление, произведённое им на собравшихся, Ибраим продолжал:
— Непобедимый меч веры, гроза язычников и христианских собак, наш великолепный султан Махмуд шлёт привет джамаату.
Все, не исключая и муллы, встали и склонились низко, низко.
— Да будет известно всем верным мусульманам, что судьба Москов-султана[9] и всех урусов отныне сочтена и решена окончательно. Султан долго терпел их беззакония, его милостивой душе не хотелось губить их. Он ждал покорности, потому что лукавые послы их, желая спастись от смерти, возили ему «землю и воду» в знак своего вечного рабства. Но теперь он внял воплям мусульман, страдающих в неволе у неверных. Мольбы народов гор и народов долин нашли доступ к его сердцу, и оно открылось им. В эту минуту, когда я говорю с вами, несчётные миллионы его воинов, храбрых, как львы, и кровожадных, как тигры, вторглись в пределы России и всюду сеют смерть и уничтожение. Перед ними — страх, за ними — пустыня. Уже Москов-султан бежал из своей столицы. Войска его разбиты[10], вся его судьба — на кончике сабли наследника халифов. Реки и моря покраснели от русской крови. Как тучи опускаются на землю, так и дым пожарищ расстилается по вражеской земле.
— Валлах-Биллах! — послышалось крутом.
Яркая картина, нарисованная муллою Ибраимом, поразила воображение легковерных лезгин.
— Теперь я приехал к вам от имени самого наследника халифов. Султан хочет, чтобы и вам было хорошо. Он и вас зовёт на общий пир всего мусульманского мира. Подымайтесь все от мала до велика. Кабарда готова, Чечня тоже. Князь Сефер-Хатхуа явился со мной свидетельствовать, что всё его племя выступает в священный газават против неверных. Кто хочет носить на себе золото, есть на серебре, иметь рабов и коров, пить бузу и жить, не работая, а заставлять на себя трудиться неверных, — пусть опояшется саблею и выступит вместе с Сефер-Хатхуа.
— Мы все, мы все! — послышался единодушный крик молодёжи.
— Молчать! — удивительно, где нашёл в старческой груди столько силы дряхлый Гассан. Крик его на минуту покрыл всё. — Молчать! Здесь говорят старики, а молодые слушают. Ибраим-мулла, много прошло лет у Аллаха, прежде чем седина покрыла мою голову, а эти руки ослабели и стали годны только на то, чтобы опираться на посох. В своё время я был не последним бойцом в ауле. Мои сверстники помнят это. Я всегда грудью встречал врага, и на своём теле я могу указать десяток, другой почётных шрамов. У меня было трое сыновей, — и все они погибли во славу Аллаха. Всё, что я имел, — я отдал борьбе с гяурами. Меня поэтому ни ты, ни весь почтенный джамаат не могут подозревать, чтобы я желал мира с ними, — да обрушит Всемогущий на их головы все сто сорок пять тысяч бедствий, о которых говорится в Коране. Но я знаю и наши, и их силы. Тебе, Ибраим-мулла, легко. Ты уйдёшь домой, оставив нас на жертву их мести. Не один раз мы слышали, что великий султан ворвался в пределы России и не щадит там никого, что города неверных разрушены, нет там камня на камне, на их месте посыпана соль. Не раз уже говорили нам, что у Белого Царя нет ни одного солдата, а победители тонут в крови гяуров. Если бы это было так, — русским пришлось бы оставить Дербент и уйти прочь. Тогда как они ещё недавно захватили Кубанское ханство, старого хана отправили в Тифлис, на Самуре строят крепости, окружили елисуйцев войсками, а в Джаро-Белоканском округе селят казаков. Не раз, слушая таких же, как и ты, Ибраим-мулла, мы кидались в самую кипень боя — и гибли. Султан далеко. Наши раны ему не больны. Запах крови лезгинской не достигает до него. Когда мы голодны, — в Стамбуле едят, как и всегда; когда нам холодно, — там по-прежнему греются у мангалов. Ещё недавно дидойцы послушались вас, — и вот двенадцати аулов ихних как не бывало. Остались только кучи камней, и, где прежде слышались весёлые песни, теперь по ночам воют шакалы. Русские не трогают нас, мы далеки от них. Они долго ещё не дойдут до наших гор, — нам не за чем трогать медведя в берлоге.
— Верно, твои раны слишком болят в ненастные дни, что ты толкуешь о примирении с русскими.
— Неправда, Ибраим-мулла! Не о примирении я говорю, а об осторожности. Сокол — смелая птица, но первая не нападает на орла. Я никогда не был против набегов нашей молодёжи на русских. В таких набегах крепнут юноши и делаются взрослыми. Оттуда они привозят нам много прекрасных вещей и ещё более славных подвигов. Это именно та война, которая нам доступна, но нельзя всему нашему народу подыматься в газават — прежде всего потому, что мы голодны.
— У русских много хлеба.
— Поди и вырви у тигра изо рта ягнёнка. Тебе хорошо, мулла Керим. Ибраим из Стамбула привёз тебе много подарков. Ты заботишься вообще обо всём мусульманском мире, а нам, старикам Салтинского аула, надо только о своих думать. О тех, которые нас выбрали, я сказал то, что я сказал. Если джамаат велит быть газавату, то я первый забуду о боли своих старых ран и покажу молодым, как в наши времена дрались и умирали во славу Аллаха и его пророка.
Старик Гассан сел.
Несколько мгновений все молчали, когда из переулка показался Джансеид с русским пленником. По пути молодому лезгину уже передали, о чём толкуют на джамаате. Пленный, характерный тип солдата того времени, хмурый, но крепкий и стойкий, шёл смело, глядя перед собою. На нём ещё была шинель Ширванского полка, но вся в лохмотьях и прорехах. Солнце посреди площади ослепило его, и он зажмурился. Потом приставил ладони к глазам, осмотрел присутствовавших и, кивнув мулле Кериму, крикнул ему по-лезгински:
— Здравствуй, старый чёрт.
— Мы тебя призвали… — начал было мулла.
— Вижу, что призвали. Не сам к вам, оборванцам, пришёл, Ишь, бритолобый! Ну, давай место солдату.
И, нисколько не стесняясь, он вошёл под тень дерева, отодвинул локтем муллу и сел рядом.
— Теперь давай разговаривать. В чём дело-то? — обернулся он к старику-соседу, долго жившему в России.
— Мулла от турецкого султана приехал, — ответил тот по-русски. — Султан шибко ваших побил, всю Россию повоевал.
Солдат засмеялся.
— Скажи ему, что дурак он… мулла твой! От самого султана дурак.
— Нельзя этого сказать, — испугался старик.
— Скажи ему, что ежели мы ротами вас гнали… взводами от тысяч отбивались, так куда же ей, турецкой шебарде, с русскими справиться?.. У нас войсков не здешним чета… и говорить-то с вами, пустыми людьми, тошно.
Солдат, впрочем, сам уже понимавший по-лезгински, внимательно прислушивался, как его слова передавал старик, и покачал головой.
— Не то, не то, друг. Давай-ка я сам стану разговаривать с остолопью этой. Ты думаешь, дурья голова, боимся мы вас? Да ежели я один здесь между вами и нисколечко не страшусь, так как же вас вся Россия испугается? Вы ведь бритолобые, в котле сварить меня можете, — а я вам всё-таки подражать не согласен, потому что и в плену присягу помню, и наплевать мне на вас… А только одно вам скажу: забрались вы под небеса под самые, как птицы, так уж и сидите вы смирно. Потому иначе и хвостов от вас не останется. Не было ещё такого народу, чтобы под нозе нам не покорился. Да ты понимаешь ли, слепая сова, — обратился он прямо к Ибраиму-мулле, — о ком ты разговаривать осмелился! Да прикажи царь, так со всеми вами вот что будет. — И, быстро наклонившись, он захватил горсть пыли и сдул её прямо в глаза приезжему мулле.
Тот вскочил. Джамаат всполошился. Ропот негодования раздался повсюду. Кое-кто выхватил кинжалы. Старику Гассану жаль было своего пленного, но он не смел вступиться за него.
Солдат спокойно глядел на всех, и на его огрубевшем от бури и стужи лице не отражалось ни малейшего испуга.
— Ну, чего ж вы?.. на одного ширванца не можете, а на всю Россию захотели. Орда, так орда и есть! Дай дорогу, приятель. — и, отстранив локтем муллу, он не глядя ни на кого, пошёл себе с площадки в переулок, а по нем добрался до своей лачуги.
По пути он смеялся про себя:
«Дикий народ, что задумал! Со мной справиться задача, а на-тко о чём загалдели. И меня бы не поймали, коли бы не стреножили, как лошадь… Ну, да ладно, урвусь я от вас».
Джамаат зашумел по уходе русского. Молодёжь горячилась. Старики одни тихо переговаривались между собою. Даже кабардинского князя, несмотря на его значение, попросили удалиться в сторону. Но и тут крашеным бородам мешал гвалт и крики толпы.
Гассан встал первый и пригласил других…
— Пойдём в мечеть, там обсудим.
За ним последовали и муллы. Молодые лезгины, оставшись на площади, одни стеною окружили Сефер-Хатхуа. Джансеид и Селим, хорошо знавшие о подвигах этого горского удальца, не отводили глаз от него.
— Князь, что бы джамаат ни решил, а мы с тобою.
— Спасибо! Не раскаетесь. Мне нужны храбрые люди.
— Вся наша салтинская молодёжь за тебя.
— Чем больше, тем лучше. У кого оружия нет, — дам.
— У всех, у всех есть, — послышалось кругом.
— У нас, — заговорил Селим, — хлеба, случается, не бывает, а оружия сколько угодно.
— Много ли из ваших участвовало в схватке с русскими?
— Все почти!
— Мы с дидойцами прежде на них ходили.
— Нас знают под самым Дербентом.
— Постойте, а кто это из ваших молодцов, — только теперь я припомнил, — ворвался в самый Дербент и, проскакав по его улицам, на глазах у русских изрубил несколько солдат?
— Джансеид, Селим, — заорала толпа. — Чего же вы молчите? О вас ведь.
— Джансеид! Селим!
— Вот они, вот эти!
Оба юноши стояли молча, потупясь.
— Слава вам, — радостно взглянул на них кабардинский уздень. — Таких и у нас мало. Абдула! Дай мою чашу.
Один из его свиты кинулся в дом к мулле и принёс оттуда серебряный, очевидно, у русских отбитый ковш.
— Будем же мы с сегодняшнего дня кунаками и братьями! Будем всегда друг с другом и друг за друга. Умрём все за каждого и каждый за всех!
Джансеид, Селим и Сефер-Хатхуа вытянули правые руки, засучив черкески. Кабардинец, принёсший ковш, чуть-чуть коснулся их кинжалом так, чтобы в ковш попало по несколько капель крови. Из ближайшей сакли принесли бузы. Ею налили ковш до краёв и, положив друг другу на плечо левые руки, трое молодых людей пили её, повторяя каждый:
— На жизнь и на смерть!
Кабардинский князь, благодаря этому, делался родным целому аулу.
Теперь, ещё недавно негодовавшие на него лезгины, умерли бы по одному знаку его руки.
Газават
Солнце стояло уже посреди неба, обдавая всё внизу своим палящим зноем. Далеко, далеко, куда только проникли взоры, — тянулись причудливые вершины Аварских гор. Долины между ними затянуло светом. Грохот горных потоков, рёв водопадов, заглушавшие всё по ночам и на рассвете, теперь притаились. Два или три раза среди общего молчания утомлённой зноем природы, раздавались внизу выстрелы, но на них никто не обращал внимания. Какой-то пернатый хищник, раскинув громадные, тёмные крылья, ринулся в одну из саклей и, выхватив с её двора курицу, взвился с нею опять в головокружительную высоту. Кабардинский князь взял было ружьё у своего нукера, да Джансеид остановил его.
— Ради Аллаха! Что ты делаешь?
— А что? — удивился тот, недовольный тем, что ему помешали.
— Разве ты не знаешь нашего адата?
— У лезгин на всё адаты!
— Это старый. Не у нас одних! И по всей Чечне его соблюдают: когда старики перед лицом Аллаха совещаются в мечети, никто не смеет стрелять в ауле.
Уздень передал ружьё слуге и нахмурился.
— Долго ли они будут ещё болтать. Нет, у нас не так: наш джамаат перед всем народом.
Но он не кончил: двери мечети растворились.
Все жадно устремили туда горевшие страстным любопытством взоры.
«Что-то покажется в дверях: вынесут ли муталлимы саблю или выйдут с пустыми руками?»
С кровель поднялись женщины. В эту торжественную минуту они забыли осторожность, и чадры сами спали с них… Вдруг вся площадь точно ахнула… В темноте из мечети показался сам мулла Керим. Его никто не поддерживал, он шёл по-юношески легко и в правой руке высоко держал обнажённую саблю. И не успел ещё он ступить на накалившиеся каменья площади, как молодёжь выхватила из-за поясов пистолеты, у кого были — скинули ружья из-за спины, и весь аул, казалось, затрепетал на темени утёса от оглушительной трескотни беспорядочных выстрелов. Под этот грохот старики выходили из мечети. Гассан шёл позади, печальный, сумрачный. Мнение его не одержало верх. Он знал русских и предвидел гибель родного аула. Залпы вверху отдались в долинах. В скалах всё, что оставалось дома, выскочило на крыши и оттуда снизу тоже стало посылать выстрелы в бездонную синь огневого неба. С окрестных утёсов всполошились спавшие совы и филины, отдыхавшие кречеты и соколы. Всё это сослепа поднялось вверх, и долго жалобные крики встревоженных пернатых разбойников неслись с высоты в узкие улицы аула. Издалека другие аулы с других вершин отозвались такими же выстрелами. Там поняли, в чём дело, и точно приветствовали отовсюду вспыхнувший в Салтах газават. Сегодня весь Дагестан, таким образом, узнал о священной войне и стал снаряжать узденей на битву.
Одни только аулы казикумухцев[11] остались равнодушны. Впрочем, нет: все их жители поспешно собирались домой и соображали, как бы им дать знать «урусу», что они не причём в общем безумии своего народа.
Лаки — купцы и промышленники. Они, как разносчики и ремесленники, бродят повсюду.
«Подними любой камень и ты под ним найдёшь лака, — говорят лезгины. — Если не застанешь его, то поколоти место, где он сидел». Так неприязненно дагестанцы относятся к продавшемуся шайтану казикумухцу.
Ещё не успели старики выйти из мечети, как молодёжь к её порогу приволокла за рога чёрных баранов.
Война была объявлена, — поэтому белые не годились для сегодняшнего торжества. Одного за другим подводили животных к джамии. Мутталлимы должны были держать их за рога, а лезгины одним ударом шашки рубили им головы. Удачные удары возбуждали общий восторг, неудачные — насмешки… Быстрее молнии взвилась шашка Джансеида, и чёрная, кудлатая голова барана покатилась на плиты… Кровь его облила порог мечети.
— Хорошо, джигит! Руби так русские головы… Хвала твоему отцу, да возрадуется его душа!.. В твоей сакле всегда будет достаток. Горе твоим врагам!
Бедному Селиму не повезло.
Своего барана он обезглавил с трёх раз. Общий смех пошёл по всей площади.
— Эй, Селим! — кричали ему, — ты бы остался дома холсты ткать, с нашими женщинами, да чужих ребят нянчить.
— Селим по ошибке носит черкеску.
Весь бледный стоял он, опустив голову. По горскому обычаю он не смел сердиться в такую минуту.
Джансеид вступился за друга, заметив слёзы на глазах Аслан-Коз.
— Чего вы напали на него? Виноват он разве, что у него шашка зазубрилась. Нашим шашкам давно ведь не было дела. Не мудрено! Не опускай головы, Селим. Я сейчас приведу тебе нового барана. Только возьми мою шашку и оставь её себе.
Но раньше, чем он пошёл за животным, Аслан-Коз крикнула сверху:
— Я сама приведу его, погодите. Селим всем вам докажет, что не у него, а у вас пряжи в руках.
Молодой человек вспыхнул и оправился, услышав голос невесты, так смело вступившейся за него. Не прошло нескольких минут, — как она сама показалась на площади, едва волоча за рога обречённую жертву.
— Я встану рядом. И если тебе не удастся, — умру от стыда! — шепнула она на ухо Селиму.
— Джансеид, спасибо тебе! Возьми свою шашку назад.
— Оставь, оставь её, она лучше твоей.
— Я покажу этим эшакам[12], — презрительно окинул Селим всю площадь, — что моя сила не на кончике языка. Не надо мне шашки, у меня и кинжал исполнит ту же службу. Держи за рога, Аслан-Коз.
А сам на мгновение зажмурился.
— Алла, Алла! — про себя прошептал он. — Если мне не удастся, я вторым ударом себя принесу тебе в жертву.
Весь бледный, он замахнулся, — и разрубленное животное, обливаясь кровью, рухнуло на камни площади.
Всё кругом дрогнуло от восторга: обезглавить крупного барана одним ударом кинжала считалось самым мастерским делом. Аслан-Коз не выронила отрубленной башки. Она удержала её, высоко поднимая над собою и не замечая, что кровь каплет прямо на её шёлковый башмет.
— Слава Селиму! — восторженно кричала молодёжь.
Джансеид с радостной гордостью смотрел на приятеля.
В такой торжественный день нечего было беречь дорогого в лезгинских аулах дерева.
Мальчишки натаскали его на площадь, женщины принесли большие чугунные котлы. Девушки побежали вниз к потоку за водою…
Старики уселись под деревом в ожидании общего пира.
Только мулла Ибраим не успокоился. Он спросил у Керима:
— Где у вас русский этот, пленный аскер?
— Внизу.
— Пойдём туда. Мне надо убедить его спасти свою душу и тело. Он храбрый джигит.
— Я уже пробовал. Обещал ему саклю.
— Что же он?
— Подлая собака, в глаза мне плюнул. Пойдём, может быть, сердце гяура не устоит перед твоею мудростью.
И оба старика пошли по ступеням крутой улицы, вниз, к лачуге русского пленного.
Степан Груздев
Первое время плена Степана Груздева держали в колодках, на цепи. Солдат всё это выдерживал спокойно, вызывая уважение хозяина Гассана. Когда, наконец, сняли железо с пленного, — ширванец начал работать около дома, облегчая таким образом каторжный труд лезгинских женщин. Тем не менее долго ещё по ночам его приковывали, так что, смеясь, он сам себя называл Валеткой и считал, что у лезгин он находится «на пёсьем положении». Часто в бессонные ночи, приподымаясь на локтях, он вспоминал недавнее прошлое и с добродушным юмором отзывался, что азиаты накрыли его «силками», как перепела. И действительно: Степан Груздев был страстный охотник; его отпускали из Всесвятского укрепления на несколько дней, и всякий раз он возвращался домой, едва передвигая ноги под тяжестью набитой им дичи. Случалось ему приносить и джейрана и части кабана. В одну из таких охот он устал и заснул в лесу под громадным дубом, на толстых суках которого повесил ружьё, патронташ и, в предосторожность от чекалок, — целую вязку всякой птицу. Жара его так сморила, что в прохладе молчаливого леса он лежал, как убитый. Только к вечеру Степан проснулся и глазам не поверил. Хотел было их протереть, но руки его оказались к колышкам привязаны. Встать нельзя, — ноги спутаны. Он приподнял голову, — невдалеке горел костёр, и в багровом его зареве Груздев рассмотрел горбоносые лица со встопорщенными бровями, бритые лбы и крашеные бороды.
— Эй вы! — крикнул он им, воображая, что над ним подшутили мирные лезгины.
Но тут ему совершенно неожиданно пришлось опять упасть навзничь.
Какой-то пожилой горец подошёл к нему, прицелился в упор и проговорил ломанным языком:
— Кричал иок. Яман будет. Башка кончал.
— Да вы, черти, что это? — уже потише, примирительным тоном заговорил Степан.
Лезгин снял путы у него с рук. Степан заметил, что ноги ему связали обыкновенным конским треногом. Едва передвигая их, он подобрался к костру.
— Что ж теперь будет, кунак?
— Мой кунак — иок. Мой твой Салты таскал, деньга брал.
Груздеву даже смешно стало, и он засмеялся.
— Баранья башка! Какой за солдата выкуп тебе, разбойнику. У нашего царя таких, как я, не перечесть. На всякого выкупу не наберёшь… Получай два абаза[13] на своё счастье!
Лезгины слушали его, ничего не понимая.
— Твой офицер или Иван?
Иванами они называли солдат.
— Иван, Иван!
Те начали что-то болтать по-своему.
Степан Груздев заметил, что над костром жарится убитая им дичь и вынул из кармана соль.
— Хлеб да соль!
Лезгины обрадовались. Соль считалась драгоценностью в горах.
Поужинали и, как только взошёл месяц и облил густые вершины леса серебряным светом, лезгины поднялись, привязали Груздева за шею к поводу, скрутили ему руки назад и растреножили ноги. До утра им надо было уйти в горы, и только тут ширванец понял, что он в плену. Горевать, впрочем, ему было некогда. За горскими конями приходилось чуть ли не бежать на крутые въезды; когда он приостанавливался, его стегали по плечам нагайкой, и раз даже старый тогда Гассан ударил его слегка кинжалом в спину. Колючки истерзали пленному ноги, крутые и острые кремни горного ската впивались в них, и скоро из ступней показалась кровь. Сапоги, как величайшую, редкую в горах, драгоценность, лезгины с него сняли.
— Ну, делать нечего… Пропадать, видно, душе христианской! — и он уже решительно лёг на землю.
Лезгин дёрнул коня, повод натянулся, и солдат чуть не задохнулся в петле, но выдержал и не поднялся с земли.
— Кончай башку, шайтан треклятый! — ругался он.
Нагайка из сыромятного ремня заходила по его телу. Груздев лежал пластом.
Гассан приставил дуло пистолета к его виску. Степан начал читать. молитву:
— «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных».
А потом, тихо уже, проговорил, словно про себя:
— Со святыми упокой. Со святыми упокой. Со святыми упокой!
Дуло отделилось от его виска.
Лезгины сошлись около, залопотали что-то по-своему, осмотрели его ноги и тело и опять начали переговариваться. Дело кончилось тем, что на коня, который оказывался посильнее других, посадили Степана; лезгин, севший позади его, крепко держал Груздева, точно боясь, что пленник даже истерзанный, убежит от него. Прячась по горным трущобам, останавливаясь во рвах и оврагах днём и выезжая в путь только ночью, лезгины через неделю вернулись домой и сдали солдата своим бабам.
Появление русского в ауле подняло всех на ноги.
Тяжёлые дни переживал бедный ширванец.
Старухи, детей которых в бою убили русские, нарочно прибегали в саклю к Гассану, чтобы плевать в лицо связанному солдату. Одна впилась в его щёки острыми когтями и ободрала ему кожу. Взбешённый Груздев вскочил на ноги, откуда сила взялась, — верёвка, связывавшая ему руки, оборвалась, и бешеная ведьма вверх ногами полетела вниз по лестницам аульной улицы.
Груздев остервенел, он кинулся на других, крича во всё горло:
— Убей, а не мучь!
Прибежал Гассан, выгнал баб и запер саклю, где был Степан. Теперь аульные старухи приходили клясть его в окна, но он уже не обращал на них внимания или отругивался по-своему. Когда он жаловался на цепь, Гассан ему говорил:
— Ты не должен оскорбляться этим: если бы ты был женщиною или рабом, мы бы тебе предоставили свободу, а вольного человека можно удержать в плену только железом.
Потом, впрочем, к нему привыкли и сняли с него цепь. Точно оправдывая мнение горца, он попробовал было уйти, его поймали. Надрезали ему пятку, положили в рану рубленного конского волоса и забили ноги в колодки. Когда надрезы зажили, колодки сняли, но Груздев мог уже двигаться только на носках. Через год ему уже совсем вылечили ноги; он стал работать на хозяина, философски решив, что так значит тому и быть, а придётся ему век свековать в этом горном ауле у азиатов… Он даже подружился с Селтанет, приносившей ему по вечерам чашку с хинкалом[14] и другую с чесночным соусом. Он пел ей русские песни, а оставаясь один, случалось, даже плакал, вспоминая далёкое село на Оке, ракиты, поросшие вокруг и старую избу с завалинкой, на которой сидит теперь его одряхлевший отец и ждёт не дождётся весточки о сыне.
Сегодня после ссоры на джамаате ему было особенно тяжко.
Он вышел из своей лачуги и между камнями сел над обрывом в бездну, где гремел и бесился поток. Ветерком веяло с севера. С родимой стороны тянуло, и старому солдату чудилось, что пахнет спеющею озимью, тяжело осевшими к земле хлевами равнинного села.
Степан Груздев вздохнул и проговорил про себя: «Эх, ты доля долюшка!»
Отовсюду веяло дикою мощью.
Вон в чаще движется какая-то точка.
Степан уже привык к далёким расстояниям, он различил серого чеченского коня, всадника в мохнатой бурке и бурой папахе. За ним другой, третий, четвёртый. На скате противоположной горы другие, такие же всадники. А там ещё и ещё. Со всех аулов спускаются вниз, сюда, в Салты.
«Почуяли праздник, — соображает солдат. — Даровых баранов жрать! Теперь налопаются бузы, станут песни петь да бахвалиться. Погоди! Доберутся до вас наши ширванцы: насыплют вам соли на хвост, долго, оборванцы, не забудете… А впрочем, народ ничего: храбрый народ. Бунтуют ежели, так сдуру. Забрался на вышки и думает, что здесь его рукой не достанешь. Небось, и не таких побеждали. Руки не хватит, — штыком нащупаем. А народ, надо правду сказать, — воин; коли бы им настоящее понятие, хорошие бы солдаты были. Теперь баранов режут — глядь, и мне лопатка достанется. На этот счёт у них благородно. А что работать заставляют, так ведь даром-то поди и чирей не вскочит. Вот только зелёная мулла ихняя, тоже лопочет: „Махнутке нашему поклонись“. Нашёл кому! Такой же гололобый был. Да у нас в полку Махнутку-то ихнего на задний редант поставили бы в слабосильную команду».
— Селям, Селям! — послышалось за ним.
— Навалило чертей! — встретил двух мулл с переводчиками и муталлимами Степан Груздев. — Ну, чего ещё?
— Да просветит твоё сердце Аллах!
— У нас, брат, свой Аллах есть, почище вашего будет.
Ибраим-мулла указал место на гладком камне, муталлим разостлал ему коврик. Мулла Керим сделал то же. Оба сели и начали поглаживать бороды. Степан Груздев смотрел на горских духовных недоброжелательно. Очень уж надоели они ему.
— Твоя Иван, — заговорил Керим по-русски, — слушай, что его, большой мулла, говорил.
— Понапрасну стараться станете! Я бы вам сказал словечко, да не стоите вы.
— Ты ему передай, — важно обратился Ибраим-мулла к переводчику, — что скоро наш благословенный Султан, меч веры, огонь Аллаха, спалит всех неверных и уничтожит их, что уже готовы тьмы аскеров, истинных тигров пророка. От их рыкания вздрогнула вселенная. Тысячи кораблей, каждый больше этой горы, стоят в Золотом Роге и ждут только мановения руки Султана. По слову Аллаха сбудется. Мы построим у них везде мечети.
— Ты ему скажи-ка, — заговорил Степан, — что в Казани я стоял, новобранцем ещё, с полком; там добре много мечетей этих. А тамошняя татарва больше мылом торгует. А насчёт солдат ихних — так наши нисколечко их не боятся. Есть у нас капитан Шерстобитов, так он один со своею ротою, гарнадерская у ево рота, вашего султана повоюет и разнесёт, как жидовскую перину. Только пух полетит. Ты ему, дураку, гололобому объясни по душе: коли я здесь один, да всех вас не боюсь, так как же матушка Россея турки ихней испугается. Эх, вы! Одно слово Азия необразованная. Полковник Клюквин, теперь его возьми — ужели же он да вашего султана не осилит. Даст сигнал: рассыпьтесь молодцы за камни, за кусты по два в ряд!
— Ты переведи ему, — важно продолжал мулла, — пускай он, пока ещё есть время, примет нашу веру.
— Господи упаси!
— Мы его назначим бим-башею.
— Это ещё что за чин?
— Большой начальник, значит.
— Вот оно! Хороши у вас войска, когда вы простого солдатишку в большие начальники зовёте. Нашли, чем смущать. Нет, брат, здорово разнесём мы вас, только суньтесь. У нас так: как скомандуют «на руку — ура», так мы хоть кого хочешь слопаем. Бим-башей тоже. Эх, рухлядь!
— Пусть он каждый день приходит в мечеть. Я буду его много, много учить, пока Аллах не просветит его разум.
— И внимания не возьму. Чтобы я, рядовой третьей роты Ширванского полка да стал к тебе ходить! И с чего это тебе в башку влезло.
— Не хочет он в мечеть ходить, — передал переводчик.
— Тогда его на цепь посадят, будут конопляными лепёшками кормить.
— Всего, брат, попробовал. Не испугаешь. Разве что голову срубите, — ваше дело, а на плечах останется — сами набежите ордой просить аману. Скажи ему, что скоро придут сюда наши ширванцы, и от всего разбойного гнезда здешнего и мусорной кучи не оставят. Ровно будет. Точно никто никогда здесь и не жил. Поняли, гололобые?
— А почему ты знаешь, что русские придут сюда?
— Чудак человек, да как же им не прийти сюда, если капитан Шерстобитов скомандует: «Скорым шагом марш». Небось и не на такие вышки вскочишь. Ты ему, умница, разъясни, что ежели барабанщик да горнисты заиграют наступление, так там никак нельзя не идти. Хоть в лоб, а пойдём. Такую мы присягу принимали.
— Мы вас всех сверху перестреляем.
— Что ж, бывало и это. Роту перестреляете, — вторая за ней; а там и третья готова. У нас народу много, побольше чем у вас пуль. Тут вам и крышка будет.
— А ежели я на джамаате скажу, чтоб тебе голову отрубили?
— Кончал башка по вашему? Много доволен. Помирать-то надо каждому. Не очень-то уж сладка жизнь у вас здесь. Только он пущай сначала Гассану за меня калым заплатит. Я знаю, на это у вас адат есть. Ну, а заплатил, — твоя воля, тешь свою душеньку; коли есть на это твоё такое произволение. Так ему и передай, и пущай он уходит к себе, потому надоело мне с ним разговоры разговаривать! Всё равно умного ничего не услышишь, а дуростью вашей я уж довольно по горло сыт. Шли бы вы, старички, с Богом, а не то я уйду. Сидите себе здесь на камени, мне и то пора Гассану айран готовить.
И Груздев спокойно встал и пополз вверх в саклю своего хозяина.
Пир в ауле
Солнце закатывалось за отдалённые утёсы Аварских гор и зажигало алтари на Шахдаге на Дервиш-Баире и Шайтан-Олсу. Ещё несколько мгновений, и их облило густым румянцем заката, точно по скалистым отвесам заструилась жертвенная кровь. Аулы пропали в золотистом море, наводнившем в этот торжественный час всё кругом. Скоро в потемневшей на востоке синеве вспыхнула звезда на челе ангела, полагающего конец утомлённому дню. И в это мгновение со всех скал и утёсов, отовсюду, где стояли аулы под минаретами своих мечетей — печальное и торжественное раздалось пение муэдзинов. Близился вечерний намаз, и служители пророка напоминали правоверным о том, что Аллах един и всемогущ, что славе его нет конца и предела. Сначала запел на минарете своём будун аула Салты. Из-за долины с следующей мечети отозвался ему муэдзин Кадаха. Не успел ещё печальный голос его всколыхнуть застоявшийся воздух, как с третьей вершины над Кара-Койсу откликнулся таким же заунывным напевом тамошний мулла. Аул был беден и не мог содержать будуна. Скоро казалось, что все эти утёсы сами поют, славя всемогущество Господа. И когда напевы их погасили, точно растаяли в строгой тишине засыпающего Дагестана, — кругом была уже тьма, и в ней задумчиво сияли звёзды.
Не успел месяц ещё подняться над молчаливыми горами, как Селим выбил огонь из кремня, засветил фитиль в плошке с бараньим салом, при трепетном блеске его отыскал кинжал, пистолеты, подтянул серебром отделанный пояс и, взбросив папаху на голову, беззаботно двинулся вверх на площадь джамаата.
Туда собрался уже почти весь аул.
Посреди ярко горели костры. Зарево их багровело на стенах мечети и саклей. Минарет пропадал в темени, но на кровлях всюду закутанные в белое лезгинки казались фантомами, родившимися во мраке и осуждёнными в нём же и рассеяться. Вода в бассейне от красного блеска костра алела кровью, и тонкие струйки этой крови струились оттуда по узеньким канавкам, исчезая в чёрных трещинах улиц.
У костров толпился народ.
С папахами на затылках, опираясь на рукояти кинжалов, молодёжь салтинская прислушивалась к рассказам стариков о далёком времени, когда их очи сверкали ещё по-соколиному, а в руках не иссякала сила.
Кое-где сказочники тешили народ преданиями о богатырях; и порою шёпот удивления бежал оттуда, когда импровизатор сосредоточивал эффект на слишком невероятном подвиге. То и дело, из окрестного мрака вырисовывались зловещие фигуры вновь приезжавших горцев. Салты давали праздник на всю окрестность; с ближайших вершин тянулись сюда джигиты, зная, что сегодня каждому здесь будет вволю айрану и бузы, и, как гостю, непременно достанется баранья лопатка. Кое-где трепетали уже струны, и тихие напевы неслись к меланхолическим звёздам дагестанского неба, У одного из костров сидели кабардинский князь и Джансеид, жадно слушавший рассказы молодого удальца, которого знала и Чечня, и Авария за первого бойца и беспощадного врага русских. Он передавал, как ему удалось бежать из плена, изрубив часового и украв у коменданта крепости его лучшего коня. От слов его, дышавших дикой волею и разгулом, слушатели разгорались жаждою боевых впечатлений. Казалось, это горный орёл кричит с высоты скалы, созывая других на добычу. И как он преображался, вспоминая недавние битвы. Глаза его загорались острым блеском; грудь подымалась высоко-высоко; он порою вскакивал, точно ему было тесно в этом кружке внимательных слушателей. У кого-то в руках оказалась трёхструнная лезгинская балалайка. Когда Хатхуа смолк, — тот заперебирал струны. Лезгины страстно любят песню, и у костра все замолкли, следуя за нервно трепетавшею ритурнелью. В холодеющем воздухе южной ночи ни одного звука не пропадало, мелодия струилась в её мрак и наполняла его неутолимою жаждою чего-то. Чего? Едва ли кто-нибудь здесь мог бы сказать об этом. Жизни, подвига, счастья! Всех манило за этим напевом. Скоро вместе с ним, сплетаясь и расплетаясь, зазвучал тихий голос игравшего. Каждая строка его песни млела, тянулась и умирала, и вместе с нею словно что-то рвалось в груди у слушавшего. Кабардинский князь кинул бурку к огню и, растянувшись на ней, внимал молча.
«Каждое утро по улице красиво идёшь ты.
Хороша!
Красиво надеваешь алый шёлк поверх зелёного.
Хороша!
На тонком стане твоём золотой пояс с эмалью.
Хороша!
На выкрашенных хною руках золотые браслеты.
Хороша!
Каждое утро разбрасываешь кудри.
Хороша!»
Оборвав разом, певец передал балалайку соседу. Тот долго перебирал её струны. Напев их делался всё жалобнее. От соседних костров собралось сюда много народа. Джансеид славился как хороший певец и, узнав, что он будет петь тоже, гости, съехавшиеся в Салты, приблизились к этому кружку и слушали, не слезая с коней. Пламя костра бросало на их суровые лица свой зловещий отсвет. Прежде чем Джансеид начал песню, с одной из кровель послышался тихий женский голос:
«Вышла я утром на кровлю,
Гляжу я кругом и сквозь слёзы
Вижу, как брат мой далеко
Едет, спускаясь в ущелье».
Джансеид узнал голос Селтанет. Он улыбнулся и, уже забыв, что его слушают посторонние, запел с теми модуляциями, с тою дрожью голоса, которая присуща восточной песне и придаёт ей столько задушевности в тихие ночи на улицах горных аулов или в благоуханных садах долин, нежащихся в сладкой дрёме.
Джансеид кончил под общий гул одобрения.
— Твоя очередь, князь. Хочешь не хочешь, — должен петь, таков наш обычай.
И Джансеид передал балалайку Хатхуа.
Князь отбросил её с пренебрежением и крикнул:
— Эй, Амет!
Нукер вышел из толпы.
— Принеси мне мою садзу.
— Она здесь, господин.
— Дай мне.
Пятиструнная садза была отделана золотом и серебром. Джансеид залюбовался ею.
— Откуда ты достал такую?
— Турки возят к нам. Я на русскую пленницу выменял. Нравится тебе?
— Да, я ещё не видал таких.
— Значит, она твоя. Кончу песню, и бери её.
— Господин, что ты! Для меня это слишком дорогой подарок.
Князь Хатхуа засмеялся.
— Теперь уж поздно. У нас в Кабарде свои обычаи. Что друг похвалит, то и отдай ему. Садза твоя, Джансеид. Только выучись играть на ней настоящие песни. Вот у нас в Кабарде как поют.
Он смело ударил по струнам. Они точно крикнули, и в их звуке почуялся отзыв неукротимой души. Кабардинский князь гордо оглянулся на всех и громко запел:
«Острый меч, рази верней!
Я смеюся встречной пуле!
Кто, скажите, всех смелей,
Веселее всех в ауле?
Это я! С дороги прочь!
В вражьем стане у соседа
Не меня ли в эту ночь
Пуля ждёт или победа, —
В сечу дружину свою,
Поведя по самой круче,
Буду виден я в бою
Яркой молниею в туче.
Смерть врагу! С дороги прочь!»
Веянием бури неслась песнь по джамаату. В душах молодых лезгин вспыхивало боевое одушевление; они невольно хватались за кинжалы и вскрикивали вместе с Хатхуа, бросая кому-то вызовы, точно в потёмках, окружавших площадь, таился близкий враг. Глаза их разгорались. «Смерть ему!» «С дороги прочь!» отозвалось в каждом сердце, и когда кабардинский князь допел, после него никто уже не решался дотронуться до струн. Всякая иная песня показалась бы бледною перед этой. Селим был уже около Джансеида; они вместе дрожали от нетерпеливого желания сразиться скорей и вернуться в родной аул в ореоле славных подвигов. Скоро все смолкли вокруг костра. Люди смотрели в огонь, будучи ещё не в силах пережить впечатление, навеянное на них песней. Только громко трещали сухие ветки, разбрасывая тысячи искр в прохладную темень безмолвной ночи; точно золотые змеи пробегали в огнистых кучах угля, чьи-то кроваво-пламенные глаза и раскрывались, и смыкались там. Молчали лезгины, молчали женщины на кровлях, мысленно повторяя про себя строфы молодого джигита, молчали всадники, ещё окружавшие сидевших у огня. Лошади их похрапывали, нетерпеливо скребли копытами о камень и, поматывая головой, громко звенели отделанными в серебро поводами. Последний крик муэдзина, меланхолический и протяжный, замер над мечетью. Скоро певший будун сошёл с минарета и присоединился к костру.
Скоро со всех сторон из окружающих площадь саклей показались слуги и женщины, неся на головах, громадные металлические подносы с целыми горами варёного риса, проса и жареного мяса. Все, начиная с будуна и кончая последним байгушем, встрепенулись. Приезжим гостям очистили место, и за плов принялись просто пальцами. Для мяса у кинжалов есть маленькие ножики, и у каждого в руках оказался такой. Горцы едят быстро и немного. Аппетиты были удовлетворены раньше, чем золотой рог луны зашёл за чёрный минарет, и в кружках у костров показались большие чашки айрана и кувшины с бузою. Бузу каждый отпивал сколько хотел и передавал соседу со словами: «Да благословит Аллах»; тот отвечал: «Да возвеличится твоя душа». Когда дошла очередь до будуна, он посмотрел, и оказалось, что ещё полкувшина полно опьяняющим напитком. С лукавою улыбкою над смеявшимися джигитами, он долго держал устье кувшина у рта и, когда отвалился, вздохнув, проговорил соседу:
— Да будет твоя жизнь полна, как был этот кувшин, — и передал ему.
Горец припал, но с изумлением тотчас же отодвинул от себя кувшин и обернул его над огнём. Несколько капель зашипело, падая в полымя.
— Ай, да будун!.. Ай, да брюхо! Это он большой котёл муллы в живот себе вставил.
Но будун уже не обращал на них никакого внимания и, что-то напевая себе под нос, бессмысленно смотрел в костёр.
Восток уже светлел. Туманы над ущельями и долинами белели. Тускло пламя костров; румяным венцом вспыхнула короновавшая весь Дагестан гора Шайтан-Даг. Женщин не было на кровлях. Звёзды пропадали, и ночная темень неба точно блекла над утёсами аула. Тихо привстали горцы от костра. Лезгины из других горных гнёзд вскочили на лошадей и лихо во весь карьер понеслись по ступеням крутых улиц. Только искры сыпались из-под копыт. Вскакивая на сёдла, джигиты стреляли на воздух, с диким гиканьем подвёртывались под брюхо коням и оттуда опять посылали пули в высоко подкидываемые папахи. Сверху Хатхуа, Джансеид и Селим с другой молодёжью любовались джигитовкой всадников и кричали им:
— До вечера!
А вечером было назначено выступать в набег на русских.
Скоро стук копыт и трескотня выстрелов умолкли внизу. Однообразный туман точно проглотил всадников и, когда Джансеид вернулся в свою саклю и снял с себя кинжал, чтобы улечься на несколько часов до второго намаза, — вершины утёсов уже горели, а по всему небу бежали огнистые волны утренней зари, и в старой чинаре, у мечети, проснулись и запели тысячи птиц.
Будун так напился бузой и устал, что проспал свой намаз. Весь аул был теперь погружён в глубокую тишину, и только кошки бегали по его плоским кровлям да собаки, лёжа на холодных и влажных от раннего тумана камнях, тявкали неведомо зачем.
Набег
Утром, когда после вчерашнего пира аул, наконец, проснулся, народ отправился к мечети. Сегодня вечером молодёжь выступала в набег, и мулла обещал торжественное служение с приехавшим из Кази-Кумуха муршидом[15], муридами[16] и с проповедью турецкого шейха. Плотно закутанные в белые покрывала, стуча кованными каблуками туфель, бежали женщины по деревянным лестницам на хоры, отделённые от остальной мечети плотною решёткой. Медленно и важно внизу усаживались на плетёные камышовые циновки и на принесённые с собою коврики — крашеные бороды — старики. Молодёжь, которой вечером предстояло оставить аул, вооружённая до зубов, заняла средину джамии. Тишина царила в её полумраке. Огоньки лампадок, висевших с потолка на тонких железных цепочках, тускло мигали розоватым светом. По стенам были развешаны пёстрые картоны, без числа повторявшие арабскою вязью святые имена Аллаха и его пророка Магомета. Перед порогом мечети площадь была завалена мелко рубленною соломою-саманом, чтобы стук копыт подъезжавших коней не мешал молитве аула. Впереди уже сидели казикумухский муршид с одержимыми джазме муридами. Они казались погружёнными в сон: и головы склонили на грудь, и тела их были неподвижны. Только изредка, точно просыпаясь, муршид восклицал: «Ля-илляги-иль-Аллах», и тотчас же эта священная фраза, будто дуновением ветра, повторялась его учениками. Мулла и шейх по очереди читали свиток Корана и заунывно пели молитвы, призывавшие гнев вседержителя на головы гяуров. Мулла поднимал порою саману и, разбрасывая его кругом, просил Магомета не посылать неверным псам христианам иной пищи, а шейх рекомендовал Азраилу так заострить шашки и кинжалы здесь предстоящих джигитов, чтобы головы уруса валились в грязь от одного прикосновения их лезвия. Потом оба, и мулла, и шейх, затянули общую песню. Она призывала всех, павших в бою с русскими и наслаждающихся теперь среди прелестей мусульманского рая, праведников слететь с лазурной высоты. Из бирюзовых дворцов, из-под изумрудных рощ, сверкающих рубиновыми гроздями цветов, от медовых рек поспешить в долины Шахдага и своим вмешательством даровать в бою победу их верным служителям на вечное посрамление русских. Гимн этот был подхвачен присутствовавшими, и скоро дребезжавшие голоса стариков и сильно грудные — молодёжи присоединились к нему. В тишине аула казалось, что каждый камень джамии поёт над убогими саклями и безлюдными уступами улиц. Песня эта всё росла и росла, крепла, охватывая, как пламя пожара, минарет и уносясь далеко в небеса, потому что находившийся на башне будун присоединился к ней, и его звучный голос покрывал все остальные. Одни женщины наверху не смели петь общей молитвы; они только били себя в грудь, повторяя одну дозволенную им фразу: «Ля-илляги-иль-Аллах». Аслан-Коз и Селтанет, стоя у самой решётки, сквозь её просветы отыскали внизу Джансеида и Селима и уже не отрывались от них печальными глазами. Напрасно мать Аслан-Коз дёргала её за чадру и вместе с чадрою — за косы, та даже не оглядывалась на старуху. Когда в общем хоре слышались голоса их избранников, обе девушки зажмуривались, прислушиваясь к ним; а когда молитва, наконец, замерла, по восточному обычаю минорными тонами, они переглянулись, улыбаясь одна другой.
— Ты его видела вчера? — спросила Селтанет.
— Да, перед праздником на джамаате.
— Джансеид приходил ко мне сегодня утром. Я отдала ему хатаф и хаят.
— У тебя красный хатаф?
— Да.
— Счастливая ты.
Красный хатаф — находимый в гнезде ласточки камень, укрепляет нервы, прогоняет печаль и делает сердце недоступным страху. Хаят — тоже камень, в виде пули. Он у некоторых змей, по преданию, растёт в голове. Его прикосновение сразу останавливает кровь, текущую из раны.
— Счастливая ты. Я ничего не могла дать Селиму.
— Смотри, смотри, старый муршид подымается.
Двое муталлимов подбежали к белобородому учителю тариката и подняли его под руки. Тотчас же, не опираясь о землю, все двенадцать муридов встали, как на пружинах. Муршид занял место посреди мечети, и муриды по очереди подходили к нему и кланялись, а он возлагал им на головы руки. Бледные лица муридов уже поводило судорогами, глаза начинали блистать неестественно и лихорадочно, груди их задышали порывисто.
— «Приближается, приближается», — запел муршид. — «Священный дух джазме недалеко. Он палит огнём моя внутренняя».
Песню эту подхватывали муриды.
И вдруг, как-то странно качаясь, муршид подбежал сначала к одному, потом к другому и так ко всем двенадцати муридам по очереди, дуя им в лица. В это время мулла, шейх и присутствовавшие пели зикра, молитву, состоявшую из бесчисленного повторения: «Нет бога, кроме бога!» После дуновения муршида эта молитва ураганом подхватила учеников тариката. Их всех обуял общий припадок фанатического исступления, они схватились за руки и стали раскачиваться головами вправо и влево, вперёд и назад под такт священным словам: «Ля-илляги-иль-Аллах» и вслед за головою двигалось их тело, а стоявший перед ними муршид, исполняя то же самое, был для них как бы камертоном… «Ля-илляги-иль-Аллах», и движения их делались быстрее и порывистее. Ещё минута, и их нельзя было уловить, в глазах у присутствовавших мелькала стена этих людей, качавшаяся во все стороны, голоса их сделались хриплы, точно ранее, чем звук выходил из горла, что-то обрывало его там и задерживало. В редкие мгновения, когда можно было заметить отдельные лица, видно было, что они все побагровели, глаза налились кровью, волосы поднялись на голове дыбом и вместе с нею вихрами носились во все стороны. Как-то бессознательно ученики подчинялись муршиду: запрыгал он, и вся эта стена запрыгала, не прекращая прежнего движения головою и корпусом. Скоро посреди мечети совершалось что-то невообразимое. В общем гуле гортанного хора конвульсивно трепетало, подскакивало, падало, раскачивалось судорожно, билось двенадцать тел. Взгляды потеряли человеческое выражение. Молодёжь с благоговением внимала им и смотрела на избранников каримата[17]… Души этих одержимых, по мнению лезгин, были уже в раю и видели там Магомета и святых. Даже край одежд Аллаховых носился в высоте над ними, и муриды уже были недалеко от звёзд и солнца, которыми оторочены эти одежды. Когда конвульсии сильней охватывали беснующихся, и в криках их слышалось страдание, это значило, что из рая души их отправились с ад и видят, как там мучаются грешники. Пророки говорили в эти минуты с муридами, ангелы подхватывали и уносили их на белых крылах в недосягаемые бездны неба. В такие минуты муриды позволяли колоть себя кинжалами, жечь руки и ноги головнями, не ощущая ни малейшего страдания. Салтинские старики мало-помалу увлекались движением цепи муридов и состоянием джазме, в котором те находились. Они сами начинали, сидя, раскачиваться во все стороны, повторяя: «Нет бога, кроме бога», и, немного спустя, молодёжь присоединялась к ним.
Джансеид, Хатхуа и Селим вышли к дверям, не желая поддаваться этому исступлению, надолго ослабляющему тело, и сели у порога. Солнце уже ярко светило на площадь джамаата; все её камни блистали под лучами. Дерево посреди гудекана вздрагивало, точно каждый листок его хотел вволю напиться тепла и света, и тысячи птиц возились и щебетали в его чаще. Долины и ущелья были теперь видны во всей прелести, в пышном уборе весенней растительности, в эмалевой отделке обрушивавшихся туда утёсов, в серебряных нитях бежавших по ним потоков, в радужных облаках водопадов. Немного спустя, из мечети стали выносить и класть в тень под чинару упавших в обморок муридов. Их помещали точно дорожку бок к боку, между ними улеглись более благочестивые из мусульман и одержимые упорными болезнями. Матери приносили своих детей и укладывали их спинами вверх и лицом к земле. Таким образом от чинары к дверям мечети образовалась живая полоса плотно прижавшихся одно к другому тел. Славившийся святостью муршид торжественно вышел оттуда, поддерживаемый под руки муллою и шейхом. Ему подвели лошадь, он сел на неё, те же сановники взяли под уздцы и повели коня по спинам и грудям лежавших богомольцев. Конь медленно ступал на них своими копытами, муршид громко пел исповедание тариката, ему вторили — мулла, шейх, будун и муталлимы, шедшие позади всех по тем же телам. Той же дорогою они вернулись назад, и лежавшие. вскочили на ноги, славя мудрость Аллаха.
— Ты что ж не лёг? — обратился насмешливо кабардинский князь к Джансеиду.
— Я не верю в это.
— И ты тоже?
— Я ещё мальчиком, — засмеялся Селим, — пробовал кольнуть иголкой одного из одержимых.
— Ну?
— Он вскочил и убежал из мечети… Есть и между ними, только не все. Я думаю, что Аллах и без этого пошлёт нам победу, потому что дело наше правое. Мы для него же идём на смерть. Ты знаешь нашу песню?
— Какую?
— А вот!
И вполголоса он запел суровую боевую поэму лезгинских абреков:
«Кто, отважный, обрёк себя Богу,
Без боязни иди на дорогу.
Всё, что видит орлиное око
Позади, впереди и далеко,
Облака и сиянье лазури,
И утёсы, и вихри, и бури —
Всё послужит, во славу Аллаха,
Начинанью джигита без страха.
И не место бесплодным тревогам,
Если смерть суждена тебе Богом.
Азраил над тобою несётся,
Пусть душа, как орёл, встрепенётся;
Улыбайся, глаза закрывая,
Иль не слышишь — далёкого рая
Уж звучат, не смолкая, напевы;
Ждут тебя благодатные девы!»
Духовенство, вернувшись в мечеть, опять вышло оттуда с зелёным знаменем в руках. Оно теперь обходило все улицы аула и перед теми саклями, откуда должны были уехать джигиты в набег, пело молитвы о их благополучном возвращении. Джансеид и Селим отправились к себе. Сегодня надо было сделать ещё многое. Дома у них женщины давно собрали высушенную в зерне коноплю, разминали её между гладкими каменьями, месили с мёдом и приготовляли сухари. Над очагом сушились куски баранины. Всю эту провизию воин должен был взять с собою, потому что вплоть до Шахдага не достанешь ничего. Эта часть Дагестана так бедна, что и в окрестных аулах дай Бог самим как-нибудь прокормиться. Тут каждую пядь земли, годную для посева, надо отвоевать у камня. В горах не только у Койсабулинцев, но и везде, даже под сравнительно богатыми Салтами, можно видеть, как лезгины с торбою, привязанною к поясу, с двулапым крючком, насаженным на длинную палку, ищут трещины, чтобы вонзить туда железные когти. И найдя, они подымаются на полшеста, вбивают гвоздь между камнями над бездной, становятся на него и забрасывают дальше когти, пока не доцарапаются до нескольких шагов земли на уступе, где можно посеять горсточку пшеницы. Джансеид и Селим давно осмотрели своё оружие. Оно у них было в порядке. Коней сегодня кормили на славу ячменём, слегка облитым бузою. Ночью и завтра им предстояла трудная работа.
Когда мулла с шейхом запели перед саклею молитву, Джансеид вынес им мерку пшена, горсть проса, немного сукна, которое в горах ткут женщины.
— Счастливого возвращения! Большой добычи, — кричали ему муталлимы.
Пришлось дать и им.
— Сотню пленников и бочку золотых монет, — сулил ему будун.
С будуна было довольно полуабаза.
За саклей Джансеида был небольшой дворик, обнесённый каменной стеной… Когда духовные ушли, Джансеид раскинул свою черкеску на земляном полу, высматривая, что ему с нею надо сделать.
Сердце защемило, точно смерть уже коснулась его холодными пальцами. Чистя дуло ружья, он напевал про себя в сакле чеченскую песню, которую любили и аварские лезгины.
«Высохнет земля на могиле моей,
И забудет меня родная мать,
Порастёт кладбище жёсткою травою,
Заглушит трава твоё горе, мой старый отец,
Но не забудет меня мой старший брат,
Пока не отомстит за мою смерть.
Но не забудешь и ты меня, мой второй брат,
Пока не ляжешь рядом со мною.
Горяча ты, пуля, и несёшь да смерть,
Но не ты ли была мне верною рабою?
Чёрная земля, ты покроешь меня,
Но не я ли тебя конём топтал?
Холодна ты, ранняя смерть,
Но ведь сам я был твоим господином».
Недолго пришлось Джансеиду сидеть у себя в сакле.
Перед заходом солнца будун с минарета пропел экимджи-намаз. Не успели заунывные звуки его голоса рассеяться в воздухе, как в сакле поднялась суматоха. Из женского отделения выбежала старуха-мать и кинулась обнимать и целовать сына, едва сохранявшего приличную мужчине сдержанность, у порога появилась маленькая сестрёнка его — Керимат; она держала в поводу уже засёдланного вороного коня, нетерпеливо бившего копытом оземь. Конь был снаряжён к походу. Он грыз удила и, оглядываясь на джигита, точно спрашивал его большим умным взглядом: «Скоро ли ты, наконец?»
Джансеид, освободившись от объятий матери, хоть у самого в глазах стояли слёзы, набросил на себя бурку, приторочил к седлу связку тонких верёвок, закинул за спину ружьё в мохнатом чехле, сунул за пояс пистолеты, у порога нагнулся, взял горсточку земли и, всыпав её в маленький мешочек, повесил его себе на шею. Родная земля должна была сопровождать его повсюду. Если бы его убили, — товарищи, зарыв его труп, посыпали бы его этой землёй. Ему бы легко было в могиле, и это бы значило, что он похоронен дома. Сестра держала ему стремя, тараща на брата громадные глаза, сверкавшие жадным любопытством. Джансеид перед самым отъездом всё-таки не выдержал, бросился к матери ещё раз, порывисто обнял её, припал головою к её плечу и через несколько мгновений, наклонясь к луке, стремглав нёсся вверх к мечети по ступеням улицы. Из-под копыт его коня летели искры. Молодые лезгины уже начинали собираться. Он был один из первых. Посреди гудекана, недвижно сидел в седле, окружённый муталлимами мулла с зелёным знаменем. Он должен был проводить партию до Салтинской границы. По обычаю предков, надо было выступать вечером в семь часов, чтобы первую ночь провести на самом рубеже. Чохи и черкески блистали сегодня позументами. Салтинцы в этом отношении не походили на других горцев, они любили щеголять, и остальные лезгины называли их «женихами». Юноши и возмужалые бойцы молодцевато гарцевали по площади, зная, что с кровель на них смотрят и ими любуются девушки. Джансеид подъехал к Селтанет, Селим — к Аслан-Коз, обе были рядом. Невесты осыпали их лепестками роз, что предвещало счастье.
— Смотрите, не сделайтесь русскими, — смеялась Селтанет.
— Глядя на вечернюю звезду, думай обо мне, — тихо проговорила грустная Аслан-Коз.
— И на вечернюю, — и на утреннюю!
— Желаю крепости твоей руке, силы удару, верности глазу, — продолжала первая. — Пусть конь твой вихрем ворвётся к врагам, пусть твоя шашка молнией разит их.
— Благодарю, соловей.
— Да хранит тебя Аллах для меня и для нашего счастья! — ещё тише уронила Аслан-Коз и быстро закрыла лицо, чтобы никто не заметил, как предательские слёзы заструились по нем.
Была пора.
Вокруг муллы уже собрались вместе с кабардинским князем все, кто участвовал в войне с русскими. Когда, взмахнув зелёным знаменем, мулла двинулся впереди в узкую улицу аула, воинов со всех кровель осыпали цветами, а старики резали у дверей саклей баранов и брызгали свежею кровью на родных и знакомых, восклицая:
— Так да прольётся кровь неверных из-под ваших шашек.
— Да даст Аллах благополучие вам, — отвечали те.
Отовсюду слышались выстрелы, вопли матерей, рыдания невест, уже не сдерживавших горя. И когда стена Салты осталась позади, мулла запел, и все подхватили хором боевую песню, истинный гимн газавата, под который впоследствии с улыбкой умирали тысячи таких же джигитов.
«Слуги вечного Аллаха!
К вам молитву мы возносим:
В деле ратном счастья просим.
Пусть душа не знает страха,
Руки — слабости позорной,
Чтоб обвалом беспощадным
Мы к врагам слетели жадным
С высоты своей нагорной.
Помогите, помогите!
О, святые, к вам взываем,
Магомета умолите, —
Без него мы погибаем.
Нет у нас иной защиты,
Нет заступника иного,
Без него мы все разбиты,
С ним сразим врага любого!
Дверь победы растворяя
Для рабов своих покорных,
О, пророк, аулов горных,
Не забудь в утехах рая,
Наша кровь рекой польётся,
Но за муки и страданья
Тем сторицею воздаётся,
Кто томится в ожидании!»
В ущелье
Солнце давно зашло. В ущелье было темно. Под кустами, осыпанными ароматным весенним цветом, уже проснулись светляки. Далеко-далеко выли шакалы… У самого пути в густых зарослях подымалось загадочное шуршание, и слышалось недовольное хрипение кабанов, потревоженных в их вечернем покое. Мулла давно вернулся с будуном и муталлимами, и боевая партия джигитов молча уже свершала путь… Слышался по дороге только стук копыт о кремнистую почву. И ни слова, ни шутки не звучало среди молодых лезгин. Газават — святое дело, — и кроме религиозных гимнов, обрёкшим себя этому подвигу неприличны ни разговоры, ни смех. Оружие было пригнано так, что, ступай кони по мягкой земле, враг в пяти шагах не различил бы приближения горцев. Ружья лежали в бурочных чехлах, кинжалы не стучали о пистолеты, пистолеты не сталкивались с шашками, шашки висели — не встречаясь с стременами, обувь у всех была мягкая, кованных каблуков ни у кого, так что и стремена не звучали под ногами всадников. Смерть таилась в зловещей тишине. «Подступай к врагу, как лисица, и нападай на него, как раненый кабан», — говорит горская пословица. Так они и делали. Шамилю не пришлось ничего нового выдумать в тактике горной войны. Он только собрал в одно стройное целое все боевые привычки лезгин, чеченцев и кабардинских племён, создав, таким образом, несравненный военный кодекс кавказских гверильясов, восемьдесят лет в своих горных узлах смеявшихся над испытанными русскими войсками. «Умри, когда враг тебя ждёт, и воскресни, когда он устанет и успокоится», — говорили лезгины. Чеченцы прибавляли к этому: «Обмани, и только если нельзя этого, — бей врага лоб, в лоб!» Кабардинцы ещё метче выражали свою тактику: «Огорчи последнее мгновение умирающего неприятеля сознанием того, что он, как ребёнок, был обманут тобою».
Избранный вождём кабардинский князь, нахмурясь, ехал впереди, и за ним Джансеид вёз значок партии: треугольный зелёный лоскут на древке, оканчивавшемся посеребрённою рукою. Долго джигиты молча подвигались вперёд. То и дело, через ущелье из поперечных таких же с грохотом и рёвом проносились бесчисленные Койсу — весенние реки. Они казались облаками белой пены, бесившейся в камнях, перегородивших их неудержимое стремление вниз, в долину. В этой пене пропадали джигиты, но привычные горские кони ни разу не споткнулись на мокрых каменьях, шум потока не мог оглушить их, неукротимая быстрота его движения не кружила им головы. Насквозь вымокшие, но не потерявшиеся всадники и лошади, одолевшие поток, взбирались на отвесы, бодро вскачь выносились на их гребни, чтобы тотчас же спуститься в неистовую кипень такого же Койсу и пропасть в нём на несколько мгновений. Молодой месяц в эту ночь светил уже больше чем вчера, и туману, укутывавшему горы, придавал голубые оттенки. Вдали, в глубине боковых ущелий, часто мигали огоньки. Всякий раз, проезжая мима них, кабардинский князь начинал гимн газавата, подхватывавшийся всеми его всадниками.
«Слуги вечного Аллаха!
К вам молитву мы возносим,
В деле ратном счастья просим,
Пусть душа не знает страха,
Руки — слабости позорной,
Чтоб обвалом беспощадным
Мы к врагам слетели жадным
С высоты своей нагорной».
Когда огоньки приближались, в саклях горных аулов лезгины, узнавшие боевую песню товарищей, выходили на стену и издали кричали:
— Да благословит Аллах ваше дело!
— Да даст Магомет вам победу!
— Пусть погибнут русские от вашего приближения, как хлебные черви от ранней зимы.
Таким образом джигиты подъезжали к снеговым шапкам трёхглавого Чарах-Дага, сиявшим теперь под луною, точно окованные матовым серебром венцы сказочного великана; около курились туманы, но месяц и их заколдовал совсем, и они казались венчальною фатою, раскинутою Чарах-Дагом над невестой, покоившейся в его глубокой долине. Где-то послышалось словно рыдание в воздухе, и тень от больших крыльев проплыла над всадниками. Тут ущелье расширялось, местная Койсу разлилась пятью рукавами и сверху вся была видна, как серебряный узор по чёрному шёлку. Рёв воды доносился к всадникам, и, доехав сюда, кабардинский князь круто остановил коня.
За пятью рукавами Чарах-Дагского Койсу, точно из чьей-то горсти, были рассыпаны огни большого аула. Ещё несколько огней тускло мигало с отвесов горы. Когда партия джигитов остановилась, передовые заметили, что через рукава реки тоже перебираются всадники навстречу. Река тут по широкой и ровной долине неслась ровно и тихо. Кругом стояло мёртвое безмолвие горской ночи, так что, когда сверху из-под копыт коня летел кремень вниз в долину, он своим лёгким шумом наполнял тишину засыпающей природы.
— Это они? — спросил кабардинский князь у Джансеида.
— Да, — тихо ответил тот.
Здесь с ним совершилось что-то странное.
Молодой лезгин был встревожен. Он опасливо оглядывался по сторонам, точно ожидая врага невзначай или удара издали. Значок он передал Селиму, а сам старался оставаться незамеченным.
— Ты думаешь, — он с ними?
— Да, думаю! Не посмеет. Здесь ведь все наши, а ихних мало.
— Между вами давно кровь?
— Три поколения.
— Чья последняя?
— Ихняя. Мой отец вот в том ущелье убил Мамад-Оглы.
— Давно это случилось?
— Семь лет назад.
Кабардинский князь задумался.
— Джансеид! Ты знаешь хорошо Хаджи Ибраима?
— Да, ещё бы! Едва ноги унёс от него в прошлом году. На охоте невзначай встретил его, их было четверо! — точно в извинение себе прибавил он.
— Он первый джигит на Чарах-Даге. Он уже дал себя знать русским. Не будь он мне враг, лучшего старшего брата я бы и не желал. Хорошо бы его к нашей партии присоединить!
— Тогда я должен буду уехать, вернуться!
— Ты мне кунак и друг. Мы придумаем другое. Сегодня ночью, когда все заснут, — пусть Селим с нами поедет.
— Что ты хочешь делать?
Кабардинец нахмурился.
— У вас, у лезгин — старые обычаи, но глупые. Разве можно спрашивать у вождя, что он задумал? Моё дело — приказывать, ваше — повиноваться. Отруби у змеи голову, — хвост тоже пропадёт. В своё время сам скажу!
Партия Чарах-Дагского аула уж переплыла Койсу. Теперь можно было сверху сосчитать двадцать семь человек быстро подвигавшихся вперёд. Сначала тихо-тихо, — а потом всё громче, по мере того, как расстояние между ними и ожидавшими на высоте салтинцами укорачивалось, раздавался оттуда гимн газавата. Скоро до кабардинского князя донеслись уже торжественные слова этой песни:
«Помогите, помогите,
О, святые, к вам взываем!
Магомета вы молите, —
Без него мы погибаем,
Нет у нас иной защиты,
Нет заступника иного,
Без него мы все разбиты,
С ним сразим врага любого».
Приближавшиеся давали таким образом знать ожидавшим, что они тоже обрекли себя газавату. Раз услышав напев военного гимна, большая партия должна была принять меньшую, как братьев и соаульников. Отныне чарахдагцы вступали в число салтинцев на равных с ними правах, обязывались друг друга защищать и умирать друг за друга. Если бы чарахдагский джигит оставил тело убитого салтинца в руках врагов, — всему чарахдагскому аулу был бы вечный стыд, если бы салтинец не попытался выручать чарахдагца из плена, чарахдагцы несколько поколений корили бы салтинцев их позором и те должны были бы молчать.
Когда, наконец, чарахдагцы были уже близко, их припев подхватили салтинцы:
«Дверь победы растворяя
Для рабов твоих покорных, —
О, пророк! В утехах рая
Не забудь аулов горных.
Наша кровь рекой прольётся,
Но за муки и страданья
Тем сторицею воздаётся,
Кто томится в ожидании!»
звучало уже вместе, как вверху, так и внизу.
Когда гимн газавата замер, — вдали, там, откуда светились огни Чарахдага, — послышалась трескотня выстрелов и мечеть вся осветилась вплоть до верхушки минарета. Таким образом, оттуда давали знать, что соаульники празднуют встречу и братание по оружию двух партий.
Тем не менее, надо было исполнить обряд. Поэтому кабардинский князь выхватил из чехла ружьё и, держа его на прицеле, помчался вперёд. На встречу, тоже держа дуло наготове, стрелою вынесся стройный молодой чарахдагец. Оба встретились шагах в пяти один от другого и разом остановили коней, так что у тех только судорогой повело нервную кожу.
— Кто ты? — спросил его князь.
— Скажи сначала своё имя: нас мало, вас много.
— Я — князь Хатхуа, — слуга пророка, посвятивший душу свою богу, жизнь — газавату.
— Я Сулейман из рода Асталор. Моя душа тоже в руках Аллаха, а рука да послужит святому делу.
После этого, оба забросили ружья за спину, но ещё не сближались.
— Чего вы ищите, храбрые люди, на этой дороге?
— Добрых товарищей для своего боевого дела! — ответил Сулейман.
— С кем собираетесь драться?
— Один у нас враг кровный — урус.
— Да будет благословен ваш приход!
— Да даст нам Аллах победу!
Всадники съехались, стали рядом — чарахдагец лицом к салтинцам, князь — лицом к чарахдагцам.
— Ля-илляги-иль-Алла! — ритмически-согласно крикнули они и крепко обнялись, не слезая с седла.
Вслед за этим Сулейман Асталор поехал к салтинцам и, круто обернув коня, занял место князя; князь также двинулся к чарахдагцам и стал во главе их. Тотчас же обе партии выхватили ружья и послали выстрелы в тёмное, усеянное звёздами небо. Троекратно пропев «селям», и «алляги-аллага», — обе партии стали съезжаться. Съехались, смешались. Князь удержал коня рядом с Сулейманом и спросил его по обычаю:
— Не хочешь ли быть нашим вождём?
— Имя Хатхуа слишком славно в горах, чтобы я, ничтожный червь, осмелился показаться в битве впереди его. Клянусь Аллахом и святым его пророком быть с этой минуты верным слугою твоим. Клянусь за тебя и за своих чарахдагцев. Да будет вечный стыд не исполнившему эту клятву. Да пошлёт Магомет коршунов рвать их тело, да сбросит Аллах его чёрную душу в ад. Да покраснеет его мать при одном имени сына-изменника, и закроет лицо его брат. Князь, отныне мы — твои рабы.
— Слушай, Сулейман, и все вы храбрые чарахдагцы! У нас нет рабов. Здесь только вождь и его воины. Клянусь — быть тебе старшим братом и другом, да паду я от руки женщины, да побелеют мои кости на выгоне у русских, да проклянёт Аллах мою память, если окажу вам несправедливость, клянусь умереть за вас.
Теперь Сулейман отступил и замешался в толпу.
Кабардинский князь вынесся вперёд и крикнул:
— Селим! Ставь значок здесь.
Значок был живо вбит в землю. Хатхуа снял ружьё и положил около. Сошёл с коня и расседлал его. Окончив это, он обратился к партии:
— Братья! Да пошлёт вам Аллах спокойный сон, да укрепит этот сон ваши руки и души…
Ночлег был таким образом объявлен и указан.
Как раз в это время из Чарахдагского минарета последними слабыми своими отзвучиями донёсся призыв к ночному намазу. Голос тамошнего муллы замер, когда все джигиты вынули коврики и встали на молитву.
Яссы-намаз, как и сабах-намаз — самые святые, и кто их исполнит, тому нечего бояться шайтана и сорока семи болезней — его сестёр.
Яссы-намаз — последний ночной намаз, сабах — утренний. Днём можно пропустить все намазы, но этих ни один право верный не забудет. Они для него обязательны, как омовение. Джигиты на своих намазлыках[18] обернулись лицом к Мекке (Кабе) и, делая вид, что они омывают руки, ноги, лицо и голову, тихо шептали молитву. В тишине окружавшей их ночи фыркали кони, силуэты которых смутно выделялись в сумраке, да из ближайшего ущелья доносился свист ветра, проснувшегося к ночи и гнавшего перед собою целую волну чудных благоуханий.
Мусульманину, отправляющемуся в газават или на поклонение гробу Магомета, намазы не обязательны. Он совершает cафар-халаль — богоугодное дело, и всё время, проведённое в нём, считается у него за намаз… Но сегодня ещё лезгины должны были молиться; с завтрашнего дня намазы отменялись.
Дело крови
Князь дождался, когда его джигиты, стреножив своих коней и отпустив их на луга, заснули под бурками с сёдлами под головою.
Тогда он — по горской пословице, «тайное дело требует тишины» — встал, подошёл к Сулейману, Джансеиду и Селиму. Те не спали и, по знаку вождя, собрались вокруг.
— Садитесь на коней… — приказал он им, ничего не объясняя.
Те исполнили его приказание. Лошади были уже далеко, но на треногах, и потому их легко было догнать… Хатхуа тихо поехал вниз к Койсу. Когда белая вода её уже обмыла ноги его коня, — он остановился.
— Сулейман!.. Хаджи Ибраим в ауле?
— Да!..
— Отчего он, испытанный джигит, не с вами?
Сулейман покосился на Джансеида.
— Между ним и вашими есть кровь.
— Знаю. А нам всё-таки нельзя упускать Ибраима. Слава о его подвигах гремит повсюду. Если он присоединится к нам, все горные аулы встанут. Потом Хаджи Ибраим долго жил между русскими. Он знает их обычай и язык. Он один стоит тысячи джигитов.
— Да, князь, ты прав. Дидойцы сейчас же все за ним кинутся, как орлята за орлицей.
— Надо, значит, положить конец старой вражде… Я задумал кое-что. Выходит ли мать Хаджи Ибраима в кунацкую?
— Нет… С тех пор, как отец Джансеида убил её сына, она сидит у себя в сакле и оплакивает его память.
— Сулейман, ради общего горского дела, во имя Аллаха, прошу тебя, поезжай вперёд. Скажи ей, что я явлюсь от имени моей матери и хочу говорить с нею.
— Я понял тебя, Хатхуа.
— Смотри же, чтобы Хаджи Ибраим не догадался. А то всё пропадёт и вместо лишнего джигита мы потеряем своего.
Потом, когда топот Сулейманова коня замер вдалеке, Хатхуа подозвал к себе Джансеида.
— Когда въедем в аул, опусти башлык на лицо так, чтобы тебя не узнали. Если Хаджи Ибраима и не будет в сакле, всё равно, — пока я тебя не вызову, как простой нукер оставайся во дворе у порога и не открывай лица. В Чарахдаге обычаи исполняются свято, и никто не осмелится спрашивать, кто ты. Держись тени, не выходи на огонь. Если Аллах хочет, к утру между тобой и Хаджи Ибраимом не станет дела крови, и вы будете братьями.
Джансеид, в знак покорности, поцеловал стремя князя.
Табор лезгин позади спал глубоким сном. Только двое часовых стояли на высоких камнях, сторожа окрестности. На то, что делал князь, они не смели обращать внимания. По адату они притворялись не замечающими ничего. Кабардинский князь уже оставил за собою реку. Джансеид и Селим тихо ехали за ним. В слабом мерцании молодого месяца показалось белое марево обнесённого стенами аула. Точно почуяв приближение чужих, — горские собаки залаяли издали… Тёмный силуэт мечети и тонкий, как свеча, минарет над нею… Чарахдаг спит. Никого нет за стенами… Скоро топот их копыт послышался на улице аула. Собаки теперь выскакивали на плоские кровли и оттуда яростно лаяли на приезжих. Хатхуа подбадривал коня нагайкой, торопясь поспеть в саклю Хаджи Ибраима… Не успел он ещё подняться к площади джамаата, на которую она выходила, как так же быстро сверху понёсся на него всадник, в котором он узнал Сулеймана.
— Ну, что? Благословение или проклятие несёшь ты нам с собой?
— Хаджи Ибраим в поле с лошадьми… В сакле только младший брат и женщины.
— Слава Аллаху!.. Говорил ты с матерью его?
— Да, князь. Она чтит твою мать и примет тебя сама… Теперь она просит всех в кунацкую.
— Помни же, Джансеид, что я говорил тебе.
Молодой человек низко опустил на лоб край башлыка и поотстал, давая дорогу Селиму и Сулейману впереди. Сам он, как слуга, ехал за ними… Вдали на площади джамаата вдруг вспыхнул огонь.
— Что это? — остановился князь.
Действительно, под красным блеском факела виден был всадник, державший его и спускавшийся вниз.
Кабардинец быстро обернулся.
— Джансеид, отстань подальше… Ты приедешь, когда я уже буду в кунацкой.
А сам ещё раз сильно ударил коня нагайкой и вынесся вперёд.
— С добром ли приезд твой?.. — по адату спросил его младший брат Хаджи.
— С миром и благословением.
— Да услышит тебя Аллах! — и у порога сакли мальчик быстро соскочил с седла, чтобы поддержать стремя Хатхуа.
Князь в сопровождении Селима и Сулеймана вошёл в кунацкую.
Их под руки, как следовало, повели и посадили на тахту, в подушки. Приличие требовало, чтобы они и не подымались с них всё время, пока будут оставаться здесь. Из женской половины слышалась суматоха. Кто-то раздувал огонь, жалобно блеял барашек, которого тащили под нож, чтобы угостить свежим шашлыком дорогого и почётного гостя… Чей-то крикливый голос требовал проса и рису и наказывал принести «бузы» — этого отвара из солоду — для Хатхуа и сопровождавших его.
— Это твоя мать? — спросил князь.
— Да, — тихо проговорил мальчик, стоя у порога.
— Подойди и сядь.
— Не смею… Я ещё мал…
— Я тебе говорю — садись.
— Мне от брата достанется… Позволь мне остаться здесь у порога.
— Благополучно ли всё у вас?.. Как ваши стада и табуны?
— Благодарение Аллаху!
— Нет ли волков около? Хорошо ли вашим отарам?
— Волков мы бьём, у нас есть собаки — любого волка изорвут!
— Каков был урожай?
Истощив перечень городских вопросов, князь погрузился в безмолвие… потом, точно что-то вспомнив, он поспешно обернулся к мальчику.
— Когда твой брат хотел быть сюда?
— Мы уже послали за ним… Месяц не зайдёт за минарет, как он здесь будет.
— Напрасно тревожили его…
— Нельзя, — он хозяин, — ему неприлично пропустить таких гостей.
Нарочно проснувшиеся по столь торжественному случаю, как приезд кабардинского князя к Хаджи Ибраиму, чарахдагцы один за другим входили в кунацкую и садились на корточки у порога, во все глаза глядя на знаменитого джигита, но не смея предлагать ему вопросов. В тишине, царившей здесь, вдруг послышался стук копыт. Хатхуа сообразил, что это Джансеид и, когда мальчик хотел выскочить, резко приказал ему:
— Останься… Это мой раб… Он подождёт во дворе и там проспит. Когда мы кончим есть, вы ему дадите что-нибудь, хинкалу что ли… С него и это хорошо. Кто опаздывает, тот всегда теряет.
Сидевшие сообразили, что князь недоволен почему-то рабом и хочет наказать его, а потому и не трогались с места.
Джансеид завёл коня в угол, куда не падал свет месяца, и сел на камень, ожидая сигнала из сакли.
Не прошло и несколько минут, как из женской половины через двор прошло несколько женщин; с бьющимся сердцем Джансеид различил позади медленно и важно шедшую, опираясь на посох, мать Хаджи Ибраима. Впереди была его жена с шампурами[19], с которых дымился шашлык. За нею служанки несли подносы с просом и рисом, чашки с хинкалом и соусами, сильно приправленными чесноком. Позади какая-то рабыня тащила целую гору чуреков.
Женщины взошли в саклю. Старуха остановилась у порога и, заметив что-то в темноте двора, крикнула туда:
— Кто там стоит? Чего ты не идёшь в кунацкую? Не покрывай стыдом кровлю нашего дома! Скажут, что мы оставили гостя на улице и не накормили его.
Но к счастью Джансеида, из сакли вышел младший сын и прошептал матери:
— Оставь его женщина. Это раб князя Хатхуа, и тот не доволен им, потому и приказал ему остаться на дворе.
Старуха покачала головой.
— Молод ещё князь. Не знает старого аварского адата: вина слуги прощается, если господин вступает под кров гостеприимного друга. Ну, да я ему скажу сейчас. Не бойся! — крикнула она в темноту. — Тебя накормят так, как будто бы ты сам был князем.
Удивлённая молчанием Джансеида, старуха получила о нём совсем нелестное мнение. «Верно, стоит немилости своего господина!» — подумала она и вошла в кунацкую как раз в тот момент, когда, расставив перед гостями блюда с едой, её сноха и служанки столпились перед дверями, чтобы выйти в них.
Старуха медленно переступила через порог.
Князь встал и низко поклонился, не сходя с тахты.
— Да благословит Аллах путь твой!
Тот поклонился ещё ниже.
— Слышали, что вы подняли газават. Да поможет вам Магомет и все силы сил! Да сокрушит он врага и да даст вам победу, чтобы нашим певцам было о чём запеть новые былины. Давно их не складывали они, я уже думала, что вместо кинжалов, наши молодцы веретена возьмут… Слава Аллаху! — не перевелись ещё богатыри в горах.
Князь стоял, не говоря ни слова.
— Ты хотел мне передать что-то от матери. Я её помню, она из знатного аварского рода. Что ж ты молчишь, сын мой?
— Мать! Я имею к тебе тайное дело. Подойди ближе, мне нельзя кричать на всю саклю.
Старуха удивилась и подошла.
— Ещё ближе.
Селим и Сулейман, незаметно для неё, стали между нею и присутствовавшими.
— Ну, вот я… Чего тебе надо?
И не успели ещё вскочить чарахдагды, как князь, с криком: «Джансеид!» схватил старуху за плечи и сжал её стальными руками так, что она не могла шевельнуться… Как вихрь, со двора, с кинжалом в руке ворвался в саклю молодой человек, Селим и Сулейман расступились, пропустив его, и опять заслонили от чарахдагцев.
— Джансеид, враг… кровный враг!.. — крикнула старуха.
И не успела ещё она опамятоваться, как тот тихо проговорил:
— Мать, прости нас!
Он отвёл её руки, взрезал кинжалом её платье и припал губами к её шее.
Как только случилось это, Селим и Сулейман вложили шашки в ножны и отступили. Князь спокойно сел на тахту. Теперь личность Джансеида была священна в этой сакле.
Исполнив обряд, молодой человек, опустив глаза вниз, скромно отступил в угол.
Старуха, шатаясь, упала на тахту и закрыла глаза. Она тихо плакала, вспоминая убитого сына. Всё её тело вздрагивало. Присутствовавшие, по обычаю, молчали. Благоговейная тишина, такая тишина, что дыхание людей здесь было слышно, всех точно давила. Князь давал выплакаться старухе. Он понимал, что та переживает в эти минуты страшное горе. Смерть её сына останется не отмщённой.
— Аллах, Аллах! где твоя правда?
Опять смолкла старуха. В это время счёл возможным вступиться один из почётнейших чарахдагцев.
— Зейнал, канлы тянется у вас уже три поколения. Немало доброй крови пролилось из-за него.
— Джансеид, — заметил другой, — хороший, славный джигит. Тебе он будет верным, преданным сыном.
— Ты потеряла одного и нашла другого. Ещё неизвестно, какой из них лучше.
— Прости его, Зейнал. Ты знаешь, — раз он коснулся устами твоей шеи, — он такой же сын тебе, как и убитый Алий.
Старуха продолжала плакать.
Уважая её горе, гости опять замолкли. В эту минуту за дверями послышался топот коня. Кто-то подъехал к сакле, соскочил с седла. Мальчик выбежал и подхватил повод, и ещё мгновение, и Хаджи Ибраим вошёл в саклю.
— Прости, князь, что я не держал твоё стремя. Если бы я знал, что ты окажешь моему дому такое благодеяние своим приездом, то…
Но тут он вдруг увидел Джансеида и широко раскрыл глаза. Ещё мгновение, и Хаджи Ибраим забыл бы, что тот его гость, что тот у него в кунацкой. Дикий, полный ненависти крик, и, с кинжалом в руке, лезгин кинулся к врагу.
Тут случилось нечто, от чего кинжал выпал у него из рук, и сам он попятился, точно увидев между собою — мстителем и врагом, своею добычею — призрак.
Старуха Зейнал разом выросла между ними. Седые космы её волос растрепались, изорванное на груди платье висело лохмотьями, она вся дрожала от неулёгшегося ещё волнения.
— Поздно, сын мой, поздно…
И она на низко склонившуюся голову салтинца положила руку.
— Ибраим, вот брат твой Джансеид.
И на его вопросительный взгляд, она указала себе на своё изрезанное платье.
— Поздно… Обними своего брата, и да благословит Аллах наше примирение. Да упокоит он души убиенных: Аслана, Керима, Меджида, Кебира, Мурада, Исмаила, — перечисляла она, не делая разницы между жертвами, павшими в обоих враждебных семействах.
Потом она положила другую руку на голову Хаджи Ибраима.
— Опять у меня три сына! И да стыдно будет тому, кто вспомнит о вражде между нами. Объявляю конец канлы, длившейся восемьдесят лет! Пусть мулла прочтёт разрешительную молитву, а я… пойду плакать. Мы, старики, не сразу забываем прошлое, да простит мне Аллах мою тоску. Она не продлится дольше этой ночи. Когда встанет солнце, я одинаково весело улыбнусь и тебе, Ибраим, и тебе, Джансеид, дети мои.
Толпа с уважением расступилась перед нею.
Зейнал вели под руки Ибраим, с одной, и Джансеид с другой стороны. Вернулись они вместе, но ещё стояли молча.
Пришёл мулла, прочёл молитву, и новые братья обнялись. Отныне у них всё было общее.
— Чей род был прав, — важно начал князь, — предоставим решить Аллаху. Вы же оба теперь будете лучшими джигитами газавата. Кто уцелеет, того сторона и права. Таков суд Господа, а если оба будете живы, значит, предки Ибраима и Джансеида одинаково снискали милость пред лицом Его.
— Да будет так, — разом ответили окружающие.
— Теперь, Ибраим и Джансеид, удалитесь из сакли, — мы со стариками решим, сколько должен Джансеид уплатить твоей семье за кровь.
Но тут неожиданно выступил Ибраим.
— Наша кровь не имеет цены. Мы у его рода пролили её столько же, сколько и тот у нашего. От своего имени и от имени моей матери, и от своих предков, и от потомков, если Господь продлит род мой на земле, — отныне и навсегда отказываюсь от цены крови.
Гул одобрения пронёсся в тишине кунацкой.
Долго ещё потом певцы аулов Салты и Чарахдага славили Хаджи Ибраима.
Месть
Весело на другой день выступили лезгины в поход.
С такими джигитами, как Хаджи Ибраим и Хатхуа, нечего было бояться неудачи. Отдохнувшие за ночь лошади бодро ступали по крутизнам гор, перегородивших дорогу к русским. В угрюмой красоте и диком величии первозданные великаны сдвигались отовсюду, точно грозя раздавить смелых всадников, пробивавших путь по их трещинам. Свежестью, свободой, привольем веяло отовсюду. Часто слышался резкий и хищный крик, и большие, чёрные птицы, рассекая воздух, точно камни шлёпались в зелёные чащи айвовых деревьев. Скоро уже показались громадные дубы и величавые буки. Тёмные полосы орешника глушили их, благоухающие кисти цветов свешивались с мощных ветвей дикого каштанника, но над этим зелёным царством весеннего шелеста и птичьего гомона по-прежнему, плавая в лазури, сияли голые вершины скалистых гор. Со дна долин, когда над ними по узким карнизам поднимались лезгины, — курился туман. Клубы его медленно ползли вверх, цепляясь по скалам и кручам. Издали туман этот принимал вид каких-то сказочных чудищ. Порою туман останавливался серою пеленою в полугоре, а над ним, точно мираж вставали полуразрушенные башни старых за́мков, круглые башни, облитые солнечным светом. Ещё красивее были они под луною. Бойница в бойницу сквозили. Из синей тьмы сияние месяца выхватывало и зубцы развалившейся стены, и словно изъеденные массы старинного храма с провалившимся куполом… Верхушки таких развалин все на свету, — их основание прячется во тьме. К вечеру второго дня тропинка, обогнув свободную от тумана вершину горы, убежала опять в туман… А там дальше — лишь бездны и кручи! Перед нашими всадниками на свету обрисовалась вся чёрная арка полуразрушившихся ворот… За ними весь в алом блеске горел закат, и руины ещё угрюмее на его огнистом фоне подымали тёмный силуэт. Когда кони въехали во двор, в камнях, заваливавших его, послышалось зловещее шуршание и шорох. Но отступать было некогда… Дальше ночью нельзя ехать, — карнизы над безднами узки, — едва можно поставить ногу — и затянуты туманом. Надо было во что бы то ни стало остановиться здесь. Когда бивуак расположился, внутренность развалин была вся уже ярко освещена далеко ещё не полною луною. Позади — стены уходили во мрак, и только бойницы сквозили, точно в этой тьме были свои просветы, узкие, как лезвие ножа.
Так хорошо, так хорошо, что сердце быстро, быстро бьётся в груди у Джансеида, и дух у него захватывает.
А ночь-то, какая ночь!
«Думает ли обо мне Селтанет?» — вспомнил Джансеид и приподнялся на локте.
Около послышался вздох.
— Ты не спишь, Селим? — спросил шёпотом молодой человек.
— Нет… О своём ауле думаю… Теперь Аслан-Коз убрала баранов в закуту… намолола ячменя к завтраму и погасила огонь в очаге.
И оба опять замолчали. Вид развалины, дышащее небо, словно мигающие звёзды, стреноженные кони, их фырканье и удары копыт о камень, долго ещё мерещились Джансеиду, пока он не утонул в счастливом, беззаботном сне, увидев в последнюю минуту облитую лунным сиянием круглую башню старого за́мка. Селим заснул не так скоро. Он сам стал про себя тихо, тихо напевать горскую песенку:
«Ветерок сорвал у розы
Лёгкий лепесток…
Закружил его в ущелье
И понёс в поток.
Воды бешено клубятся
По пути у скал,
И обрывок бедной розы,
Закружась, пропал.
Далеко, внизу, на камень
Выброшен волной,
Умер он, благоухая,
Ночью под луной».
Но тут Селим вдруг вздрогнул… Прямо перед ним в ярком, облитом луною пространстве показалась чья-то чёрная голова… Суеверный, как все горцы, он помянул Аллаха и прочёл молитву от оборотня. Голова пропала. Ему пришло в голову, что это так почудилось, может быть… Но вот опять она… большая, странная… крадётся… растёт… Селим сжал руку Джансеиду… Тот разом поднялся, но в тот именно момент, когда голова припала к камням…
— Тише! — остановил его Селим, — ляг! Посмотри в ворота.
Джансеид взглянул и заметил как раз поднявшуюся над камнями папаху.
— Ты видишь? — шептал ему Селим. — Это из дидойцев, должно быть.
— Нет, у дидойцев на папахах шерсть чёрная и подлиннее.
— Неужели казикумух?
— Или он, или из елисуйцев… Погоди, что он делать будет, — а сам тихо, тихо вытащил из-за пояса пистолет, взвёл курок, попробовал, на месте ли огниво, лёжа присыпал пороху… и замер…
Голова в папахе приближалась… вот и всё тело видно…
— Елисуец и есть! Чёрная душа!.. Что он задумал ещё?
— Сейчас увидим.
В это время лунный луч упал прямо на подползавшего, и Селим почувствовал, как у него сильно до боли забилось сердце.
В зубах у предполагаемого елисуйца был кинжал… Приподнявшись на ладонях рук, он оглядел всё становье джигитов, зорко высмотрел, и Джансеид на его лице заметил улыбку торжества и злобной радости. Елисуец теперь нашёл то, что ему было надо, и пополз прямо к тому месту, где спал кабардинский князь, закрывшись буркой и подложив седло под голову. Но, очевидно, хищник рассчитывал без Джансеида. Молодой лезгин привык подползать к джейранам и горным козлам так, что они его не замечали. Он обернулся живо лицом к земле и, казалось, не двигая ни руками, ни ногами, змеёй потянулся за елисуйцем. Если бы последний взглянул назад, он бы заметил, что голова Джансеида находится у его пояса… но он так был поглощён делом, что даже камень, выскользнувший из-под рук молодого салтинца, не испугал его. Лунный свет, очевидно, беспокоил спавшего князя, и он натянул на лицо себе башлык, так что тот покрывал его до усов. Елисуец был уже около… Неслышно опираясь на левый локоть, он взял кинжал изо рта, быстро занёс его над грудью Хатхуа, но в то же мгновение почувствовал свою руку точно в железных тисках.
— Неверно задумал! — заметил Джансеид, — ты, друг, у меня не спросился.
Елисуец обернул к нему бледное от ужаса лицо, но Джансеид в это время схватил его за горло и так сжал, что тот только забился и захрипел в его руках. Сон горцев очень чуток. В одну минуту князь был уже на ногах и другие тоже.
— Что случилось? Джансеид, что здесь такое?
— А то, господин, что эта змея хотела тебя ужалить… Хорошо, что Селим заметил его издали и меня разбудил. Я вовремя придавил ей жало…
И он ещё сильнее сжал тому горло… Елисуец побагровел, ещё секунда и он задохнулся бы.
— Постой, Джансеид. Благодарю тебя… Отпусти его, всё равно он не убежит отсюда.
Джансеид разнял руку и поднялся, не теряя из виду ни одного движения пленника.
Князь наклонился и пристально всмотрелся ему в лицо.
— Не в добрый час ты встретил меня, Курбан-Ага, — строго проговорил он. — Не в добрый час! Аллах ещё не хочет моей смерти. Разве ты забыл, что по адату. — канлы приостанавливается во время гаэавата? У нас с тобой старые счёты, Курбан-Ага… Если бы я со скалы не бросился в Самур и не переплыл его, быть бы мне теперь в Метехском замке[20]. Ты ведь Асланбека тоже выдал. Ну, что же, значит, так было в книге написано, чтобы сегодня ты попался мне.
Курбан-Ага стоял, уже глядя в землю. При последних словах князя, он быстрее молнии выхватил из-за его пояса пистолет, но сейчас же был сражён страшным ударом в голову. Джансеид и тут подкараулил его. Хатхуа засмеялся.
— Не везёт тебе, Курбан-Ага. Не везёт… Ты всё забываешь, что около — мои кунаки. Ещё раз ты спас мне жизнь, Джансеид. Сочтёмся, за мною не пропадёт… я добро помню и зла не забываю, — сверкнул он на елисуйца. — Ночь ещё длинна… спать надо. Судить его мы будем завтра.
— Курбан-Ага, ты всегда был храбрым человеком, — тихо обратился к нему Хатхуа, — с тобою, — улыбнулся он, — приятно иметь дело, потому что ты не боишься смерти. Поклянись на Коране, что до утра ты не будешь искать моей гибели, что ты не сделаешь попытки бежать, и я не прикажу тебя связывать, как барана под ножом.
Елисуец молчал.
— Помни, Ага, твой род благороден, верёвка обесчестит тебя.
Кровь кинулась в лицо пленнику.
— Хатхуа! Завтра рассудит нас Бог, а сегодня я дам тебе клятву.
Коран оказался у Хаджи Ибраима. Он подал его кабардинскому князю. Курбан-Ага положил правую руку на священную книгу и, подымая глаза к небу, торжественно проговорил:
— «Да поразит меня Аллах проказой, да низвергнет он мою душу в ад, да проклянёт он потомков моих до седьмого колена, ежели я до завтра, пока взойдёт солнце, буду искать твоей смерти или думать о побеге!» — Довольно с тебя, Хатхуа?
— Да, ты свободен до завтра, Ага. Можешь остаться здесь между нами и спать в нашем лагере, как товарищ или уходи отсюда, но когда взойдёт солнце, ты должен быть здесь.
Курбан-Ага выбрал себе место около и спокойно лёг.
Суд людской
Скоро все крепко спали уже, только елисуец смотрел широко открытыми очами в бездонную пропасть неба, полного теперь ярко сверкающих звёзд. Молодой месяц давно скрылся за горы. В тёмной синеве раскидывался млечный путь. «Мостовою звёзд» зовут его лезгины. Вон красным блеском горит та, где в ожидании велений Аллаха пребывает Азраил, бесстрастный вестник смерти. Елисуец вздрогнул, глядя на неё. Не слетит ли оттуда завтра грозный ангел, чтоб поразить его… Разумеется, Хатхуа не даст ему пощады. С тех пор, как Курбан-Ага отдался русским, — между ними кровь… Елисуец давно понимал невозможность бороться с железным кольцом неприятеля, всё теснее и теснее стягивавшим его горы. Его султанство никогда открыто не враждовало с гяурами. Напротив, оно было на их стороне, но Курбан-Ага хотел, чтобы мир царил повсюду в горах. И недаром он ещё ребёнком был послан в Тифлис, как аманат — заложник. Его там приняли, как родного, отдали в семью генерала, который воспитывал мальчика. К сожалению, это продолжалось недолго! Аманатов через три года вернули в горы, и Курбан-Ага опять попал в свою дичь и глушь, но уже ознакомленный с условиями иной, более заманчивой жизни… Так он и рос дома, душой и телом принадлежа партии, требовавшей примирения с русскими. Он даже ездил в горы, проповедуя всюду покорность войскам, стоявшим у Дербента, Кубы и на Самуре. Но он не имел успеха. Зато, во время этой поездки, в Кабарде он встретил девушку, которую полюбил. Думать, чтобы кабардинка, да ещё княжна, вышла замуж за простого елисуйского агу — дворянина, было бы безумием. Оставалось одно — похитить её. Курбан с товарищами ночью подкрались к её сакле, зажгли её и в то время, как народ кинулся тушить огонь, в суматохе и шуме ага со своими выкрал княжну, связал её, сунул ей в рот платок с влажной землёй, чтобы девушка не кричала, и, перекинув её через седло, кинулся вон из аула. Его никто не видел. Девушку долго считали сгоревшей, пока не узнали, что она в елисуйском султанстве заперта в сакле у Курбан-Аги и стала уже его женою… Будь это с простым кабардинцем, — дело бы кончилось ничем. Курбан уплатил бы отцу калым — столько-то быков, коз, лошадей, устроили бы пирушку, и всё оказалось бы в порядке. Но княжна принадлежала к владетельному роду. Тут только одна кровь могла стереть оскорбление. И вот, между двумя фамилиями началась истребительная война. Отец Курбан-Аги и брат его были убиты в одном из елисуйских ущелий… Дядя кабардинской княжны зарезан у себя в сакле братом Курбана. Сверх того, молодой и предприимчивый Курбан-Ага несколько раз отбивал стада у родных княжны и раз даже увёл целый табун чудных кабардинских коней и продал его русским в Дербент. Потом он и сам переселился в Дербент и стал участвовать, как русский милиционер, во всех набегах и горных экспедициях наших в Дагестан. Кабардинцы, бывшие уже в союзе с Чечнёй и лезгинами, добились, чтобы Курбан-Агу всюду объявили изменником. Теперь всякий, встретивший его, должен был убить елисуйца.
Вражда между Курбан-Агою и Хатхуа будет вполне понятна, если мы прибавим уже от себя, что украденная кабардинская княжна приходилась молодому предводителю партии родною сестрою.
Ночь стыла. Ярче и ярче разгорались звёзды. Снизу доносился вой чекалок. Изредка похрапывали лошади да слышался отрывистый бред спавшего лезгина. Елисуйцу и в голову не приходило изменить клятве. К смерти, ожидавшей его завтра, он относился спокойно: «Кысмет!»[21] В книге Аллаха написано, что ему, Курбан-Аге, завтра умереть, и никто, значит, спасти его не может. Надо только встретить свою участь как подобает мужчине и джигиту, чтобы салтинцы не смели говорить, что в груди у елисуйца бьётся бабье сердце… А отчего же и не умереть? Он знает, что смерть его не останется не отомщённой. Дети его подрастут, в свою очередь изловят где-нибудь Хатхуа или его детей, и кровь омоется кровью, так что душа его в горней обители возвеселится… Адат будет исполнен, и певцы в горах из рода в род, из поколения в поколение прославят его память. Старший сын Курбана — Амед и теперь уж хоть куда. Едва ли найдётся в горах юноша, равный силой и храбростью этому львёнку. Жаль одно, ему не удастся предупредить друзей русских. Пожалуй, набег Хатхуа разрастётся, как лавина. Изо всех окрестных аулов к нему присоединятся всадники и воины, и на затерянные в горах крепостцы набросится уже громадная партия лезгин. А он должен был бы дать знать своим… Ну, значит, и на это не судьба!.. Ничего не поделаешь с нею.
От его смерти семья не потеряет нисколько. У него отличная сакля в Елисуе. Русские его награждали щедро за службу.
Он недавно купил и в Дербенте дом. На днях покрыл плоскую кровлю его киром и велел разрисовать пёстрыми птицами потолки, а по стенам пустить красно-жёлтые узоры и зелёные листья. После его смерти вдова переселится туда. Ей будет спокойно… Значит, так угодно Богу. Она знает, что у него в углу двора, у конюшен, зарыт старый котёл с золотыми монетами. Будет на что воспитать младших детей и сделать их настоящими джигитами, а старший сын его и теперь уж славится по всему ханству. О нём и заботиться нечего.
Скорее бы только кончалась эта ночь.
На востоке стало светлей. Тёмная синева неба там побледнела. Снизу потянуло ветром… Близок предрассветный час… Скоро день, а он ещё сном не подкрепил своих сил. Как бы завтра не показаться малодушным пред судом его врагов. Нет, они не должны видеть бледности на его лице, заметить дрожь в его руках. Надо заснуть.
Курбан-Ага спокойно завернулся в бурку, и через несколько минут ровное дыхание его слилось с дыханием врагов. Теперь здесь всё спало.
Когда кабардинский князь проснулся, за одной из гор уже раскидывалось розовое сияние. Он дотронулся до Джансеида, Селима и Хаджи Ибраима. Последний, как побывавший в Мекке, хотел было заунывно и печально запеть призыв к намазу, но Хатхуа остановил его.
— Пусть Курбан-Ага не говорит, что мы ему не дали выспаться перед смертью.
Скоро весь лагерь был на ногах. Лезгины расстилали намазлыки, становились на них, совершая омовение.
А Курбан-Ага спокойно спал.
Даже угрюмый Ибраим и тот одобрительно улыбнулся.
— Смелая душа у этого елисуйца! Посмотри, он спит, как дома у себя в постели.
Хатхуа сверкнул глазами и не мог уже сдержать себя, толкнул ногою Курбан-Агу.
— Вставай, Ага! Пора нам обоим предстать пред судом.
Тот разом вскочил на ноги, раскинул бурку, встал на неё и совершил намаз.
— Я готов, Хатхуа!
Лезгины выбрали тех, кто уже участвовал в боях с русскими.
«Почётные люди» должны были судить Курбан-Агу.
Хаджи Ибраим сел на большой камень, остальные разместились кругом.
Когда всё было готово, Ибраим громко прочёл молитву.
— Курбан-Ага, князь Хатхуа, — помните: между нами теперь невидимо присутствует ангел Аллаха. Всякую ложь, которая выйдет из ваших уст, — он запишет и передаст ему! Говорите правду, хотя бы вам грозила смерть. Помните, смерть не бесчестна, а ложь покрывает весь род стыдом. Лгать можно только русским.
— Мне нет надобности говорить неправду, — встал князь. — Хатхуа не боится суда выборных.
Он подошёл к Курбан-Аге и положил руку на плечо ему.
— Я требую головы этого человека.
— Что он сделал тебе?
— Мне? До этого никому нет дела! За обиду я сам мщу, и не судьям выдавать мне врага! Между нами канлы!.. Но, видит Аллах, — во время газавата я бы забыл свои счёты. На это и потом будет много времени.
— Ты хорошо говоришь, князь! — послышалось в собрании.
— Я требую головы этого человека, потому что он изменил нам, потому что он служит русским, потому что, если бы ему удалось вчера убить меня, он бы поехал к ним и предупредил их об опасности. Спросите его самого об этом.
— Правду ли говорит князь, Курбан-Ага?
— Правду.
Ропот послышался кругом.
— Да неужели в тебе собачья душа, что ты спас бы врага от газавата?
— Да! Потому что я клялся ему, я служу ему…
— Смерть, смерть! — вырвалось неудержимым криком из стоявших кругом рядов молодых лезгин.
— Молчать! — грозно обернулся к ним Хаджи Ибраим. — Здесь мы судим, а вы только слушайте и учитесь горскому адату и боевой правде… Курбан-Ага — повтори ещё раз: совершив свою месть, ты бы поехал…
— Да! — прервал его елисуец, — я бы сейчас же — у меня скакун лучше вашего — я бы сейчас, не теряя ни одной минуты, кинулся за Шах-Даг, на Самур к ширванцам и тенгинцам, — там стоят именно эти полки, и дал бы знать русским, что вы идёте на них…
— Смерть, смерть! — раздалось уже в рядах судей.
— Смерть ему суждена давно… Ещё на джамаатах, три года назад, он объявлен изменником… Дело не в том… Но смерть мы должны ему выбрать, только выслушав его. Говори, Курбан-Ага, сколько тебе заплатили русские за чёрную измену?.. За сколько золотых ты продал родину и веру?
— Такой монеты ещё нет, чтобы купить меня! — гордо поднял на него горящий негодованием взгляд Курбан-Ага… — Русские мне, как всем служащим у них, платят жалованье, и, благодарение Аллаху, у меня отложено довольно, чтобы твоя сестра, — оглянулся он на князя, — после меня не знала нужды… Но за золото я не продаю души. У меня в роду таких не было… Вы хотите знать, чем меня купили русские?.. Я скажу вам… Потому что вы, глупые горные волки, не имеете понятия о том, что было вчера и что будет завтра, потому что вы, как листья под ветром, уноситесь туда, куда вас влечёт другая сила. Вы легковерны, как дети, и поддаётесь злому уговору, как женщины… Вы сами не знаете, какой судьбе обрекаете родину. Слушайте меня… Мне было десять лет, когда меня привезли в Тифлис аманатом[22]… Ещё недавно этот город курился пожарищем. Персы не оставили в нём камня на камне… Всюду стояли кровавые лужи, и под развалинами домов гнили десятки тысяч мертвецов. По улицам бродили шакалы и волки: они одни жирели от лёгкой добычи. Шах оставил им довольно трупов. Кругом была пустыня: деревни сожжены, жатвы вытоптаны, виноградники и сады вырублены… И вот пришли русские, и точно чудом каким-то, среди запустения и развалин поднялась новая жизнь — выросли улицы, заблистали дворцы, зазеленели сады, раскинулись виноградники, и нивы стали радовать сердце народа, не знавшего до тех пор, что такое безопасность. Отовсюду из горных пустырей, из лесных дебрей возвращались, как рассеянные стада, бежавшие; скоро, ещё недавно покрытые кровью, Грузия и Кахетия закипели мёдом и молоком… Когда мы ехали в заложники, наши матери оплакивали нас. Они думали, что нас зарежут на главной площади перед идолами!.. Прости им, Аллах, их невежество!.. В лучшем случае, родные предполагали, что нас заставят молиться их Богу и перейти в их веру… Что же мы увидели?.. На Майдане вся изукрашенная стоит наша мечеть, другая на Авлабаре… третья — посреди русского города… Муллы почтены, как и русские священники… Ни в семье, где я жил, ни в школе, где я учился, никто не корил меня моей верой, никто не говорил о том, что русская лучше. Я ни разу не слышал предложения изменить Аллаху и его пророку, да будет имя его священно во веки веков! Я видел, что русские содержат школы для мусульман, и имамы в них невозбранно учат детей нашему закону. Я видел, что в войсках у русских служит много магометан, и никто не делает разницы между ними и христианами. Я видел татар между генералами, мусульман-начальников, строго командовавших офицерами христианами, и тогда впервые я понял, что такое русская власть, и научился уважать её… «Но это большой город, там, может быть, они делают это для показа». Признаюсь, эта мысль и мне приходила в голову. Тем не менее, уезжая домой, я плакал… Семья, приютившая меня, как родного, — тоже… Когда я вернулся в горы, — мне показалось, что я попал в ад. Но я был добрым елисуйцем… Обращаюсь к тебе, мой кровный враг, князь Хатхуа: кто меня может упрекнуть в трусости?
— Никто! — громко произнёс кабардинец.
— В жестокости?..
— Никто!..
— В подлости?..
— На твоей памяти нет этого… Свидетельствую…
— Отказал ли я кому-нибудь в гостеприимстве?..
— Никому…
— Не делился ли я с нищими, не одевал ли нагих, не кормил ли голодных?..
— Да, да, да!
— Изменял ли я слову своему?..
— Нет…
— Совершал ли я верно все обряды моей веры? Не выстроил ли я в Елисуе мечеть? Не дал ли золота на школу муршиду Али-Ходже?
И когда князь подтвердил всё это, Курбан-Ага поднял голову к уже сиявшему утренним блеском небу и торжественно проговорил:
— Аллах, о, Аллах! Ты слышал свидетельство врагов моих. Вспомни его, когда через час душа моя предстанет пред твоим вечным престолом. — Итак, судьи, я вернулся в горы и был добрым мусульманином и добрым елисуйцем. И вот, когда я ещё раз и уже навсегда уверился, кто такие русские, они заняли Кубу, все линии Самура, вокруг Шах-Дага их казаки поили своих коней в горных реках и потоках. На стене Искендера великого в Дербенте давно уже развевалось их знамя. И всюду, всюду, куда они приходили и где оставались, — развивались ремёсла, цвела промышленность, начиналась торговля. Всюду вырастали сады, украшались аулы… Сознание безопасности заставляло людей думать о завтрашнем дне, и горцы богатели. Наши мечети загорели позолотой, купола их, как твоя чалма, ходжа, покрылись зелёной эмалью. С конца в конец задвигались караваны. Чем были мы — елисуйцы? Последними из последних! Теперь мы, — гордо возвысил он голос, — первые из первых в горах. Труд и богатство широкою рекою льются за их полками. Они ничего не отнимают, — они платят за всё… Их суды справедливы, как враги, — они великодушны… Посмотрите на жалких персов, на этих презренных собак, которых у нас резали, как баранов. Они выстроили громадный базар. Кто был в Баку, Ленкорани, пусть спросит их, где лучше: под отеческой сенью шаха — кровожадного тирана, — срубившего столько голов, сколько не было часов во всей его жизни, или под строгим управлением русских? И они покажут вам свои дома, полные, как золотая чаша, из которой сладкий напиток уже льётся через край… У себя в Иране они живут, зарывая деньги, как нищие, в смрадных лохмотьях, в проказе, в грязи, в руинах… Им страшно показать богатство, потому что шах отнимет его; — здесь они, как цветы — красуются яркими одеждами, как пёстрые птицы блистают светлыми крыльями и перьями… Так всюду, куда приходят русские… Храбрые и великодушные враги, справедливые судьи, мудрые правители… Служу им, как людям, которые — дадут нам покой, счастье, богатство…
— За наше рабство? — спросил его Ибраим.
— У них нет его для нас.
— Мы предпочитаем остаться свободными горными орлами; лучше тощать на наших скалах, чем жиреть в их хлевах и закутах. Нам нужна наша воля, как коршуну нужен простор, как ветру — ущелья, через которые он дует. Вы слышали, что говорит Курбан-Ага в своё оправдание?.. Изменник ли он?
Из судей встал седой старый лезгин… Его приняли в джигиты, потому что, по обету, он должен был умереть в бою с неверными.
— Курбан-Ага! Во имя Аллаха, скажи нам, клялся ли ты на Коране служить им… гяурам?
— Да, клялся…
Старик сел и задумался… Остальные молчали тоже. Седой лезгин заговорил опять.
— Он изменник, потому что служит русским… Но если бы он не служил им, он был бы тоже изменником, ибо он клялся на Коране и призывал священное имя пророка… Как выйти из этого?..
— Позволено ли будет мне, младшему между вами, подать своё мнение? — тихо спросил, наклоня голову, кабардинский князь.
— Говори, сын мой.
Хатхуа положил руку на плечо Курбан-Аге.
— Во имя Аллаха и пророка его Магомета требую для моего и нашего общего врага Божьего суда!..
Одобрительный ропот пронёсся по собранию…
Лица судей просветлели…
— Божий суд… Божий суд…
Оглядев всех и убедясь, что таково общее мнение, Хатхуа вынул кинжал и бросил его на землю, снял пистолеты и с ними сделал тоже и подошёл опять к Курбан-Аге.
— Курбан-Ага, вызываю тебя на Божий суд… Да даст Аллах победу тому, кто прав, и да уничтожит виновного… Прости мне смерть твою, как я вперёд от всего сердца прощаю тебе свою.
Курбан-Ага подал ему руку.
Они быстро обнялись.
— Да будет, да будет, да будет! — крикнули хором присутствовавшие.
Теперь Курбан-Агу и князя Хатхуа развели в разные стороны…
Божий суд
Утро сияло в горах Дагестана. Только что вставшее солнце разогнало туман… Лошади давно били копытами в землю от нетерпения. Какая-то чёрная птица взмыла из развалин и разом утонула в ярком блеске… Снеговые глыбы на высотах пылали.
— Божий суд!.. Божий суд!.. — слышалось в толпе лезгин…
Когда они выехали, Курбан-Ага отыскал внизу своего коня и гордо следовал в их толпе. Лучшего он не мог ждать. Он мог умереть, убивая не как преступник, а как честный враг. Тропинка вела отсюда через арку старого моста, дерзко переброшенного без устоев над пропастью… Мост был так узок, что если бы кто ехал навстречу, то или он, или следовавший из крепости должен был бы сбросить своего коня вниз в бездну, где чуть-чуть слышалось в страшной низине ворчание едва заметного потока… По окраинам моста видны были следы парапета, но он давно обвалился и только в одном месте часть его осталась одиноким зубцом. Несколько столетий стоит эта замечательная арка, а всё-таки каждому представляется, что она вот-вот сейчас именно под ним должна рухнуть в ту глубину, где вода разбивается о скалы, торчащие остриями вверх. Огромные леса по скатам бездны чудятся отсюда мелкой травой… Лезгинам впрочем такие пути были привычны. Они смело кидались вскачь по ним даже и тогда, когда их крутом окутывают тучи, хотя поверхность арки давно сгладилась, и на ней легко было поскользнуться. Так и теперь, Джансеид и Селим с бешеным криком молнией промчались по арке, хлеща лошадей нагайками и весело перекрикиваясь друг с другом… Остальная молодёжь сделала то же. Хаджи Ибраим и пожилые люди с улыбкой смотрели им во след, но сами ехали важно, истово, медленно…
— Хорошее место для суда Божьего! — заметил кабардинский князь…
— Нет… дальше лучше есть! — ответил ему старый лезгин. Тропинка за мостом пропадала в диком лозняке, в зарослях жасмина, цветы которого осыпали всадников белыми лепестками… Должно быть, недалеко было жильё, потому что справа слышались полные сладкой грусти звуки чианури, трепетные, рассеянные, словно кто-то вздыхал, а не струны пели под медлительными пальцами игравшего.
Лезгинам, впрочем, некогда было останавливаться. Их манила к себе долина. И какая долина! Становилось жарче и душнее, чем более люди опускались вниз… Мрачные силуэты голых гор точно сторожили этот райский уголок. Внизу, в долине, лезгины поели и напились холодной, как лёд, воды из горного потока… Курбан-Ага до конца Божьего суда считался гостем, по обычаю. Ему подавали лучшие куски и обращались с ним приветливо. Даже во взглядах, которыми он менялся с князем Хатхуа, не было ненависти. Ей нет места, где решение принадлежит Аллаху… В долине к партии присоединилось ещё несколько лезгинских удальцов из аула, спрятавшегося в чаще… Навстречу им также пели:
«Слуги вечного Аллаха, —
К вам молитву мы возносим»…
Предположение Курбан-Аги, что отряд, по мере движения вперёд, будет расти, как лавина, оказалось справедливым. Ещё недалеко было от Салтов, а он удвоился. Теперь уже князь, в качестве вождя, выбирал. Так, из вновь приехавших двоих, показавшихся ему слишком старыми, он отослал назад, поблагодарив их. Хаджи Ибраим, знаток Корана, в утешение объявил, что, так как они вернулись не по своей воле, то их намерение пред очами Аллаха является тем же, что и действительное участие в газавате. Старики даже обрадовались столь дёшево доставшемуся им райскому блаженству, и, не успел отряд подняться на высоту, как они опять нагнали его, держа перекинутыми через сёдла баранов в подарок. За противоположным гребнем было место, годное для суда Божьего, и Хаджи Ибраим объявил об этом князю и Курбан-Аге.
Пока посланные осматривали место, оба противника сидели на гребне горы, закутавшись в свои бурки и погрузясь, по правилу, в размышления о девяносто девяти качествах Аллаха. Теперь ничто земное не должно было их тревожить. Кабардинский князь даже глаза зажмурил, чтобы дневной свет и панорама плававших в бесконечности воздушных вершин Дагестана не отвлекали его мыслей от предписанного законом благоговейного созерцания. Курбан-Ага, уже несколько скептически настроенный, благодаря частому общению с русскими, весь ушёл в воспоминания о родимом уголке. Перед ним теперь рисовался, словно въявь, залитый солнечным светом дворик, по камням которого вздрагивают и передвигаются лёгкие тени от выросшей в углу его чинары. Ветерок колеблет её листья, и они же колышутся внизу. На плоской кровле поднялись лилии, и нежный аромат их стоит над этим гнездом, где теперь сосредоточилось всё, что любил собиравшийся умереть елисуец. Действительно, вон, из полумрака каморки, выходящей во дворик единственным своим отверстием — дверью, выбежал кудрявый большеглазый мальчик, уже, как следует мужчине, не отрывающий руки от кинжала; другой, поменьше, за ним. Смех их и хохот раздаются по всему дому, и сверху с галереи заботливо оглядывается на них занятая тканьём лезгинского сукна жена Курбан-Аги. Курбан-Ага вспомнил, с какою радостью он всегда переступал порог дома, плотно запирая за собою калитку в слепой стене, окружавшей его. Тут были вечный мир и спокойствие. Даст Аллах, и после будет продолжаться также. Гюльма сумеет вырастить детей и без него, сделать из них молодцов. Да и русские кунаки в Дербенте не оставят их так. Генерал обещал их даже определить в корпус, и оттуда они выйдут офицерами, будут носить золотые эполеты, солдаты станут отдавать им честь. А сам Курбан-Ага сверху, из рая, будет любоваться ими и благословлять их. Когда жена узнает о его смерти?.. Он, впрочем, попросит об этом у врага… Враг не смеет отказать в последней просьбе умирающему… Впрочем, тогда будет некогда. Лучше теперь. И вот, когда кабардинский князь шептал про себя фетху, ему вдруг послышалось:
— Князь!
Он открыл глаза и с изумлением заметил Курбан-Агу.
— Что тебе? Неприлично мне перед Божьим судом разговаривать с тобою.
— Когда ты узнаешь, в чём дело, поймёшь, что иначе нельзя было. Если Аллах пошлёт мне смерть, — да будет благословенна воля Его! — прошу тебя дать знать моей вдове, а твоей сестре — в Елисуй об этом…
— Хорошо.
— Именем Аллаха, клянись мне в этом…
Князь дал клятву, и успокоенный Курбан-Ага отошёл и сел опять.
Не надолго, впрочем.
Ездившие осмотреть место Ибраим с Джансеидом вернулись… Они молча сели у костра, где жарилась баранина. До окончания трапезы нельзя было разговаривать о деле. К обоим участникам суда Божьего подошли лезгины и подвели их к костру.
— Старайтесь укрепить пищей ваше тело! — пригласил их Хаджи Ибраим.
Ели в молчании. Теперь уже не следовало говорить никому, кроме Хаджи.
Когда мясо было съедено, и молитва мысленно прочтена, Ибраим взял кинжалы Курбан-Аги и князя, сравнил их, потом исследовал, насколько исправны их винтовки и шашки. Кончив с этим, он сломал ветвь ближайшего дерева и протянул её Курбан-Аге. Тот захватил её в руку, над его рукою взялся Хатхуа, Курбан перенёс свою выше… Последнею у излома оказалась рука елисуйца.
— Тебе ехать первому… Тут начинается выступ над бездной. Он углом заворачивает за утёс. Ты заедешь туда и вернёшься. Навстречу тебе поедет князь, — вы встретитесь, и Бог решит, кто из вас прав и кто виноват…
Лезгины остались все на месте. Присутствовать при Божьем суде посторонним нельзя.
Курбан-Ага поехал.
Тропинка круто спускалась вниз до тех пор, пока гора не обрывалась отвесом в бездну. Несмотря на яркий день, в ней ничего не было видно… Только мгла курилась далеко-далеко внизу. Мрачной тесниной вставала противоположная возвышенность, тоже обрушившаяся прямым гранитным обрезом… Над отвесом вдоль по горе шёл незаметно на первых порах рубчик… На нём только один конь мог поставить ногу, да и то сжимаясь и суживая поступь… Вверх шёл такой же отвес… Карниз выступал, когда выступала гора, и змеился, огибая громадной башней выдвинувшийся утёс. Отвесы были так громадны, бездна так чудовищна, что сверху Курбан-Ага казался мошкою, ползавшею по этому рубчику. Только эта мошка занимала всю ширину рубчика. Часто даже казалось, что она висит над пропастью, там, где карниз совсем суживался и почти сливался с утёсом… Горские кони осторожно спускались вниз. Курбан-Ага старался не смотреть в бездну. Она даже его, привычного горца, страшно тянула к себе. Точно раскрытая пасть чудовища, она подстерегала его, и, как из пасти горячее дыхание, оттуда клубился туман, но пропадал далеко ещё от карниза… На отвесах — ни трещины, ни расщелины. Точно сама природа отполировала эту теснину. Падавшему вниз не за что было зацепиться, он прямо должен был исчезнуть в пасти провала. Курбан-Ага вспомнил предание, именно об этом месте. Ни одному лезгину, падавшему туда, не случалось выйти оттуда живым, а спуститься по охоте нельзя было, и горцы передавали из рода в род, что эта щель есть ничто иное, как двери шайтана, сквозь которые из ада по ночам вылетает он сеять зло и несчастье в мире. Дна бездны тоже никто не видел сверху. Там даже воды не было, потому что ни один поток не струился туда. Тучи ещё недавно оставили эти голые горы, и их влажный след стоял ещё на карнизе. Лошадь часто скользила по ней. Случалось, что рубчик терял горизонтальность и краешком наклонялся к бездне, точно желая сбросить туда едущего. Тут всадники невольно шептали про себя молитву и, уже жмурясь, двигались дальше, полагаясь на цепких, как кошки, горских коней. Неопытные хватались за отвес направо, упирались в него ладонями и таким образом нарушали равновесие; с таким страшным трудом и искусством соблюдаемое лошадью. Она срывалась вниз и увлекала за собою всадника. И от обоих их следа не оставалось на всём большом Божьем свете; туман всё так же зловеще и загадочно курился внизу, и бездна не выдавала никому тайны. Курбан-Ага уже более получаса ехал здесь, не оглядываясь, следует ли за ним противник или нет. Он знал, что всё равна он сам должен вернуться и открыть нападение. Место было выбрано хорошо, и Хаджи Ибраим выразил в этом всю свою боевую мудрость. Здесь одного искусства человеческого мало было, — нужно непосредственное вмешательство воли Божьей. Рубчик огибал выступы — каменные рёбра горы. И Курбан-Ага то показывался на них, то опять пропадал в их складках. Наконец, издали перед Курбан-Агой выступил страшный роковой утёс, проехав который он должен обернуться для встречи с князем. Рубчик карниза почти пропадал, сливаясь с каменным телом скалы, или это так казалось от её громадности. Скала эта не только обрушивалась, как отвесы до сих пор, она висела в воздухе, потому что на горе держалась выпуклиной, горбиной. Под нею был тот же воздух, что и по сторонам.
— Ла-Илляги-иль-Аллах! — запел про себя Курбан-Ага.
Тут даже лошадь вдруг приостановилась и упёрлась передними ногами, подавшись всем корпусом назад, точно её пугал этот карниз. Она захрапела и осторожно поставила уши вперёд, но Курбан-Ага сжал ей бока ногами и слегка погладил рукою влажную, золотистую кожу её шеи. Лошадь оглянулась на него умными глазами и, не переводя ушей, медленно двинулась вперёд. Тут ей приходилось недалеко ставить копыто от копыта. потому что рубчик казался едва намеченным. Солнце сюда ужо попадало рассеянными и редкими, даже отражёнными лучами, и поэтому кое-где вверху, в теле утёса трепались извившиеся, искривлённые цепкие сучья «архани», единственного растения, белые корни которого умеют извлекать соки жизни и из камня… Самый выступ утёса был ужасен. Он далеко выдвинулся, точно край блюда над пропастью. Казалось, достаточно копыту ступить сюда, чтобы этот край обломился и полетел вниз — куда, неизвестно. Вдали был один воздух… Обогнув это опаснейшее место, Курбан-Ага заметил, что за ним уже рубчик карниза расширяется и лошадь его пошла живее, похлёстывая себя хвостом по втянутым бокам и кивая головой, точно сама себя одобряя за недавний подвиг этого переезда. Проехав сколько ему было сказано, Курбан-Ага — там, где карниз расширялся в площадку, обернул лошадь назад, сошёл с седла, посмотрел, прочно ли затянута подпруга, крепко ли приторочено седло. Пощупал стремена. Обошёл коня, дунул ему в ноздри и потёр их, потёр и глаза, расчищая зрение и, исполнив всё это, стал на колени, или, лучше, присел, как все мусульмане, и тихо проговорил:
— Господи! Ты знаешь жизнь мою, пошли мне победу… Даю обет выстлать персидскими коврами мечеть, позолотить седалище имама и лампады, выписать новый свиток Корана. Боже вечный, пошли мне победу!..
Окончив с этим, он потёр себе руки, как будто вызывая их силу и гибкость, сел в седло, вынул ружьё из чехла, взял кинжал в руки, потрогал пистолеты, — ловко ли их в случае чего выхватить из-за пояса, и, подняв горизонтально дуло, двинулся вперёд, готовясь всадить пулю при первой встрече врага… Он уже до рокового выступа сделал довольно значительную часть пути, но врага не было. Приостановив коня, прислушался: князь Хатхуа или ещё мало подвинулся вперёд, или нарочно удержался и ждёт его… Нет, Курбан-Ага не будет так прост и наивен, чтобы обогнуть тот выступ под дулом вражьей винтовки. Пусть князь потеряет терпение и сам сунется к нему. Теперь уже всякая хитрость дозволена врагам. Суд Божий! Аллах даёт и лукавство тому, кому он посылает победу. Нет… Чу!.. Что это?.. Стук от копыт. Хатхуа, значит, приближается… Стук всё сильнее и сильнее… Неужели князь поёт?.. Да, именно… Курбан-Ага внутренне даже похвалил врага за отвагу… Петь теперь, в виду смерти!.. Он даже различал напев. Это священный гимн газавата… Отражённый прямыми стенами теснины, он всю её наполняет торжественным строем. Гимн ближе и ближе, стук копыт слышнее и слышнее…
— Нет, он не скажет, что я затаился, как лиса в норе, и выжидал его на себя…
И, повинуясь могучему порыву мужества и твёрдости, Курбан-Ага бросился вперёд…
— Я первый обогну выступ. А там дело Аллаха послать мне смерть или победу.
Он даже ударил коня ногой, и тот весь вздрогнул и усилил шаг.
У Курбан-Аги был достойный противник, по крайней мере и по ту сторону скал топот копыт ускорился. Видимо, и там гнали коня во всю мочь. На одно мгновение Курбан-Ага бросил взгляд в пропасть. Скала тут висела над нею, под скалою над пропастью пролетела какая-то птица, — елисуец видел её, когда она ещё не достигла скалы, и вновь заметил, когда та вынеслась из-под неё. Ещё несколько мгновений, и только… Теперь уже всё равно. Вот и гребень выступа. Держа дуло на прицеле, вровень с головой, Курбан-Ага дико взвизгнул и вынесся на ту сторону. Как его конь не слетел в бездну, он потом не сумел бы объяснить этого. Он помнит только, что шагах в двадцати перед ним, над тою же страшною бездною нёсся на него кабардинский князь. Глаза в глаза. Под его соколиными бровями при виде противника вспыхнули гневные молнии, ноздри тонкого и нервного носа широко раздувались. Он встал в стременах, показывая презрение к врагу. Но елисуец, как лезгин, поступил иначе. Послав пулю, он приник к голове коня. Вся теснина точно ахнула от выстрела. Тысячи раз повторился он другими отвесами. Каждая скала отзывалась на них, и в глубинах бездонной пропасти грозно грохотало и ревело зловещее эхо.
Из-за ушей коня Курбан-Ага заметил, что его выстрел сорвал папаху с кабардинского князя. Пуля того просвистала мимо и расплющилась о камень выступа позади. Быстрее мысли елисуец выхватил пистолет из-за пояса и, когда лошадь врага была уже шагах в двух, — он послал ей пулю в лоб. Благородный кабардинский конь взвился на дыбы и в глазах Курбан-Аги рухнул вместе со всадником, как думал он, в бездну. Не успел ещё торжествующий крик елисуйца прозвучать над нею, как случилось чудо. Курбан-Ага почувствовал, что кто-то упал на него сверху и сильными руками сжал ему шею. Он захрипел, забился и уже замер было.
— Рано ты вздумал праздновать победу! — грозно раздалось над ним.
Голос был Хатхуа.
Дело в том, что тот, предусматривая все случайности боя, — ранее ещё вынул ноги из стремян. Когда раненый конь его взвился на дыбы и приподнял таким образом всадника, кабардинец с несравненной ловкостью вскочил на седло и схватился руками за куст «архани», торчавший над ним из скалы. Лошадь его рухнула вниз, и он сам видел, как она перевернулась в воздухе, но в то же время конь врага, двигавшийся вперёд, был уже под ним, и Хатхуа с высоты прыгнул ему на круп и сжал стальными руками горло Курбан-Аги.
— Рано ты вздумал праздновать победу…
Он несколько разжал руки. Курбан-Ага уже не мог защищаться, — враг был за спиной.
— Аллах справедлив! Не забудь передать сестре о моей судьбе. Не мсти ей и моим детям.
— Послушай, Курбан-Ага!.. Что бы ты сделал, если бы ты был на моём месте?..
— Что?.. Зачем спрашиваешь?.. Разве нет у тебя кинжала, и пропасть не внизу?
— Ты убил бы меня?
— Разумеется…
— Умри же!..
Но в эту минуту сверху что-то чёрным комком упало перед самою мордою лошади. Упала и затрепетала какая-то птица и, размахивая по камням крыльями, билась с выражением неописанного ужаса… Не разгибая рук, Хатхуа всмотрелся. Она широко раскрывала красный клюв, но всё было напрасно: с высоты таким же камнем ринулся на неё и, только в самом низу, чтобы не разбиться, раскинул громадные чёрные крылья — горный орёл. Птица запищала ещё жалостнее, ещё шире раскрыла клюв и выставила вперёд вооружённые когтями лапы. Но орёл уже зацепил её и поднялся, и вдруг выпустил… Из трещины камня взвилась змея и обвила орла. Орёл со страшным врагом ринулся в недосягаемую высоту и пропал в ней.
Суеверный Хатхуа счёл это указанием свыше.
Сокол остался жив, хотя орёл и налетел на него.
— Послушай, Курбан-Ага!..
— Не мучь меня, кончай скорей!..
Хатхуа с силой повернул его лицо к себе. Оно было бледно. Курбан-Ага даже закрыл глаза.
— Довольно! Я видел твой страх… Курбан-Ага… вернись домой и скажи сестре, что ты мне обязан жизнью, что я пощадил тебя, что на суде Божьем я не поразил тебя в самое сердце. Да простит мне Аллах!.. Скажи это сестре и будь счастлив… но, чтобы ты не мог предупредить русских, — иди пешком. Ты, во всяком случае, доберёшься до них после нас… Выкупом за твою жизнь — будет твой конь…
И, подняв его под руки над конём, Хатхуа через голову лошади поставил его перед нею.
— Пролезай под нею… И иди себе… В книге у пророка не было назначено тебе умереть сегодня!
Курбан-Ага покорно исполнил это… Кабардинец ударил коня и, не оглядываясь, поехал вперёд, гордый и мрачный, не думая о том, что оставшийся позади враг мог поразить его.
— Хатхуа! — послышалось за ним.
Тот привстал в стременах и обернулся.
— Хатхуа! Я научу моих мальчиков молиться за тебя.
— Научи их быть добрыми джигитами, чтобы они не позорили рода своей матери.
— Хатхуа! Вражда не вечна… Сестра будет молить тебя о мире.
— Нет, не может быть мира между нами. Аллах видит, — нет зла против тебя в сердце моем. Но она, — урождённая княжна, из рода правителей Кабарды, забыла всё и стала женой простого елисуйца.
И бесконечная гордость прозвучала в голосе кабардинского князя.
— Ведь я взял её силой. Что же она могла делать?..
— Что?.. В роду Хатхуа об этом не спрашивают. Когда, нет силы, — есть смерть. Она могла умереть и осталась жива, чтобы варить бузу и молоть просо простому лезгину… Нет, Курбан-Ага, не может быть мира между нами. Прощай!
И, уже не оглядываясь, князь поехал вперёд по рубчику карниза.
Теснина ещё гремела эхом недавних выстрелов, Где-то далеко-далеко внизу они повторялись глуше и глуше. В тумане, который курился из её разверстой пасти, уже исчезла лошадь с кабардинцем. Курбан-Ага повернулся, вынул ружьё из чехла опять, и, опираясь на его дуло, пошёл по тропинке…
Лезгины были все в сборе и готовы к походу. Увидев князя на лошади Курбан-Аги, они крикнули ему:
— С победой, князь, с победой!
Но он мрачно отмахнулся.
— Елисуец остался жив.
— Как! — воскликнул Ибраим и рванулся было вперёд.
— Постой… Я оставил ему страх.
— Ты пощадил его… Ты, значит, забыл, что такое суд Божий?
— Мне было знамение.
И он рассказал, как змея освободила сокола от горного орла.
Старик лезгин подъехал.
— Ты хорошо сделал, сын мой… У врага обрезаны когти теперь. Он у русских будет после нас; Аллаху угодно, чтобы отвага соединялась с милосердием. Ты поступил хорошо, сын мой… Хорошо! Это был истинный суд Божий, ибо одно из девяносто девяти свойств Господа — милость!..
Радость забытой крепости
Командовал Самурским укреплением майор Брызгалов, из старых кавказских служак. Сорок лет тому назад семнадцатилетним юношей был он отправлен сюда из деревни стариком-отцом и определился юнкером в Тенгинский полк, в котором тот служил когда-то. Степан Фёдорович Брызгалов до офицерских эполет протянул достаточно продолжительную лямку. Под Ленкоранью он получил первый солдатский георгиевский крест, на высотах Хадай-Ли вскочил первым на завалы и украсил грудь вторым и, наконец, только в двадцать четыре года, после молодецкого дела в елисуйском султанстве, где он ухитрился со взводом солдат двое суток отбиваться от наседавшего на него отовсюду неприятеля — был произведён в прапорщики. Причины столь долговременного ожидания были основательны. Брызгалову грамота давалась туго, и экзамен, далеко не строгий (времена были такие), выдержать ему довелось только через пять лет. И то, впрочем, с грехом пополам. Когда полковник предложил ему вопрос о том, как следует отступать при превосходном числе неприятеля, Брызгалов ответил:
— Ни при каком числе российскому воину отступать не приличествует.
— Ну, а если бы вашу роту атаковало скопище тысяч в пять?..
— Отбился бы… И тому примеры у нас имеются.
— Ну, а тысяч десять?..
— Надеялся бы на Бога, г-н полковник.
— Это хорошо… Но представьте себе, что на вас набросилось бы видимо-невидимо.
— Стал бы готовиться к смертному часу… а об отступлении бы и не подумал.
— Я думаю, его больше и экзаменовать нечего? — обратился полковник к окружающим.
— Разумеется, офицер будет бравый. Ну, Брызгалов, поздравляю тебя с эполетами. Посылай за кахетинским да вели жарить шашлык товарищам.
Тем не менее Степан Фёдорович, уже в офицерских чинах, старался образовать себя по благородному. В Тифлисе он выучился танцевать минует и польку, мог пройтись в полонезе, у итальянца Бернардо Бернарда вызубрил пять-шесть французских фраз, перенял «поклоны с комплиментом», как говорили тогда, и даже осмелился на такую благовоспитанность, что стал выпускать воротнички из-под воротника, а под сюртуком носить белый жилет, и как-то на балу у наместника он пленил грузинскую девицу из княжеского рода, с таким громадным носом, каким не могла похвастаться ни одна турецкая фелука. На другой день к Брызгалову явилась старуха-армянка и сообщила ему, что он окончательно победил грузинскую девицу — и если хочет получить в приданое две тысячи баранов в Закаталах, виноградники в Душете и дом в Тифлисе, то может свататься. Брызгалов был весьма польщён и приказал армянке «стараться». Та постаралась так, что через неделю он уже в парадном мундире, взбив кок на лбу и зачесав виски вперёд, держа руку в белой перчатке, по форме, между третьей и четвёртой пуговицей, пил у княжны кофе.
Брызгалов сделал «пропозицию». По этому торжественному случаю из дальних комнат была выведена мать княжны, старая княгиня ужасного вида. К её громадному носу прилепились две коринки, игравшие роль глаз. Кончик носа и подбородок напоминали два соединённых копья, под которыми торчала пара ржавых клыков. Брызгалов доказал истинную неустрашимость русского воина и подошёл к ручке. Сыновья что-то сказали по-своему старухе, и неведомо откуда явился грузинский поп с иконой, и не успел ещё Степан Фёдорович опомниться, как старший брат, Леван, уже подносил ему оправленный в серебро турий рог с кахетинским вином и поздравлял его с обручением. Коринки источали слёзы. Потом явилась зурна, тиблипито и дудуки. Невеста плясала лезгинку, а жених бил в ладоши, потом опять на сцену выступил турий рог. На другое утро за окном опять заиграли дудуки, запела чианури, и забили тиблипито. Оказалось, что братья княжны давали ему нечто вроде серенады.
Получив разрешение от начальства и благословение от отца, восхищённого тем, что сын его женится на княжне, Брызгалов обвенчался, и после свадьбы узнал, что за его женой были только те бараны, которых подавали на ужин, что же касается до виноградников, то о них ведётся процесс, начатый ещё двести лет назад. Дом в Тифлисе был налицо, но он настолько же принадлежал княжне, как и все другие дома. Мать её нанимала квартиру в нём и, когда Брызгалов явился с объяснениями, оказалась не понимающею русского языка и только источала бесчисленные слёзы. Впрочем, Степан Фёдорович недолго обращал внимание на все эти пустяки. «Предположим, что я её взял за красоту!» — решил он раз навсегда и успокоился… Так он это объяснял и другим, и красота г-жи Брызгаловой долго была в Тенгинском полку любимою шуткою. Тем не менее оказалось, что Степан Фёдорович не прогадал. Во-первых, жалованья его, сколь оно мало ни было, с избытком хватало на простую и незатейливую жизнь, какую все вели тогда на Кавказе; во-вторых, раз женившись на грузинской княжне, он вдруг половине Кавказа сделался «свой», и его всюду носили на руках и чествовали, как родного; в-третьих, сама Нина Андрониковна оказалась кладом настоящим. Она принадлежала к тому типу кавказских военных дам того времени, которые ни при каких обстоятельствах не терялись, и не было таких запутанных случайностей, из которых они не могли бы выйти с честью… Она была истинным чудом энергии, изобретательности, терпения. Куда судьба ни закидывала её, на скалы ли Дагестана, в ущелья Аварского Койсу, в дидойские аулы, в степь Акстафинскую, — всё равно. Дети оказывались чисто одетыми и сытыми, мундиры и бельё мужа были в порядке, на столе всегда являлись щи и котлеты, долгов ни копейки, и кто бы из товарищей ни зашёл, — у Нины Андрониковны, словно из какого-то сказочного рога изобилия, появлялись и водка, и вино, и закуска, и чай… Рота, которою уже командовал Брызгалов, считала Нину Андрониковну за мать. Провинился ли солдат, пропадать надо, времена были строгие, — сейчас к ней. Смотришь, за обедом подаст она Степану Фёдоровичу необычайно вкусную долму и вдруг поставит бутылку удивительного кварели. Брызгалов разнежится, она тут ему и расскажет о беде, постигшей солдата, и всё кончалось лёгким тычком да угрозой «сквозь строя» в будущем. Задолжает ли и запутается молодой офицер, к кому же как не к Брызгаловой? Она и выручит и нагоняй даст, и посоветует, что делать. Откуда эта женщина — истощённая, худая, некрасивая, всю жизнь дышавшая на ладан — брала такие силы — кто мог ответить! Такие были тогда, — как были и герои и богатыри мужья… Как-то с мужем случилась беда, — он нечаянно застрелил мирного бека. Дело пахло «солдатчиной». Нина верхом поскакала из Дербента в Тифлис через горы, по аулам, занятым враждебными племенами, и у наместника вымолила-таки приказание «предать дело воле Божьей». У Нины не было ни на одну минуту досуга днём. Вместе с удивительно тупым и неповоротливым, как буйвол, денщиком Тарасом, она вела весь дом. Смеявшиеся сначала над тем, что Степан Фёдорович взял её за красоту, товарищи, как и следовало простым и хорошим людям, скоро рассмотрели в ней такую прелесть душевную, что искренно завидовали Брызгалову; так что, когда, наконец, она не выдержала и, во время одного перехода зимой через дикий чеченский хребет, схватила горячку и умерла, весь полк плакал над её гробом, как дети, а Степан Фёдорович только растерянно смотрел и, смаргивая слезинки, бессильно обращался ко всем с вопросом:
— Что же мы теперь, братцы, без неё-то, без Нины?.. Что же мы?..
С таким же вопросом он отнёсся и к Тарасу.
— Тарас!.. Как же мы нынче-то… А?..
— Богу тоже, ваше благородие, ангелы нужны! — разревелся тот и убежал в овраг, чтобы его никто не заметил в столь неестественном виде.
Такая же бледная, худая и озабоченная Нина лежала в гробу. К ней подходили, прощались с нею, — и каждый читал в чертах её застывшего лица именно заботу. Точно и над могилою, куда её должны были опустить, она думала, как на семнадцать копеек и три четверти приготовить мужу и детям вкусный обед, да из тех же денег и больной дочке сварить суп из курицы… Дочку звали тоже Ниной, — но она не напоминала мать. Она одна оставалась на руках у отца, — сыновей всех покойница определила в корпус, и те воспитывались там молодцами, обещая превосходных офицеров для кавказской армии… Когда Нину Андрониковну схоронили, — полковой командир подал просьбу наместнику, от лица всего полка, для определения её дочери в институт на казённый счёт «за заслуги матери». Это было исполнено, и девочку скоро отправили в Петербург, в Смольный, где она и оставалась девять лет, совсем забыв Кавказ или зная его только по преувеличенным описанием того времени…
Степан Фёдорович в это время мог бы опять и хорошо жениться. Он уже командовал батальоном, был на виду. Но не мог забыть Нину.
За три года до описываемых нами событий Степан Фёдорович получил назначение на Самурскую линию.
Его сделали комендантом одного из укреплений на этой реке, защищавшего наши Каспийские берега и в то же время вдвинувшегося в самое сердце угрюмого лезгинского края…
Крепость, с её круглыми башнями и стенами, стояла между двумя рукавами Самура.
Посреди мрачных великанов Дагестана, подымавшихся вокруг снеговыми вершинами, она казалась такой маленькой и жалкой. Над нею обрывались крутые скалы, с гребней которых за каждым шагом немногих защитников крепости следили зоркие хищники — «немирные». Кругом всё было величаво, но пустынно и грозно… В чащах, выросших за Самуром, гнездились дидойцы и казикумухцы. Нельзя было безнаказанно выйти подальше за стены укрепления, чтобы тотчас же у самой головы гулявшего не просвистала пуля — затаившегося в какой-нибудь впадине абрека… Нарубить дров в окрестных лесах — всякий раз стоило нескольких жизней. Почта в крепость доставлялась раз в месяц и реже, когда были оказии… По ночам за стены укрепления выгонялись сторожевые собаки, оберегавшие доступ к нему и предупреждавшие остервенелым лаем о приближении опасности… На одной из скал поблизости прежде было несколько деревьев. Пока Брызгалов не приказал их вырубить, оттуда лезгины, притаясь за их стволами, случалось, часто били на выбор людей, спокойно переходивших через улицу внутри крепости.
Часто месяца по два гарнизон Самурского укрепления кормился солониною и хлебом, крупою и картофелем. Когда мирные лезгины оставались в аулах и прекращали доставку баранов и живности, — комендант и его офицеры могли только мечтать об этой роскоши. Овощи привозились из Дербента раза два-три в год. Солдаты пробовали разводить за стенами свои огороды, но их ждали лезгинские пули. Вздумали ходить по ночам выкапывать редьку, морковь, брать капусту, — два, три раза это удалось, зато после партия огородников была вырезана… В конце концов, пришлось бросить и огороды…
В таких закоулках, как Самурское укрепление, — женщин не видали. В девять часов вечера, когда выпускали собак, барабанщики били зарю, и крепость засыпала. Только унылые крики часовых, повторяемые эхом бесчисленных ущелий и скал, одни будили молчание долины, по которой Самур медленно катил струи… Собаки не нарушали безмолвия. Они были слишком хорошо выучены. Лай обозначал «берегись, — вижу врага», и на такой внутри крепости отвечала тревога… Собаки шныряли на версту кругом, обшаривали все чащи, рощи, кусты, — и если неприятель бывал в одиночку, то они, не подымая шума, кидались на него и расправлялись сами. Этим верным слугам горских укреплений шёл паёк от казны. Им выписывали провиант, и они вообще были в большой чести у солдат. «Наш брат, воин! — говорили они про этих верных и умных животных, — присяги не давали, а дай Бог каждому так послужить Царю-батюшке». В списках гарнизона значились и собаки поимённо. Любопытно, что при таких условиях и ум у них развивался необыкновенно. Крепостная собака была исполнена собственного достоинства, никогда не вызывала и не терпела побоев. Она не ластилась, не виляла хвостом, не смотрела искательски в глаза, но зато грудью стояла за своих солдат и в бою кидалась на лезгин и, если бывала ранена, — боевые товарищи клали её на шинели и приносили в крепость на руках. Храброго пса помещали в лазарет и ухаживали за ним, как за человеком. «При первом звуке барабана, призывавшего к сбору, собаки собирались перед командой, выходившей из укреплений, рассыпались впереди стрелков и открывали неприятеля, засевшего в лесу…» Собаки так много значили, что впоследствии Шамиль тем, кому удавалось убить такую, назначал особые награды. В плен она не шла. Не было случая, чтобы горцам удавалось приручить её. На цепи она издыхала от голоду и не подпускала к себе никого, даже с пищей.
С бастионов крепости виднелись на высотах, в глубине ущелий большие аулы, — но все они были враждебны нам. Солдаты только любовались ими, не смея и помышлять отправиться к кунаку на побывку, Между чеченцами и черкесами у русских были кунаки; лезгины никогда не входили в дружеские сношения с нами. Раз навсегда между русскими и горцами было здесь объявлено беспощадное канлы… Между собою лезгины, случалось, прекращали его, но с русскими — никогда. Даже те, которые приезжали с торговыми целями в Дербент, принимали приглашение русского коменданта и пили у него чай, — потом должны были каяться в аульных мечетях, и кадии налагали на них штраф в пользу джамаата. Вольные, демократические общества аварцев, враждовавшие между собою, коль скоро дело касалось русских, немедля соединялись в тесные союзы. Между аулами и родами кровомщение прекращалось, когда подымался газават. Лезгина трудно было заметить из укрепления. Коней в горах Дагестана было мало. Черкес не сходил с лошади, — и его было хоть изредка видно; большинство лезгин дрались пешком и пробирались по горным рытвинам так, что их, случалось, узнавали, когда уже на стенах крепости слышался их дикий, воинственный крик, и показывались их лохматые папахи. Каково было положение здешних укреплений, видно из того, что нигде нашим войскам не приходилось так жутко, как в Дагестане. Лучшие бойцы длинной эпопеи кавказской войны вышли отсюда: Кази-Молла-Гамзат-бек, Сурхай, оборонявший Ахульго, Ахверды-Магома, Хаджи-Мурат и сам Шамиль — великий имам — были лезгинами-аварцами. С тех пор, как Пётр I в 1722 году при помощи преданного ему Шамхала Тарковского Адиль Гирея разбил Уцмия Каракайтахского и взял Дербент, — пламя боевого пожара не унималось в Дагестане ни на одно лето. Чеченцы, кабарда, адыге — мирились временами с русскими, вступали с ними в переговоры, а лезгины никогда. Ханства Дербентское, Кубинское, Кюринское, Табассарань были завоёваны, но самый Дагестан стоял под облаками, как неприступная крепость, перерытый безднами, с дорогами в виде ступеней по утёсам, со своими утонувшими в небесах аулами, каждая хижина которых казалась замком. Грозный и непобедимый, он не дрогнул даже и тогда, когда сердар Ермолов завоевал Аварию. На требование покорности — гордые кланы насмешливо ответили ему:
— Приди, если можешь; возьми, если смеешь!
Другие ответили ещё высокомернее:
— Нами может править только тот, кто живёт выше нас, т. е. Аллах.
До 27-го года у нас здесь была только одна крепость — Бурная. С 77-го мы начали возводить здесь другие по Самуру и Сулаку. Но не раз случалось, что лезгины, нечаянно напав на строителей, истребляли их и до последнего человека, так что в Дербенте не знали о судьбе, постигшей несчастных. Даже в аулах, покорённых нами, нельзя было обезоружить жителей, — их надо было истреблять. В нападении на Сулакское укрепление участвовали лезгинки-женщины и дрались с таким неистовством, что у Брызгалова, например, до сих пор через весь лоб шёл громадный шрам от их удара кинжалом. Он даже не заявил о нём и не желал, чтобы его записали вместе с другими ранами в его формуляр.
— Бабий удар! Подумаешь, какая слава будет. Не к решпекту нашему. Нет, уж лучше пусть так…
Степан Фёдорович пытался сходиться с выдающимися богатством или значением горцами.
Помимо «политики», как выражались тогда, его вынуждала к этому и страшная скука крепостной жизни, но это было всё неудачно. Лезгины приезжали, подарки принимали, высматривали слабые стороны укрепления и в следующую же весну являлись предводителями отрядов, нападавших на него… У пленных добивался Брызгалов:
— Зачем же ты надул нас?
Но лезгины только таращились. Какая честность обязательна по отношению к врагу!
— А разве, если бы ты мог, — не обманул бы нас?..
— Русские никогда не обманывают.
— Напрасно… Мыслей человека не узнаешь, а слова всегда лгут…
Одного Ермолова впоследствии боялись они — да и то в пограничных аулах. Там, действительно, притихли и даже стали петь:
«Дети, не играйте шашками, не выхватывайте кинжала, чтобы он не блистал!.. Беда, как орлица распустила над нами чёрные крылья… Сердар Ермол близко… Мы слышим крики его отряда, видим отсвет его костров…
Он всё знает, всё проницает. Чего не рассмотрит, о том догадается. Глаз у него, как у сокола, полёт — быстрее пули…
До него русские, как куры в клетушках, сидели за толстыми стенами крепостей, а по горам и по долинам, по ущельям и стремнинам весело гуляли лезгины. Всё крутом было ихнее… Тяжко было урусу, радостно горцу…
Но, рассекая воздух могучими крыльями, прилетел с севера сердар. И вышли русские из крепостей… Уши лошади для них вместо присошек, седельная лука — вместо стены… Ничего они с ним не боятся… Он кличет, — они идут, куда его подымут крылья, — туда их донесут ноги… Сначала они взяли долины, потом горы… Страшно стало у нас под облаками. Негде жить…
Дети, не играйте шашкой, чтобы она не блеснула под солнцем.
Сердар орлом падает на добычу, он клюёт железным клювом, раздирает её стальными когтями. Он, когда сердит, мечет молнии из глаз, когда спокоен, на лбу его тучи»…
Три уже года прожил так Брызгалов — то предпринимая экспедиции для наказания ближайших аулов, то отбиваясь от бешеных лезгинских скопищ, — и это ещё было сравнительно весёлое время! Гораздо тяжелее в долгие зимы было сидеть в четырёх крепостных стенах, выслушивать рапорты офицеров, по вечерам играть в бостон и ералаш с батюшкой, доктором и двумя ротными командирами. Один из них, по очереди, находился в отпуску в Дербенте, другой был на месте, ожидая его возврата, чтобы поехать самому. Бедному Брызгалову приходилось бессменно оставаться здесь, неся тяжкую службу…
— Зато на нас вся Россия смотрит! — шутил он бывало.
— Смотрит, да не видит!..
— И слава Богу! Экая краса какая, особенно вы, доктор, посмотрите-ка на себя…
— Не во что… у нас в крепости и зеркала нет.
Действительно, зеркала не было.
Но в последние месяцы с каждой оказией Брызгалов что-нибудь да выписывал из Дербента. Прежде всего привезли зеркало и повесили его в одной — самой угловой комнате комендантского управления. К Степану Фёдоровичу стал ходить народ смотреться. Молодые офицеры начали причёсываться. Таких было трое. Один из них даже выписал себе одно ручное зеркальце, увлёкшись примером начальника, и за это получил прозвище «кокетки». Затем — явились ковры… Ситцевые занавесы… Наконец, с последней оказией доставили постель и полог к ней, а кровать была заказана крепостному столяру, да ещё с резьбой… Столяр, впрочем, был немудрящий и соорудил какой-то ковчег, но в крепости и это было диво-дивом… Наконец, Степан Фёдорович объявил своим офицерам.
— Сюда скоро приедет моя дочка. Институт кончает. Ну, так я ей резиденцию приготовляю.
Эта весть живо облетела всю крепость, — и вдруг над нею даже воздух стал всем казаться розовым. Дочка Брызгалова должна была быть непременно красавицей. Молодёжь иначе и не понимала. Потом — воспитанная. Может быть, даже по французскому… Поёт, верно… И теперь целые дни г-да прапорщики и подпоручики ходили, как обалделые, любовались голубыми небесами, декламировали стихи, мечтали о «деве гор», как они уже её прозвали между собою. «Дева гор» ещё не выезжала из Питера, а уж прапорщик Роговой писал ей мадригалы, а подпоручик Незамай-Козёл добыл где-то гитару и по вечерам изводил серьёзных крепостных собак своим сентиментальным воем. Хотел было Брызгалов даже запретить ему это, — собак-де испортит, но оказалось, что кавказскую собаку того времени испортить было нельзя ничем, даже пением Незамай-Козла…
Незамай-Козёл и солдат удивил. До него единственною музыкою в крепости были, как их нежно называл Брызгалов, «сигнальчики». И офицеры, бывало, от нечего делать и от жары, уходили под тень одинокой в крепости чинары и брали с собою горниста. Этот им играл, а они подпевали «сигнальчики». В конце концов, любого из них можно было разбудить хоть ночью и приказать, — и тот не ошибся бы и спел бы — «надлежаще», по выражению Степана Фёдоровича. То и дело слышалось в разных концах крепости из окон: «рассыпьтесь, молодцы, за камни, за кусты, по два в ряд!» Даже по вечерам пробьют зарю, ударят на молитву… Солдаты споют её стройно, так что во всех затянутых уже туманами ущельях, горцы друг другу передают: «Урус свой намаз творит»… На тёмных небесах сольются и пропадут грозные силуэты мрачных великанов… В аулах — под облаками засветятся огоньки, заблещут звёзды, — и опять так же понесутся в тишину дагестанской ночи сигнальчики. Иногда ночью прискачет казак… Как он прорвётся чрез западни, настроенные кругом джигитами, — Бог знает, но вдруг у ворот крепости подымается тревога.
— Кто идёт?.. — спрашивают с её стен и башен часовые.
— Свой! — отвечает заморённый казак. — Доложи — с «лятучкой»… или с «цыдулой» от корпусного.
Крепость просыпается. Зажигаются огоньки, казака впустят, часто раненого по пути и истекающего кровью, и опять, прежде, чем всё заснёт кругом, из разных окон слышится громкое пение: «рассыпьтесь, молодцы, за камни, за кусты, по два в ряд!». Часто пению неожиданно аккомпанировал вдруг выстрел… Спрятавшийся где-нибудь за скалою лезгин бил по огоньку. У самого Брызгалова раз таким образом случайно влетевшею пулей затушило свечу. Разрозненные книжки «Отечественных Записок» были уже давно чуть ли не наизусть выучены крепостью.
Теперь Незамай-Козёл, не надеясь на память, в виду приезда молодой Брызгаловой, пересмотрел опять все книжки и повторил выражения, вроде: «О, если бы вы знали, что говорить моему воспалённому сердцу ваш небесно-безмятежный взгляд», или: «Когда вы уходите, богиня, — солнце закатывается, и мрак моей души освещается только созвездием воспоминаний».
Даже когда слышалась команда:
— Эй, выходи за бурьяном!.. — и взвод строился, Незамай клал в карман книжку, чтобы на свободе заучивать наизусть все «неотразимые», по его мнению, фразы…
Когда не хватало лесу, — из крепости уходили в луга брать сухой бурьян, который в громадном количестве рос на этой выжженной солнцем почве… Горел он хорошо, — солдаты даже хлеб пекли на нём, но сбор его портил людям руки, и они умудрились состряпать себе из разных лохмотьев нечто вроде рукавиц. Это подавало острякам повод выкрикивать:
— Эй, Микитин, перчатки, надень, не равно с лезгинскими барынями встретишься…
В виду приезда «барышни» — даже солдаты подтянулись…
В крепости они со скуки завели козла.
— Ну, Васька, смотри! Молодцом теперь будь. Не бодайся, как дурак. Ты не азиат. Барышня тебя увидит, спросит, кто такой? Сейчас ей — Васька-де, а по прозвищу Кочан, потому очень капусту люблю рассейскую… Какой ты нации? Православный!.. — И затем заставляли его проделывать весь артикул.
— Генерал идёт! Генерал… Васька, генерал идёт!
Васька серьёзно поднимался на задние ноги и, потрясая бородой, ходил по двору.
— Васька, лезгины штурмуют.
Козёл немедля свирепел, — рога вперёд и стремглав летел на воображаемых лезгин.
Но пуще всех был взбаломучен ожидавшимся событием молодой немчик, прапорщик Кнаус. Он только что приехал из корпуса и не носил формы, — он желал походить на настоящего лезгина, добыл себе оборванную черкеску, обвалял её в грязи и высушил, купил золочёный кинжал, ружьё, всё в золотой насечке, шашку в серебряных ножнах и в крепости ходил в таком виде. Незамай-Козёл, труня над ним, заметил, что «какой ты горец — разве горцы бывают с волосами», и Кнаус немедленно выбрил голову… Теперь он внезапно изменился. У Кнауса уже завелось тоже зеркало, и, оставаясь в своей комнате один, он репетировал перед ним. Подходил издали, кланялся, растопыривая локти, и тонким тенором говорил:
— Мадемуазель! Дозвольте из ваших прекраснейших ручек получить сию чашку…
Или:
— Мадемуазель! С вашим благополучнейшим прибытием над нашей крепостью взошла новейшая звезда.
— Нет, — приходил он в отчаяние, — по-немецки это гораздо лучше, но она, наверное, не понимает по-немецки.
— Пламень ваших глазок испепелил мои мысли, и они горят, как сухой бурьян в костре, — декламировал с другой стороны Незамай-Козёл, и вдруг заканчивал, — а ревуар де Парис!..[23]
Кнаус даже покусился на стихи. По крайней мере, в его шкатулке лежал уже чисто переписанный листок, носивший заглавие: «Благородной девице, получившей своё образование в хладном Петербурге».
Наконец, Кнаус заказал с приезжим на базар лезгином себе настоящую черкеску с серебряными патронами и позументами, из белого верблюжьего сукна, и к тому дню, когда должна была приехать Нина, вышел таким чёртом, что Роговой и Незамай-Козёл вдруг почувствовали себя совсем обиженными, и последний даже сделал демонические глаза и стал обдумывать кровавую месть. Одно утешало его, — на лице Кнауса ничего нельзя было разобрать. Немчик был белобрыс. Голову он выбрил, но усы пробивались каким-то бесцветным пухом, бровей нельзя было отличить от лба, и золотушные бледные уши торчали, как ручки у котла. Зато черкеска его так и горела, кинжал на солнце сверкал огнём.
— Да ты, немчура, чего это в крепости с ружьём за плечами ходишь? — добродушно смеялся Брызгалов.
— Так полагается, господин майор, по форме.
— По какой?
— По кумыкской, всегда-с. Горцу без ружья — нельзя…
— Да какой же ты горец, ревельская килька?
— Мои предки были тевтонскими рыцарями, и один из них даже убит в сражении под Грюнвальдом.
Майское утро на Самуре было прелестно. Тёмно-синие небеса тонули в дивном блеске. Горные вершины кругом величаво плавали в лазури. Лениво по золотому дну влачил серебристые струи полноводный Самур… Даже Брызгалов, с утра торчавший на башне, глядя в глубь долины, откуда должна была показаться «оказия», в её золотистую мглу, улыбался довольною, счастливою улыбкою. Кнаус, впрочем, и тут удивил всех. Ему вдруг подали коня. И не успел Степан Фёдорович оглянуться, как тот уже выскочил за ворота и полетел но долине.
— Куда, безумец? Лезгины могут подстрелить, погоди оказии.
Но тот ничего уже не слышал. С папахой на затылке, в блестящей черкеске, он нёсся вперёд, думая про себя: «Надо произвести первое впечатление»… Но, увы!.. В глубине долины, действительно, показалась скоро оказия. В открытом тарантасе ехала молоденькая девушка, белокурая, как её отец, с большими чёрными глазами своей матери, только русская кровь придала им задумчивое выражение. Кругом неё подвигался конвой из казаков, сопровождавший всякую оказию по правилам. Впереди шёл взвод солдат, и за ними влачилось горное орудие. Позади, в арьергарде за повозками с продовольствием, следовал другой взвод. Партия от Дербента двигалась уже четвёртый день, не встретив никаких приключении, как вдруг вдали показалось золотистое облако пыли… Офицер, сопровождавший оказию, скомандовал: «Стой»! В золотистом облаке двигалась какая-то блестящая точка, она росла и росла… Скоро обрисовался стремглав скачущий горец. Он выхватил ружьё и выстрелил в воздух. Сердце у Нины замерло… Да, да… Это настоящий абрек, о которых она начиталась в институте… Боже мой!.. Он один, а наших много… Он погиб, погиб! Она даже умоляюще протянула руки вперёд. Как вдруг, у самой оказии, кабардинский конь Кнауса, управляемый неопытною рукою, поскользнулся, и импровизированный абрек полетел ему через голову, прокатился по пыльной долине и въехал белобрысой физиономией прямо в Самур. Встал Кнаус живо, но весь в грязи, мокрый и совершенно обескураженный. К вящему его несчастью, оказию вёл офицер, знавший его. Он понял, в чём дело, и разозлился. Он вдруг крикнул:
— Прапорщик Кнаус!
Тот мокрой курицей подошёл к нему.
— Кто вам позволил пугать оказию? Я доложу по начальству…
— Кто это? — уже разочарованно спрашивала Нина у офицера.
— Немец один!.. Из аптекарских учеников! — вполголоса отвечал тот, добивая бедного Кнауса.
— Он ушибся?..
— Нет-с… Помилуйте, мордой в воду попал…
— Отчего он бритый?
— Болести здесь… От неопрятности бывает.
Кнаус погиб совсем в её мнении.
Он кое-как взобрался на коня и поехал позади оказии, в то время, как из крепости выезжала целая кавалькада офицеров и юнкеров. Впереди был Роговой в новеньком мундирчике, весь вымазанный резедовой помадой, за ним следовал на тяжёлом коне Незамай-Козёл, твердивший заученное приветствие из «Библиотеки для чтения»… За ними сияли, точно лакированные, два юных юнкера с такими счастливыми лицами, что Нина ещё издали улыбнулась им. Подъехав к ней, впрочем, и Роговой, и Незамай-Козёл растерялись. Первый забыл даже фуражку приподнять, а второй выговорил только начало фразы, которую ещё мгновенье назад хорошо помнил.
— Сударыня, мы все очень…
И на этом осёкся и покраснел, встретив взгляд больших чёрных глаз.
— А где отец?.. Батюшка где? — волновалась Нина, высовываясь из тарантаса.
— Они-с… Они-с сидят на башне.
— По долгу службы. Ни в каком экстренном случае им оставлять крепости не полагается, — отрапортовал Роговой и победоносно оглянулся на Незамай-Козла. Но и тот оправился уже и, злодейски закрутив усы, выпалил;
— Это всё равно-с, что на башне. Они следят за вами глазами своего родительского сердца.
И в высшей степени довольный, так тронул шпорой лошадь, что громадный и тяжёлый конь грузно поднялся на дыбы.
— А вы кто? — улыбалась ему Нина.
— Чего-с?..
— Кто вы? Вы тоже из Самурской крепости?
— Да-с… Штабс-капитан… Незамай-Козёл.
— Что? — не поняла Нина.
— Незамай-Козёл… Из запорожцев.
Но девушка, уже откинувшись в глубь тарантаса, едва удерживалась и не удержалась, — засмеялась во всю. Роговой счёл момент удобным для того, чтобы подъехать и отрекомендоваться.
— Прапорщик Роговой!.. Имел честь и удовольствие воспитываться вместе с вами.
— В Смольном институте? — изумилась она.
— Нет-с… Но в дворянском полку, тоже под хладными небесами Петербурга.
Незамай-Козёл был убит и ехал рядом, молчаливый и мрачный, думая про себя: «Она никогда не согласится быть „мадам Незамай-Козёл“». И первый раз в жизни он проклял своих славных сечевых предков. Потом, впрочем, он утешился. «Надо будет, — сообразил он, — убедить её, что ударение ставится у меня не на е́, а на о́; не Козе́л, а Ко́зел, и всё будет отлично».
Нина
Когда оказия приблизилась на сто шагов, тяжело скрипя на громадных петлях, растворились ворота Самурского укрепления. Брызгалову страстно захотелось перебежать это пространство и прижать к сердцу дочь, которую он девять лет уже не видал, но старый служака вовремя вспомнил «артикул», повелевавший коменданту никогда и ни под каким видом не оставлять укрепления. Он ждал в воротах. Нина зорко смотрела туда, но в их тени ничего не было видно… Какие-то серые фигуры караульных солдат, их папахи, и только; даже лиц нельзя было рассмотреть. Хотя оказию и заметили, но командовавший ею офицер, имея в виду всё ту же Нину, приказал сделать выстрел из орудия. Глуша всё кругом, ахнула его медная грудь. Вздрогнули и застонали на каменных стержнях окрестные утёсы, зловещим гулом удар прокатился по всем ущельям и замер в их таинственной синеве. Оказия двинулась ещё, и с парапета главной башни ответным приветом прокатился по всей Самурской долине второй выстрел. Караул вышел и выстроился у ворот…
— А батюшки нет? — тревожно спросила Нина, обращаясь к Незамай-Ко́зелу, как он уже теперь перекрестил себя.
— Нет-с, они внутре-с.
— Как?
— Внутре-с, Потому что по долгу службы они не должны-с поддаваться непреоборимому движению жаждущего сердца. Они спервоначалу примут рапорт от капитана Свистунова, поздороваются с солдатами, а потом уже обратятся к исполнению сладчайших обязанностей.
— Я этого не знала.
— Где же вам. У вас этому не учили, — нежно проговорил он и вдруг наклонился к тарантасу. — Нина Степановна!..
— Чего вам?
— Вы неприлично поняли мою фамилию.
— Как неприлично?
— Не Козе́л, а Ко́зел — Незамай-Ко́зел. Так у нас и по документам значилось, да негодяи-писаря ударение перепутали, и вышла неприличность… Но я всегда могу восстановить.
Кнаус в это время вздумал было поправить свою пострадавшую репутацию и из хвоста колонны вынесся вперёд, гарцуя на кабардинке, но увы, не мог остановиться в воротах. Конь знал, какая рука управляет им и, почуяв впереди прелесть покоя в крепостной конюшне, выкинул две лансады передом и задом, так что несчастный потомок тевтонских рыцарей потерял папаху и с отчаянием утопающего схватился за луку, припав к шее лошади, как к лучшему другу. Конь не оценил этого и, бешено вскочив в ворота, проскакал до конюшен и остановился, тяжело храпя и нервно поводя тонкими ноздрями… Нина в это время не выдержала. Она выскочила из коляски и бросилась вперёд.
— Где отец, где батюшка?
Брызгалов. и тут себя не выдал. Глаза его были полны слёз, грудь подымалась порывисто, но он сдержался, выждал командира оказии и принял его рапорт.
— Всё ли благополучно?
— Всё, г-н комендант.
— Не было ни больных, ни нападений на пути?
— Никак нет-с, г-н майор.
— Здорово, ребята!
— Здравия желаем, ваше высокоблагородие!
Брызгалов обошёл фронт, зорко осматривая солдат.
— Здорово, казаки!
— Здравия желаем, ваше высокоблагородие!
— Ну, добро пожаловать! Отдохните, почиститесь, а завтра назад с Богом…
Только теперь он вдруг обернулся к Нине, смотревшей на него широко открытыми глазами.
— Батюшка, неужели это вы?.. Седой какой!..
И она замерла в сильных руках старого майора.
Тот всмотрелся в её глаза…
— Совсем мамины!.. — и зарыдал, уже забывая, что около стоят чужие.
Кавказские солдаты того времени, впрочем, жили душа в душу со своими командирами. По многим лицам из них тоже катились слёзы. И они ещё грознее хмурили брови, чтобы не выдать волнения. Тем не менее все глаза были устремлены на девушку. Некоторые здесь знали её мать и думали, недвижно стоя в строю, такая же ли будет для них добрая и ласковая эта красавица-девушка. Нина только теперь сообразила, что она не поцеловала отцу руки, и порывисто сделала это. Старый воин, одичавший в Самурском укреплении, отдёрнул было руку и сконфуженно проговорил:
— Что ты, что ты!.. — и потом, опять пристально всмотрясь в неё, прибавил. — Совсем, совсем такая, как мать!..
Его любящему сердцу покойница казалась лучше и прекраснее всех женщин на свете.
— Если и душа у тебя такая!..
И он, не кончив, обернулся к офицерам и официально проговорил:
— Господа офицеры, прошу ко мне закусить, чем Бог послал, и юнкеров тоже.
Только у себя дома он горячо пожал руку Свистунову и поблагодарил его за заботливость о его дочери во время четырёхдневного пути.
— Помилуйте, Степан Фёдорович, да такой приятной оказии у меня ещё до сих пор не было.
Нина быстро привела себя в порядок, и не успели ещё офицеры снять с себя шашек и отряхнуться, как девушка вышла к ним. В то же время и денщик Тарас показался в других дверях.
— Чего тебе? — спросил его Брызгалов.
— Солдаты тут, у порога…
— Ну?..
— Покорнейше просят её высокоблагородие.
Брызгалов вышел, но тотчас же явился сияющий.
— Нина, выйди-ка.
Девушка выбежала на крыльцо… Старые седые усачи, не ожидая её привета, гаркнули ей:
— Здравия желаем, ваше благородие!
Потом один за всех:
— С вашей матушкой-покойницей, — царствие ей небесное! — душа в душу жили. Мать была, а не командирша. Из всяких бед вызволяла… Не погнушайтесь.
И он подал ей громадный букет полевых цветов, с опасностью жизни набранных солдатами. Девушка, желая скрыть волнение и слёзы, спрятала в нём лицо. Цветы ещё были опрысканы росой и освежили её. Она осматривала их. Какая прелесть! Нина даже не нашла, любуясь ими, что сказать молодцам солдатам, не сводившим с неё умилённых глаз.
— Благодарю, благодарю вас… Не знаю, чем я заслужила… Я постараюсь… — лепетала она, и Брызгалов, глядя на неё со стороны, не приходил к ней на помощь. Ему было так приятно видеть это смущение дочери, эти нерешительно глядевшие глаза её и вздрогнувший от внутреннего волнения рот.
— Совсем мать! Вылитая! — И ему опять захотелось плакать, но в это время позади солдат послышалось:
— Пусти, чего ты! Пусти, Федорчук! Тебе говорят, рябая твоя морда!..
И продиравшийся вперёд вдруг замер, увидя начальство на крыльце.
— Чего ты? — спросил его Брызгалов.
Тот только моргал, сорвав с себя папаху.
— Чего ты?..
— Он, ваше высокоблагородие, — засмеялся, стоявший около георгиевский кавалер, — козла Ваську пожелал представить.
— Ну, давай его!.. Где он?
Солдаты расступились. Козёл, важно потряхивая бородой, подошёл к Нине.
— Чего же ты? Командуй! — приказал оторопевшему солдату тот же усач.
— Васька, генерал идёт!
Васька с тем же непоколебимо серьёзным выражением встал на задние ноги и замотал передними…
Нина расхохоталась.
— Васька, черкесы!..
Козёл моментально обернулся, голову вниз, рога вперёд и неистово кинулся в ворота. К сожалению, как раз в это время входил в них оборванец в старой солдатской шинели с целым грузом чего-то на плечах. Васька, не рассчитав, так его ткнул, что бедняга вверх ногами полетел назад и, вскочив, хотел было распорядиться с Ваською по-своему, да заметил начальство, отряхнулся и пошёл уже прямо к крыльцу.
— А, Левченко!.. Ну, как охотился?..
— С приездом! — прохрипел тот и свалил к ногам Нины целую груду набитой им дичи. — Будьте здоровы!
— Тарас! — крикнул Брызгалов.
Тот уже знал, в чём дело. Он вышел с графином водки и стаканом.
— Ну, Нина, угощай нашего Немврода, великого ловца перед Господом!..
Девушка, краснея, налила. Левченко покосился на стакан и недовольно сморщился.
— Чего ты?
— Неполная, ваше выскоблагородие!
Степан Фёдорович сам ему долил, тот выпил и щёлкнул языком.
— «Командирская»! — одобрительно обернулся он к товарищам.
— Братцы, позовите-ка артельного. Двух баранов вам на радостях и водки бочонок. Только смотрите у меня, чтобы пьяных ни-ни! В крепости не полагается.
— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие!.. — гаркнули повеселевшие солдаты.
— Старики! Смотреть за молодёжью чтобы всё было в порядке! На, Левченко, тебе за дичь! — И он протянул ему серебряный целковый.
Левченко был одним из тех типов, которые под влиянием кавказской горной войны не казались редкостью на линии. Он не мог усидеть дома, и однообразная крепостная жизнь его томила да одури. Он брал ружьё и уходил на охоту. Его сначала наказывали, потом привыкли к его отлучкам. Впоследствии он оказался даже полезным, потому что избороздил окрестные леса и чащи, изучил их, каждую звериную тропу знал наизусть. Он не заблудился бы в хаосе скал, и по ему одному ведомым приметам, выбирался отовсюду на дорогу. В душах у таких крепостных охотников бились неиссякаемые родники поэзии. Они проводили целые недели одиноко, под открытым небом, по ночам чуть не натыкались на лезгинские партии, иногда до утра таясь по соседству с ними. Ни ливни, ни грозы, со страшною силою бушевавшие в тёмных ущельях, не пугали их. Притомившись, они с массою дичи возвращались в крепость, отсыпались и опять уходили вон. Иногда целые дни такой Левченко лежал в лесу, глядя сквозь переплёт его вершин в небо, и слушал, как просыпавшийся ветерок заводил беседу с недвижными до тех пор листами, как внезапно взбудораживались и перекликались птицы… Солнце закатывалось. Огнистое сияние его мерцало на верхушках старых деревьев; в глубину ущелий, открывавшихся устьями к закату, алою рекою вливалось его пламя. В ближайших аулах слышались меланхолические призывы к намазу с каменных минаретов. А Левченко не хотел подыматься и прислушивался, точно во всей природе на его глазах сейчас разрешалась какая-то великая, страшная тайна… Тянуло к ночи холодком, освежавшим его обветренное и обугленное лицо, и Левченко вставал и шёл, куда глаза глядят… Ему случалось часто попадать за аулы в горные узлы, вокруг облепленные их гнёздами, но кавказец нисколько не смущался. Зажгутся там вечерние огни, — он соображает: «Трапезуют теперь азиаты, поди, свой хинкал лопают»; потухнет, — «Ишь, спать орда повалилась»; наступит ночь, залают всюду собаки, завоют внизу в ущельях чекалки, — ему нисколько не страшно. Вся даль и глубь таинственного края открыта ему, точно так и следует ему шляться по заповедным дебрям… Таким Немвродам, как Левченко, случалось даже делать невозможное. Ни один лезгин не решался быть кунаком русских, приводилось встречаться с одинокими горцами, — они, Бог знает как, дружились: жили вместе целыми днями и расходились, не питая друг против друга злокозненных намерений; разговаривали они на своеобразном языке, коверкая одинаково и русский, и татарский.
— Якши бол, бояр, якши айда! — орал бессмыслицу лезгин, похлопывая Левченко по плечу.
Тот, разумеется, не оставался в долгу.
— Сагол! Аллах — сахласын твоя марушка да баранчук якши бол.
И он был вполне убеждён, что по-ихнему это значит: «желаю от Бога здоровья твоей жене и детям», а все лезгины, в свою очередь, думали, что марушка[24] и баранчук[25] — чисто по-русски.
Когда Нина вернулась в комнаты, Брызгалов уже счёл должным официально представить ей своих офицеров.
— Штабс-капитан Незамай-Козёл.
— Ко́зел! — поправил тот.
— Ну, вот! — с неудовольствием перебил Степан Фёдорович. — Что это ты, братец? До сих пор Козлом бы…
— По ошибке писаря, ей-Богу-с, Степан Фёдорович.
— Прапорщик Роговой.
Роговой элегантно подошёл к ручке и приобрёл в Козле или Ко́зле смертельного врага.
— Прапорщик Кнаус, из ревельских лезгинов!..
Тот уже почистился и сиял во всём великолепии.
— Всё молодцы-ребята! Узнаешь их, — полюбишь. А они тебя уже и теперь любят. Ну, зови гостей к столу, молодая хозяйка.
И он опять вспомнил покойницу и смахнул с глаз слезу.
— Да, а юнкеров я тебе не представил.
— Князь Раменцов и Хаби Мехтулин Агаларов… Бравые ребята, только часто слишком у меня на гауптвахте сидят. Ну, теперь, господа, чем Бог послал; к обеду мы велим дичь изжарить.
Первое время здесь Нина никак не могла дать себе отчёта — весело ей или скучно. Старая крепость жила своею жизнью, своим будничным обиходом. Так же медлительно катался у её серых стен разбившийся на рукава светло-водный Самур, так же золотыми сетями на его песчаном дне играло солнце, так же величаво и сумрачно вокруг теснились вершины Кавказа и синели ущелья, залегавшие отсюда в самую заповедную глубь грозного Дагестана… Всё, о чём читала у себя в институте Нина, всё въявь теперь перед нею. Вон там за теми скалами прячутся «рыцари гор», а по толкованию её отца — попросту разбойники. О, как бы она желала повидать хоть одного из них! Потому что те оборвыши, которые приезжали к базарным дням в крепость, вовсе не соответствовали гордому демоническому идеалу «Аммалат-бека», о котором изредка в бессонные ночи она думала в холодном и далёком Петербурге… Вместе с оказией, доставившей её в Самурское укрепление, Нина получила много книг, выписанных её отцом для того, чтобы она могла коротать с ними долгие крепостные досуги. Книги того времени тоже говорили о сказочных героях и дивных богатырях, казалось, воскресивших в трущобах Дагестана легендарные средние века с их романтическими паладинами. И это всё там, всё там! — вперяла она часто взгляд в синий сумрак теснин, загромоздивших перед нею дали. — Когда солнце заходило за горы, и подоблачные аулы загорались розовым светом, — она задумчиво смотрела туда и по своим книгам рисовала себе дикую и поэтическую жизнь лезгин, гнездившихся наравне с орлами… Раза два или три за одним из рукавов Самура показывались всадники на золотистых конях… Нина кидалась к парапету зорко глядеть туда, но ещё ранее, чем она успевала рассмотреть их бурки, ружья в мохнатых чехлах за плечами, гордо взбитые на затылок папахи, — часовые давали сигнал, и отец её, являясь на башне, командовал:
— А ну-ка, пугните мне этих негодяев! Ишь, как изнахальничались. Скоро под самую крепость станут подъезжать!
Седой с громадными усами артиллерист наводил «орудию» и, тяжело прорезывая сонный воздух, летело туда ядро, взрывая облачко пыли и мелкого камня у самой шайки… Конечно, лезгины рассыпались во все стороны, для очистки совести стреляли оттуда в крепость, и затем опять долго, долго и скучно тянулась обычная действительность… С книгою Нина повадилась было уходить за крепость. Над Самуром был тут холмик, где благоухали розы, какие-то совсем неизвестные ей цветы осыпали кусты своими кистями. А вверху громадный каштан, точно осенял густыми благословляющими ветвями. Нине здесь солдаты устроили скамью, и она часами сидела одна, читая, слушая воду или пение невидимой птички в чаще дерева. Нина старалась разглядеть туманные силуэты гор за нею, этою венчанною вершиною, — и опять обращалась к страницам «Библиотеки для Чтения». В письмах к своим подругам она подробно обрисовывала это «ma solitude»[26] такими красками, что потом ещё вдвое полюбила свой пустынный уголок. Но, увы, скоро и от этого пришлось отказаться. Раз как-то она декламировала здесь «Хаджи-Абрека» и «Измаила-Бея», как вдруг в чаще каштана что-то шелохнулось — большое, крупное. Нина с сильно бьющимся сердцем кинулась прочь, и ей почудилось смутное, тёмное… Она неистово крикнула и побежала с холма вниз. Вслед за ней что-то грузное свалилось с каштана и, раздвигая кусты и прячась за ними, следовало не отставая… Нину всю охватил страх, слепой страх. Она не оглядывалась. Она не знала даже, что бежит за нею, но продолжала кричать… Часовые на башне всполошились и, когда девушка выскочила на открытое пространство, заметили рыжую папаху и какого-то оборванца в лохмотьях бурой чухи, торопившегося за Ниной. Позади мелькала другая папаха… Очевидно их было двое. Часовой приложился, подождал… Оборванец уже настигал девушку, заорал даже что гортанное и хриплое, но торжествующее и смелое другому, папаха которого тоже уже вся выдвинулась наружу.
— Смирнов! — позвал часовой, — возьми-ка ты того, а я этого.
Ещё мгновение, и два выстрела слились, будя заснувшие ущелья и долины.
Оборванец, бывший почти у самых ног Нины, как-то нелепо взмахнул руками и покатился по песку. Нина живо добежала до ворот. Другой лезгин хотел было, по горскому обычаю, выручить тело товарища и кинулся к нему, но Смирнов, зная местный адат, уже приготовился и метким ударом уложил его рядом. Тревога поднялась в крепости… Солдаты врассыпную кинулись на холм, обшарили там все кусты, но никого больше не нашли. Только двое этих хищников и было. Одного, убитого наповал, и другого, умирающего, внесли в крепость и положили в тень чинары, на её площади. Нина, замирая, смотрела им в лица. Грозные взгляды их из-под полусмежившихся век, казалось, ещё следовали за нею. Бешметы их были расстёгнуты, и сильные загорелые волосатые груди, ещё дышащая у одного и недвижная у другого, как старая бронза, блестели под солнцем. Пришёл врач, посмотрел раненого…
— Дайте ему пить! Тут мне делать нечего.
— А вылечить нельзя будет? — спросила Нина.
— Нет! Какое вылечить! Через час готов!.. Ну, барышня, счастлив ваш Бог!.. Они бы вас живо скрутили и в горы…
— Зачем я ему?
— Как зачем? А выкуп?..
— Ну вот!..
Брызгалов, встревоженный и испуганный, отдал приказание впредь не пускать Нину за крепость…
Финала этого приключения пришлось ждать недолго. Утром на другой день к воротам крепости подошла целая процессия. Впереди шёл такой же, как и убитые, оборванный лезгин с палкой, на которой болтался белый лоскут. За парламентёром брели две старухи, старик, трое вооружённых молодых людей с лошадьми в поводу и медленно, и важно ехал верхом кадий аула, из которого были убитые хищники. Кадия впустили в крепость. Длинный и сутуловатый старик с окрашенной в красное бородой, шёл, кутаясь в неизменный, накинутый на плечо тулуп. Чудовищно длинный воротник этого тулупа украшен был тремя хвостами и длинными, волочившимися до полу рукавами, такими узкими, что ничья даже детская рука не могла бы влезть в них. Поверх шубы для важности была на него накинута на одно плечо бурка. Кадий важно приблизился к Брызгалову и что-то забормотал ему по-аварски. Вызвали переводчика.
Кадий, как и подобало столь солидной персоне, сел и даже глаза закрыл от сознания своего величия.
Нукер его за ним подал ему кальян. Он выпустил два-три клуба синеватого дыма и обратился к переводчику:
— Ты грузин?
Тот щёлкнул языком — знак, выражавший отрицание.
— Армянин?
То же самое.
— Урус? Алла, Алла! Бэла урус гёрмадым.[27]
— Ты спроси у этого мерзавца, зачем он явился сюда? — приказал нетерпеливо Брызгалов, впрочем, уже догадывавшийся о том, что того привело в крепость.
Кадий издалека начал рассказывать, что народ у них в аулах — дурак-народ. Что народ, как бараны, куда его толкнут, туда и идёт, что кадии, вообще, очень хороши, все хороши, а народ — дрянь!.. народ пхе! И он даже сплюнул в сторону от негодования. Что русские, если захотят, то одним дуновением уничтожат всех горцев, и, сложив пальцы вместе, он поднёс их ко рту и дунул. Стоит только князь Аргуту[28] или аниралу Лазаруф[29] показать свои папахи, — и все эти «мурид-яман» живо разбегутся перед ними…
Он долго бы ещё разглагольствовал, если бы Брызгалов не крикнул:
— Ты не втирай очков в глаза, — и уже по-татарски резко проговорил, — говори, что тебе нужно, или убирайся вон.
Кадий возвёл очи к небесам, как бы призывая их в свидетели того, что нельзя же так вести переговоры без политики и тонких горских дипломатических приёмов. Но когда переводчик ему прибавил, что его немедленно выпроводят вон, кадий помянул Аллаха и, сославшись на «кысмет»[30], объявил кратко, что за двумя разбойниками, уже поплатившимися смертью, явились отец одного и мать и братья другого; что он, кадий, просит тела их отдать родным для погребения; что со своей стороны он очень сожалеет о случившемся, но он, кадий, уже сказал, что их народ вообще дрянной народ, и что только кадии хорошие люди. К этому он мечтательно прибавил, что если его, кадия, угостят русским чаем, то он ничего против этого не имеет.
Кадия Брызгалов, верный горским обычаям, пригласил в комнаты, а тела двух убитых лезгин приказал выдать их родным. Те с плачем и воплями подняли их, завернули, почти запеленали в кошме и завязали кошмы верёвками, так что те, как брёвна, уже не могли разогнуться. Приторочив их к коням, родные уехали в горы. Кадию предложили чаю, он выпил и, икнув, объявил, что он слышал, будто у русских есть такой чай, от которого голова кружится, сердце бьётся приятно, и вообще приходят хорошие мысли порядочным людям.
Ему дали рому. Он, не терял важности, выпил его и ещё попросил. Дали ещё. Он опять потребовал прибавки, тогда, ему объявили, чтобы он убирался вон…
— Нет ли у тебя, девушка, старых лент для моих жён? — стал он клянчить у Нины.
Та дала.
— А старых платьев?.. А каких-нибудь вещей?..
Наконец, кадия прогнали. Он, объявив всем, что Аллах — Экбер и что «киназ Аргут» «чох яхши», а «мюрид — яман», взобрался на коня и выехал из крепости. Удалившись от нас на расстояние ружейного выстрела, он энергично плюнул в сторону русских и воскликнул:
— Да убьёт вас всех Магомет единым мановением бровей своих!.. Ты видел, как меня угощали там? — обернулся он к слуге.
— Да, господин…
— Комендант целовал мне руки, просил не кидать стыда на его седую голову и не уезжать так скоро, но я заставил его хорошо наесться грязи… Я ему сказал, что если бы даже князь Аргут, — да проклянёт его Аллах, — что если бы даже князь Аргут стал на колени и просил провести ночь у неверных собак, то — и ему бы я наплевал в бороду. Расскажи об этом в ауле. Пускай наши знают, как русские боятся и уважают меня.
Мечтательная, как все девушки того времени, Нина любила проводить лунные ночи у окна. Изредка крики: «слушай!» с одной башни на другую ещё более оттеняли торжественную тишину. Воспоминания ей рисовали далёкие, — увы! какие далёкие! — теперь залитые светом залы Зимнего дворца, куда их возили к Императрице из института. Кавалергарды, конногвардейцы у дверей, недвижные как изваяния, залитая в золото знать и ласковая улыбка Царицы, её мягкая рука, так нежно, матерински касавшаяся детских головок… А вдали весь точно написанный туманными штрихами сам Государь — такой величавый, красивый, с такими строгими глазами и с таким добрым выражением на лице, когда он видел их, «своих девочек» и говорил с ними… Шумный Петербург, кругом волнующийся, как море, эти тысячи лиц, сливающихся в один фон, тысячи голосов, и опять светлым пятном выступают яркая зала театра, чудное пение заморских артистов, из далёкого тёплого края залетевших сюда… А балы… Балы, когда они, институтки, отдавались веселью без конца, когда ею, окутанною в белый газ, с таким неудержимым увлечением любовались все! Эти звуки любимых танцев, звуки оркестра, словно тающие в нагретой и благоуханной атмосфере больших зал… И вдруг опять: «слушай!» унылое и однообразное, блеск луны над одинокой крепостью, шелест пробудившейся и словно о чём-то печально вздохнувшей чинары, и всё те же горные вершины, казавшиеся ещё легче и воздушнее в эту тёплую, ясную ночь…
Для солдат она сделалась, как и её мать, ангелом-хранителем. Строгий по службе отец её невольно смягчался, когда она, подойдя, клала на его руку свою и уводила его в комнаты комендантского домика… Гауптвахта пустовала, и старые воины, встречаясь с нею, радостно улыбались ей и заводили с Ниною разговоры обо всех маленьких печалях и огорчениях. В домашний обиход она тоже внесла заботливость своей матери. Она так быстро усвоила себе всю небольшую хозяйственную мудрость, что скоро нельзя было узнать уголка, где Степан Фёдорович до сих пор одиноко коротал век… По вечерам у него собирались офицеры и юнкера, играли по маленькой, а в промежутках слушали пение Нины, хорошо исполнявшей весь крохотный репертуар того времени, вроде романса:
«Скажите мне, зачем пылают розы
Эфирною душою по весне,
И мотыльки на утренние слёзы
Летят, зачем, — скажите мне».
Брызгалов уже думал о переводе куда-нибудь — для дочки больше — хорошо понимая, что не в Самурском же укреплении ей скоротать век!.. Но в это время случилось нечто совсем неожиданное…
Однажды утром, на рассвете, прискакал к воротам крепости казак. Его на пути даже царапнула случайно лезгинская пуля, но в те времена на такие пустяки никто не обращал внимания.
— Доложи коменданту: с экстренной летучкой.
Брызгалов поднялся и вышел на крыльцо.
— Вашему высокоблагородию от генерала…
Комендант распечатал…
Его уведомляли, что по дошедшим на линию сведениям лезгины опять подымаются. Намерения их неизвестны, но в горных аулах уже объявлен газават, и известный кабардинский разбойник князь Хатхуа двинулся из Салтинского аула со скопищем мюридов и джигитов. Так как с линии прислать никого нельзя, то майору Брызгалову рекомендовалось зорко следить за окрестностями, держать ближайшие аулы в покорности и приготовиться на всякий случай к защите и отражению разбойничьих горских шаек и озаботиться заготовкой провианта…
Брызгалов прочёл и усмехнулся.
— Это с двумя ротами с половинным числом штыков держать окрестные аулы в покорности!? Ах, шутники, шутники!
Недавно совершилась знаменитая поездка светлейшего князя Чернышёва. Объехав Дагестан, он в 1842 году запретил все наступательные действия и снял значительное число войск с линии. Прислать на помощь, действительно, ничего и никого нельзя было. Чернышёв, судивший о войне и о горцах с точки зрения петербургских канцелярий, думал победить твердыни Кавказа кротостью и торговлей и чуть не погубил всего русского дела там. Слабые профилями, не обеспеченные водою и провиантом крепости приходили в упадок, гарнизоны их были доведены до минимума, так что, когда, например, Шамиль 27 августа 1843 г. напал с 10.000 отчаянных мюридов на небольшой форт Ундкул, против него защищалось только 140 штыков. Положение Брызгалова было не лучше… У него на лицо было двести пятьдесят солдат и полсотни казаков при четырёх горных орудиях. Он послал за провиантом, но в Дербенте такового не оказалось. Он хотел было туда отправить на начинающееся смутное время дочь с её горничной, но накануне посланная оказия вернулась назад. Комендант встретил её у ворот.
— Что случилось?
— Поздно!..
— Почему?..
— Между Самурским укреплением и Шахдагом везде бродят скопища лезгин.
— Надо было пробиться.
— Нельзя-с. У меня и без того убили четырёх и пятерых ранили! — доложил офицер.
И, действительно, всмотревшись, Брызгалов заметил, что из-под брезента торчат ноги убитых солдат. У троих раненых были руки на перевязи… Двух пырнули в грудь и голову, и их везли тоже.
Встревоженный вернулся Брызгалов домой… Печально взглянул он на дочь…
— Голубка Нина!.. Не вовремя я тебя вызвал сюда. Горцы шалить начали. Это бы ещё ничего. Хуже всего, что во главе их кабардинский князь Хатхуа… Этот один стоит всего их газавата.
— А это кто, Хатхуа?
— Был он в плену в Дербенте… Отчаянный храбрец… Такой смелости ни у одного лезгинского абрека нет… Он один с восемью казаками рубился. Едва его захватили. А потом, только что оправился от ран, — убил часового, украл коня у генерала Клоки-фон-Клюгенау и под огнём целой роты ушёл в горы.
— Такой же у как Аммалат-бек, батюшка?
Но Брызгалову было не до Аммалат-беков. Озабоченно он стал обходить крепость, высматривая, чтобы ему сделать там, где ещё можно было обойтись своими средствами.
Первая тревога
В горных аулах, под облаками, кипела зловещая суета… Дольше по ночам горели огни в саклях, снизу над площадями джамаатов видны были багровые зарева костров. На отдалённых вершинах вспыхивали шесты, обёрнутые соломою, — верный признак тревоги, охватывавшей аулы. У Кнауса была зрительная трубка. Следя в неё за загадочным сумраком ущелий, он замечал часто большие партии пеших горцев, вооружённых до зубов, спускавшиеся с гор и уходившие куда-то. Никто из них не возвращался назад. Очевидно, где-то, в каком-нибудь таинственном горном узле, — назначен был сборный пункт для всех абреков и мюридов из этих орлиных гнёзд… В первый же базарный день на крепостной площади наши напрасно ждали лезгин с баранами, просом, сукном и оружием. Никто из них не приехал, и только один «лак», привёз разную дрянь на продажу… Но и этот смотрел как-то испуганно, торопился уехать, точно боялся, что его задержат в стенах Самурского укрепления. Выбравшись за ворота, он с полверсты подвигался вперёд медленно и спокойно, но потом вдруг дал нагайку лошади и вихрем понёсся вперёд, точно ожидая, что русские опомнятся и задержат его. Раз ночью какой-то елисуец стал кричать издали. Подойти ближе он не мог: его бы разорвали собаки… К нему вышли, взяли в крепость. Он потребовал, чтобы его привели к коменданту. Брызгалов ещё не ложился, — нужно было многое обдумать, ко многому подготовиться…
— Чего тебе?..
— Я сын Курбан-Аги Елисуйского… друга русских…
— Знаю, знаю… У твоего отца верное, преданное сердце. Как он только тебя отпустил, такого мальчика?
— Он сам пошёл в горы, узнать, что там готовится, а мне велел предупредить вас… Горцы подымаются. У Хатхуа уже более шести тысяч всадников и пеших.
— Давно ли твой отец в горах?
— Пять дней. Ушёл туда и ещё не возвращался.
— Хатхуа — личный враг его?
— Да, — и молодой елисуец сверкнул глазами. — Между нами — кровь. Теперь у Хатхуа ещё больше народа. Салтинцы все вышли, карадахцы тоже. За эти пять дней, как лавина, вырос его отряд.
— Господь поможет, — справимся. Не в первый раз с оборванцами встречаться.
— Хатхуа храбрый джигит.
— Знаю… Нового ты мне ничего не сказал, Амед. Хочешь, сейчас же уезжай?
— Нет, позвольте мне остаться! Здесь каждая рука нужна будет. Мне и отец велел без креста с птицей[31] не возвращаться… Потом вам нужен будет человек, знающий горские адаты и наречия. Почём знать, может быть, я очень пригожусь ещё.
— Да сколько же тебе лет?
— Шестнадцать! — и затем, заметив удивление и нерешительность Брызгалова, Амед гордо прибавил, — я уже убил Гассана-Али. Грудь с грудью с ним встретился!.. Лучше меня никто в Елисуе не владеет шашкой, а птиц я на лету бью из винтовки.
— Ну, Бог с тобой! Оставайся, Амед. Я велю сейчас отвести тебе помещение.
— Не надо! Я до утра под деревом засну… Я привык, я горец, а днём пойду к своему кунаку.
— Кто у тебя здесь?
— Офицер, белый такой, черкеску носит и голову бреет.
— Ах, Кнаус!.. Ну, ступай!
Амед вышел, стреножил на крепостной площади коня, кинул ему охапку нарезанной им же по пути травы, снял седло и, положив его под голову, заснул спокойно под единственною чинарою.
Прошло ещё несколько дней, горные аулы вдруг успокоились. По ночам над гудеканами было темно; бойницы саклей не светились огнями, по откосам ущелий никто не спускался. Воздушные твердыни Дагестана казались мёртвыми над таинственными долинами… Кнаус, бродя по крепостной стене с Амедом, как-то засмотрелся в синие дали и заметил:
— Должно быть, стороной прошла гроза. У нас ничего не будет.
— Почему ты думаешь это?
— Потому, что тихо кругом стало.
— Адата нашего не знаешь! Когда молодёжь и мюриды вышли на газават, очаги тушатся в ауле, и огня по вечерам никто не зажигает. Питаются просом и хлебом старым… до возвращения джигитов. Это-то и дурно, что всё так стало тихо… Надо ждать теперь скоро. Тучи на небесах перед грозой всегда молчат… И всё таится под ними.
Нина встретила как-то Амеда и залюбовалась им.
Молодой, тонкий и стройный горец был, действительно, красавцем в полном смысле этого слова; большие, пламенные глаза застенчиво и дико смотрели из-под тонких бровей, почти сраставшихся над орлиным носом. Над верхней губой его пробивались усы… На лице лежало выражение самоуверенности и отваги, не ладивших с его смущённым и застенчивым взглядом, когда елисуец видел девушку. Широкие плечи и высокая грудь его переходили в такую тонкую, перехваченную серебряным поясом, талию, которой позавидовала бы любая, перетянутая узким корсетом барыня. Походка его, как у молодой пантеры, была быстра, мягка, легка и неслышна. Он как-то скользил по земле. Каждое движение его выражало силу и ловкость… Нина заговорила с ним, но Амед, весь покраснев, только смотрел на неё, ничего не отвечая.
— Вы не понимаете по-русски?
— Нет, — наконец пришёл он в себя. — Я учился в Дербенте… У нас весь аул говорит по-русски…
Амеда приглашали к столу Брызгалова. Он был ага, благородный, и с такими наши офицеры на Кавказе вели хлеб-соль и обращались с ними, как с равными. Как-то ночью Кнаус, вышедший сочинять стихи под окно Нины, не двигавшиеся всё-таки далее первого куплета:
«О, благородная девица,
Ты мыслей всех моих царица…
Прекрасней розы ты, ей-ей…
Я ж — Кнаус-фон — твой соловей…»
подслушал нечаянно шорох около… Ночь была тёмная. Луну заслоняло тучами. Звёзды горели на горизонте ярко, но тут за, чинарою трудно было разобрать что-нибудь. Он пошёл прямо на шорох, и от него прочь скользнуло что-то чёрное… «Собака, должно быть», — сообразил он. Но это была вовсе не собака, а Амед, тоже являвшийся сюда грезить до утра. В одну из таких тёплых ночей не спалось девушке. Нина накинула на себя плащ широкий, как тогда носили, и вышла из дому. За ней неслышно, как змея, своей лёгкой походкой в чевяках, не выдававших ни малейшего шума шагов, последовал Амед. Он двигался почти тут же, но она не различала его в благоговейном безмолвии природы… Нина тихо миновала площадь и взошла на стену к башне.
— Что, Егоров? — спросила она у часового.
Теперь девушка уже всех солдат знала по именам.
— Всё благополучно! — также вполголоса ответил он и тотчас же во всю глотку заорал. — Слу-шай!
— Слушай! — крикнул ему часовой со второй башни.
Ещё с двух откликнулись другие, и опять всё замерло. Только рядом с часовым обрисовался чей-то силуэт.
— Кто это тут? — спросила девушка.
— Мирной… Наш азият, барышня, который, значит, при его высокоблагородии в охотниках.
— Амед, это вы? — смутилась почему-то Нина.
— Я… Не спится. Вышел…
— Амед, у вас есть, верно, невеста дома?
— Я никогда не женюсь… — грустно ответил он ей.
— Отчего? Вас отец женит.
— Меня никто заставить не может! — гордо ответил он, кладя руку на кинжал.
— Как никто, ведь по вашему обычаю…
— Нас дома не заставляют. Мы у отца росли иначе.
Сама Нина почувствовала, что больше расспрашивать его не зачем, тем более, что юноша окончил:
— И я хотел бы умереть, защищая вас!..
— Полноте, вам рано умирать! — заставила себя засмеяться Нина. — Ведь вы ещё мальчик. Вам шестнадцать лет…
Нина опёрлась на парапет и смотрела вдаль. Как ярко горят сегодня звёзды! Тучи немного отодвинулись. Вон семь очей Большой Медведицы, как великолепно раскинулись они на востоке… Вон далеко-далеко на севере чуть-чуть искрится и мигает ей Полярная… Чуть-чуть во мраке намечаются силуэты Дагестанских гор, гордые, мрачные, зловещие, стеснившие кругом долину Самура, чтобы, как казалось Нине, в эту минуту вдруг сдвинуться и раздавить жалкое русское укрепление с горстью засевших в него героев. Далеко-далеко в глубине ущелья, вспыхнул огонёк. Или так показалось? Потух? Нет, вон он опять горит… Ярче и ярче…
— Что это? Костёр? Не Левченко ли там? — спросила она у Егорова.
Но тот помотал головой только.
Амед, обладавший, как многие горцы, чисто орлиным зрением, смотрел с минуту и проговорил:
— Там шалаш сухой стоял. Я знаю это место… Ну… Его зажгли… Это горцы… Салтинцы.
— Почему салтинцы? — моментально спросила она, сама не отличая одного горного племени от другого.
— Потому что только они не боятся выдавать себя. А остальные крадутся, как шакалы!
Ночь стыла… Среди своего задумчивого безмолвия она невнятно говорила сердцу о какой-то великой тайне, свершающейся в её мраке… Откуда-то потянуло ветром… Он принёс запах цветов. Благоуханная волна его обдала лицо девушки, и та нарочно ещё подставила горевшие щёки этой чудной ласке юга.
— Какие это цветы, Амед?..
Но Амед её не слушал. Он не только не слушал, но осмелился до того, что схватил её за руку и сжал крепко, до боли сжал.
— Что с вами? — испугалась та, стараясь вырваться.
— Слышите… слышите… Там, там… — указывал он ей направо.
— Ничего не слышу! — она напрягала слух, но для неё ночь молчала по-прежнему. — Самур шумит?..
— Не Самур… И теперь не слышите?.. Вон оттуда, оттуда… где Шарахдагское ущелье в горы уходит… где днём красные скалы!..
Далеко-далеко… Так далеко, что Егоров и внимания не обратил, послышалось, точно падение обвала, но чуть-чуть…
И вдруг в это самое мгновение сначала версты за четыре перед крепостью тявкнула одна собака, потом другая, третья… Тревога передавалась от одного из этих верных животных к другому, и скоро Самурское укрепление находилось как будто в кольце собачьего лая… Егоров насторожился… Собаки продолжают лаять, а они выдрессированы так, что звука не подадут даром… Лай всё слышнее и слышнее… Точно кольцо суживается, отступает к крепости, будто псы отходят назад. Вот в одном месте рычание, бешеный крик… стон… Сильное животное задушило кого-то… Нина с бьющимся сердцем прислушивается… Что-то — и страх, и любопытство вместе удерживает её здесь… Сквозь этот лай и странные звуки, точно ветер бежит по сухим листам кукурузы, она различает тихий-тихий голос Амеда:
— Это они — они. Теперь — ангел Аллаха — бедный Амед скоро умрёт на твоих глазах, чтобы ты не говорила ему, что он слишком молод. Он молод, но рука его и глаз верны, как у взрослых!
Егоров приложился… Сухой треск выстрела прокатился по ущельям. Собаки на мгновение замерли, пока эхо его повторялось скалами и перебрасывалось от одной горы к другой, и потом залаяли ещё ожесточённее… Дежурный барабанщик вскочил внизу.
— Егоров, ты стрелял? — крикнул он.
— Да… Бей тревогу.
Зловещая дробь пробуждающими и оглушительными звуками наполнила тишину спавшей крепости. Она, точно огонь в костре, то разгоралась, то падала… И как будто в ответ ей издали, из-за рукавов Самура послышалось: «Алла-Алла!» Казалось, в устья ущелий, как в трубы, кинули нашей крепости этот вызов неведомые богатыри проснувшегося Дагестана.
— Это и есть горцы, которых папа ждал? — спросила Нина у Амеда.
— Они или нет, сейчас узнаем… Но часть их наверное…
— Смирно! — послышалось решительное и властное позади…
Из казарм с примкнутыми штыками выбегали солдаты.
— Штабс-капитан Незамай-Козёл! С ротой займите за крепостью балку — знаете, вправо.
— Слушаю-с! — ему уже теперь было не до филологических пререканий о своей фамилии.
— Прапорщик Роговой! Пойдите со взводом налево, — помните холм?.. Займите его и сумейте отбиться, если они сегодня бросятся сюда, чего я не думаю, — проговорил Брызгалов про себя.
Послышался скрип крепостных ворот, и мерный топот выступающей роты… Несколько раз звякнул штык, встретившийся со штыком, и опять тишина…
— Амед, это ты? — спросил Брызгалов, выходя наверх, — Нина, ты чего не спишь?.. Ступай, ступай, моя девочка, домой. Теперь может быть опасно здесь.
— Ещё минуту, батюшка. Я не боюсь ничего… И меня не видно тут.
— Амед! Что это? Как ты думаешь?
— Сейчас услышим!..
И, как будто в оправдание этих слов, верстах в трёх от крепости зазвучала слабыми голосами песня, знакомая Амеду:
«Кто, отважный, обрёк себя Богу, —
Без боязни иди на дорогу.
Всё, что видит орлиное око
Позади, впереди и далеко:
Облака и сиянье лазури,
И утёсы, и вихри, и бури, —
Всё послужит во славу Аллаха
Начинанью абрека без страха…»
— Что они поют? — спросил Брызгалов у молодого человека.
Тот обрадованно обернулся к нему.
— Нет, это ещё так… Это не песнь газавата… Значит, — главные силы не здесь… Это так, летучий отряд абреков. Если бы главные силы князя Хатхуа были тут, тогда они пели бы…
И он разом замер и вздрогнул…
С другой стороны, — справа, торжественно и величаво вдруг поднялся к ясным и звёздным уже небесам гимн газавата:
«Слуги вечного Аллаха!
К вам молитву мы возносим:
В деле ратном счастья просим; —
Пусть душа не знает страха,
Руки — слабости позорной;
Чтоб обвалом беспощадным
Мы к врагам слетели жадным
С высоты своей нагорной!»
— Аллах да спасёт нас! — тихо с выражением уже нескрываемого ужаса, воскликнул Амед… — Аллах да спасёт нас! — протянул он руку в сторону к певшим. — Оттуда идут мюриды!
Брызгалов при этом слове вздрогнул. «Мюриды!» Он с невыразимою тоскою взглянул на свою Нину.
— Девочка моя, — иди спать! Теперь ты только помешаешь нам. Иди! И да хранят тебя силы небесные!.. — С неудержимой нежностью он схватил её за плечи, притянул к себе, обнял, поцеловал в чистый, похолодевший лоб и слегка оттолкнул её, уже говоря со строгостью:
— Иди же, иди, Нина! Иди, ложись и спи, не тревожься. Пока ещё опасности нет.
Белый силуэт девушки скрылся во мраке.
— Так ты не ошибаешься, что это мюриды?
— Да! — тихо ответил Амед. — Я не ошибаюсь, — это гимн газавата. Послушайте сами.
— Я не понимаю языка их.
— Они уж кончают его. Вот, вот… Она и есть… Песня мюридов!..
«Наша кровь рекой польётся,
Но за муки и страданья
Тем сторицей воздаётся,
Кто томится в ожидании…»
Эхо долго ещё повторяло отголоски её… Должно быть, и вдали, в ущельях, позади были мюриды, потому что, когда кончили эти, — там ещё только начинался гимн газавата… Чутко прислушивались к нему солдаты. Старые кавказские бойцы — они понимали, что дело теперь становится нешуточно!.. Это не простой набег. Если показались мюриды, — то задачи горцев серьёзны. Они решились умереть. Мюриды не знают страха и в одиночке, — но если они вместе, то или погибнут сами, или уничтожат страшного врага…
— Аллах да спасёт нас! — ещё раз, но уже для себя самого прошептал Амед.
Брызгалов недолго задумчиво смотрел в густевшую перед ним тьму горной ночи.
— Сойманов! — крикнул он, не оборачиваясь.
— 3десь! — послышался отрывистый ответ.
— Станок готов?
— Точно так, ваше высокоблагородие.
— Ну-ка, ракету!.. Сейчас увидим… Это вы, Кнаус?..
Офицер поклонился.
— Направьте туда поправей ракету… откуда пели сейчас эти разбойники.
Ночь опять молчит и точно стережёт кого-то… Рядом послышался треск, и огненная змея взвилась в недосягаемую высоту. Мгновенно, точно от блеска молнии, выступили сумрачные вершины, горные ущелья, словно побледневшая долина, весь белый Самур, — и далеко за ним какие-то медленно двигавшиеся пятна… Ракета исчезла, — но этого было уже довольно… Враг, действительно, был там. Брызгалов его видел. Очарование безотчётного страха исчезло — пред ним была осязаемая опасность, а такой он не боялся.
— Ещё прикажете? — спросил его Кнаус…
— Эй, Стасюк! Наводи орудие направо. Посмотри, где головной отряд, как осветит его ракета. Слышишь?.. Возьми придел вернее… Слышишь… Пугни по команде, да чтобы снаряда у меня даром не тратить!
— Слушаю-с!
— Кнаус! Велите Сойманову ещё одну!
Опять огнистая змея взвилась в тёмное небо. Опять выступили горные вершины и побледневшая долина… Стасюк молодцом приспособил дуло медной пушки.
— Готово? — отрывисто крикнул ему Брызгалов. — Навёл?
— Есть!..
— Орудие… пли…
Во всё своё медное горло гаркнуло оно, выбросив направо огнистый сноп, осветивший разом и Стасюка, и Егорова, и Брызгалова с Кнаусом и Амедом позади, и целую толпу других солдат около. Быстро-быстро прорезая сонный воздух и словно железным бичом рассекая пространство, навстречу врагу понёсся артиллерийский снаряд. Яркой звездой курился в нём фитиль… Чу… Треск разрыва далеко, далеко… Какие-то крики…
— Честь имеем поздравить! В центр попало! — самодовольно проговорил Стасюк. — В самую, значит, говядину.
— Молодец наводчик!
— Рад стараться, ваше высокоблагородие.
Несколько пуль запело оттуда, но, не долетев, упало у стен крепости. Налево — какая-то партия горцев подобралась к прапорщику Роговому, но тот принял её на себя вовремя, допустил чуть ли не на штык и встретил залпом. С диким визгом кинулись прочь оторопевшие лезгины, и долго ещё слышалось «аман-аман» и проклятия, адресуемые ими неверным собакам.
— Господин майор!
— Чего вам, Амед? — обернулся к нему Брызгалов.
— Позвольте мне пройти к ним. Я узнаю, — высмотрю, сколько их, откуда они, и главный ли удар направляется сюда, или нет.
Брызгалов задумался.
— Кнаус! — приказал он. — Сообщите ему пароль и лозунг. Проведите до позиции Незамай-Козла и отпустите. С Богом, Амед!
И майор горячо пожал ему руку.
— Ещё солнце не покажется, — я буду уже здесь, если меня не убьют! — тихо добавил молодой горец.
Теперь весь воздух кругом казался наполненным жужжанием шмелей. Пули пели тоскливую песню, шлёпаясь в мягкий песок Самурских отмелей. Слышалось сухое пощёлкивание выстрелов из горских винтовок, и далеко последними отзвуками замирала в глубине ущелий зловещая песнь газавата…
— Мюриды, — обратился назад Брызгалов. — С этими шутки плохи, надо готовиться к упорной обороне…
Скоро горцам надоело стрелять наобум, и они замерли…
Ночь опять безмолвствовала. В торжественном спокойствии над окутанною мраком землёю совершали обычный круг свой созвездия — иероглифы тёмного неба. Уже совсем смолкая, тихо струился Самур. Откуда-то чуть доносилось ржание лошадей, и только крики: «Слуш-шай!» от башни к башне перелетали над недвижимыми и словно заколдованными стенами одинокой крепости.
Брызгалов у себя писал донесение в Дербент.
Нина, стоя на коленях у иконы, громко молилась, чтобы Бог спас их всех от грозной беды, так неожиданно ворвавшейся в спокойную, будничную жизнь девушки. Когда отец зашёл к ней, она уже лежала в постели, но широко раскрытыми глазами смотрела в полумрак; едва-едва светилась над нею лампада у образа. Кроткий лик Богородицы склонялся в серебряной ризе над нежной головой младенца.
— Ты не спишь?..
— Нет, папа… не сплю. Я молилась…
— Молись, молись, деточка! Наступают тяжёлые дни… Ну, да никто, как Бог!
— Папа, что такое мюриды?
— Завтра расскажу тебе… А теперь успокойся!.. Прощай, дитя моё! — и он три раза перекрестил её.
Что такое мюриды?
В Кюринском ханстве, где, по местной пословице, «слаще мёду виноград», есть на склоне зелёной горы чудесный аул Араглар, утонувший в чаще фруктовых садов, весь полный шума и журчания ключей, бегущих по его кованным камнями улицам. Араглар местные поэты воспевают, как волшебный уголок лени и неги, как лучший цветок кавказских гор… Там люди кажутся благополучными и сытыми, и баранина никогда не переводится в котлах у хозяек. В этой счастливой деревне жил некогда Мулла-Магомет такой святой жизни, что по ночам сам пророк не раз удостаивал его беседой, а как-то, когда он с высоты минарета призывал народ к утреннему намазу, ангелы подхватили его, взвились с ним в недосягаемую лазурную бездну неба, показали ему оттуда сквозь окошко райские сады и затем поставили его опять на тот же минарет. У этого необыкновенного «учителя» жил на воспитании бухарец Хас-Магомет, отличавшийся ещё в детстве созерцательным благочестием, которое так высоко ценят мусульмане. Его отроком видели оцепеневшего, с устремлённым в небеса взором и с выражением самого пламенного восторга в лице. «Что тебе почудилось?» — спрашивали его благочестивые люди, но он, точно проснувшись, молча уходил к себе, и если уже очень приставали к нему, говорил: «Всё равно ведь вы меня не поймёте, на языке человеческом нет таких слов, чтобы рассказать вам это!..» Кончив учение у муллы, юный Хас-Магомет не удовлетворился им и отправился в Бухару, которая тогда играла в мусульманском мире роль самого священного города после Мекки, и, несомненно, ученейшего от Магриба до Дели. Возвратясь оттуда назад в Араглар, — Хас-Магомет показался счастливым обитателям этой деревушки совсем просветлевшим. От его лица струился невыносимый простым очам свет, и его «речи благоухали, как миро». Он принёс с собою в горы новое учение мюридизма и прежде всего обратил к нему своего воспитателя — муллу. Он хотел даже основать в горах монашеский орден наподобие существующих в Бухаре и Персии, но тут слишком хорошо знали и усвоили себе знаменитое изречение Магомета: «ля-рагбаниати-фи-ль-ислам»[32]. Тем не менее проповеди Хас-Магомета и его воспитателя, сделавшегося его учеником, потрясли весь мусульманский мир Кавказа. Мюридами явились уже не созерцатели и богомольцы, а истинные фанатики Чечни и Дагестана. Сохраняя название мюридизма. они стали проповедовать, что для чистоты и утверждения религии нужен газават, что только одна кровь неверных угодна Богу, и можно быть величайшим грешником, но достаточно участвовать в газавате, чтобы попасть в чудные сады рая, в обители Аллаха. Мюриды должны были обвивать голову чалмою-амамед и носить серебряное кольцо на мизинце правой руки. По этому кольцу их узнавали. Однажды в Миссире (Египте) Магомет молился в страшный зной посреди поля. Вдруг он услышал шипение… К нему подползла змея, преследуемая кошкой, и стала умолять пророка спасти её от гибели. Тот спрятал её за пазуху. Но змея и тут боялась своего врага и просила пророка спрятать её в своих внутренностях. Магомет открыл рот, змея исчезла туда. Кошка печально удалилась в кусты. Пророк предложил змее уйти, но та за гостеприимство отплатила ему чёрной изменой. «Я уйду, если ты мне дашь съесть часть твоего тела!» Магомет предложил ей мизинец правой руки. Змея наполовину выползла и впилась в него, но в это мгновение кошка выскочила из засады, вытащила змею и убила её. Пророк погладил кошку рукой — отчего та получила дар никогда не падать спиною, а всегда на ноги. Израненный палец свой Магомет украсил колечком и приказал делать это всем особенно желающим приблизиться к нему.
Аргаларский Мулла-Магомет живо понял силу мюридизма, если ему удастся привлечь к нему влиятельных людей Дагестана. Он созвал в цветущий Арагдар всех куринских кадиев и мулл на совещание. Оттуда, в сопровождении учеников, они все отправились в ширванское местечко Курдомир, где жил знаменитый учёный Хаджи-Измаил, у которого добродетелей было больше, чем волос в бороде. Про него рассказывали, что ему стоило поднять руку к небу, чтобы остановить грозу или поманить её, чтобы она разразилась над Ширваном. Хаджи-Измаил тоже сообразил значение нового движения между горцами. Он видел, что мусульманство колеблется и слабеет, кланы, некогда исповедовавшие христианство, не забыли его и по ночам ходили молиться в руины церквей, охваченные цепкой порослью; клялись именами девы-Мириам и св. Георгия. Ислам замирал, установления шариата забывались, всюду на их место выступал народный обычай — адат. Восстановить веру можно было, только раздув фанатизм до газавата, и на этот-то подвиг эфенди Хаджи-Измаил благословил муллу Магомета и провозгласил его муршидом — учителем. Предание говорит, что в эту минуту над эфенди явился Азраил и вручил ему «меч смерти», который тот и передал новому ставленнику… Араглар стал тотчас же центром возрождённого и преобразованного тариката. Со всех сторон потянулись сюда толпы мусульман, колебавшийся ислам начал крепнуть, тем более, что Хаджи-Измаил передал Магомету тайну некоторых чудес для совершения их перед легковерными горцами. Русские, не подозревая цели этого движения, ему не мешали, и мулла Магомет спокойно до конца жизни проповедовал видоизменённый тарикат, сплачивая горные кланы в большие общества, общества в союзы, посылал учеников и к племенам Адыге, и в Чечню, и даже в Абхазию… Он весь Арагдар наполнил молодыми муллами, фанатизируя их, и умер, оставив по себе не только последователей, но и множество муршидов, готовых на смерть ради торжества мюридизма на Кавказе. Тогда же было объявлено вечное «канлы» русским. До тех пор наши имели в горных округах немало кунаков и друзей, — после уже нельзя было водить и простого знакомства. Отсюда до джигата было не далеко… Мулла-Магомет и его последователи весь Дагестан с Чечнёй и Кабардой обратили в громадный пороховой погреб. Достаточно было искры, чтобы взорвать его сразу. Прежде горные кланы смотрели на войну, как на рыцарскую забаву, молодчество, воспитательную школу для юношей или как на способы добывать себе наши стада и грабить русских, — теперь она звалась газаватом — святым, ведущим прямо в рай подвигом. Была забыта вражда между отдельными аулами, прекратились споры соседних племён.
Мюридизм мог сделаться тем, чем он стал потом — только с таким имамом, как Шамиль. Воин и государственный человек в одно и то же время — он сумел подчинить себе все кланы Дагестана, слить их в одно целое и стройное, создать между ними строгие законы и заставил служить себе слепо, не рассуждая. Свободолюбивые сыны утёсов следовали за Шамилем всюду, куда он только водил их. В разрозненных горцах возникло сознание, что, только соединившись, они могут отстоять независимость, — и они уже не оставляли имама даже в тяжёлые минуты, когда он терпел неудачи. Не жестокий сам Шамиль заставлял их быть зверями, чтобы сделать невозможным их примирение с русскими. Он так могуче раздул пламя ненависти к нам, что оно одним сплошным пожаром охватило и Дагестан, и Чечню, и все горские черкесские племена, и абхазцев. Даже давно поселившиеся внизу, в долине, джарцы, хоть тем было отлично под нашим владычеством, бросали свои дома, сады и поля и уходили к новому имаму. Хунзах был похоронен нами. Новый Хоцатль взят русскими штурмом, — но взамен Шамиль приобретал сотни новых аулов. Мы в 1837 г. заняли всю Аравию, — но Шамиль прислал нам сказать, что если ему останется хоть одно ласточкино гнездо, то и из него он сумеет быть страшным урусам. Загнанный, как зверь, в Ахульго — Шамиль в этом огромном становище, повисшем над безднами, сумел создать крепость, которую могли взять только наши кавказские войска. Как это случилось, — сам Шамиль не понимал, а народ его считал нас за воплощённых шайтанов. В 1836 г. Ахульго дымился пожарищем после титанического штурма. Шамиль кинулся в Большую и Малую Чечню. Там к нему присоединились ичкеринцы, ауховцы и карабулахцы, и когда мы считали Шамиля погибшим, он во главе 30.000 мюридов явился на наших границах.
Вот что такое был мюридизм и мюриды!
Брызгалов, как и весь гарнизон, понимал, что ему надо или победить, или умереть. Побеждённым пощады не будет!.. Да к поражениям войска того времени и не привыкли. Они могли отступать, но не сдаваться, — для крепости же отступления не было — значит оставалась смерть!
До рассвета он ворочался в постели, одетый и готовый каждую минуту идти на стену.
За несколько минут до зари, к нему привели Амеда.
Юноша был утомлён и измучен. Он загнал коня и назад пришёл пешком.
— Ты ранен? — крикнул ему Брызгалов.
— О, это ничего! — с презрением взглянул он на левую руку, на которой запеклась кровь. — Так, шрам… Тот, кто нанёс его, уже никому о нём не расскажет… Я его уложил в овраге недалеко от вашей позиции.
— Ну, это, разумеется, мюриды, да?
— Да! И их ведёт, как я и думал, один из наибов Шамиля — князь Хатхуа.
— Сколько у него людей?
— Самое малое двенадцать тысяч человек будет через несколько дней.
— Почему будет?
— Потому что он послал во все горные общества «землю и воду»[33].
— Какая у него цель?
— Я подслушал. Они думают взять Самурское укрепление и потом обрушиться на Дербент.
— Подавятся и здесь!
— Они хорошо вооружены и отлично снабжены провиантом… Князь Хатхуа ждёт, что сам Шамиль приедет сюда.
Брызгалов задумался.
— Амед! Могу я на тебя рассчитывать?..
— Приказывайте! Я умру, стараясь исполнить, что вам надо.
— Одно… Оказия не дошла до Дербента… Надо дать знать туда, что мы окружены.
— Завтра в полдень я выеду.
— Почему в полдень?
— При полуденном свете меня будет трудно отличить… Не пишите писем, скажите мне всё… Я не забуду ни слова.
— А теперь иди, отдохни!
Ровно в шесть часов дня, когда солнце встало, оно застало Амеда на ногах.
Он и не отдыхал. Под окном у Нины он ждал её пробуждения… Когда девушка подошла к окну и растворила его, к ней в комнату упала свежая роза. Нина выглянула.
— Это вы, Амед?
— Я… пришёл проститься с вами.
— Куда вы едете?
— Меня майор посылает в Дербент.
— Я боюсь за вас!
Юноша улыбнулся.
— Я пришёл проститься, — ещё раз повторил он. — Может быть, я буду убит. Прошу у вас милости…
— Какой?
— Дайте мне что-нибудь. Ленту.
С чисто женским инстинктом Нина взяла ножницы, отрезала прядку волос и подала их в окно. Амед с разгоревшимися счастливыми глазами тотчас же спрятал её у себя на груди. Через мгновение его уже не было…
Да-а-вад
Майор Брызгалов встал тоже чуть свет.
Ветер гнал ещё тучи по бледнеющим небесам, горы кругом курились туманами, и только вершины их сияли первым приветом зари. Мгла лежала в ущельях… Ночь умирала на западе, кутаясь в уходившие с нею облака… Степан Фёдорович взошёл на стену и зорко оглядел окрестности.
— Вы уже здесь? — встретил он Кнауса.
— Точно так!
Исправный офицер возился со зрительной трубой.
— Ну, что вы рассмотрели?
— А вот, не угодно ли.
Все дали, — насколько они уже освободились от тумана, — оказывались занятыми лезгинскими дружинами. Прислонясь к горам, вне выстрелов крепости, но кругом неё, стояли они пёстрым кольцом… В одно марево сливались там и конные, и пешие. Сплошной гул нёсся оттуда. В устьях ущелий видны были другие скопища, туманными реками заливавшие их… Они пропадали в глубине теснин. Казалось, грозный Дагестан выслал сюда всё, что у него было. Первые лучи солнца, проникшие в долину, яркими пятнами выхватили из её мглы толпы джигитов, зелёные значки отдельных партий, какое-то крошево пеших дидойцев, обёрнутых в свои овечьи шкуры, щеголеватых аварцев, горевших позолотою оружия и позументами одежд, койсабулинцев в их красных чухах, карадахцев, обёрнутых верёвками, которые они, как американские гаучо лассо, бросали петлями в неприятеля и душили его издали, даргинцев, гордо проезжавших в серых черкесках по становищу, гимринцев в чёрном, казавшихся траурными точками в общей картине вражьего лагеря… Да, это были мюриды! И без гимна их Степан Фёдорович хорошо понимал опасность положения. Дело не кончится двумя-тремя штурмами. Эти или сами погибнут, или истребят гарнизон укрепления до последнего человека!.. Это злейшие наши враги — фанатики переродившегося в страшную боевую силу тариката… Вон зелёные чалмы их мулл. И муллы вооружились: в газават они ведут за собою полчища лезгин… Вон наибы в жёлтых чалмах. Сколько их! Целыми группами переезжали они с места на место, и кругом точно море поднимаются и неумелыми грозными волнами катятся толпы джигитов… Вон пёстрые чалмы сотенных начальников. Неужели — всё это присоединилось к жалкой горсти салтинцев, поднятых сумасшедшим князем Хатхуа — этим «рыцарем гор», которого хорошо знал Брызгалов… Его, кабардинского узденя, — даже свои звали за слепую отвагу «дели» — одержимый. Вон красные чалмы глашатаев. Они собираются впереди, должно быть, сейчас поедут к крепости с предложениями; коричневые — ходжей или тех кто был в Мекке. Весь запас головных уборов, установленных Шамилем для мюридов, с чёрными тряпками на головах палачей включительно. Должно быть, по пути к салтинцам имам прислал свои войска. Самый большой зелёный значок с золотой рукой над его древком — приближается к крепости. Перед ним на чудном коне золотистой масти гарцует кто-то… Да это и есть Хатхуа. Его гордая посадка, его сверкающее драгоценными каменьями оружие. Он всё ближе и ближе. Теперь Степан Фёдорович различал закинутую на затылок папаху кабардинского узденя; дышащие неукротимой энергией черты смуглого и худого лица, пламенные очи, в которых никогда не гаснет огонь свободы… За ним молодёжь… Если бы Степан Фёдорович знал их, то он бы различил Джансеида, Ибраима, Селима и Сулеймана. Это почётный конвой начальника лезгин, его авангард…
— Кнаус!.. Распорядитесь навести орудие на эту шайку! — приказал Брызгалов, — Чиненкой в них.
У орудия затормошилась прислуга. С аккуратностью немца Кнаус несколько раз примерился и тогда уже проговорил: «Готово!»
Старый артиллерист стоял с дымящимся фитилём… Мортира, кровожадно подняв вверх свою пасть, казалось, замерла в ожидании добычи.
— Пли! — резко раздавалась команда Брызгалова.
Туча дыму, рёв орудия, свист бомбы, взвившейся в высоту… Степан Фёдорович смотрит… Целое облако пыли взорвалось там. Конвой кабардинского узденя разлетелся кругом, как вспугнутая воробьиная стая; припали головами к шеям коней и несутся к горам. Только князь стоит, как вкопанный, точно он изваян… На минуту его скрыло облако, но когда оно рассеялось, — уздень был на том же месте… Гул пошёл по его лагерю. Крики. Засверкали толпы разряженных всадников с диким гиканьем понеслись они вперёд и назад. Заволновалось целое марево пеших лезгин у самых гор…
— Расшевелили… Ну-ка, ещё туда!..
Вправо какие-то наибы в жёлтых чалмах, как курослеп, горели на солнце. Они тоже слишком близко поддались к крепости. Бомба легла прямо в их кучу, и всадники прыснули во все стороны… Грохот разрыва чуть слышно донёсся оттуда. Ветер был против!..
Теперь горное утро уже сияло и лучилось повсюду…
Чем яснее выступали долины, тем яснее видел Брызгалов, что они сплошь залиты воинственными толпами мюридов. Газават подготовился и вырос внезапно. Никто его не ожидал у нас! Тяжёлые предчувствия давили коменданта. «Бедная Нина! — шептал он про себя… — И зачем я её вызвал оттуда?» Одна надежда оставалась на Дербент, если Амеду удастся туда пробраться!.. «Бедная моя девочка, нерадостно тебя встречает родина!» Но потом какою-то тёплою, воодушевляющей волной совсем иное чувство бодрости и сознания долга прилило к нему и высоко-высоко подняло старика майора. «Никто как Бог!» — прошептал он и, уже орлиным взглядом из-под седых бровей оглядывая солдат, крикнул:
— Покажем, братцы, что мы не привыкли считать врагов.
— Рады стараться, ваше высокоблагородие!..
— С такими молодцами, как вы, наше Самурское гнездо отобьётся и от в двадцать раз сильнейшего неприятеля. Не таких разносили! Кто со мной был в Гимрах, тот помнит…
Солдаты повеселели.
— Теперь по крайности нескучно нам будет сидеть здесь, товарищи… А то мы мхом было поросли и плесенью покрылись. Да и молодых пора окурить пороховым дымом. Правда?
— Точно так, ваше высокоблагородие!
— С сегодняшнего дня всем по чарке водки, пока будет длиться осада… Караулы и секрет держать в исправности… Помните, — лезгины злы, как волки, и хитры, как лисицы… Для секретов места укажет нам Левченко… Он недаром исходил их…
— Г-н комендант! — официально обратился к нему Кнаус.
— Что прикажете?
— Вон кучка в красных чалмах подъезжает, не пугнуть ли?..
— Нет, это у них глашатаи. Они их парламентёрами к нам посылают. Есть белый лоскут?
— Есть. И тот кабардинский князь с ними, Хатхуа, что ли?..
— Прапорщик, — выезжайте навстречу с конвоем…
— Сколько их?
— Двадцать шесть…
— Возьмите двенадцать казаков и встретьте их вот за тем рукавом Самура. Сюда их не пускать. А мы станем сверху сторожить. Если они вздумают только шевельнуться, мы их свинцовым дождём угостим.
«Верно, предложение сдаться „Да-а-вад“», — подумал он и потом уже громко отдал приказание:
— Послать мне переводчика сюда!..
Через несколько минут Кнаус, гордясь возложенным на него поручением, выезжал из крепости… Он медленно доехал до одного из рукавов Самура. Фыркая и косясь, конь его вступил в воду, и, разбрызгав её бриллиантовыми каплями во все стороны, — казаки живо перебрались на ту сторону. Князь Хатхуа отделился и поехал вперёд один. Глашатаи со значком остались позади. Кнаус приказал казакам ждать и также подъехал к кабардинцу.
— Здравствуй! — приподнял тот папаху. Хатхуа в плену выучился русскому языку.
Кнаус отдал ему честь.
— Брызгалов здесь?..
— А тебе какое дело?..
Кабардинец улыбнулся.
— Поклон ему от меня. Старый знакомый. Он хороший джигит. С таким приятно дело иметь… Храбрый джигит. У нас бы его имам сейчас главным наибом своим сделал… Вот ему передай!.. от нас… письмо… Да покроет Аллах его своею тенью! Я хотел его посетить в крепости… Я бы поехал туда с тобой…
Кнаус сослался на то, что ему не дано такой инструкции.
— Говорят, к нему дочь приехала?.. — засмеялся уздень.
Прапорщик вспыхнул и схватился за шашку, да вспомнил, что парламентёры неприкосновенны, и только закусил себе губы.
Хатхуа притворился, не заметившим этого движения.
— Я слышал, красавица. Кадий наш был у вас; — видал её. Ну, что же, тем лучше. Моей женой будет.
— Да, только до тех пор тебе придётся поболтаться на виселице.
— Мне на виселице? Я не принимал присяги русским. Меня за измену судить нельзя.
— За измену нельзя, а за разбой и воровство можно.
Князь побледнел и бросил гордый взгляд на белобрысого офицера.
— Скоро твоей матери придётся плакать о тебе… осиротеет она…
— А разве ты незаконнорождённый, что о тебе плакать будет некому?
Кабардинца точно нагайкой ударили. Он уже на стременах привстал, но тотчас же сдержался.
— Мы ещё встретимся с тобой… Посмотрим в бою, так же ли остра твоя шашка, как твой язык.
— Достаточно остра, чтобы рубить бараньи головы! — продолжал с истинно-тевтонским спокойствием Кнаус.
— Смотри, сам не попади на забаву нашим бабам. Они тебя заставят воду носить, коноплю варить, шерсть чесать.
— А разве для этого мало кабардинских князей в горах?
Хатхуа с силою сжал рукоять своей шашки. Глаза его метали молнии на Кнауса, но белобрысый немчик только улыбался, очевидно, уже вполне владея собою.
— Ты бы, князь, шёл к нам. У нас в первой роте водовоз болен.
— Я к вам и приду. Только на каждом зубце вашей крепости по голове воткну сначала. У вас их хватит.
— Если хочешь поступить к нам мясником, у нас довольно скота… На год запаслись…
Хатхуа ударил коня нагайкой, тот поднялся на дыбы.
— Довольно языки чесать… Мы с тобою не бабы.
Горец повернул коня и подъехал к своим.
Брызгалов читал у себя привезённый казаком пакет.
Переводчик Керим передавал ему содержание этой бумаги по-русски:
«Да благословенно будет имя Аллаха отныне и во веки… В неизречённой благости и милосердии своём он пожелал, чтобы умы неверных просветились блеском учения его. Истребляя упорных и слепых гяуров, он всем, жаждущим истины, широко открывает сады Эдема… Приходите и пейте из источника правды! Наслаждайтесь благочестием и воспойте ему хвалу. Ему и пророку его. Ибо един Бог, и нет иных, кроме него. Един пророк его Магомет, и нет равного ему пред тысячью тысяч очей Аллаха… Имя ему Адн, и рука его — весь мир, всю вселенную держит на кончике мизинца…
Коменданту Брызгалову привет и благоволение. Прежде чем мы спалим твоё гнездо и раздавим вас, как змеёнышей, выброшенных из норы, прежде чем ворон будет клевать ваши очи, а ветер сушить тела, прежде чем жаждущий меч пророка досыта напьётся вашей крови, мы — рабы Аллаха, перст в руке его, дуновение его уст, предлагаем именем имама Шамиля и его наибов вам послушать нашего „да-а-вада“, сохраняя себе жизнь, и приобрести милость пред очами пророка. С получением сего — прикажи поднять на башне своей белый флаг. Выборным нашим сдай орудия и всё оружие. Сами выйдите вон из крепости и коленопреклонённые ждите прощения… Муллы наши научат вас истинам Ислама, и Аллах неверных собак очистит и сделает агнцами стада своего… Мы осведомлены давно о твоей храбрости, — жаль губить джигита, который и у нас может служить правому делу. Предлагаем тебе милость, — не наешься грязи. Указываем тебе спасение, — не заблудись на. ложном пути.
Нет бога, кроме Бога, и Магомет пророк его.
Нас много, — вас мало. У нас позади горы с их житницами, а у вас впереди одна смерть… Не раздражай терпения нашего, потому что мы едва удерживаем шашки в ножнах. Они давно хотят зазвенеть в бою. Пожалей себя и своих, — благоразумный вождь ищет спасения там, где победа невозможна. Не будь в ослеплении подобен ишаку, умершему от голода вблизи целой кучи саману. Небо открыто всем, надо только знать истину.
Аллах велик! Или вы не слышали вчера гимна газавата? Трепещите же и ждите смерти!»
Брызгалов засмеялся.
— Всё налицо и в порядке… Кто это мог у них написать? Очевидно, не сам князь Хатхуа.
— Нет, это на совете кадиев, должно быть.
— Садись, Керим, и пиши!
«Кабардинскому князю Хатхуа привет. Письмо твоё получил и глупости его удивляюсь… Большим ты ослом вырос, а понимаешь меньше новорождённого щенка. Жаль мне твоей молодости, и потому я готов оказать милость тебе. Немедля положи оружие, пришли заложников и сам явись с верёвкой на шее, без папахи и пешком. Тогда вам всем будет сохранена жизнь, и царь вам покажет свою щедрость. Иначе, пошли матери своей и матерям твоих разбойников извещение, чтобы они заранее уже оплакивали вас. Мы настигнем вас в ваших горах, сорвём с утёсов ваши аулы и сбросим их в пропасти вместе с вами. Чаша нашего долготерпения давно полна. Берегитесь прибавить туда одну каплю, — она разольётся и потопит вас со всеми вашими глупыми мюридами. Вчера мы слышали не гимн газавата, а вой чекалок, вышедших на добычу и увидевших её в когтях у могучего русского орла. Я был у вас и благодарен за то, что вы пришли ко мне. Не одна мать в горах оплакивает сына своего, убитого при встрече со мною. Теперь вы сами явились на погибель. Подумайте сначала… Я оторву мясо от костей ваших и брошу его голодным зверям ущелий, а ваши кости размечу во все стороны, чтобы племена и народы всех четырёх стран света знали о вашей жалкой участи. Я так напою землю вашей кровью, что она долго не будет просить у меня пить»…
— Что ещё прибавить в восточном духе? — засмеялся Брызгалов. — Довольно, я думаю. Прибавь: «просите милости, пока мои уши слышат; если я заткну их перстами ненависти, — кровь похолодеет в ваших жилах и между вами не найдётся никого, чтобы рассказать в аулах о вашей гибели».
Керим написал.
— Что, столько же вышло, сколько и у них?
— Немного меньше.
— По-ихнему это будет неудачно. Добавь: «У нас достаточно свиней, чтобы, убив их, в нечистые шкуры их зашить ваши тела и высушить их на солнце». — Прибавил?.. Ну теперь закончи: «а кабардинскому князю Хатхуа — привет. Мы помним твоё пребывание у нас и жалеем тебя. Ты молод и храбр. Благоразумие тебе чуждо, но ты не виноват в этом… У вас у всех каменные головы». Теперь запечатай. Свербеев!
Казак вошёл.
— Отвези и отдай ответ. Скажи, чтобы прочли его на джамаате при всех наибах, и кадиях, и муллах. И затем, прикажи им убираться во весь карьер, а то я сейчас же, как наши отъедут, открою огонь.
Когда казак и переводчик вышли, — лицо Брызгалова стало серьёзно.
Он недолго сидел у стола. Глаза его остановились на небольшой походной иконе в серебряной ризе. Он опустился перед нею на колени.
— Господи сил! Спаси нас! Ты наша защита и покров. На тебя только и надеемся в слабости нашей. Их много, нас мало, — пощади, Всемогущий!.. Сохрани и спаси дочь мою!.. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных.
Осенив себя крестным знамением, он сделал земной поклон и встал уже спокойный.
И он уже бодро и смело пошёл на башню крепости.
В первый день осады лезгины ничего не предпринимали…
Глядя на них в зрительную трубу, Брызгалов видел, что они собирают «джамаат». Жёлтые, зелёные и красные чалмы сошлись вместе вне выстрелов крепости, у опушки каштановой рощи, и долго толковали о чём-то. Амед, бывший ещё на стенах, — думал, что неприятель ждёт подкреплений, и, действительно, не прошло часу, как где-то далеко-далеко послышался напев священного гимна, и в ущелье налево, сначала смутным пятном, показались новые дружины мюридов…
— Ну, теперь мне пора… Я пойду… Если меня убьют, — скажите отцу, что я погиб, как прилично мужчине… — тихо проговорил Амед, обращаясь к Брызгалову…
— Вернись скорее! Помни, что от твоего успеха всё зависит… Передай генералу, что я сказал тебе… Не забудь ничего.
— Слушаю…
Через несколько минут ворота крепости растворились широко, и в них вынеслась на простор бывшая здесь казачья полусотня. Этот манёвр был исполнен, чтобы не дать заметить выхода Амеда. У лезгин зоркие глаза, и Брызгалов знал, что везде теперь со скал и с вершин деревьев горцы неотступно наблюдают за тем, что делается в крепости… Амеду удалось в толпе казаков так юркнуть в ближайший лозник, что самый подозрительный соглядатай не различил бы его в общей суматохе. Казаки с дикими восклицаниями, пики наперевес понеслась через рукава Самура. Целыми фонтанами ярких брызг засверкала вода. Скоро всадники выбрались на ту сторону и, точно желая осветить местность и узнать, насколько приблизились к нам лезгины, стремительно промчались вдоль их бивуаков под целым дождём пуль… В трескотне выстрелов замерли крики людей… Навстречу казакам выскочили джигиты в пёстрых чалмах и, горяча своих огневых коней, приняли наперерез… Но наши сделали всё, что им было нужно, и теперь, описав большой круг по равнине, стремглав вернулись назад. В бешенстве преследования горцы сами не заметили, как подъехали под наши пушки… Оглушительно на всю Самурскую долину ахнули их медные жерла и свинцовыми брызгами картечи обдали занёсшихся храбрецов.
— Молодцы, ребята!.. — похвалил своих Брызгалов, заметив, как лезгины соскочили с коней подобрать убитых и раненых, которых они никогда не оставляли в руках неприятеля, даже рискуя новым неравным боем и новыми потерями. — Ну-ка, ещё брызни!..
Четыре горных пушчонки опять сделали своё дело вдогонку за всадниками, во всю прыть уносившимися из-под наших выстрелов.
— Не любишь! — радовался Незамай-Козёл. — Г-н майор, позвольте маленькую вылазку…
— Нельзя-с. Нам теперь не шутки шутить. Их много, — каждая рука у нас должна быть на счету. Солдат у меня нынче дорог будет…
— Слушаю-с!
— Нечего бесполезно финтить молодечеством. Никто и без того, и они первые, — кивнул он по направлению к лезгинам, — не сомневается, что у нас трусов нет… Уже если вам так хочется, можете на ночь опять в секреты.
Полуденное солнце жгло невыносимо…
В ярком блеске его млели, точно раскалившиеся, утёсы и вершины гор. Даже небо, казалось, побледнело от зноя. В воздухе кругом дрожали искры. Больно было смотреть… Струй Самура кое-где лились расплавленным серебром. Амед осторожно приподнял голову в кустах… Теперь его никто не узнал бы. Он обернул папаху белым лоскутом, как простой лезгин. Щёгольскую чуху он оставил в крепости, на нём болтались жалкие лохмотья дидойского байгуша, самого несчастного из горских бедняков. Грудь была открыта, — её немилосердно жгло солнце, но она и без того была бронзовой от его лучей, и такие неудобства ни во что не ставились в горах. Амед даже больше изорвал старый и изодранный архалук… Оружия у него только и было, что кинжал, болтавшийся на полинявшем поясе. К подошвам ног он прикрепил верёвками куски сырой кожи… Только гордый взгляд больших чёрных глаз, то и дело загоравшийся под его соколиными бровями, выдавал в нём елисуйца, привыкшего к совсем иному обиходу. Оглядевшись кругом, Амед пополз вокруг крепости. Он знал, что там отдан приказ не стрелять по нем, — и боялся только, чтобы его не заметили со стороны лезгин. До наступления сумерек ему нужно было быть уже за Самуром. Лохмотья его ещё более рвались в колючих кустах. То и дело он оставлял на их шипах обрывки и лоскутья старой чухи. Руки уже в нескольких местах он изодрал на выступах острого кремня, но Амед и на это не обращал внимания. Солнце там, где кусты расходились, жгло его в затылок. Раз змея попалась на пути и зашипела, приподымая свою расплющенную головку с злыми глазами и розовым языком. Амед не обратил на неё внимания. У него висел на шее талисман от укуса ядовитых гадов, и юноша вполне верил в его силу… Змея, действительно, свилась в кольцо и вместо того, чтобы броситься на него, уползла в кусты… Скорпионы на открытых местах, гревшиеся на солнце, разбегались во все стороны… Когда Амед уставал, он ничком ложился на землю и отдыхал несколько минут, унимая кровь из разодранных колен и локтей… Немного спустя, кусты стали повыше. Тут ему уж можно было привстать. Он обернул всю свою папаху зеленью и, таким образом, голова его слилась с верхушками кизиловой поросли и орешника. Он смело пошёл вперёд и через час по выходе из крепости обогнул её угол. Проходя мимо, он поднял голову, и его сердце забилось жутко-жутко. Между зубцами стены он заметил беленькое платьице Нины. Теперь, если бы на него поднялись силы всей земли, он бы не испугался их. Он понимал, что спасти крепость, значило спасти Нину, и это чудное видение воодушевило Амеда. Оно дало ему уверенность в себе. Даже боль в ссадинах точно утихла, но он старался прятаться теперь ещё тщательнее, и уже не от одних лезгин, но и от девушки. Ему казалось невозможным попасться ей на глаза в таком ужасном виде… Мелькнувший на минуту призрак Нины, даже заставил его промурлыкать про себя песню, старую горскую песню.
Скоро ему пришлось залечь на опушке. Тут кончались кусты… Дальше шли отмели Самура и главный рукав его позади крепости катился бурными, хотя и неглубокими водами. Амед лежал недолго. Он сообразил, что его лохмотья нисколько не отличаются от серого цвета земли, но идти дальше нельзя было, и Брызгалов, обходя стены укрепления, видел, как юноша медленно и осторожно ползёт к реке. «Дай ему Бог удачи!.. И нам тоже! — тихо помолился старый майор. — Коли успеет, хорошо… Нет, да будет воля Твоя, Господи!..» Амед с наслаждением погрузился в холодную воду. Всё тело его в ссадинах и синяках ныло и болело, а студёная влага оживляла его усталые ноги и руки… Он жадно припал к ней и напился её… Пройти реку он мог быстро, но его заметили бы. Нужно было ползти на отмелых местах и, согнувшись, красться там, где было поглубже. По середине реки он выпрямился. Теперь только его нос, да глаза были над водой; ещё несколько времени, и он поплыл через самое стремя. Быстрина здесь сносила его на восток. Он сообразил это и нарочно стал ей поддаваться. Так река за него сама исполняла работу. Он уже далеко унёсся по ней и, обернувшись, заметил, какою маленькою стала крепость и как вдруг перед ним выросли стены каких-то скал, и близки-близки сделались облегавшие Самурскую долину горы. Быстрина мчалась здесь, кружа ему голову. Точно тысячи молотком стучали ему в уши, а внизу там, где вода стремилась по кучкам мелкого щебня, глухой шорох сдвинутых камешком покрывал её рёв… Грохот реки скоро стал погружать Амеда в какое-то забвение. Его ужасно потянуло скорее на дно. Ему вдруг захотелось сложить на груди руки и отдаться этим струям… Закрыть глаза… Мышцы точно стали неметь. Ноги тоже не держались уж… Но он разом сбросил с себя это гибельное очарование. Нужна была борьба, чтобы выйти из него и очнуться совсем, и Амед опять заработал руками, выбиваясь из быстрины в боковое, менее стремительное течение. Ему это удалось и, приблизясь к берегу, на отмелом месте, по которому струи бежали тонким слоем, юноша прилёг и отдохнул, прежде, чем пуститься далее.
Ему пришлось долго лежать тут.
Он, приподымая голову, отлично видел теперь у самых гор бивуаки лезгин. Вон они! Вон их зелёные значки, вон, точно далёкие венчики мака, мелькают красные чалмы. Вон всадники, от нечего делать, джигитуют и в облаке пыли несутся вдоль скал куда-то… Вон подымается дымок от костра. Сизою нитью вытянулся в недвижном воздухе и высоко-высоко исчезает, сливаясь с ним… А где крепость?.. Какая низенькая кажется отсюда! Только четыре её башни шишечками выдвинулись над приземистой линией стен. Должно быть, горды её отовсюду обложили теперь. По крайней мере, и здесь они сомкнули концы подковы, которую вчера наблюдал Амед по блеску огней ночью… Сомкнули концы подковы кольцом… Ну, да, юноша не боится их. Через их бивуак, как стемнеет, он пройдёт свободно. Кто его отличит от простого пешего лезгина, которых здесь теперь тысячи! Скажет, что из Белокани пришёл, а белоканских здесь мало. Далека, очень далека Белокань, — никому и не будет странно, что его никто не знает. Лишь бы на своих елисуйцев не наткнуться. Положим, елисуйцы в мире с русскими. На Коране клялись страшною клятвою. Да, ведь, то старики, а детям клятва не обязательна. Наверное Али здесь, да и Гассан тоже; благородная страсть к войне и приключениям заставила их бежать из дому навстречу смерти и славе… В случае чего, он и сам может сказать, что ушёл от отца. Только чем он объяснит свой жалкий вид, лохмотья эти? Э, да не всё ли равно?.. Разве его не могли ограбить в горах?..
А струйки мелководья текли мимо, напевая ему здесь уже тихие песни. Солнце играло на них золотыми бликами. Амед лежал так неподвижно, что несколько маленьких рыбёшек метнулось было к нему и, заметив его глаза и лицо, кинулись прочь, разгоняя воду быстрыми движениями хвостов и мутя её. Как близки отсюда кажутся горы!.. Их вершины, окутанные теперь облаками, точно нависли над самой головой. Вот-вот рухнут и раздавят его. Каждая складка их склонов ярко, резко выступает теперь, значит, солнце стало уже склоняться к западу. То и дело по ним вырезываются новые и новые скалы, незамеченные минуту назад. Вон на одном утёсе прилип к нему ласточкиным гнездом аул. Над самой бездной висит. Дунет ветер, кажется, и разом рухнут эти крохотные сакли… Зелёный купол мечети между ними, как горошина, и тонкий стебелёк минарета. Будун кричит теперь, верно, четвёртый намаз! А вон ещё выше другой аул. Облачко потянулось, должно быть, ветерком его погнало куда-то, и из-под него, из-под этого облака вдруг показалось горное становье… Всё блестит на солнце. Облако влажный след оставило на кровлях и стенах, и они огнём загорели, отражая лучи. Скучно лежать. Как скучно… Солнце теперь не жжёт, но жди пока оно зайдёт за горы, и они бросят на эту долину свою густую тень, под защитою которой ему, Амеду, можно будет двинуться вперёд к той вон линии горских дружин.
Амед от нечего делать размечтался. Ведь на свете, что ни случается, — случается по предопределению. Как знать, может быть, Аллахом в неисповедимой судьбе решено дать ему, Амеду, большую славу и большое богатство. Теперь он простой елисуйский горец. Положим, ага — дворянин. Ну, а исполнит это поручение, ему дадут Георгия… Будет участвовать в бою, — второго… А там сам Царь узнает об этом, прикажет ему на плечи эполеты повесить. Разве мало таких случаев бывало? Он сам знает, — Гассан-бек из таких же елисуйцев, как и Амед. Даже родом хуже: у Амеда мать, хоть и краденая, а всё же кабардинская княжна, а у того — простая хунзахская лезгинка… А Гассан-бек уже капитан теперь, и на груди у него сколько крестов, больше, чем ран на теле! Что Гассан — храбр, ну, а он, Амед, — трус разве?.. Станет он офицером и сделает что-нибудь необыкновенное… Срубит голову Шамилю, что ли, и в мешке её привезёт в Дербент… Спросит его сам царь Николай: «Что ты, молодец, хочешь за это?» — «Ничего, — гордо ответит Амед. — Отдай мне только Нину!» Или ещё лучше: окружат Нину черкесы, а он один, как орёл, пробьётся, выхватит её из шайки и увезёт в свои горы. Она ему и скажет: «Коли ты умел спасти меня, то я теперь вся твоя буду, и не нужно мне другого мужа. Что наши веры различны, это всё равно, потому что Бог один и, если Он позволил тебе освободить меня, значит, Он меня отдаёт тебе»… И сладко, сладко делалось молодому человеку, так сладко, что он уже не заметил, как из ущелья потянулся ветерок и зарябил струи Самура, от гор удлинилась тень, и эта на восток обращённая сторона вся точно матом покрылась… И скалы опять слились с складками и неровностями склонов. Только вершины гор резко выделились каждым гребнем своим, каждым утёсом. И за ними, за этими гребнями и утёсами ярко-ярко горело солнце. Да, разумеется, счастье теперь в его руках. Если Амед его не добьётся, сам виноват будет. У него пока нет соперников. Все эти там, ничего не стоят. Они — храбрые джигиты, и Кнаус, и Роговой, и Незамай, но девушка, он сам видел это несколько раз, — смеётся над ними… А над ним, над Амедом, хоть он и простой горец, она, не смеялась никогда, никогда… Почему только она его «Аммалат-беком» звала? Какой он Аммалат-бек? — он елисуйский ага, а не бек совсем!.. И кто это такой Аммалат-бек? Где она, такая молодая, успела познакомиться с ним?.. А, должно быть, знаменит был Аммалат, — иначе о нём не стали бы книг писать. Ну, да там будь, что будет.
И сердце его щемило сладкою, ласковою грустью, Она теперь за него, за Амеда, молится по своему. О, как бы он хотел быть раненым на её глазах. Именно на её глазах. Его принесут в крепость, и она, Нина, будет ухаживать за ним… Амед даже глаза зажмурил от счастья, но тотчас же открыл их опять… У мюридов вдали послышались крики… Он приподнялся на локтях. Кто-то, должно быть, объезжал их. Не готовится ли что-нибудь на сегодняшний вечер. Кто-то важный. Жёлтая чалма на нём и за ним много в зелёных чалмах… Значок… Пожалуй, сам Хатхуа… И вдруг у Амеда загорелась ненависть к своему дяде. Вся месть, воспитанная в нём семейными преданиями, этим кровавым канлы, которое существовало между двумя их родами, вспыхнула точно пожарищем. Подобраться, да ударить его кинжалом в спину… Что же, что во время войны канлы отменяется… Ведь он, Хатхуа, не только враг их рода, он враг и Нины. Попадись она в его руки, — сейчас в саклю к себе возьмёт, женой сделает… А не согласится та, туркам продаст.
Тени росли и росли… Одна от вершины этой вон горы с двумя аулами, даже к самому Самуру подошла. Теперь скоро. Скоро ему можно будет выйти. Вместе с тенью вечера лёгкий туман подымится над долиной. В тумане хорошо… Никто его не заметит. К самым позициям, а там смелость выручит. Амед приподнялся… Вечер почуяли и кони вдали… Ржание их слышится по всей долине… И позади, и впереди, и по сторонам. Краснее и ярче стали огоньки костров. Там вон у гор уже лёгкая мгла есть. Вокруг этих костров будто пар чудится… скоро и сюда дойдёт… Пора уж, впрочем, а то выпустят из крепости собак, ещё не узнают Амеда, изорвут его. Пора… «Аллах-экбер!» Он поможет… «Ла-Илляги-иль-Аллах-Магомед Рассуль Аллах»… — тихо проговорил он и поднялся. Вода сбежала по его лохмотьям, оставив влажный след на высохшей отмели. Амед, зорко глядя вперёд, двинулся туда, где две горы сжались, оставляя перед собою едва заметное ущелье. По этому ущелью он на Шахдаг проберётся, а от Шахдага — рукой подать к Дербенту… Дней через пять он будет там. В эти пять дней с крепостью, а следовательно и с Ниной, ничего не случится.
Туман, действительно, подымался… Тускло в нём горели костры, пламя их издали казалось большими красными пятнами.
И солнце скоро должно было сесть. Гребни гор совсем почернели. Несколько розоватых полос уже окрасило небо заревым румянцем… Амед встряхнулся и быстро-быстро двинулся вперёд.
Костры всё ближе. В отсыревших лохмотьях своих — Амеду было довольно прохладно… Он нарочно пошёл вкось, чтобы сидевшим у огня не показалось, что он идёт прямо из крепости. Скоро ему почудилось, что горы на него надвигаются. Их чёрные скалы на огнистом море заката становились грознее и зловещее. Ущелья ложились реками тумана, и на высоте, на самом темени утёсов, точно изваянные из коралла, блистали белые сакли горных аулов. Чеченский всадник встретился Амеду и презрительно оглядев его лохмотья, запел точно про себя:
— «Эх, лезгин, лезгин! Хорошо тебе идти на русских, — что они сорвать с тебя могут? — грязь одну»…
Молодой елисуец не остался в долгу. Он ответил тоже, не глядя на чеченца, другой песней…
— «Мы идём на войну оборванными и голодными, — возвращаемся сытыми и одетыми… Аллах положил разницу между нами и Чечнёй. Та идёт в бой раззолоченная, а домой босая бежит и в лохмотьях… Эй, чеченец, где твои позументы? — Потерял в бегстве… Где твоя черкеска, шёлком шитая? — Бросил, чтобы спасти свою шкуру»…
Чеченец с негодованием отплюнулся и, подбодрив коня нагайкой, полетел в сумрак уже наступавшей внизу ночи.
На Амеда вместе с ветром потянуло запахом чесноку. Молодой человек не ел с утра. Он даже ноздрями задвигал, так его голодного раздражал этот дух свежего варева. «Должно быть, хинкал приготовляют!» — с завистью проговорил он, не давая мысли слишком долго работать в этом направлении, — он только подтянул пояс потуже и решительно двинулся вперёд. Скоро огонь одного из костров точно вырос перед ним. Под красным светом, ярко разгоравшимся, виднелись смуглые горбоносые лица… Папахи, откинутые назад, голые, бритые лбы…
— Селам! — проговорил, мимо проходя, Амед.
— И тебе тоже… — ответили ему.
— Аллах да поможет! — приостановился он.
— На тебе его благословение… Голоден?.. Если голоден, — садись…
Амед не заставил себя просить второй раз. Он только зорко оглядел присутствующих… Они сидели спокойно, мало обращая на него внимания. По горскому обычаю, раз пригласив к общему котлу прохожего, его нельзя было расспрашивать ни о чём. Они даже притворялись равнодушными, хотя каждый сам про себя думал, кто бы был этот молодой красавец в таких лохмотьях. Амед, впрочем, пришёл к ним на помощь.
— Не знаете ли, где наши джарцы?
— Ваши джарцы! — презрительно вырвалось у старика с красной бородой. — Ваши джарцы… вероятно, русским служат, у нас их мало.
— Я знаю, что мало. Мы у себя привыкли количество заменять качеством. Один храбрец лучше тысячи трусов.
— Чох-якши!.. Хороший ответ! Жаль, что платье-то у тебя не так красиво, как язык, о, юноша!
— Я должен был бежать из дому… Не пускали свои на газават. Слава Богу, что и в этом добрался!
— Ты мне нравишься! — продолжал старик. — Я тебе найду у себя чоху получше…
— Не надо! — гордо ответил Амед. — Я не милостыни пришёл просить сюда, а драться.
— Тебе не милостыню и дают, а делятся с тобой по-братски.
— Делись с другими. Я оденусь, когда мы возьмём тех… — и он кивнул на русскую крепость, казавшуюся теперь тёмным и смутным пятном за побледневшим Самуром.
— Джигит настоящий… Бог приглашает! — по обычаю показал старик на котёл.
Туда только что всыпали в навар из чесноку массу мучных шариков. Они вскипели и поднялись наверх. Хинкал был готов.
Все принялись за еду. Амед тоже и здесь себя лицом в грязь не ударил.
— Дай Бог тебе истребить столько русских, сколько ты съел хинкалу! — засмеялся старик, следя за ним глазами.
— Я не стану считать ни тех, ни других, — улыбался и Амед. — Гяурам Бог счёт ведёт или шайтан, кто их знает… А хинкалу чем больше гость съест, тем больше хозяину почёту.
— Жаль, у меня нет такого сына, как ты. Счастлив отец, взрастивший тебя!
Почувствовав себя сытым, Амед встал.
— Куда ты? Выпей бузы с нами!
— Нельзя. У нас не пьют бузы в Джарии. Да и своих надо искать.
Он двинулся решительно вперёд, стараясь оставить костры скорее за собою. Но и там, куда он шёл, они всё выделялись из мрака красными пятнами. Точно сотни кровожадных глаз вспыхнули в темноте и, подняв свои веки, не мигая, смотрели на этого оборванца, старательно выбиравшего промежутки между ними… Около одного такого огня ему, впрочем, пришлось остановиться. Он услышал елисуйское наречие и весь даже похолодел. Его тоже заметили оттуда, не различая его черт.
— Эй, кто там? — кричали от костра.
Над ним было старое дерево. И ветви его тускло освещались полымем.
«Это Али и есть!» — рассуждал про себя Амед, и взялся было за кинжал, но, сообразив, что всё равно одному со всеми справиться невозможно, решительно двинулся вперёд. Сердце его билось с страшной быстротой, но юноша шёл уверенно и смело.
— Али, ты это? — весело крикнул он.
— Кто меня спрашивает?
— Тот, кого ты и не ожидаешь.
— Амед, сын Курбан-Аги!
Все вскочили с мест. Оглядев их лица, Амед заметил, что ни в одном не было ничего враждебного. Только одно удивление и выражалось на них. «Амед, сын Курбан-Аги», — слышалось ему повторяемое уже шёпотом. Он беззаботно подошёл и сел.
— Чего вы все?.. Точно вас шайтан над елисуйской горой поднял и на землю в подолы к бабам швырнул.
— Зачем ты здесь? Мы не ожидали… Нас тут шестеро…
— Теперь будет семеро. Зачем я здесь!.. Большие вы жеребята, а надо ещё вас учить траву есть! Зачем я здесь… За тем же, за чем и вы… Что же я спокойно буду слушать, как горный ветер станет разносить по ущельям гимн газавата. Даром что ли у меня руки выросли? Уж не думаете ли вы, что я девчонка в шальварах, убирающая золотыми шнурками свои волосы и румянящая щёки, чтобы понравиться Али?..
— Нет, нет… Мы знаем тебя… Только… Только, ведь твой отец друг русским.
— Я в дела отца не вхожу! — угрюмо проговорил Амед. — Не советую никому и в мои мешаться. Я даже у отца и платья не взял. Как раб в лохмотьях ушёл.
— Да… Но ты тоже всегда за русских стоял с тех пор, как учился у них в Дербенте.
— Я и всегда скажу, что с них надо пример брать. Надо учиться и работать, как они, тогда и мы будем также богаты и сильны. Да что вы в самом деле пристали ко мне!.. Мансур, ведь и твой отец друг русских… Да и твой, Али, не особенный враг им! А вы здесь… Что же вы хотите, чтобы о Елисуе никто на заикнулся, когда будет перечислять подвиги газавата в эту войну.
— Мы ради за тебя. Ты хороший и храбрый товарищ. Только тебе придётся быть под начальством Хатхуа.
— Канлы во время войны отменяется. Я не боюсь его, и пока мы не вернёмся, ему тоже нечего меня бояться.
За костром живо закипела весёлая беседа.
Елисуйцы и особенно елисуйская молодёжь отличается беззаботностью и страстью к песне и смеху. По местному преданию, елисуйцы так надоели своими песнями Богу, что Он, в один далеко для них не прекрасный день, приказал им всем онеметь. Елисуйцы отчаивались только неделю, а когда она окончилась, они стали плясать да так, что в раю пророку и святым покою не было. Они кинулись к Аллаху: «Помилуй, — небо дрожит от пляски елисуйцев. С тех пор, как ты повелел им молчать, у них точно все шайтаны в ноги вселились». Подумал, подумал Аллах и вернул им дар слова. «Всё меньше шуму будет!» — решил он.
Амед невольно задумался…
Теперь дело осложняется, — пешком не уйдёшь от них. Завтра они все всполошатся и догадаются, что он пошёл к русским. Нагонят его, и тогда прощай его дело.
«Надо будет лошадь добыть!»
«Как?» — он не думал. Когда все заснут, тогда и сообразит он, что ему делать. А теперь ему так приятно было между своими.
И, сидя под громадною чинарою, прислушиваясь, как шипели сучья, над которыми жарился вкусный шашлык, любуясь зрелищем костров, сиявших кругом, Амед невольно уносился опять мечтами в будущее. Сумрачные вершины гор висели над ним. Порой откуда-то доносилась полная тоски и неги горская песня… Говор затихал; где-то далеко-далеко слышались струны сааса, чей-то поистине, прекрасный голос точно вздыхал и, замирая, запел поэтическую песню, одну из тех, которыми так богат прикаспийский юг… Песня шла ближе и ближе… Очевидно, — певшие двигались мимо… Скоро их силуэты выделились из сумрака… Амед разобрал толпу юных беков. Посреди молодой красавец, роскошно одетый, небольшой сам, но с громадным кинжалом, схватясь одной рукой за него, а другой придерживая грудь и перегибаясь с одной стороны на другую, точно это ему помогало петь, импровизировал уже новую песню.
— Это Сафар-бек! — шёпотом заметил Али…
— Тише вы!.. — крикнул кто-то в стороне.
— Кто там смеет приказывать елисуйцам? — вскочил запальчиво Али.
— Тот, кто может заставить полететь ваши головы, как спелые колосья из под серпа в жаркое лето.
И вдруг около костра обрисовался гордый силуэт молодого наиба, роскошно одетого… Елисуйцы вскочили все на ноги… Амед расслышал тихое, словно шелест: «Князь Хатхуа!» и впился пламенными глазами во врага своего рода. Хорошо, что Хатхуа не взглянул на него. Ненависть, ярко сверкавшая во взгляде Амеда, открыла бы тому многое… Он презрительно обвёл елисуйцев «калёным взором». Так говорят в горах.
— Елисуйцы? — коротко переспросил он.
— Да, господин.
— Петь да плясать — ваше дело. Посмотрим, как вы драться станете. У чёрта таких кукол много, как вы… И орут, и танцуют. Тушить костры! Слышите!.. Спать, утром с рассветом — дело будет… А если петь хотите, — есть на это гимн газавата. Кончится война, вернётесь домой… Тогда и я с вами петь готов, если жив буду…
И он удалился от костра.
Тишина воцарились кругом. Только шипели горящие головни, которые разбрасывала кругом молодёжь.
— Это Хатхуа… Хатхуа… — шептал про себя Амед, следуя за ним взглядом.
— Он около нас и спать будет…
— Где? — спросил его Амед, притворяясь равнодушным.
— А вон за теми деревьями. И лошади его там стреножены.
Больше ничего не хотел знать Амед. План его был составлен. Он вдруг сделался спокоен и весел. Спросил у Али, что назначено на завтра, тот кратко: «Приступ»; потом Амед закинул руки за голову и притворился спящим. Ночь стыла и горела всеми звёздами. Чёрные в её заколдованном царстве стояли утёсы… Ветер пробудил листву чинары, и она сладко и нежно шептала ему что-то, но он равнодушный уже был далеко и будил другие деревья…
Ночью
Ночь была тиха, так тиха, точно она замерла, ожидая какого-то страшного преступления… Амед заснул, как убитый. Подобно всем горцам, он знал, что проснётся, когда ему будет надо, и действительно, — не успели семь очей Большой Медведицы над вершинами Дагестанских твердынь совершить четверть своего оборота, как юноша был уже вне царства грёз, так нежно ласкавших во сне его чуткую душу. Он потянулся. Открыл глаза. Звёзды сияли ярко… Зловещий Альдебаран стоял над самою Шайтан-горою, и красный блеск его, казалось, играл на её грозных утёсах. Амед прислушался. Кругом раздавалось только ровное дыхание спавших елисуйцев. Чу, где-то заржала лошадь… Другая ответила ей. Далеко-далеко затявкали крепостные собаки… И по тому направлению, точно желая осветить местность, взвилась огнистою змеёю ракета. И опять тьма, звёздный блеск и молчание… Амед пополз прочь от товарищей осторожно, медленно… Земля стала уже влажной, и шорох его тела по ней был совсем не слышен. Хатхуа — там вон… Во мраке смутным пятном выделяется значок его, — дальше ещё какие-то пятна… Тихо-тихо ползёт Амед. Теперь не только судьба крепости и его жизнь, но и жизнь Нины зависит от успеха задуманного им предприятия… Вот уже дыхания елисуйцев не слышно. Направо — дидойцы, но они далеко, налево — чеченцы из Карадага, — те тоже не увидят его теперь. Костры залиты и разбросаны. Только чутьём и можно взять. Амед приподнялся и уже пошёл. Обувь его из сырых бараньих шкур, мехом наружу, совершенно скрадывала звук шагов. Нескольких минут было достаточно, чтобы расстояние между ним и становьем Хатхуа сократилось, и Амед опять припал к земле. Сердце бьётся. Со страшною силою бьётся, так что юноша приостановился и ничком пролежал, боясь, чтобы кто-нибудь не уловил этого стука. И в голове точно молотки… Все пульсы будто кричат о нём, предупреждают врага. Амед, приподняв голову, посмотрел на звёзды. У него было достаточно времени. Торопиться незачем. Он знал, что теперь, если понадобится с его стороны удар, то повторить его нельзя будет, а его рука, как и сердце, должны быть тверды. Скоро, впрочем, бой его сердца сделался тише, и юноша почувствовал такой прилив отваги и уверенности, что двинулся вперёд опять… На что-то холодное и склизкое наткнулся он… Оно зашуршало прочь, и лёгкое шипение послышалось около. Змею встревожил… Вот прямо перед ним какое-то пятно. Ноги спящего человека. Амед — мимо и, только поравнявшись с его головой, чуть приподнял свою и различил худое лицо тоже юноши — лезгина… А около — ещё спящий… Джансеид и Селим даже не задышали тревожнее, — до того тихо двигался теперь Амед. Медянка в траве производит не больше шума. Наконец-то вон что-то блестит… Амед различает подбитые серебряными подковами каблуки. Это — Хатхуа… Это — князь. Его кинжал с золочёной ручкой… Его ружьё брошено около — в бурочном чехле… Князь разметался во сне и спит крепко-крепко… Так крепко, что не слышит, как над его лицом поднимается другое, такое же молодое, красивое, дышащее смертельною ненавистью к нему.
Амед жадно смотрел на него своими ястребиными глазами. Смотрел, стараясь не дышать, чтобы не разбудить врага. Рука юноши уже потянулась к кинжалу, но он вдруг отдёрнул её прочь и, несмотря на темноту, покраснел. «Какая подлость!» — подумал он. Нарушение такого адата на веки вечные сделало бы его, Амеда, позором всей своей семьи и пословицей в горах. Говорили бы: «подл, как Амед, сын Курбана-Аги… Он убил врага во время газавата»… «Живи, — мысленно крикнул ему Амед. — Живи, пока судьба не сведёт нас вдвоём грудь с грудью!.. Живи!..» Но тем не менее — так уйти Амед не мог. Он пощадил жизнь врага, но оружие ему принадлежало, и адат даже ничего не говорил против этого… Амед взял ружьё Хатхуа, привязал его к своей спине, чтобы оно не мешало ему ползти дальше, и опять двинулся вперёд… Вон — темнеют сливающиеся силуэты коней… Если бы знать, какая из них принадлежит князю… Впрочем, примета верная: конь Хатхуа не должен быть рассёдлан, и, действительно, вот он — стреноженный, но засёдланный… Спит тоже, должно быть… Ещё не улёгся, но голову свесил, и только тонкая кожа породистого кабардинца порою вздрагивает… Амед подполз ему под брюхо, — перевернулся лицом кверху, вынул кинжал и разрезал треног. Почуяв себя свободным, конь переступил шаг, другой… Амед за ним. Вынул из-за пазухи чурек и поднял его к самой морде лошади. Лошадь почуяла запах хлеба и потянулась за ним, — но Амед уже отполз, — лошадь чутьём узнала, где лакомый кусок, и направилась к нему… Он ещё дальше, — конь за ним… Вон другие кони… Одни уж к земле припали и только, видя движущегося мимо коня, — провожают его ласковым похрапыванием. Один, стреноженный, подскочил ближе и тоже потянулся за хлебом, — Амед скорее пошёл уже… Ему казалось, бояться нечего. Стреноженный конь отстал, лошадь Хатхуа следовала за ним и тянулась мордой к чуреку. Амед хотел уже вскочить в седло, как вдруг рядом, точно из земли вырос какой-то горец… Амед хотел припасть к ней, но было уже поздно, Он смело повернулся к нему… Горец смотрел на него с изумлением. Видно было, что он ещё не совсем сбросил с себя чары сна и не определил, видится ли ему всё это, или действительность сама перед ним. Амеду нельзя было давать ему время очнуться совсем. Он как-то присел и быстрым движением прыгнул — прямо на шею горцу, всунув ему в рот свой левый кулак! Оба повалились на землю. Но Амед уже обвил его крепкими ногами, а правой рукой сдавил ему шею… Горец захрипел… Амед бегло осмотрел его и отличил кабардинский наряд… Очевидно, он был на службе у Хатхуа… Амед заметил, что задыхавшийся нукер всё-таки рукою тянется к своему кинжалу, и отпустил горло его; не обращая внимания на то, что тот кусает его левую руку, — Амед выхватил свой, сам не зная как, быстро нащупал сердце лежащего, и не успел тот ещё употребить последних усилий, чтоб приподняться, как елисуец ударил его кинжалом. Судорога пробежала по телу несчастного… Что-то тёплое залило грудь Амеду… Он тихо встал… «Жаль мне тебя! — прошептал он. — Ты ни в чём не виноват, но верно судьба твоя была такова. Кысмет! Аллах судил тебе сегодня быть убитым. Всё равно, если бы ты осилил, — ты бы убил меня!..» Только теперь елисуец заметил, что у него с головы во время всей этой экспедиции слетела папаха. Он взял такую у убитого, снял у него из-за пояса пистолеты, которых у Амеда не было, и, оставив труп, — сел на коня и тихо поехал вперёд… Тут уже не было никого. Очевидно, убитый принадлежал к числу сторожей, поставленных у бивуаков. Хатхуа, боясь вылазки, обеспечил себя сильною цепью часовых спереди — там, где его лагерь обращён был лицом к Самурскому укреплению, — здесь же у него не было почти никого. Нападения отсюда не могло произойти.
Кабардинец, почуяв чужого всадника, заартачился было, но Амед знал горских коней и быстрым ударом кинжала поразил его ухо. Лёгкая рана заставила благородного коня вздрогнуть и кинуться вперёд, но елисуец чуть не разодрал ему рта удилами и так сильно ногами сжал ему бока, что конь захрипел, покосился на него и вполне подчинился воле своего всадника. Тут уже долина кончилась. Амед сообразил, что между ним и последним бивуаком Хатхуа версты две легло… «Спасибо тебе, князь! — засмеялся он. — И за ружьё, и за коня!» Ему на минуту жаль стало, что, пожалуй, этого подвига его никто не узнает. Самый подвиг ещё обнаружится утром, но кто его сделал, будет тайной… Впрочем, елисуйцы ведь не станут скрывать, что вчера между ними был Амед. А сегодня нет его; значит, Хатхуа догадается. Тем лучше. После этого уже никто не осмелится дома считать Амеда за юношу. То, что он сделал прежде и теперь, достаточно для того, чтобы даже на джамаате ему позволили говорить после старших, а настоящие джигиты, пододвинувшись, давали бы ему между собою место…
Он уже поднялся на первый холмик.
Точно завернувшаяся в белое одеяло, долина под ночною мглою была позади. Амед хотел было уже понестись теперь вовсю, как вдруг там в темноте далеко-далеко, где должна была находиться крепость, вспыхнуло пятном в тумане, и, несколько секунд погодя, послышался сухой треск залпа. Опять огни и опять залп. Вот новое светлое пятно, очевидно, орудия с башни сбросили сноп огня в ночную темень, и глухой удар пушечного выстрела покатился в ущелье, которое начиналось у этого пригорка. Мгновенно позади точно ожили долина и горы. Гул тысячи встревоженных голосов наполнил недавнюю тишину ночи. Беспорядочные выстрелы затрещали со всех сторон. Где-то далеко послышались крики: «Алла! Алла!», и Амед сообразил, что какая-нибудь, посланная с вечера князем, шайка наткнулась на русский секрет и вызвала залп оттуда. В тактику горцев входили ночные нападения врасплох. Даже не достигая прямой цели, они всё-таки, не нанося им больших потерь, не давали русским возможности спокойно спать. Неприятель утомлялся и терял энергию и силы.
Амед, впрочем, недолго думал.
Он понял, что Хатхуа уже на ногах, что он хватился ружья и не нашёл его, кинулся к коню, и коня не было; что, несколько минут спустя, увидят убитого кабардинца, и всё дело обнаружится. Теперь каждое мгновение было ему дорого. Он наклонился к голове коня и чуть не в самое ухо ему пронзительно гикнул. Лошадь стремительно понеслась вперёд, выбивая искры из каменных пород, составлявших дно ущелья. Погони позади ещё не было, но Амед сам вырос в горах и понимал, что она не заставит себя ждать долго, особенно когда Хатхуа узнает, кому он обязан этим. «Амед, — сообразит он, — служит русским и послан не иначе, как русскими с депешами из крепости»… Каждая секунда увеличивала расстояние между елисуйцем и горцами. Не прошло получаса, как ущелье позади было уже оставлено, а впереди потянулись цепи едва различимые во мраке холмов. Одно спасение заключалось в том, что едва ли у горцев найдётся такая лошадь, как эта. Для Хатхуа легче было бы проиграть одну битву, чем потерять подобного коня. Это наполняло мстительную душу Амеда невыразимою радостью. Он даже нашёл возможным петь о чём-то, о чём сам не знал. Горным духом взлетал он на вершины холмов и злобным Джином вскачь стремился вниз. Эта ночь убьёт коня, но ему, Амеду, всё равно. Завтра он будет уже далеко — у самого берега моря… И какое ему дело тогда до огорчений Хатхуа!.. Он даже бросит кабардинца здесь на пути. Может быть, лошадь отыщет погоня и приведёт назад никуда не годную.
Как на этом бешеном беге он не полетел через голову коня, как кабардинец не споткнулся, Амед потом не мог дать себе отчёта. Ночь ветром своим что-то кричала ему в уши, точно предостерегая его; горные потоки, казалось, стремясь догнать его, бежали некоторое время рядом и оставались далеко позади… Около, точно часовые, вырастали утёсы, — он и их бросал где-то за спиною… А семь очей Большой Медведицы уже совершили, половину назначенного им волею Аллаха круга и теперь смотрели прямо в лицо этому юноше, летевшему, как вихрь в пустыне Джанасана, как стрела, пущенная великаном Сааласом в сказочного тура, как… Но Амеду было не до сравнений… Он знал, сколько счастья или несчастья связано с его успехом и восклицал мысленно: «Ты помог мне, Аллах, значит, дело, которому служу, — угодно Тебе… Дай же, чтобы к утру копыта коня уже коснулись солёной воды Каспийского моря!..»
Горы на востоке выделились определённее, чем такие же на западе…
Сердце Амеда радостно забилось…
— Сейчас будет день… Сейчас будет день! — кричал он в лицо этой ночи, время которой уже было сочтено, в лицо этой тьме, дрогнувшей и побледневшей в ожидании солнца… И, действительно, когда рассвет заставил потускнеть звёзды, — и белая шапка Шайтан-Дага уже позади вдруг обрисовалась в сумраке, — недалеко перед Амедом спокойное, бесконечное, прекрасное в своём медлительном ритмическом движении раскинулось море. Он с наслаждением потянул в себя воздух — и ещё стремительнее понёсся навстречу торжественному шуму его валов, белой кайме пены, лежавшей на берегу… Море!.. Тут уж он был безопасен.
Дербент в начале сороковых годов
Причудливые горы, сливаясь, недолго тонули в таинственном полусвете… Море слегка колыхалось. Южные звёзды ещё страстно горели над ним. Но, когда на его безбрежный простор легли уже алые отсветы зари, — налево весь грозный Дагестан точно выдвинулся величавыми и мрачными вершинами. Амед смотрел туда. Как всё было пустынно! Аулы внутри за первым кряжем. На берегах к горам прижались только рощи громадные, вытянувшиеся зелёными облаками на целые мили. Там, когда прежде ему случалось проезжать по ним, он видел следы рвов и окопов. Горец знал, что это остатки славного похода, совершённого здесь некогда великим Петром… Но теперь ему было не до этого. Он стремился всё вперёд и вперёд. Он соображал, что погоня за ним давно уже несётся, и старался как можно далее убраться подобру-поздорову. Разумеется, когда украденный у Хатхуа кабардинский конь протянет ноги, — лезгины уже далеко отстанут, — Амед будет в виду русских позиций, но для этого надо не обращать внимания на усталь и всё более и более увеличивать расстояние между собою и ими… Когда солнце поднялось, наконец над вершинами Дагестана, — конь уже не мог идти так быстро. Ноги его подкашивались. Справа море набегало кипучими волнами на золотые отмели… Казалось, чудовищные змеи развёртывались и свёртывались в клубах пены. Грудью выгибались упругие воды налетавших валов и внезапно раскидывались белыми кружевами по береговому понизовью. Грохот и шум их глушил все остальные звуки. Амед вовремя вспомнил, как живущие у моря чеченцы освежают усталых коней. Он с разлёта въехал в море. В брызгах солёной пены, в каком-то белом облаке понёсся он по крайней линии прибоя, чувствуя, что всё на нём от папахи до чевяк смокло. Конь храпел, отворачивая морду, останавливался и снова, поматывая тонкой шеей, шёл вперёд. Из воды он вышел освежённым, а когда поперёк берега легла серебристая нить горного потока, и лошадь напилась в нём, — она вдруг сама почувствовала себя бодрой, прибавила шагу и быстро понеслась вперёд.
Эту ночь усталый и изнеможённый Амед провёл в мирном ауле, у своего кунака.
На другой день встал он рано и к вечеру уже увидел вдали величавые стены Дербента.
Стены Дербента! Сколько веков протекло над ними, и каких событий были они безмолвными свидетелями! Громадные валы народных войн часто разбивались об их некрушимые оплоты, пока не явился настоящий властитель — Россия, до тех пор Дербент из-под ига персиян переходил к туркам, становился независимым, вновь захватывался персами, чтобы после опять почувствовать на себе оковы предприимчивых соседей.
В 1806 г. неожиданно под стенами Дербента явился Зубов, взял город штурмом и присоединил его на вечные времена к Российской державе. С тех пор ханство дербентское было отёрто с лица земли, в цитадели, вместо султанов или ханов, поселили храброго майора в качестве коменданта и дали ему две роты молодцов, творивших тогда чудеса на Кавказе и за Кавказом.
Лучшее время для Дербента наступило при Ермолове, здесь началось рыцарское управление краем. С ним пришли лучшие люди тогдашней России, скоро завоевавшие нам здесь великое уважение. Справедливость царствовала в судах. Часто даже немирные племена, джигиты, участвовавшие в газавате, являлись разбираться в Дербент, зная, что им будет оказана «правда» в полной мере… Население успокоилось и разбогатело — да так, что в соседних горных ханствах, как например, в Елисуе, Тарках и других, возникли большие народные партии, долго противившиеся газавату. Они высоко ценили наше управление, — а персы даже бежали сюда из отечества, зная, что тут их ждёт безопасность и довольство… Мало-помалу Дербент, некогда похожий на аул, обнесённый стенами, вырос и стал городом настоящим, ярким и пёстрым. Безлесная гора довольно круто поднималась над морем, по этому скату сверху от гребня до моря шла выемка, — точно гора внутри вдалась, чтобы дать место городу, ласково обнять его. В этой громадной впадине с высоты к берегу древний город раскинулся в колоссальных сказочных стенах… Каждый домик, каждая мечеть отсюда годились бы на эффектную декорацию. Белые, выбеленные окна на серых стенах весело блистали на солнце, зелёные деревья над ними недвижно замерли в воздухе, несмотря на отсутствие ветра, уже напоённом ароматом цветов. Изящные галерейки, как ласточкины гнёзда, цеплялись всюду, где им оказывалось место. В вершине угла — белели параллелограммы комендантских домов и цитадели укреплений. Посреди города громадный купол зелёный и правильный… Это — большая персидская мечеть. По другую сторону, на востоке, голубая полувоздушная полоса Каспия, немолчный и ласковый шелест пышных садов, точно розовым дождём осыпанных цветами… Какие-то чужеядные растения цепкими стеблями перекидываются с одного дерева на другое, падая водопадами нежной зелени, посреди которой, словно жадно раскрытые губы, ярко-красные венчики слегка колыхались под ленивым движением полузасыпающих ветвей…
Солнце, уходя за горы, весь Дербент охватывало радужным сиянием. Во дворе мечети собралась толпа уже и с любопытством смотрела на загнанного, но чудного кабардинского коня и на его всадника.
— Да это Амед, сын Курбан-Аги. Кажется, он… Непременно он…
— Нет. Какой Амед! Это байгуш какой-то оборванный. Разве вы не видите? Или вам пыль глаза засорила?
— Амед простого сукна не наденет! А этот в драной холстине. У Амеда и на полях черкески позументы.
Елисуец в это время встал и, обратившись к заходившему солнцу, весь был облит его алым светом.
— Амед и есть… Амед! Ты это? Амед… душа моя!..
— Амед! «Да растворятся врата твоего безмолвия!» Чего ты, как соловей, у которого кошки хвост отъели!.. Скажи слово!.. Ты ли это? Что случилось с тобою? Откуда ты коня такого добыл?
— После, после, — теперь не до вас. А коня этого, — не выдержал он, — отнял я у князя Хатхуа. Пустите, я тороплюсь!..
— Куда ты? К себе?
Они знали, что в Дербенте у Курбан-Аги свой дом.
— Нет, к коменданту.
— Поди, переоденься, разве можно так являться? Тебя не пустят, скажут: лезгинский нищий, а не елисуйский ага!
Но Амед ударил коня нагайкой, и тот вынесся в растворённую калитку мечети.
Ему хотелось рассказать о своих похождениях, дербентцы бы завидовали ему и удивлялись, но Амед знал, с кем имеет дело. Но горской пословице: «скажи дербентцу что-нибудь по секрету, и сейчас же об этом в Стамбуле и Тегеране узнают». А Амед не мог ещё сообразить, насколько в данном положении нужна тайна, и потому решился молчать до свидания с комендантом.
У коменданта
Полковник Берхман только что вышел на обычную свою прогулку по стенам Дербента. Как коменданту крепости, ему мало было дела у себя в цитадели в сравнительно мирное время, а теперь, когда по сведениям, несколько дней назад полученным им, газават уже объявлен, что он мог предпринять с двумя ротами и несколькими сотнями казаков? О движении лезгин он ничего ещё не знал. Посланный с депешею нарочный от Брызгалова не доехал, а Амеда он пока не видел. Он поднялся наверх и невольно загляделся туда, где к стенам Дербента некогда примыкала славная в древности, поразительная до сих пор своими величавыми остатками, стена, уходившая по гребням гор и их стремнинам внутрь Кавказа.
— Да! Тут делай, что хочешь! Светлейшему хорошо было прокатиться миротворцем по Кавказу, да поснимать войска отовсюду. Как-то мы станем расхлёбывать эту кашу! Теперь в Петербурге все в восторге. Помилуйте, — одними добрыми чувствами умиротворили Дагестан. Он нам покажет это умиротворение! В полгода мы больше потратим солдат, чем за все эти двадцать лет, и поздно будет всё-таки. Хорошо ещё, что они не осмелятся обложить Брызгалова в его Самурском укреплении… А то пришлось бы плохо… — и он, понурив голову, пошёл к себе домой.
Вечер быстро сменился ясною ночью. Молодой месяц ярко светил над старою крепостью, и всё море далеко внизу было охвачено его серебристым сиянием… В комнатах комендантского дома, некогда дворца шамхалов тарковских, где гостил Пётр Великий, было светло и весело… Офицеры собрались уже на партию бостона. Как везде на Кавказе, здесь железная дисциплина царила только в строю, на службе. Вне её все оказывались добрыми приятелями, и фамильярность была общим условием жизни в этих горных гнёздах. Берхман скоро забыл свои тяжёлые предчувствия и сам повеселел.
В это самое время в дверях показался вестовой.
— Чего тебе? — спросил Берхман.
— Там горец спрашивает вас.
— Какой горец?
— Не знаю-с. Говорит, самого полковника надо… Я уж ему толковал, чтобы он к адъютанту шёл. Не слушает.
— Сейчас выйду. Переводчика!
— Он говорит чисто, ваше высокоблагородие.
— Ещё лучше.
Берхман вышел, всмотрелся в Амеда и не узнал его.
— Чего тебе надо?
— Я Амед, сын Курбан-Аги Елисуйского.
— Боже мой!.. Я и не узнал тебя… Что с тобой? Что значит этот маскарад?..
— Иначе мне нельзя было бы и пробраться через позиции неприятеля, полковник. Я переоделся в Самурском укреплении.
— Что? Какой неприятель в Самурском укреплении? Туда пробирались горцы только слабыми шайками.
— Слабыми шайками! Их больше двенадцати тысяч… Газават объявлен, и первый удар его обрушился на майора Брызгалова. Горными скопищами командует князь Хатхуа.
— Князь Хатхуа?.. Не может быть… Он ведь при Шамиле теперь, — это любимейший из его наибов. Не может быть.
— Нет, полковник, может. У меня его ружьё, а внизу — лошадь, отнятая у него.
— Отчего ты не убил его? Ведь между вами кровь.
— Я? По адату во время войны все канлы отменяются.
— Как это всё случилось? Постой, — пойди сюда. Жена тебя чаем напоит, да и ты едва держишься от усталости.
Амед вошёл. Здесь его знали почти все. Офицеров удивили лохмотья, в которых явился к ним богатый елисуец. Он скромно сел в стороне, по горскому обычаю, не рассказывал сам, а ожидал расспросов.
— Амед, садитесь к столу!.. Ну, теперь, пожалуйста, с начала и подробнее.
Горец шаг за шагом передал всё, что с ним было с того момента, как Брызгалов дал ему опасное поручение, и до того, как он явился в Дербент. Он старался умалчивать о том, что сделано им самим, но это невольно сквозило в его рассказе.
— Вот молодчинище-то! — вырвалось у офицера.
Амед оглянул его сияющим взором и продолжал свой рассказ.
— Что ещё приказал передать Брызгалов?..
— Главное… У них продовольствия хватит только на три недели… Не больше…
Берхман задумался. Самые тяжкие из его предчувствий оправдывались ранее, чем он думал. Система Чернышёва уже приносила первые плоды… Послать провиант — пустое дело. Его заготовлено было в Дербенте много, но как его доставить в крепость, обложенную отовсюду… В виду громадного скопища горцев — надо было для прикрытия не менее батальона, а его не было в распоряжении у Берхмана. Он знал, что и генералу, командовавшему линией, неоткуда взять войск, особенно если другие шамилевские наибы воспользуются этим положением и откроют военные действия. А раз началось здесь, непременно пожар перекинется и туда. Юноша был так утомлён, что, передав всё, необходимое коменданту, опрокинул голову на руки и тут же заснул. Офицеры не будили его… Жена Берхмана с участием смотрела на молодого елисуйца и знаками попросила всех выйти в другую комнату.
— Бедная Нина! Прямо из института и попала в такую опасность! — вздыхала она.
— Трёхнедельный запас… Ну, положим, Брызгалов протянет его на месяц — и даже больше… Потом, в крайности, можно будет зарезать коней…
— Если их не перебьют лезгины. Теперь ведь они на всех скалах осиными гнёздами засели. Сверху на выбор стреляют. Потом фуража довольно ли для коней… Старого сена нет, а нового ещё не заготовляли. Под самой крепостью луга, но теперь за ворота коней не выпустишь.
— Да! Положение отчаянное… Хотя терять надежды нечего… Поручик Самойлов!
Различив в тоне начальника нечто официальное, молодой офицер вытянулся.
— Завтра в полдень вы вместе с Амедом отправитесь на линию, слышите! Представьте его генералу и скажите, что, по моему мнению, Амед заслужил солдатский георгиевский крест. Поняли? Потом пусть он передаст всё сам генералу, а я буду ждать вас с инструкциями…
— Слушаю-с.
— Всё это исполнить возможно быстрее!.. Я бы вас сейчас отправил, но теперь всё равно его превосходительства нет. Застанете вы его только послезавтра. С собой возьмёте двух казаков понадёжнее и проводника.
— Проводника не надо! — послышалось позади.
Все оглянулись. В дверях стоял Амед. Ему достаточно было несколько минут, чтобы очнуться… И он уловил последние слова коменданта.
— Проводника не надо. Я все эти горы знаю хорошо и доставлю господина офицера, куда будет надо… А теперь прошу позволения уйти…
— А поужинать с нами?..
— Нет, я устал… У меня здесь дом. Мне пора…
— Ну, ступай! Спасибо… Я не забуду твоего подвига и сделаю с своей стороны всё, чтобы ты поверил, что за царём служба, а за Богом молитва не пропадают.
Теперь, боясь заснуть в седле, Амед пошёл пешком, ведя за собою кабардинца в поводу…
Перед ним открывалось теперь новое поле для подвигов. И молодой человек чувствовал, что у него кружится голова в ожидании славы и счастья… Он не думал о подстерегавших его опасностях. Для этого он был слишком горец. Ведь больше смерти не будет, а смерть неизбежна, о чём же ему было заботиться!..
Часть вторая. Кавказские богатыри. В огневом кольце
Первый удар
Брызгалов вернулся с себе очень поздно. Вечер и начало ночи он провёл на крепостных стенах. Старому кавказскому воину показалось странным, что долго не предпринимавшие ничего лезгины в последние дни частью втянулись обратно в ущелья, а частью отошли поближе к горам. И костров сегодня у них было гораздо больше; даже в яркую лунную ночь противу всяких обычаев подоблачные и заоблачные аулы на вершинах гор засияли огнями, точно там шумно и весело праздновали и снизу уздени, и джигиты возвратились туда скоротать время до утра на гудеканах. Степан Фёдорович хмурился, глядя на это необычное явление; он посылал в секреты, — оттуда ему доносили, что горцев, действительно, не видно, что они отступают — к горам, именно туда, где длинными линиями горели костры.
— Ну, слава Богу! — обрадовался Кнаус. — Куда же им, в самом деле, справиться с нашими стенами и укреплениями…
— Не радуйтесь!.. — оборвал его Брызгалов. — Я в это не верю и считаю все их передвижения не только загадочными, но и зловещими. Едва ли меня обманывает мой сорокалетний опыт. Я ведь пятый десяток начинаю на Кавказе! Сегодня ночью надо ожидать какой-нибудь гадости… Хотел бы ошибиться…
С мнением коменданта согласны были и крепостные собаки.
В одиннадцать часов всё кругом точно вымерло. Долина реки Самур казалась безлюдной. Ни ржания лошадей, покрывавшего в эти ночи всё кругом, ни говора лезгинских биваков, ни выстрелов, ни священной песни газавата… И чем более стихала ночь, тем ниже опускались седые брови Брызгалова, а глаза его зорче смотрели в сумрак, точно пронизать его хотели и допытаться у окутанных туманом далей, какую тайну они хранят в однообразном мареве… Тишина стала, наконец, тяжёлой, гнетущей как непосильное бремя. Только один Самур со слабым журчанием катил струи… Скоро комендант убедился, что и вглядываться в дали напрасно… Мгла окутала всё, и только на дагестанских твердынях в проснувшихся аулах загорелись бесчисленными кострами народные площади. Непосильно, тяжело, бесконечно тянулось время. Но вот где-то далеко послышалось тревожное тявканье собаки. Ещё и ещё. Налево несколько таких залилось оглушительным лаем… Направо тоже… Точно кольцо, составленное этими неусыпными сторожами крепости, всё суживалось и суживалось, отступая к её стенам… За полночь — собаки только изредка подавали голос, а сменившиеся секреты передали, что собаки отступили и лежат уже между солдатами; верный признак, что всё впереди занято притаившимися лезгинами… Брызгалов долго обходил гласисы и парапеты. Роты были на местах, дежурные части лежали наготове, и у солдат чуть слышался тихий, крадущийся говор. Они даже не замечали Брызгалова, когда тот подходил к ним.
— Ты его, главное, на штык примай…
— Пошто? — встревоженно и нервно спрашивал молодой голос.
— Пошто, — дура голова! По то, что она, азия эта самая, страсть штыка не любит. Ей бы всё свинцовыми орешками швыряться, а сурьёзного бою она не терпит. А только и штыком с умом орудуй: выжидай врага на себя, потому они тоже, брат, не лыком шиты, — налетит, подставит штыку бок, только ты его пырнул, — а он круть-верть и с другой стороны тебя же шашкой по башке… Народ с хитрецой. Понимает. Бравый народ. Одно слово, — воины.
— И сегодня будет так?
— Как Господь… Прихилились они… Не впервой мне… Случалось тоже. Не дарма это…
— Кто говорит? — громко спросил Брызгалов.
— Я, ваше высокоблагородие! — вытянулся перед ним в темноте солдат.
Степан Фёдорович различил у него на груди два георгиевских креста.
— Стамескин?
— Точно так, ваше высокоблагородие!
— Молодчина… Ты это о чём?
— Новобранцев учу, как встречать неприятеля… Чтобы ему, значит, невкусно наше угощение показалось…
Кругом послышался тихий, сдержанный смех.
Брызгалов улыбнулся тоже.
— Так не жалует он штыка?
— Терпеть не любит…
— Помните, братцы, одно: первое дело, и второе, и третье — не бояться. Если кто боится, тот пропал, а в ком страху нет, тот и сам спасётся, и врагов победит.
— Точно так, ваше высокоблагородие! — сочувственно отозвались кругом…
— Ты где же эти георгиевские кресты получил?
Брызгалов отлично знал где, но ему нужен был «показ» для солдат.
— Кази Муллу самого под Гимрами мы расхлестали… Отчаянный был, а только нет… Напоролся на наших тенгинцев, — хвостов своих не собрал. Здорово они тогда от нас в горы уходили, — а мы за ними. Сколько горских аулов ихних мы изничтожили. До сих пор, чёртовы дети, помнят…
— А второй?
— А второй, ваше высокоблагородие, наибишку ихнего урой полонили мы под самым Веденём. Точно куроптей накрыли в засаде, — руками взяли. Так крикнули им «уру», что у них ружья попадали. Один, точно, полоснул меня кинжалом в плечо, но только так… говядину порезал, — а кость ему не поддалась. У меня кость крепкая… Русская кость!
— Так ты думаешь, что сегодня штыками будет работа?
— Точно так, потому гололобые не дарма прихилились. Большую они пакость задумали.
— Тем лучше… Штыкам давно дела не было… Залежались… Покажем им, братцы! С такими орлами как вы чего не сделаешь! Старики, скажите-ка вы им, как мы вместе муллу Уди поучили под Хунзахом… Сколько их приходилось на нашего одного?
— По пятнадцати человек.
— Вот именно. У нас тогда и стен не было, — окружили они нас в лесу… Только мало кто из ихних домой вернулся, чтобы своим рассказать.
Спокойный за свою часть, Брызгалов ещё раз всмотрелся в даль.
Теперь всё заволакивал туман. Белая под лунным светом пелена его стлалась по долине, не прерываясь ничем. Даже течения Самура не видно, только слышалось медлительное роптание его вод. Вверху бездна небес была полна сиянием луны. Оно наполняло её, так что звёзды тускли и пропадали, и только Сириус сверкал ярко над дагестанскими твердынями.
Брызгалову надо было отдохнуть хоть на минуту. Он вошёл к себе, — тихо приотворил двери к Нине. У неё горели лампады у образов. Сквозь их розовое стекло мягкий свет стлался по комнате… Нина спала, положив разгоревшуюся щеку на ладонь. Степан Фёдорович долго смотрел на неё; должно быть, и она почувствовала его взгляд, потому что веки её затрепетали, и тень от ресниц вздрогнула на щеке… Она даже прошептала что-то и опять заснула. Брызгалов перекрестил её, потом положил поклон перед образами.
— Спаси нас, Господи!.. — тихо проговорил он и вышел к себе.
Он сел в кресло. Ему сегодня нечего было и думать ложиться. Каждое мгновение его могли бы вызвать. Под слабым светом сальной, сильно нагоревшей свечки — едва-едва блестела сталь пистолетов, лежавших на столе наготове, выделялся выцветший и пожелтевший насквозь дагеротип его покойной жены. Он всмотрелся в неё. Из каких-то пятен — ему одному видимые — выступили знакомые, милые черты.
— Праведница, молись за нас! Я-то что! Я сумею умереть, — её жаль, — уже вслух проговорил он, кивая на комнату Нины. — Её жаль, — за неё!.. Мы — солдаты, — нам такая смерть нипочём!..
Точно его жена могла слышать его в эту минуту. Немного спустя, Брызгалов опустил голову на руку и задремал. Сверчки громко запели в его комнате, в открытое окно с площади доносился звон цикад, наполнявших лунные ночи своими бесконечными песнями со старой чинары… Изредка среди этих обычных голосов слышалось с башни на башню перелетавшее не по обыкновению сонное, а сторожкое и тревожное «слушай!» часового… Вон, мерно ступая, в ногу, прошёл взвод и, тяжело скрипя на ржавых петлях, отворились крепостные ворота; должно быть, часть шла на смену левофланговых секретов… Чутко спит Брызгалов, каждый звук ловит его привычное ухо… И в то же время чудится ему, что из старой рамы дагеротипа, из этой выцветшей и прожухлой пластинки выступило вдруг совсем живое лицо… Бледное-бледное, но бесконечно доброе, такое, какое он видел перед собою в последние минуты её жизни. Выступило и приближается к нему… И не одно лицо только… Вся она перед ним. Рядом стоит… Кладёт худенькую, бескровную руку с синими жилками на его плечо. И так ему легко и хорошо от её прикосновения… Он чувствует на своём лице её дыхание… И кроткий, тихий голос ему мерещится. Что она говорит, — он разобрать не может, но вместе со звуками этого голоса удивительное спокойствие льётся в его встревоженную душу… Он взял её за руку и удерживает. Та с тихим усилием старается высвободиться.
— Останься здесь с нами! — хочет крикнуть Брызгалов. — Не оставляй нас! — и вдруг вскакивает.
Что это? Треск залпа за крепостью, оглушительный лай собак… оборвавшееся «Алла-Алла!»… Он оглядывается… Дагеротип на своём месте. Свечка совсем нагорела, и чадный дым её тянется вверх густой, чёрной струёй…
— Начинается! — говорит Степан Фёдорович и, взяв пистолеты, идёт на стены.
Кто-то догоняет его на площади.
— Ваше высокоблагородие!..
Он отличает встревоженный голос солдата.
— Ты, Круглов?
— Так точно. От штабс-капитана Незамай-Козла послан…
— Ну, в чём дело?
— На их высокоблагородие напало видимо-невидимо лезгинов.
— Уж и «видимо-невидимо»! Что это у вас за страсть сейчас!.. — с неудовольствием протянул Брызгалов. — Всегда ты был скверный солдат у меня. Мне бы следовало давно тебя в нестроевую роту передать или в денщики.
Солдат тянулся и замирал.
— Ступай!.. Я распоряжусь, скажи Незамай-Козлу. Да смотри у меня со своим «видимо-невидимо». У страха глаза велики. Теперь тебе кот с быка покажется. Ну… Налево круг-гом!.. Скорым шагом — марш!
Солдат по форме перевернулся, ударив себя ладонью по ляжке, как делали в те времена, и замаршировал к воротам.
— Ну что, много ихних? — спросили его там.
— Нет, самая малость…
Очевидно, комендантское внушение подействовало…
Брызгалов вошёл на башню. Залпы прекратились… Суматоха слышалась в той стороне. Что это, ему кажется, или действительно так? — точно под тысячами копыт расплёскивается вода Самура, мелкий камень сдвигается под ними… Он перешёл по другую сторону, и там тоже самое. Очевидно, со всех сторон наседают горцы. Пора вернуть секреты домой. Чего это Незамай-Козёл ждёт там?.. Проморгает ещё, пожалуй, время и пропадёт. Брызгалов приставил ладони ко рту и резко, и недовольно крикнул:
— Штабс-капитан, что вы там ворон ловите…
И не кончил… Ухо его уж уловило мерный топот возвращавшихся частей у стен, на мосту через ров… Ворота опять отворились, и две шеренги секретов вошли в крепость. За ними медленно брели собаки, исполнив сторожевую службу, в которой теперь уже не было надобности…
— Все вернулись?
— Точно так! — невидимый снизу Незамай-Козёл ответил невидимому вверху коменданту.
— Пусть нижние чины отдохнут в казармах, не раздеваясь… По тревоге — все наверх… Заложены ли фугасы? Хорошо!.. Поднять мост!.. Ну, теперь — «милости просим»! — весело крикнул он. — Угощение готово, дорогие гости!..
— Дело, брат, плохо! — шепчет один солдат другому.
— А что?
— Ишь, весёлый какой, командир-от. Мы его знаем. Спроста смеяться не будет… Сокол тоже!
— Заряжены ли картечью орудия?
— Готово…
Он и сам в темноте видит, — у пушек вся прислуга начеку. В темноте слабо светятся фитили в руках у фейерверкеров…
— Слюсарев, дай и мне покурить фитиля-то… На одну затяжку, — шутит кто-то.
— Ладно, и без трубочки обойдёшься… Поймай лезгинского наиба, запали ему красную бороду и кури всласть…
— Покурил бы, кабы огоньку побольше.
— Небось, много его будет. Отбою запросишь.
— Нет, брат, у нашего командира отбою не полагается.
— Верно! Кто это? Алёхин-орловец, проломанная башка?
— Точно так, ваше высокоблагородие…
— Молодец! Люблю с такими!
Шум расплёскиваемой копытами воды слышался всё больше, но белесоватая мгла не выдавала тайны… Полчища неприятеля казались громадными под её покровом. И вправо, и влево, и впереди, и позади слышались те же звуки…
— Штабс-капитан… Не сметь рвать фугасов без команды! Слышите! Дайте им сначала так наброситься… Вы, доктор, что это?.. Да ещё с ружьём…
— Пока ланцета не понадобится, авось, две-три бритые башки попорчу.
— И Левченко вы забрали?
— Ещё бы. Мы с ним ведь Немвроды… Мы отсюда будем на выбор… Вот и батюшка…
Солдаты всполошились и стали подходить под благословение. Священник осенял их крестом…
Глухой топот лезгинских коней, шорох тысячи пеших — всё ближе и ближе…
— Ракету! — коротко скомандовал Брызгалов.
Ракета взвилась в высоту, красным заревом осветила поверхность к самой земле припавшего тумана, и какие-то пятна, неопределённые и смутные, проступили в нём…
— Со всех сторон ведут атаку… Подлецы… Это Хатхуа, — я его узнаю. Незамай-Козёл, вы ступайте на правый фланг, Роговой, — на левый, Кнаус, будьте здесь!.. Помните, — без меня не сметь трогать фугасов! Если я буду убит, — команду принять штабс-капитану. Ну, братцы! Помоги, Господи!
Шапки полетели с голов. Тихий шелест крестившихся придал что-то торжественное этой минуте ожидания. Ни смятения, ни растерянности не было нигде. Брызгалов смотрел на своих людей, и его охватывало чувство восторга…
«Чего не сделаешь с ними!..» — думал он.
Что-то тёрлось у его ног.
Одна из крепостных собак взобралась наверх и ласкалась к нему.
Брызгалов положил ей руку на голову…
— Кто это?
— Филат, ваше в-скородие.
— Не Филат, а Пилад…
— Точно так-с, Филат! Добрая собака. Я с ей в лазарете вместе лежал, — как её бродяга какой-то в овраге кинжалом чкнул. Выпользовали Филатку…
Пилад кинулся передними лапами на шею товарищу-солдату и лизнул его прямо в лицо…
Томительное молчание. Шорох оттуда приближается… Как ни густ туман, но за крепостным рвом уже заметны партии ближайших лезгин… Они перебрасывают через него громадные деревья…
— Наводи! — тихо командует Брызгалов.
Артиллерист направляет прямо на эти места переправы жадные дула орудий…
— Есть! — тихо отвечает наводчик.
— Спасибо!
— Рады стараться!
И всё это шёпотом…
Сейчас они нахлынут…
Стрелки настороже… Они притаились и переводят тоже дула ружей по этим пятнам, точно хотят холодною сталью издали нащупать врага…
— Вот что, ребята… Дай им перебраться сюда, — и не стреляй, слышишь! А как жарнёт их картечь, — тогда и вы оставшихся по эту сторону подберите мне. Слышите?
— Слушаю-с!.. — как шорох сдержанно бежит по рядам.
Из мглы выступают неопределённые фигуры. Согнувшись и точно думая этим скрыться, не дать себя заметить, перебегают через брёвна и уже по эту сторону машут руками тем, которые там, приглашая их присоединиться к себе… Скоро стволов переброшенных деревьев не видать совсем, они сплошь точно муравьями усеяны людьми… Им уже не удаётся удержать тишины. Ружья встречаются с ружьями, шашки с шашками… Они страшно торопятся. Их пугает безмолвие старой крепости. Точно вымерли её зубцы и башни, бруствера и гласисы… Уж не ушёл ли гарнизон?.. Нет, там тоже ждут. Кто-то сорвался с переброшенного через ров дерева и упал в воду… Крик его застыл в воздухе… Ещё и ещё такие же крики. А крепость всё молчит. Зловеще молчит заранее обречённая жертва.
Брызгалов спокойно подошёл к орудию. Посмотрел, правильно ли наведено. Взял фитиль из рук фейерверкера и приложил его к затравке. Оглушительно крикнула во всё своё медное горло пушка и выбросила целый ливень картечи… Вопли, стоны, проклятия… «Алла, Алла!» — и восклицания раненых; убитые — в воде уже… По ту сторону тоже немало их, — картечь сделала своё дело, и нападающие отхлынули, забыв о тех, которые уже перешли и остались у стен крепости. Но не забыли о них стрелки… Брызгалов коротко им бросил: «пли!», и разом бруствера и зубцы оделись огневою струёю залпа. В отчаянии забегали внизу лезгины, но за ними беспощадно, спокойно и метко следовали тёмные дула ружей. Ещё раз — «пли!», и новые жертвы корчатся на земле в последней агонии… Если бы теперь было светло, защитники крепости заметили бы многих горцев, которые как кошки, уцепившись за скважины, влезли на стены и как ящерицы точно прилипли к ним.
— Аман, Аман! — кричат внизу раненые. — Аман, Аман!..
Гул проклятий слышался из-за рва, из тумана.
Казалось, что это самый туман кругом весь грянул каким-то одним стихийным криком. Крик этот передаётся дальше, — вся равнина полна им. Он реками вливается в ущелья по ним всползает на утёсы, и с их вершин сверкают беспорядочными огоньками тысячи выстрелов, направленных наугад… Но крепость уже стихла; грозная и молчаливая, — она ждала нового нападения, новых враждебных волн, которые должны были разбиться о её твердыни… Теперь, — когда вся эта равнина горела и сверкала выстрелами, когда утёсы одевались их огнистою каймою, — она казалась тёмным пятном посредине. Безмолвствовали её защитники. Скрестив руки на груди, Брызгалов с башни смотрел вперёд как с рубки капитан корабля, застигнутого бурею… Он, казалось, оценял силу и бешенство напора этих могучих валов, нёсшихся ему наперерез, удары ветра, грозившего изорвать его снасти и сломать мачты, фосфорические огни молний, падавших отовсюду, и зловещий гул не прекращавшегося грома вверху… Солдаты стояли у стен и так же как он не отводили глаз от тех далей, в туманах и тучах которых теперь рождалась новая буря… Пули падали отовсюду и чмокались о камень зубцов и парапетов, о землю брустверов, свистали в воздухе… С каким-то жалобным жужжаньем точно большие пчёлы проносились над головами…
— Раненые есть? — спросил Степан Фёдорович.
— Трое… — отвечал из темноты невидимый голос.
— Кто такие?
— Сергеенко, Стасюк и Балагаев.
— На перевязочном пункте?
— Никак нет-с!
— Это ты сам, Стасюк?
— Точно так!
— Чего же ты не идёшь на перевязку, да и остальные?
— Раны нестоющие. Колупнуло… Какие, ваше высокоблагородие, раны, коли мы на ногах стоим. И ещё им, гололобым, покажем себя…
— Убитых?
— Никак нет-с.
Вдруг в это время точно фантом показалось снизу что-то белое, тихо подымавшееся на боевую позицию.
— Кто это? — удивился Брызгалов.
— Папа!
— Нина? Зачем ты здесь?.. Разве можно?.. — строго спросил он, идя ей навстречу.
— Папа, мы с доктором были внизу… Ну, если раненые не хотят идти к нам, — мы сами пришли к ним с перевязками. Я уже Балагаева перевязала. В левую руку он, — деловым тоном отвечала Нина…
— Точно ангел… Барышня-то! Быдто с неба, значит, — слышалось в темноте около.
— Теперь Стасюка — вот, да он не даётся. «Нестоющая», — говорит…
Брызгалов не выдержал, взял голову дочери и поцеловал её.
Затишье продолжалось недолго.
Сообразив, что секрет ночной атаки не удался, — горцы теперь уже с шумом и гвалтом приготовлялись к новой. Из удалённых ущелий вновь послышался гул, как будто втянувшиеся туда живые реки направились обратно в долину Самура. По ней шли уже явные приготовления к новому бою. Слышались громкие оклики наибов и ответы их отрядов. Дидойские хриплые крики сливались с орлиным клёкотом, на который так похож говор хунзахцев. Стройные отзывы дисциплинированных гимринцев пропадали в взрывах восторженных фанатиков салтинцев. Взвизгивания чеченцев прорезывались в этом общем хоре сама себя выдающей бури. Брызгалов тщательно прислушивался, откуда будет направлен главный удар. Ему хотелось определить, где Хатхуа, бывший самым опасным из врагов. Его безумная храбрость, хорошо известная Степану Фёдоровичу, заставляла опасаться какой-нибудь неожиданности… Коменданту безмолвной теперь крепости не пришлось ждать долго… Вот сквозь весь этот хаос самых неукротимых звуков и криков сначала послышался стройный и тихий хор, и по мере того, как рос, — остальные звуки или замирали, или присоединялись к нему. Точно из искры разгоревшееся пожарище, — священный гимн газавата раздался справа и теперь уже охватил собою всю массу врагов… Как знамя, он поднялся над нею, перекинулся языками всесожигающего пламени на скалы, — как будто и они своими каменными грудями присоединились к общему пению воинственных мюридов… Брызгалов знал теперь, откуда идёт наступление. Хатхуа вёл его прямо на него…
«Слуги вечного Аллаха!
К вам молитву мы возносим,
В деле ратном счастья просим,
Пусть душа не знает страха»…
Главным образом шло оттуда…
— Сейчас они крикунов вышлют! — угрюмо улыбнулся Брызгалов. — Штабс-капитан, — без тревоги все резервы из казарм на стены! Всё, что у нас есть… Ваши уж отдохнули?
— Точно так-с!
— Сейчас же…
Тревога бы выдала горцам, что против них на глазах и брустверах крепости вся наличность её в эту минуту.
Спустя несколько минут, послышался топот роты, выведенной на верх. Строй солдат здесь сгустился. Молчание старой крепости становилось грознее и грознее…
— Нина! Ступай домой! — решительно приказал Брызгалов. — Теперь тебе здесь не место.
— Папа — я к доктору, я ему нужна буду…
— Хорошо! — он её благословил и долго смотрел вслед, как её стройная фигура в белом удалялась, сливаясь с сумраком этой так бесконечно длившейся ночи…
— Левченко!..
— Здесь!
— Ты мастер отругиваться по-лезгински… Можешь теперь вволю…
— Сейчас, ваше высокоблагородие… Пущай только они начнут.
Точно он накликал. Впереди послышался сумасшедший бег коней, и перед крепостью замелькало несколько всадников.
— Ишь, — прошептал Левченко. — Хуже лаков никого не нашли!
— Почём ты знаешь, что лаки?
— А верхи на папахах длинные… Болтаются, что чулок бабий.
— Бояр… Гяур… Собака урус! — послышались оттуда гортанные голоса. — Хады суда. Мы теба будем как баран башку рубил.
— Смотри… Свои морды берегите! — по-лезгински ответил Левченко, да пересыпал это такою крупною солью и столь энергическими посулами, что ругавшийся там казикумых приостановился даже, — на своё горе.
Его издали нащупало дуло ружья, и не успел он для ответа рта раскрыть, как меткая пуля ссадила боевого юмориста с лошади. В сумраке видно было, как освобождённый от всадника конь взвился на дыбы и понёсся в туман и тьму долины.
— Ну, кому ещё, черти драные, угодно!.. Подойди-ка!.. — торжествовал Левченко…
— Бояр… Солдат Иван… Ступай к нам, — мы в рабах нуждаемся… Мы вас выучим хинкал варить; нашим бабам служить у печек.
— Скоро вас всех мы в Самуре утопим!.. — кричал другой…
— Наши шашки давно пить хотят. Достаточно ли у вас там, у застенных кротов, крови? Хорошо ли вас кормили… А то, может быть, и не сто́ит возиться с вами… Достаточно наших детей прислать с деревянными палками, чтобы они вас выгнали оттуда!..
— Просите, собаки, скорей милости!..
— Нет ли у вас там храбрецов, чтобы помериться с моим байгушем[34]?..
Левченко, очевидно, узнали там, потому что один голос вдруг заорал:
— Стой, бояр! Это ты, кунак Иван?.. Не бил ли ты кабанов в прошлом месяце в оврагах под Хашитагом?
— Я и теперь собираюсь вас бить…
И перепалка между врагами продолжалась всё время, пока оттуда сдвигались заряженные электричеством тучи, пока воинственные лезгинские дружины медленно наступали отовсюду, суживая своё железное кольцо для решительного удара…
— Ну, теперь благослови Боже! — тихо перекрестился Брызгалов.
Атака
— Ну, теперь помоги Боже!.. — повторяли солдаты кругом.
Зловещее молчание воцарилось по ту сторону… Боевые юмористы, задиравшие наших, вернулись к своим. Слышался гул только от сближавшихся шаек… Луны уже не было. Она зашла за горы, и из-за Шайтан-Дага её серебряное сияние венцом раскидывалось ещё, мало-помалу опускаясь и замирая. Ярче горели звёзды. Всё точно притаилось кругом. Млечный Путь выступал во всём великолепии — с мириадами вселенных — дивным творением художника, создавшего их… Брызгалова невольно охватило чувство восторженного обожания… И он про себя уже молился: «Ты, создавший всё это, Ты, зажёгший светильники ночи. Ты, невидимо присутствующий везде, дай нам сегодня силу и победу!.. Ибо мы служим Тебе, Единому, Вечному, Милосердому и Всемогущему»… Во мраке кругом краснели только фитили в руках у фейерверкеров, тускло отражаясь на жёлтой меди орудий… Слышался шорох солдат на стенах, изредка в потёмках едва-едва поблёскивал штык.
— Кнаус!.. Ракету!.. — тихо проговорил Брызгалов.
— Есть! — ответил тот также тихо.
Туман припал тонкою пеленой к земле. Он только кусты её прикрывал, и когда огненная змея, шипя, взвилась в высоту, — отовсюду выделились уже недалеко от крепостных стен молчаливые массы врагов. Довольно было нескольких мгновений, чтобы Брызгалов оценил силу готовившегося удара. Впереди сидели наибы и мюриды на конях. Позади как море раскидывалась масса пеших лезгин… Чего они медлят?.. Где Хатхуа?
— Вторую… Погодите, впрочем… — Ребята, если вы увидите всадников у рва, — осадите мне их! — С Богом, вторую!..
Опять новая огненная змея взвилась вверх… У края рва, действительно, оказалось несколько конных и между ними князь Хатхуа, объезжавший, по-видимому, выбрать место, где удобнее перекинуться через препятствие. Как ни быстро погасла ракета, но этого было достаточно. Несколько ружей выбросило огненные снопы во мрак перед собою, и двое всадников свернулось в ров со своих сёдел. «Хорошо, если бы Хатхуа был между ними!» — подумал комендант, но кабардинец тотчас же крикнул ему из-за рва — чисто по-русски:
— Спасибо за урок, комендант!.. Сочтёмся после.
Хатхуа нарочно остановился неподвижно… Во мраке его фигура чуть-чуть выделялась над конём.
— Мы в тебя и стрелять не станем! — крикнул ему Левченко…
— Я заговорён, по твоему? — смеялся Хатхуа.
— Нет… А по тебе верёвка плачет!
— Молчать, Левченко!.. Довольно… — приказал Брызгалов.
И опять тишина. Тёмный силуэт кабардинского князя пропал во мраке.
— Ваше высокородие! — тихо наклонился Левченко…
— Ну?..
— Царапаются по стене…
Действительно, слышался там какой-то шорох.
— Как царапаются?
— А тые самые, которые, значит, прихилимшись сидели. Дозвольте попужать…
— Ну, попробуй!..
Левченко, привыкший на охоте видеть в полумраке как днём, лёг на парапет и высунул голову, потом тихонько выдвинул ружьё, нацелился. Громадный лезгин, как ящерица припавший к стене, пользуясь её трещинами и скважинами, полз наверх, — сам не зная зачем… Нужно было видеть его цепкость, чтобы поверить ей… Левченко засмеялся.
— Эй, не слишком ли высоко залетела ворона в чужие хоромы…
Сверкнул выстрел, слабый крик, и лезгин как тяжёлый мешок рухнул на землю.
Левченко подождал…
— Верно!.. Теперь готов…
Он ещё посмотрел в другие стороны…
— Давай ружьё! — приказал товарищу.
Тот подал ему заряженное, и вторая «серая» ящерица рухнула вниз.
— Чисто, ваше высокоблагородие…
— Спасибо. Должно быть, ак-булахцы.
— Никому больше…
Ак-булахцы, действительно, между лезгинами были настоящими горными ящерицами. Аулы их мостились на таких недоступных высотах, что, глядя снизу, нельзя понять, как добраться туда без крыльев. Ак-булахцу таких крыльев не нужно было — он наденет на руку род перчатки с железными когтями, снимет обувь, чтобы она не мешала цепким пальцам ноги, — и быстро взберётся на отвесную стену. Лезгинская пословица говорит, что «ак-булахцу брось в бездну хлеб, он его там из горла у шайтана выхватит». Брызгалов, глядя вперёд, соображал, что таких ак-булахцев у Хатхуа не один десяток. Верно, он их пустит вперёд, чтобы они влезли на стены. Сам начнёт атаку отсюда, а их пошлёт на левую башню или в другое место… Он приказал Незамай-Козлу взять Левченко, которого ни один ак-булахец не мог бы надуть, и отправиться на свою позицию… Сам же озабоченно посматривал на кучку мюридов, ещё распевавших священные песни. Он знал, что лучше и безопаснее иметь дело с несколькими тысячами байгушей, как бы они стойки ни были, чем с сотней мюридов, окружавших наиба. Мюрид умирает, убивая, и никогда не бежит с поля битвы, если даже и может спастись. С ними мало храбрости — нужна хитрость. Один мюрид, засевший за камень или в ауле в сакле, сто́ит целого гарнизона. Он отлично выбирает пункты. Часто, бывало, мюрид поставит несколько ружей на сошки, направив их в каждый проулочек, уголок, изворот тропинки, откуда могут подойти наши. Чтобы взять такого отчаянного горного волка, надо решиться на большие потери и броситься на него целой колонной. Особенно, если мюрид — не чеченец, а лезгин. Лезгины талантливы и стойки. Они мастера укрепляться. Завалы их всегда так рассчитаны, что с какой стороны ни подойди к ним, они встретят вас перекрёстным огнём. Противу артиллерии они роют канавы с покатыми навесами, засыпанными землёй, где они в полной безопасности от ядер и гранат. Крытые сводами подземные канавы их идут в несколько ярусов. Чеченец нарубит деревья и спрячется за ними. Лезгин пересыплет их землёй и каменьями и создаст истинную твердыню. Чеченец дерзок, но под огнём нервен; лезгин как и наш солдат спокоен, хладнокровен. Чеченец-наездник — налетел, изрубил и исчез. Лезгин встречает открытым боем на крепкой позиции, усилив её ещё завалами, башнями, подземными канавами… Брызгалов был убеждён, что и теперь уже вся долина р. Самур перерыта ими. Явись к нам подкрепление, лезгины станут отступать, защищая каждую пядь земли и не отдадут её иначе как с боя; и теперь, решив открытую атаку, они разобьются лбами о стены крепости, но не отойдут. Брызгалову случалось видеть их атаки «в шашки», и, только хорошо знакомый с качествами своих солдат, он мог оставаться спокойным… Ему было тягостно лишь ожидание. Что-то старое, знакомое, напоминавшее ему юность вскипало в груди. Хотелось самому как некогда помериться, но он тотчас же забирал себя в руки и, когда «потомок тевтонских рыцарей», как он сам себя рекомендовал — белобрысый прапорщик Кнаус, разгоревшись, предложил ему какую-то отчаянную выходку, — Брызгалов немедля осадил молодого немца.
— Никто здесь не сомневается в вашей храбрости. Но помните, что помимо храбрости офицеру нужно хладнокровие. Гораздо больше приносит пользы тот, кто ждёт команды, чем рискующий на каждом шагу собою, чтобы показать личное молодечество. Этим, Кнаус, вы здесь никого не удивите. Да, впрочем, не беспокойтесь, — улыбнулся он. — Судя по тому, что лезгины всей массой идут сюда с мюридами впереди, — а чеченцам они предоставили другие позиции, — вас ожидают ещё приятные моменты встретить их грудь грудью…
— Да что же они не начинают!..
Только в это мгновение Брызгалов понял, чего они медлят.
Гул прошёл по долине… Все эти массы воинственных горных кланов восторженно приветствовали кого-то. Очевидно, они все ждали именно этого «кого-то», и потому так неистово встретили его своим приветом. Гул рос и приближался. В центре его неслись какие-то огни. «Это, очевидно, факелы в руках у конвойных всадников, у свиты», — соображал Брызгалов. Точно лавина катилась с высоты… Вот уже оглушительный вихрь этот близко-близко… По команде Брызгалова взвилась ракета, — и недалеко он увидел группу конных горцев… Впереди — старый мюрид с зелёным знаменем, за ним четверо с факелами. Дым их длинными языками назад откинулся. За ними вихрем неслось несколько таких же, и между ними один весь в красном, в высокой обёрнутой зелёным чалме-папахе. Как ни был тускл свет факелов, Брызгалов отличил эти цвета и, всмотревшись в красного всадника, вздрогнул, но тотчас оправился и, не давая дурному впечатлению распространиться на солдат, обернулся к ним и весело крикнул:
— Поздравляю вас, ребята! Вам предстоит сегодня слава отразить от нашей родной крепости самого Шамиля.
«Ура!..» — точно земля вздрогнула от грозного крика солдат, засевших на стенах. «Ура!» — загремело по всем её сторонам… Этот вызов спокойной, в самое себя веровавшей силы, нёсся прямо в лица врагам, грозный как и защитники жалкой кучи камней, ожидавшие за ними решительного удара.
— Орудие… Пли!
Вихрем картечи смыло кучку всадников, приблизившихся ко рву…
Один из них, именно красный — был виден. Он остался на месте, глядя на стены, ров, башни, на гласисы и парапеты и оценивая их опытным глазом. Во мраке — размеры его коня и его самого казались ещё более преувеличенными, хотя и Шамиль был очень высок ростом… Около оставался один Хатхуа, — и Шамиль что-то объяснял своему наибу, указывая на башни… Потом он сдвинул папаху на затылок и медленно отъехал назад…
«Сам Шамиль… И никого нельзя послать в Дербент… Сам Шамиль!»
И Брызгалова сразу охватило спокойствие. Теперь он уже знал опасность, — и ничего тайного перед ним не было, мужественная душа его только окрепла от этого…
— Сам Шамиль!.. — и сердце его билось ровно…
Он только зорко следил за этим красным уже, сливавшимся с окружающим его мраком пятном. Факелы там были погашены…
Чу! — резкий, повелительный голос. Точно орёл бросил с высоты свой хищный крик, — и вся эта железная масса всадников ринулась вперёд сослепу, ничего не видя перед собою и ничего не соображая… За нею двинулись пешие дружины, осыпая выстрелами крепость… Какой-то хаос родился вдруг из зловещей и мёртвой тишины… Бешено неслись всадники, хрипло повторяя своё: «Алла-Алла!» — неслись прямо на смерть, ждавшую их в глубине крепостного рва, — но его надо было наполнить хоть телами, всё равно, и вся передняя часть грозной лавиной со стихийным шумом рухнула туда. Вслед за нею посыпались другие, но некогда было защитникам крепости слушать этот гром воплей, криков, стонов, ржания лошадей, проклятий и выстрелов… Каждое мгновение сближало врагов. Вся жизнь солдат сосредоточилась теперь, казалось, в глазах, — и они зорко следили… Вот уже по засыпанному ещё живыми людьми рву перекидываются пешие лезгины, чеченцы скачут вдоль стен крепости, оценивая, куда поставить лестницы… Наводнение достигло этой плотины и бьётся теперь под нею, бьётся бешеными волнами, словно нащупывающими, где эти плотины послабее, где они могут скорее поддаться, рухнуть и открыть дорогу ревущей стихии… Всадников уже массы, — но ни одного выстрела не сделала крепость… Вот и пешие дружины переходят сюда… Разом ахнули медные жерла орудий, несколько снопов огня разорвало тьму, но лезгины не дрогнули. Сотни их упали, — другие сотни двигались стеной им на смену… а за этими сотнями позади двигались ещё тысячи.
— Пальба на выбор! — скомандовал Брызгалов.
Солдаты точно ждали этого. Каждый уже наметил жертву… В треске и грохоте залпов и отдельных выстрелов тонули крики и стоны раненых. Казалось, земля до самых таинственных недр своих расседалась, скалы раскалывались, и вздрагивали горы в этом невообразимом неистовстве боя. А пешие дружины врага спокойно всё шли да шли новыми грядами грозных валов на смену павшим, шли со спокойною преданностью судьбе, с верою в свою правоту…
— Молодцы! — невольно вырвалось у наших солдат.
— Да, это не то, что чечня!..
— Куда чеченцу! Ему только бы разбоем. Он… — и, не кончив, говоривший схватывается за руку товарища и падает вниз.
— Даром выстрелов не тратить! Порох дорог! Помнить это!.. — слышится бодрый голос Брызгалова.
Теперь уже внизу волнуется сплошное море лезгин. Гвалт оттуда.
Напрасно — сверху на выбор бьют мюридов и наибов, — точно никому там и дела нет до этого… Вот уже лестницы подставлены к стенам и крутым гласисам… Их много… В некоторых местах — они одна к одной сплошь… Орудия уже не прерывают кровожадного рёва. Клубы дыма стоят кругом, вся крепость закурилась ими, точно это залитый водою костёр, обволакивающийся паром и чадом… В дыму глухие крики… То и дело в нём мелькают новые лица.
— Штыками бодрей встречай! — грозовой уже носится голос Брызгалова.
Какая-то голова в папахе показалась у самого Кнауса. Тот рубнул шашкой, и, раскинув руки, лезгин летит с лестницы вниз… Другой ему навстречу… Кнаус и его отправил туда же… Третьего постигает та же участь.
Но вдруг перед ним несколько голов. Он рубнул одну, — но тут грудь с грудью, неведомо как, оказывается громадный лезгин в бараньей шкуре и хрипло кричит что-то офицеру… Кнаус и не замечает, что у того в руке кинжал, — да и незачем, потому что штык ближайшего солдата глубоко проникает в грудь горца, и его обессиленная рука с кинжалом падает, не нанеся рокового удара. Кнаусу — дела по горло. Он справился с третьим, не сообразив сгоряча, что тот выстрелил ему в лицо и только потому и промахнулся, что другой солдат со стороны прикладом тронул его в бок… Бой вверху идёт у орудия. Неведомо как туда прорвались лезгины и бешено наседают на отбивающуюся орудийную прислугу. Брызгалов — там уже, — несколько десятков солдат за ним — и башня опять чиста, а снизу лезут новые и новые сотни отчаянных головорезов… Теперь уже по всей линии крепостной стены идёт полувоздушный бой в штыки с нашей — и в шашки с их стороны. Блеск взмётывающихся вверх лезвий, как скрещивающиеся молнии, лязг железа о железо, стоны раненых, глухие проклятия, ободряющие слова команды, стук от падающих вниз врагов, треск лестниц, ломающихся под тяжестью их… Теперь всё перемешалось… В общем мареве боя схватываются грудь с грудью, лицом к лицу встречаются враги вперемежку. Кое-где сплошной массой стоят они, и нет места руке размахнуться, потому что тесно, точно всех вместе давит какой-то громадный пресс. Пистолетные выстрелы в упор. У многих из наших солдат оказались лезгинские кинжалы. Тесно, штыком не размахнуться, и они работают неприятельским оружием. Брызгалов везде. Чудом он не ранен. Точно сквозь туман он видит, как Кнаус схватился с громадным оборванцем… Брызгалов, не замечая, что перед ним враги, хочет прорваться на помощь к молодому прапорщику, но тот и сам отбивается и самодовольно шепчет:
— У нас в Дерпте тоже учили драться, и так, и весьма даже превосходно!
Степан Фёдорович видит, что наступает решительный момент. Вон, вдали — под светом звёзд, при трепетном блеске перебегающих выстрелов — сам Шамиль уже ведёт атаку. Пора! Вовремя Брызгалов вспомнил о фугасах… Ещё минута, и страшный треск их, такой треск, что враг, оглушённый, останавливается, не опустив удара на намеченные жертвы, такой треск, будто земля, вздрогнув, крикнула всем своим громадным телом. Снопы пламени, тысячи камней взметнулись в высоту… И, точно, обезумевшая лавина, атака в слепом страхе двигается назад; со стонами и воплями бегут от страшных стен лезгины, бегут, сметая перед собою новые и свежие дружины… Вслед им — со стен сбрасывают наши оставшихся ещё храбрецов; перебегающий огонь выстрелов, и вдруг разом отмыкаются ворота крепости, и в них выскакивает и выносится прямо в живую массу врага бравая полусотня казаков с пиками наперевес. Не давая ему опомниться, она кругом летит по полю, смывает прочь несколько кланов, попавшихся ей на пути, с гиком стремится на Шамиля, — и, не выдержав её натиска, тот сам уходит прочь к горам. А казаки уже далеко в стороне и, всё так же веером раскинутые, сбрасывают всё, что перед ними смеет ещё стоять в ожидании рокового удара. Так же быстро, как вынеслась туда, — сотня вернулась назад, замкнулись за нею крепостные ворота, и смелое, свободное, счастливое «ура» торжествующих защитников крепости летит на страх врагу в осиянную звёздную бездну неба, где на востоке уже бледнеет тьма, и резче обрисовывается причудливая кайма гор.
— Спасибо, ребята, благодарю вас, товарищи!.. Кнаус, дайте вам пожать руку!..
И всюду навстречу Брызгалову, — «рады стараться» и «ура» сливаются вместе в один радостный, весёлый крик… Пока ещё некому считать потери. Об убитых и раненых забыли… В угаре победы не до них, когда каждая жилка трепещет от сознания великого счастья, когда грудь ходуном ходит, и воскресное сознание торжества одуряющим туманом окутывает голову… Не до них теперь, когда шапки подымаются, и во внезапно наступившей тишине, подняв крест вверх, священник, ни на минуту не оставлявший боевых позиций, бодро и смело начинает.
— «Тебя, Бога, хвалим!..» — стройно пристают к нему солдаты…
Выше и выше подымается святая песнь, и когда дело дошло до «Не постыдимся вовеки», кажется, что самые камни, из которых сложены эти стены, поют славу Господу, дарующему победу живым и воскресение в жизнь вечную павшим.
Лезгины были уже отбиты отовсюду. Сегодня все держали себя героями. Незамай-Козёл, действительно, был запорожец, сечевик в душе. Он горел боевым воодушевлением и у себя работал штыком как простой солдат… Когда врага уже не было, он с сожалением следил за его отступлением. «Эх, жаль!» — вырвалось у него. «Чего жаль?» — спросил его Роговой. «Как же — безо время ушли… Ещё бы трошки[35] порубиться!..» Возбуждение боя не улеглось. Устали пока не чувствовал никто. Все громко, преувеличенно громко говорили, смеялись. Радостное чувство сознания, что «я вот уцелел» прокрадывалось в самые великодушные сердца вместе с мыслью, что «я ведь ничего не сделал для того, чтобы уцелеть, напротив, рубился молодцом и смею в глаза смотреть каждому и смотреть прямо!..» Только теперь Брызгалов вспомнил о раненых… Но ему ещё хотелось раз обойти всю крепость… Солдаты весело встречали его. Исчезла разница положений, — тут были только братья, дравшиеся и умиравшие рядом. Теперь, в эти торжественные минуты все они любили друг друга и готовы были, назло себялюбивым инстинктам, всё-таки прорывавшимся, — отдать жизнь за товарища. Поэтому и на приветы Брызгалова они отвечали уже не так, как прежде. В этих откликах слышалось что-то умилённое, точно в каждом звуке их бились скрытые пульсы… «Самого Шамиля — разнесли, ребята!..» «Не ко времю он нос показал!» — послышалось из рядов. «Сунься ещё — и ещё накладём»… «Если Бог поможет!» — закончил другой голос… А позади священник в это самое время запел: «Иного-бо разве Тебе защитника не имамы!» — и вдруг вся эта счастливая, радостная масса, точно повинуясь какому-то, внезапно в каждой душе раздавшемуся, неотразимому голосу, без шапок, склонила колена перед золотым крестом пастыря, высоко поднятым над ними…
Вниз Брызгалову страшно было идти.
Он так сжился с каждым из этих солдат. Они были для него семьёй, братской семьёй. Пока его дочь росла в Петербурге, для него не было людей ближе этих. Каждого он знал, как знают дорогих людей. Знал с его слабостями и достоинствами, с его прошлым и с тем, что ему дорого в прошлом. При всех своих маленьких огорчениях, к нему шли его солдаты за советом и помощью, в полном убеждении, что отец-командир, такой строгий и суровый в строю и на службе, не откажет ни в чём возможном. Случится ли что-нибудь дома, далеко, за несколько тысяч вёрст позади, в глухих, по безлюдьям и бездорожьям затерянных деревушках, и Брызгалов выслушает, и в резком голосе начальника — каждому послышится что-то ласковое, участливое. А от слова и до дела только один шаг. Слов-то ещё Брызгалов терять не любил, больше дело делал. Рекрута «пригонят», точно полузатравленного волчонка, и затоскует тот; — Брызгалов позовёт, приветит, товарищам прикажет беречь малыша, — и смотришь, бедняга через несколько дней чувствует себя точно дома в родной семье. Ужасы военной муштры на Кавказе не существовали; они все были в «России» того времени. Поэтому Брызгалов знал, что на своих он может надеяться как на каменную гору, — и теперь ему страшно и тяжело было этих своих видеть внизу, в лужах крови, умирающими или уже отошедшими туда, «иде же несть печали и воздыхания», оставив внизу только продырявленные тела.
Он тихо спускался…
В воздухе ещё кружились свинцовые шмели… Гулкий топот отступающих за Самур воинственных лезгинских дружин слышался всё слабее и слабее… Впереди, под чинарою, горели фонари, и дымился красный язык пламени, выхватывая из мрака фигуру наклонившегося к кому-то доктора и рядом с ним белый силуэт, при виде которого сердце Степана Фёдоровича дрогнуло…
— Нина! Ты что… Я тебе сказал…
— Не сердитесь на дочь! — поднял своё измученное лицо доктор. — Не знаю, что бы я делал без её золотых рук и ангельского сердца!..
— Я, нет… Я ничего… — смешался Брызгалов и, когда Нина окончив бинтовать раненую ногу лежавшему на земле солдату, поднялась, отбрасывая назад волосы, отец её порывисто обнял…
Она на мгновение припала к его груди, но тотчас же с усилием оторвалась и перешла к следующему раненому…
Вот они, братья по оружию! Брызгалов, сдвинув брови, смотрит внимательно им в лица… И на него снизу бледные, посиневшие, искривлённые страшною мукою, — глядят эти «жертвы вечерние» сегодняшней победы… Бескровные губы силятся что-то сказать… Некоторые даже хотят приподняться и падают опять.
— Лежите, лежите, голубчики! — приказывает им комендант.
— Степанов, и тебя тронуло? А каким молодцом отбивался, на моих глазах! — Троих лезгин за стену сбросил…
— Тронуло, — тихо отвечает тот.
— Куда?
Доктор смотрит многозначительно, и Брызгалов понимает без слов: «тяжело, безнадёжно»… Он тотчас же овладевает собою, и лицо его принимает весёлое выражение.
— Выпользуем, навесим тебе крест и ступай вольным казаком на все четыре стороны!..
Но больного обмануть трудно.
— Точно что крест, ваше вскородие! Только деревянный!.. А уйду, действительно, далеко… Долго жить вам прикажу…
Сколько в этом «долго жить» грустного… Уходящий из мира оставляет последний завет свой тем, кого уж ему не суждено видеть ни здесь, ни там… Долго жить… «Прощайте, будьте счастливы!.. Счастливы, только меня уж не будет между вами… Вам свет солнца, лазурь неба, тихая ласка ветерка в знойный день, дыхание моря, лепет волн, вам и ночь спокойная, и день радостный, вам — слово и песня, и смех, и слёзы, а мне — один мрак, один мрак могилы, какое-то неведомое, великое ничто… Долго жить!.. Живите, радуйтесь, только без меня, я даже не улыбнусь вам из моего близкого „далека“»… Так и понял это Брызгалов. Он перекрестил солдата и остановился, видя, что тот ещё его хочет спросить о чём-то.
— Тебе тяжело говорить?..
— Напоследок, Степан Фёдорович… дозвольте узнать… отбили мы их?..
— Отбили, отбили…
— Совсем отбили?..
— Да… Теперь долго не сунутся… — Брызгалов чувствовал, что эта ложь зачтётся ему там выше всякой правды…
— Слава Богу!.. — радостное сияние, точно отсвет заходящего солнца, отразилось на лице раненого. — Слава Богу!.. С победой… — и затем он вдруг нашёл в себе силу подняться на локтях и счастливым взглядом охватить всех, кто был кругом… — Братцы… Самого Шамиля… С победой… Ура!..
И не кончил, упал навзничь, грудь приподнялась неестественно, у самого рта заклокотало что-то, и, когда его надорванный крик слабыми голосами подхватили другие раненые, — Степанова уже не было на свете, только широко открытые глаза его смотрели на Брызгалова, словно удивляясь, что это с ним, со Степановым, отчего он не может поднять голову от земли шевельнуть рукой и продолжать этот радостный крик. Брызгалов закрыл ему глаза и пошёл дальше…
А вон из-под шинелей ногами вперёд торчат убитые… Странен вид их. Ничего под серым сукном не видно, кроме этих пар подошв. Одна к одной, углами. Но взгляд не отрывается от них, — не шевельнутся ли… Не вернётся ли жалкий скиталец из того великого нечто или ничто опять в эту прохладу ночи, уже дрогнувшей от первой ласки просыпающегося дня?..
— Сколько убитых и умерших от ран?
— Восьмеро, — тихо отвечает доктор.
— Слава Богу! — я бо́льшего боялся. Ну, а раненых? — спросил он, немного погодя.
— Пятнадцать человек уже в лазарете, десять ещё осталось здесь.
Брызгалов понурился и пошёл к себе…
— Свести солдат вниз! Оставить часовых в удвоенном составе. Выслать секреты и собак… Да пусть казаки охватят крепость разъездом… Скажите, чтоб не стрелять по убивающим раненых и убитых…
И он упал в кресло. Усталь взяла своё, — он заснул. Уже несколько минут стоял перед ним Незамай-Козёл. Надо было доложить обо всём, что случилось у него, но комендант попробовал с усилием открыть глаза и не мог.
— Сморился…
Незамай-Козёл думал сам отдохнуть, но пожалел Брызгалова. И опять пошёл вверх на стены.
— Не будить коменданта! — приказал он. — Ему сегодня — вдвойне пришлось: и за нас, и за себя…
Через час кончилась перевязка. Нина ещё пришла в лазарет узнать, всё ли есть там, оказалось, что доктор предусмотрел всё. Она горячо пожала ему руку и пошла к себе. Бодрая и мужественная, девушка держалась на ногах только до своей комнаты. У себя её оставили силы. Она хотела дойти до постели, но вдруг ноги её подкосились, голова закружилась, сердце замерло, какой-то туман и мрак окутал всё, и она рухнула на мягкий шушинский ковёр, устилавший спальню…
Тише и тише жужжали свинцовые шмели, дальше уходил гул отступавших горных кланов.
Милость!
Утром по всему простору Самурских отмелей началась уборка трупов и раненых.
Только с рассветом дежурные части, остававшиеся на стенах, могли определить весь урон, который потерпел вчера неприятель. Кнаус с немецкою обстоятельностью распределил убитых по их значению у горцев, и оказалось, что больше всего пало при штурме крепости мюридов. Вода выступила из рвов, окружавших укрепление, и под нею видны были такие же безмолвные свидетели вчерашнего ужаса… Дальше, по отмелям, уже не такими массами лежали тела людей и лошадей. Больше всего их было там, куда был направлен меткий огонь картечных орудий… Когда туман стал рассеиваться и подыматься, — из-под него как из-под однообразного полога выступили сотни других тел, разбросанные до тех пор, пока хватал глаз. Там уже работали лезгины, — собирая своих. В кустах тоже замечалось медленное шуршание и движение ветвей — очевидно, и там переживали мучительную агонию раненые… Угрюмо прислушиваются к раненым солдаты. Ожесточение боя улеглось, — осталось сожаление к таким же как и они людям… — «Хорошие войны», — замечает один. — «Добрые воины, страху не знают. Коли бы не бунтовали, — первые были бы!..» И в этих словах — невольно, назло говорившему, слышится сострадание… Когда над причудливыми вершинами Дагестана поднялось солнце, и утренняя мгла, свившись лёгкими облачками, стала медленно подыматься от скалы к скале, всё выше и выше, — зрелище, представшее героическим защитникам маленькой крепостцы, было поистине ужасно…
— Неужели всё это мы? — спросил замирающим голосом молодой солдат.
— Чего? — отозвался ему неохотно, не глядя на него, усач, помнивший ещё Ермолова.
— Дяденька, ужели же это всё вчера?.. Мы, то ись?..
— А то кто же?..
— Господи, — сколько! Беды-то, беды…
— По присяге… В бою врага щадить нельзя. Попал он в плен, другое дело, — друг он тебе и брат. Особливо, если раненый… Ну, а в сражении жалеть не приходится…
— Это-то я знаю… А только сколько их… И всё-таки жалко. Живые ведь.
— Картечью било. Известно!..
Когда второй наказ будуны уже прокричали с минаретов подоблачных аулов, — к крепости стала приближаться группа всадников — глашатаи… Молодой солдат было приложился сдуру, забыл недавнее сожаление к участи раненых, как сосед ткнул его легонько в шею.
— Ты чего, дурак?..
— Стрелять… Попужать… — растерялся тот.
— Я тебя попужаю. Навек закаешься… Разве не видишь, — они без оружия…
Действительно, ни на ком не было ни ружей, ни пистолетов, ни шашек. Даже кинжалы, с которыми никогда не расстаются горцы, не болтались на их поясах. Лошади их храпели и пугливо сторонились от массы тел, мимо которых и через которые пришлось им проезжать. Одна даже закусила удила и, круто вывернувшись из толпы, понесла назад, но нагайка всадника тотчас же отрезвила её, и, дёргая головой и кусая удила, конь живо нагнал своих. Кнаус послал дать знать Брызгалову, и он вышел с переводчиком на стену…
— Отчего они белого флага не показывают? — спросил кто-то из офицеров.
— Это не переговоры… Они приехали просить милости. Вы видите, — безоружные.
Брызгалов приказал отворить ворота, опустить мост, и один, в сопровождении переводчика, вышел через мост — по ту сторону рва.
— Что вам надо? — грозно спросил он, хмуря свои седые брови на наибов.
Те заговорили по-своему.
Татарский переводчик в почтительных выражениях передавал их.
— Аллах вчера наказал народ за грехи… В руках Его — победа или поражение… Победу Он дал вам, на позор осудил нас!.. — медленно и важно, не слезая с коня, говорил старший из наибов… — Судьбы Его неисповедимы, и не нам судить дела Его. Если так случилось, значит, мы виноваты пред лицом Аллаха, и Магомет, даже своим представительством, не мог защищать нас. Ты сам видел, что мы шли на твои стены, не боясь смерти. Долго ещё будут в горах рассказывать о вчерашней битве… Долго! Много матерей будут плакать в осиротевших саклях… Но Бог, даровавший вчера победу вам, завтра, быть может, дарует её нам… Сегодня наверху вы, — завтра будем мы! Мера гнева Его исполнится, и перед Его лицом мы найдём благоволение… Мы, поэтому, просим у вас милости такой же, какую, если будет угодно Великому и Всемогущему, и вам окажем потом, — он гордо поднялся на стременах и уже громко и с достоинством заговорил. — Не униженными просителями явились мы здесь, а равными к равным, воинами к воинам… Судьбы битв переменчивы, побеждали вы, побеждали и мы… Нам нечего считаться! Я не раз встречал старого полковника, — кивнул он на Степана Фёдоровича, — в бою грудь с грудью. У меня на плечах есть шрам от его шашки, и мой кинжал, должно быть, оставил след на его груди.
— Я узнаю тебя, наиб Юсуф…
Брызгалов, улыбаясь, подал ему руку. Тот её пожал… Странно было видеть эту суровую улыбку на лице того и другого.
— Мы с тобою поквитались. У меня нет зла ни против тебя, ни против твоих. Ты, верно, пришёл просить разрешения убирать трупы?
— Да, по шариату, — они не могут оставаться гнить на полях как падаль.
— Так вот вам моё разрешение. До вечера сегодня, пока солнце не зайдёт за Шахдаг, вы можете приходить под самую крепость и убирать трупы, но с двумя условиями: те, которых пришлёшь ты, должны быть безоружными.
— Слушаю, саиб.
— Потом: с трупов должно быть снято оружие и брошено на земле.
— И кинжалы? Ты знаешь, саиб, нельзя мусульманина, павшего на земле, хоронить без кинжала.
— Кинжалы можете оставлять на трупах и на раненых, а остальное — долой. Мои солдаты сверху будут следить за исполнением этого, и при малейшем нарушении условий начнут стрелять по ослушникам. Прощай, наиб Юсуф! Мне бы приятнее было драться не против тебя, а рядом с тобою.
— И мне тоже, саиб!.. О твоей храбрости говорят у нас даже и в Кабарде. Таких узденей мало и у натухайцев!.. Прощай, саиб!.. Благодарю тебя от лица этих, — указал он величественным жестом на безмолвных свидетелей, лежавших кругом.
Брызгалов ещё раз пожал ему руку и пошёл назад.
Наиб Юсуф приказал глашатаям вернуться, и через четверть часа их резкие гортанные крики раздались уже далеко. Точно ожидавшая их серая масса пеших лезгин без оружия наполнила всю долину. Дравшиеся под стенами этой крепости нахлынули обратно, но уже мрачными и молчаливыми, с голыми руками. Солнце не играло на дулах ружей и на оправе шашек и кинжалов. Между ними много было наибов, — они следили за тем, чтобы нигде не нарушалось условие и не было беспорядка… Безмолвно совершалась работа, и в зловещей тишине пришедшие подымали павших и уносили их на себе… На их месте оставались кучи ружей, шашек и пистолетов!.. На крепостных стенах вся эта суета внизу производила неизгладимое впечатление… Братья отыскивали братьев, отцы — сыновей, сыновья — отцов. Многие поворачивали убитых лицом к солнцу и с трепетным выражением жалости взглядывал в их лица. Вон один важный наиб нашёл, наконец, своего… Красавец горец, ещё безусый, лежал, раскинув руки, у самого Самура… Старик наклонился над ним и, чтобы никто не видел его горя, свою и его голову накрыл башлыком и оставался так несколько минут… Потом вдруг встал. Лицо его было сумрачно и грозно… Он поднял дорогую ношу, перекинул её через седло и повёл коня в поводу… Вон другая группа… Трое молодых бойцов в богатых и щёгольских черкесках — елисуйцы, должно быть, — отыскали старика, папаха которого была обвита зелёною чалмою. Они сняли с него шашку и пистолеты, благоговейно поцеловали их, потом припали устами к полам убитого и с лицами, по которым текли слёзы, подняв, понесли его на себе… Много таких встреч происходило на глазах у русских… Вот, наконец, вдали красным пятном выделилась кучка всадников — она быстро приближалась к полю вчерашней битвы…
— Шамиль, Шамиль!.. — пронеслось по стенам, и с жадным любопытством выбежали и воззрились на него солдаты.
Худое лицо с яркими, — горящими внутренним огнём глазами. Худое лицо — нервное, с орлиным носом, тонкими и бескровными губами… Широкие плечи, могучая фигура… Кажется, что глаза эти не мигают вовсе, что ресницы их ко лбу приросли… Соколиным взглядом он окидывает поля и хмурится, почти сдвигая уже седеющие брови… Он — точно одно тело с лошадью. Лёгкий кабардниский конь — золотом горит под ним. Тонкие ноги его, шутя, одолевают расстояние… Шамиль что-то обдумывает. Он внимательно смотрит на стены крепости и на русских… Ни вражды, ни злобы в его глазах… Он исполнитель велений Аллаха. Разве ангел Азраил ненавидит поражаемых им?.. Он удержал коня и медленно проезжает вдоль убитых и раненых… Оглядывается… Какой-то старик-наиб подскакивает к нему. Он говорит что-то так же бесстрастно… Наиб во весь опор летит к стенам и, доскакав до рва, прикладывает руки ко рту и кричит по-русски:
— Великий имам Чечни и Дагестана — повелитель всех горных народов от южных гор до Терека и от моря до моря, раб Аллаха и верный слуга Магомета, пророка его — шлёт привет всем и благодарит за милость.
Брызгалов отдал честь.
Внимательно-острый и огненный взор Шамиля остановился на нём. Точно он оценял противника, с которым имел дело… Что-то шевельнулось в углах его рта, и, слегка дотронувшись рукой до сердца, — он медленно повернул коня и поехал назад…
— Орёл! — говорили солдаты.
— Орёл-то орёл — только мы ему вчера как каза́чка задорному петуху немало перьев из хвоста выхватили…
— Погоди, орла-то в курятник запрём, каково ему сладко будет…
— Ты ещё курятник заведи такой сначала…
— А бравый… Что говорить, бравый…
Красное пятно всё уменьшалось и уменьшалось. Скоро оно казалось искоркой в облачке пыли… И искорка эта погасла, и пыли уже нет… Внизу — та же уборка… Брызгалов выслал казаков, тоже без оружия, собирать шашки, пистолеты и ружья. Их грудами вносили в крепость и складывали у стен… Солнце далеко ещё не зашло за Шахдаг, как вокруг Самурского укрепления не было уже убитых и раненых. Тишина охватила долину… Прислонившись к горам, кланы тоже безмолвствовали… Вершины горного Дагестана царственно плавали в лазурной бездне неба, подымая на своём темени грозные аулы под знойные лучи солнца… Безмолвие царило кругом такое, что даже странным казалось, — что ещё вчера всё это пространство было полно неистового рёва битвы… Самур тихо катил серебряные воды, и, слегка вздрагивая, перешёптывались о чём-то листья чинар…
Шамиль
Когда солнце садилось за горы, и на рубиновом море заката, резкие и чёрные, определились и их утёсистые вершины — в долине реки Самур приказано было строиться всем войскам Шамиля. Феварис[36] из кабардинцев и чеченцев стала налево, межщит[37] — направо. Альф[38] от альфа отделялись интервалами, точно так же, как хамса-миа от других[39]. Меньшими расстояниями были ограничены мии[40]… Впереди стояли на известных пунктах райсул-альфы — командиры полков — тысячники, за ними райсу-хамса-мии — пятисотники, и уже у самых кланов сотники — райль-мии и рансу-хамсин — пятидесятники. У тысячников и пятисотников на груди блестели серебряные круги с арабскими надписями, гласившими: «Брось малодушие, предавшись войне. Терпи её невзгоды, — нет смерти без назначения!» В середине круга значилось имя командира. На остальных начальниках, тоже серебряные, висели полумесяцы с их фамилиями… Значки тихо веяли… Подымавшийся ветерок слегка колыхал их зелёные, шитые арабскою вязью треугольники… Впереди, в ожидании великого имама, на статных конях сидели его наибы, увешанные орденами, созданными Шамилем для своих храбрецов. Эти отличия состояли из звёзд, полумесяцев с саблями под ними, серебряных разноугольников — под чернью, — со стихами из Корана и надписями, вроде: «Кто думает о последствиях, тот никогда не может быть храбр» или «Нет силы, нет крепости, кроме Бога единого»… На груди Хатхуа висела звезда с арабскою вязью внутри, гласившей: «Нет Хатхуа храбрее, нет сабли его острее» и ниже: «Этот герой искусен в войне и львом бросается на врагов, не считая их».
Но впереди всех с лопатами в руках стояли в чёрных чалмах своих «палачи»… Войска безмолвствовали. Приказ последним выйти и ждать имама наполнял всех смутным предчувствием чего-то ужасного…
Ждать пришлось недолго…
Имам показался вдали, но пешком, в изорванной черкеске, надетой на голую грудь и без оружия…
На бритой голове его не было ни папахи, ни чалмы…
С выражением глубокого горя, он шёл, опустив вниз голову и, по-видимому, ничего не замечал перед собою… За ним двигались в таких же изодранных одеждах муллы и мутелимы… Много времени прошло, и ночь уже наступила, когда имам добрался, наконец, до середины расположения своих войск. Факелы горели вокруг него, и, дымясь, красные языки их пламени выхватывали из мрака суровые лица и мощные фигуры наибов…
— Глашатаи, созовите всех начальствующих до пятидесятников! — приказал Шамиль.
Глашатаи кинулись во все стороны, и скоро их гортанные и хриплые крики словно клёкот кречетов раздались и направо, и налево…
От войск отделились испытанные воины и подошли к имаму.
Повелитель Чечни и Дагестана стоял неподвижно посреди них, не подымая глаз. На его лице было написано отчаяние. Открытая грудь носила царапины от ногтей… Длинная борода была выпачкана грязью. Когда всадники февариса стали позади сплошною стеною, Шамиль поднял голову и зорко оглядел всех. Он заговорил тихо прерывающимся и усталым голосом, точно каждое слово ему стоило страшных усилий и труда… Порою он выдерживал паузы и хватался за грудь рукою, подымал глаза к небу, точно оттуда ожидая вдохновения… Там уже сияли вечные иероглифы созвездий, и прямо над головою Шамиля зловеще кровавым светом горел Альдебаран…
— Правоверные!.. Нет бога, кроме Бога, и Мухаммед — пророк его!.. Позор нашего поражения наполнил смятением мою душу… Аллах обещал мне победу, но в решительный час отвратил от меня лицо своё. Мухаммед — в таинстве хакиката — явился мне, и препоясал меня священным мечом, и коснулся руки моей в ознаменование торжества над гяурами, ожидающего нас… Вот она, эта рука, вот этот знак!..
И он высоко поднял руку и показал на ладони красное пятно от обжога…
— Огонь от перста его проник меня всего, и я послал доблестного льва Хатхуа собрать вас всех и идти, чтобы взять готовую жатву вражьих голов. Нива стояла готовой — жнецы пришли, но серпы выпали из их рук, и они отступали в страхе перед нею. Что случилось такое? Почему обетование Господа не исполнилось? Кто наполнил страхом сердца ваши, отняв мощь у ваших рук? Почему это жалкое воробьиное гнездо, — указал он по направлению к крепости, — стоит ещё, когда на него набросились лучшие орлы гор, со стальными когтями, с заострёнными железными клювами?.. Что случилось?..
Он опять поднял голову вверх…
Под перебегающим красным блеском факелов видны были конвульсии его лица и порывистое дыхание исцарапанной груди…
— Я падал перед Аллахом во прах… Целые часы я лежал перед ним, и Всемогущий не явился мне! Я в скорби и смятении призывал пророка, но и он не посетил меня… Я разодрал тело своё ногтями, я грязью посыпал главу, я уничижался перед младшими пророками, я взывал к четвёртому из имамов Зейн аль-Абидину, — но все они были глухи. Ни один голос с высоты не раздавался мне в ответ, и только горный ветер как шайтан смеялся и свистал кругом, да снизу доносились стоны и вопли наших, умирающих и раненых… Я воззвал к моему покровителю Омару… Я крикнул Алию: «Слышишь ли ты меня?», но Омар молчал, и Алий не слышал… Неужели мы оставлены Богом и его пророком?.. Неужели над нами нет более его покрова и милосердия?..
— Аллах, Аллах! — воскликнул он, царапая себе лицо. — Неужели ты хочешь стать Богом и защитником неверных!..
И он точно стал прислушиваться…
Но долина молчала, задумчиво безмолвствовали горы… По верхушкам деревьев крался ветер, тихо шелестели знамёна и значки… Вздрагивали лошади и бряцали оправленными в серебро уздечками… Всё краснее и краснее разгорался зловещий Альдебаран, и из-за вершин Шахдага засверкали семь очей Большой Медведицы…
— Молчит Аллах… Оставил меня пророк его… Правоверные!.. Я, чтобы лучше слышать голос Бога, всходил на утёсы… Мне осталось одно: как жалкий червь я уйду в землю, зароюсь в ней и там — в смраде и унижении, буду ждать Его милости… А вы стойте тут до утра, и горе тому, кто скажет слово или оставит своё место… Стойте и молитесь безмолвно… Если бы на вас обрушились все силы Эблиса, — молчите; если бы буря заревела над вами, и молнии стали поражать вас, — стойте!.. Хатхуа, наиб Юсуф, Аслан-бек… вы проведёте эту ночь близ меня и да будете вы моими очами и памятью… Ещё раз: горе тому, кто сойдёт с места или скажет хоть одно слово!..
Он дал знак палачам. Те быстро заработали лопатами…
Через час, в течение которого Шамиль лежал на земле, распростёршись в безмолвной молитве, они вырыли глубокую яму. Шамиль вошёл в неё… Они прикрыли его досками углом над ним и, согласно заранее отданному приказанию, засыпали их сверх землёй, разумеется, оставляя незаметные промежутки. Ужас охватывал войска… Глашатаи каждое слово, сказанное Шамилем наибам и начальникам, передавали пехоте и кавалерии… Какой-то гул отдалённых вздохов проносился по долине.[41]
Альдебаран сдвинулся с места, семь очей Медведицы свершили часть обычного круга. Ярко загорелся меч Ориона… Блистательный Сириус — этот «алмаз на перстне Божьем» — показался над горами… Луна выступила и всё кругом облила мечтательным и нежным светом… Застрекотали кузнечики в траве, запели цикады на деревьях, громче из глубины ущелий зароптали горные потоки. С сухим шорохом снялась и полетела саранча… Светляки вспыхнули в кустах… Буль-буль[42] вдруг запел в вершине гранатных деревьев и долго серебряными трелями наполнял мистическое безмолвие ночи… А двенадцать тысяч пеших и всадников не смели двигаться и стояли молча над страшною могилою живого имама. Кони фыркали и встряхивали головами… Копыта их нетерпеливо скребли землю, слышался шорох, — тысячи пеших переминались на месте, когда ноги у них затекали. Но никому не приходило в голову оставить место, сесть или отойти в сторону… Смерть ждала ослушников, да и кроме того благоговейное чувство оковывало самые непокорные души… Даже плохо дисциплинированные дидойцы, в своих звериных шкурах, не отводили глаз от свежезасыпанного холма, под которым как червь в земле в уничижении и смраде великий имам Чечни и Дагестана, повелитель народов от гор до Терека, от моря и до моря — покрытый перстью земной, молил Аллаха об откровении… Также и муллы как изваяния стояли около… Нужна была вся восточная покорность судьбе, всё бесстрастие, чтобы выдерживать этот искус… Хорошо было задним рядам лезгинской пехоты, прислонившимся к скалам — передние чувствовали, что земля точно начинает колыхаться под ними, уходить у них из-под ног…
Месяц уже поднялся высоко…
Мягким светом его облитые, вставали вершины Дагестана. Чернели их утёсы, светились ледники… Белый пар клубился со дна пропастей, пелена мглы лежала впереди над низиною Самура… Ущелья кутались в туман, и только боковые скалы прорезывались, точно хотели уйти от него в недосягаемую высоту… Упёршись локтями на ружья, утверждённые дулами в землю, стояли лезгины… А ночь всё длилась и длилась, и, казалось, не будет ей конца, голубой и мечтательной царице мира, так нежно и ласково прохладными устами касающейся разгорячённого чела земли…
Какая тишина! Так тихо, что с башен и стен осаждённой крепости доносятся крики часовых… Чу! Где-то тявкнула собака… Какая тишина! В ней есть что-то страшное, томительное… Молчат горы, — в складках их тысячи джинов притаились в ожидании жертвы… В эти часы из глубины чёрных пещер выползают змеи и тоже подстерегают на горных склонах путников… Хоть бы какой-нибудь резкий и громкий звук нарушил тягостное очарование, снял колдовство зловещего безмолвия… Сон ходит волнами, одуряя головы всех этих людей… Но они борются с ним… Спящего ждёт смерть. Всадникам ещё хуже. Сидя в седле, хорошо спится, но страх, оковывая их, не даёт им сомкнуть глаз…
Имам молит Аллаха…
Быть может, Всемогущий услышит его, сойдёт к нему во тьму…
Союз между Ним и повелителем «от моря и до моря» будет восстановлен, — и Азраил тотчас же поразит виновника… Хотя бы крик ночного намаза раздался в воздухе… Но, во-первых, намаз в войсках отменён, а во-вторых, муллы должны безмолвствовать как и все остальные…
Томительная ночь казалась бесконечной, но когда, наконец, со стороны моря повеяло холодом, и восток побледнел, а на вершине Шахдага загорелись первые лучи просыпавшегося дня, — когда тени дрогнули, и потускли звёзды, и даже кровожадный Альдебаран сомкнул зловещее око, — муллы и муэдзины с мутелимами и будунами затянули своё «ля-иллахи-иль-Аллах». Старший из них подошёл к могиле имама и, три раза стукнув в неё посохом, воскликнул:
— Жив ли ещё возлюбленный Богом?..
Но оттуда не раздалось ни слова в ответ.
Муллы отошли. Встрепенувшиеся было конные и пешие, наибы и простые лезгины опять погрузились в мрачное безмолвие. Скоро все вершины гор заалели и засияли… По скалам и утёсам их живою кровью сбежали розовые лучи в горные долины… Муллы опять постучались к имаму.
— Жив ли ещё возлюбленный Богом?
И вновь он не подал голоса.
Уныние охватывало всех… Хатхуа и преданные повелителю Чечни и Дагестана наибы встревожились. Они теперь не отводили от холма взглядов, полных ужаса и опасений… Наконец, солнце поднялось над ущельем между Шахдагом и Баир Дервишем, ущельем, по которому можно было дойти до Каспия. Целая река ослепительного света оттуда залила долину… Дрогнули её туманы, проснулся весёлый жаворонок в траве…
— Жив ли ещё возлюбленный Богом?..
И вдруг из-под земли раздался ответ:
— Хвала Аллаху, даровавшему моим очам свет!..
Лопаты палачей заработали опять, доски были откинуты… Весь засыпанный землёй, изнеможённый, поднялся из-под них Шамиль… Опираясь на наибов Юсуфа и Хатхуа, он вышел из могилы… Теперь всё кругом замирало в ожидании откровения… Посетил ли Бог имама?.. Дал ли ему новые обеты?..
— Правоверные!.. Нет бога, кроме Бога, и Магомет пророк его!.. Сжалился Аллах над своими рабами и послал мне в мрак и персть земную ангела… Всю ночь мы беседовали с ним… И велики были и страшны слова, услышанные мною… Огнем палили они мою душу… И долго я плакал и долго молил, и ангел Аллаха опять подымался к небу и вновь принёс мне веления Всемогущего… И опять я плакал, потому что он хотел истребить народ свой, — наслать на него смерть и унижение, плач и рабство. Велика была мера гнева Его, так велика, что наполнить эту чашу не хватило бы всех гор Дагестана… И опять я плакал и молился, и ангел на тёмных крылах ещё раз подымался к Аллаху… И смиловался Вечный, имя которому Адн. Занесённая рука Его опустилась, меч из неё выпал и лежит у Его ног в ожидании. Пророк — под самое утро, — когда впервые муллы взывали ко мне, слетел на своём огненном коне, и коснулся меня, и приказал возвестить вам истину… Злодеи и слепые, бессмысленные слуги шайтана! Доколе вы будете смрадом грехов наполнять вселенную?.. Вонь от ваших душ поднялась до райских врат и отравляет там воздух блаженных… Нет числа вашим преступлениям, — они велики как море, высоки как горы, покрытые снегами, глубоки как пропасти, где до сих пор ещё никто не отыскал дна… В каждом из вас грехов более, чем песку у моря, они как злые коршуны летают и заклёвывают немногое доброе, что ещё осталось у вас… Знайте же и трепещите!.. Господь хотел истребить вас всех до единого мечами неверных… Он хотел вооружить силою своею руки гяуров, — и вы видели, что было вчера… Он уже отвратил от вас лицо, — и в это самое утро была определена общая гибель ваша… Отчего вы были побеждены, отчего враг гнал вас как подлых чекалок от своих стен? Потому что нет в народе веры в силу Аллаха, потому что весь ваш путь на земле есть путь греха и преступления! Что было бы с вами и не только с вами, но и с вашими нагорными аулами и всеми, кто там ждёт теперь радостной вести о победе и получит только весть о своём сиротстве?.. Что было бы, говорю, с вами и с ними, если бы я не мог умолить Аллаха ещё на несколько дней отложить свою месть?.. Лицо Его ещё не обращено к вам, — Он три ночи будет ждать, чтобы сердца ваши умилились перед гневом Его, и души ваши наполнились чистыми водами веры… Вам дан срок, и, несчастные, сумейте употребить его для вашего спасения… Смотрите, — огонь уже подходит к сухому камышу… Уже тлеет он… Ещё раз пахнёт ветром, и останется одна зола… Азраил над вами, — вы его не видите, а я вижу его и блеск его меча, громадного как Каспийское море в длину, и невыносимый свет его глаз, каждый из которых более солнца, встающего над горами… Я вижу его до последней складки его платья… Конь под ним нетерпеливо кусает удила… Три дня грозный ангел смерти будет ждать повелений Божиих… Покайтесь, исправьтесь, несчастные!.. Я вижу его, но блеск его невыносим моему взгляду… Аллах, Аллах!..
И вдруг Шамиль в конвульсиях и судорогах упал на землю…
Народ с ужасом смотрел, как его всего било, как пена выступала на его губах, а остеклевшие глаза закатывались под веки, обнаруживая одни белки…
— Азраил! Азраил!.. — выкрикивал он. — Оставь их, уйди от них!.. — и снова падал в конвульсиях.
Когда припадок его окончился, Шамиль, точно проснувшийся, огляделся.
— Что со мною было? — спросил он Хатхуа.
— Ты видел ангела смерти над нами…
— Да… Всякий раз, когда его встречаю, со мною делается тоже… Подайте мне воды!..
Он с жадностью сделал несколько глотков и привстал, опираясь на кабардинского князя… Потом задумался и долго стоял так… Наконец, точно вспомнив что-то, он с усилием проговорил:
— Хатхуа, позови палачей!..
Тех и звать нечего было, — они находились около…
Шамиль вышел опять из окружавшей его толпы и крикнул народу:
— Правоверные!.. Я здесь перед вами!..
Неведомо, откуда у него брались силы после таких припадков как этот… Безмолвные, бледные, трепеща от ужаса, стояли лезгины… Многим из них казалось, что их уже касается пола одежд ангела смерти… Склонив головы на грудь и сложив руки, благоговейно сидели на конях чеченцы… Все ждали, что ещё должно совершиться… Для чего вновь были призваны палачи?.. Из наибов даже каждый боялся за себя и не без страха следовал за ним.
— Правоверные!.. Я здесь перед вами свидетельствую славу Аллаха и Магомета, пророка его… В Коране сказано: «Да не пройдёт ни одно злое дело без наказания на земле, дабы Господь там не потребовал в нём страшного отчёта на суде Своём». И далее, Алий восклицает: «Грех народа на вождях его»… По моей молитве Азраил отошёл от вас… Я вижу теперь только его тень за Шахдагом… Она как тень от орлиного крыла делается всё меньше… Аллах вернул его к себе, — о ваши грехи, отсутствие веры, несоблюдение правил шариата и тариката, кумовство с гяурами, пьянство, потому что вы пьянствуете, курение, потому что вы курите эту сатанинскую траву, всё это вопиет к нему и свидетельствует против вас. Сегодня всемилосердый Аллах помиловал вас… Но завтра он может вспомнить все ваши мерзости перед ним и разгореться мщением, — и вновь он дарует победу неверным и навеки отвратит от вас лицо… Грех народа на вождях его… Посему я принимаю на себя ваш грех и сейчас перед вами понесу за него кару… Мулла Керим, раздень меня до пояса!..
Лезгины оцепенели… Чеченцы, уже знакомые с приёмами Шамиля, — невольно закрыли глаза…
— Хатхуа, милый сын мой, держи мою чалму, — потому что, доколе я не потерплю кары за весь народ мой, я буду недостоин надеть её… Палачи, бейте меня воловьими жилами… Пусть каждый из вас даст мне пятьдесят ударов… Но помните: тому горе, кто станет наносить их слабо… Голова упадёт с его плеч как спелый плод дерева… Я страдаю за народ, за его грехи, и муки мои должны быть велики… Аллах, — воззри на кровь мою, пролитую за этих грешников. Магомет, — примирись с ними… Я искупаю их вину…
Обнажённый до пояса, могуче сложенный, Шамиль стоял гордо и прямо перед дружинами.
— Во славу Аллаха начинайте… Ты, Мурад…
Здоровый дидоец, с воловьими мускулами и шеей, подошёл… Он поклонился Шамилю…
— Прости, имам!..
— Прощаю, ради Бога!..
Высоко взвился бич в воздухе и оставил красную полосу на спине у имама, следующий вырвал у него клок кожи с мясом… Мы не будем описывать всей этой страшной казни, которую Шамиль выносил стоически… Палачи не смели бить его слабо. Они знали, что в Хунзахе, при таких же условиях, он приказал перерезать горло неверному исполнителю его воли за то, что удары того были слишком легки… Когда боль стала невыносима, Шамиль воскликнул:
— Пой со мной, народ мой! — и твёрдым, сильным голосом начал священный гимн тариката:
«Обнажи свой меч, народ, —
Помогай в священной битве!..
Я Аллаха зрел в молитве, —
И сказал он: „Каждый род
Будет проклят мной отныне, —
Сын в отце, и старец в сыне,
Если он, презрев войной,
Не пойдёт с неверным в бой“…
Азраил уж у порога —
Выступайте, ради Бога!..»
Грозно рос этот напев, подхваченный двенадцатью тысячами голосов… Шамиль, казалось, забыл личную свою муку в этом восторженном взрыве боевого чувства к небесам. Он пел под свист бича, в то время, когда кровь ручьями бежала по его спине и плечам… Он пел, когда ему бы следовало кричать от невыносимого, адского страдания… Когда, наконец, искупление народного греха кончилось, и «мерзость его на вожде» была наказана, к Шамилю подошёл хаким — чеченец-доктор…
— Не надо, — остановил его Шамиль. — Господь, простивший народ мой, залечит сам мои раны, — и надел платье на истерзанное тело…
— Аллах шлёт вам свою милость!.. Исповедайте Его… — крикнул он.
— Нет бога, кроме Бога, и Магомет — пророк его! — ответили ему присутствующие.
— Зейн аль-Абидин, посланец пророка, шепнул мне в ухо сладкую весть: «Неверные будут разбиты, и Аллах отныне предаёт их в наши руки»… Слава Аллаху… Но вы все три дня и три ночи должны соблюдать пост… Есть с вечернею звездою и только конопляные лепёшки. Ни мяса, ни бузы… Слышите ли вы меня?..
— Слышим…
— Клянётесь ли исполнить всё сказанное?..
— Клянёмся…
— Пусть же погибнет тот, кто нарушит клятву, а я больше уже не ответчик за вас перед Аллахом…
Трёхдневное ожидание было очень ловко задумано Шамилем.
Он знал, что от племён Адыге идут к нему всадники-мюриды… Пока будет длиться пост, они соединятся с массой, страшно нафанатизированной им. Зрелище добровольной казни и пребывание в земле имама довели веру в него до апогея… Теперь самый трусливый из лезгин пошёл бы на верную смерть по одному мановению его бровей…
Нина за работой
Всё время, пока лезгины на другой день после боя убирали раненых, наши солдатики заводили добродушную беседу с горцами, понимавшими и не понимавшими по-русски…
— Эй, азия! — кричал какой-нибудь весёлый малый сверху. — Гололобый… Как тебя?..
— Ахмед… Здорово, бояр. Якши-ол… Хады сюда, — джигит будешь…
— А ты, джигит, портки-то себе спервоначалу почини…
Лезгин таращил глаза, вдумывался в услышанное и, не поняв, решительно отвечал:
— Аллах Сахласын. Аллах — одна есть… Тебя, Иван, одна Аллах, — моя, Ахмед, одна Аллах…
— Значит, два выходит?..
— Иок. Нет, два… Одна есть… — потом, задумываясь, что бы ещё сказать по-русски, лезгин оканчивал. — Урус водка гюссуны яхши… Лезгин — айран чох-олсун… Буза чох яхши[43].
— Ишь азият… А насчёт водки, братцы, какое понятие имеет…
— Иди сюда, — мы тебе поднесём! — показывали они на ворота.
Лезгин качал головой снизу вверх, выражая отрицание, потом показывал себе на шею и ребром ладони поводил по ней.
— Ты думаешь, зарежем?.. О, дура! Когда же это православное христолюбивое воинство гостей резало!..
Горец опять вдумывался и, сообразив, что его не поняли, опять показывал на ворота крепости, потом пальцами как будто клал себе в рот нечто (вы-де накормите), подставлял горсть и пил из неё (и напоите-де тоже)… Потом подобрал полы ободранной чухи, делал вид, что он бежит к себе, выкрикивал «Шамиль» и опять повторял жест, из коего было видно, что «у вас-де — может быть, и отлично будет, да вернусь, домой, — мне голову отрежут»…
— Строго… значит! — решили про себя солдаты.
— Ну, старайся, старайся… коли так! Гололобый…
В одну из таких бесед к крепости подъехал Хатхуа.
Кнаус был в это время наверху.
— Здравствуй, офицер! Узнал меня? — крикнул ему кабардинский князь.
— Здравствуй, Хатхуа!
— Мы любим храбрых людей… Надеюсь ещё встретиться с тобою в битве…
— Разве тебе жить надоело? — спокойно спросил его Кнаус и посторонился.
Рядом с ним усталая показалась Нина. Она всё время возилась в больнице, ухаживая за ранеными… Доктор её прогнал, наконец:
— Вы уморить себя хотите… Вы, барышня, вот что, хоть на часок уйдите отсюда. Теперь чеченцы и лезгины своих убирают, вы бы посмотрели…
Крепостные лазареты того времени не походили на нынешние как кавказская старая крепость — на современные нам гигантские оборонительные сооружения. В тридцатых и сороковых годах брали более уходом, чем медициной, надеялись на природу и на милость Божью, да, пожалуй, ещё на хинин. Хинин в горах и в Грузии истреблялся в неимоверных количествах, других же лекарств часто и не знали. Медиков-специалистов почти не было: один и тот же мундирный эскулап и ногу резал, и глаз пользовал. Так и в Самурском укреплении — старый врач вместе с Ниной, ничесо же сомняшеся, ходили себе за больными и ранеными. Пичкали первых хиной и касторкой, вторым накладывали корпию и перевязки, а во всём прочем предоставляли Провидению заботиться о своих младенцах. И действительно, надо сказать правду. Народ ли был крепче, или небо больше, чем теперь, принимало участия по вере его, только выздоравливающих была масса, а умирало немного. Кладбища вокруг этих обведённых стенами гнёзд, — оказывались крайне незначительными, и с постелей больниц здравыми и невредимыми подымались такие, которым теперь пришлось бы несомненно, лёжа в гробах, выслушивать «надгробное рыдание» и вечную намять. Нина проводила здесь целые дни. Она почти не бывала дома, и Степан Фёдорович нисколько не мешал ей, считая госпитальное дело бабьим. Он по вечерам выслушивал от неё отчёт обо всех этих раненых и больных воинах и задумчиво гладил её по голове, и ему казалось, что в эти минуты перед ним — не дочь его, а её мать. Та бы делала тоже самое. По ночам Нина не раз подымалась и уходила в госпиталь посмотреть, всё ли там в порядке, не спят ли фельдшера, довольно ли у лежащих воды, не проснулся ли кто, и не пора ли переменить ему перевязку. Она теперь уже не краснела, когда солдат, поднимая на неё восторженный взгляд, шептал тихо-тихо, точно себе самому: «Ангел ты наш светлый, — пропадать бы без тебя!» Она спокойно оканчивала дело и шла к следующему. Когда досуг позволял, она писала письма в разные пермские, вологодские, пензенские и симбирские деревни, где у каждого из этих бедняков оставались дорогие и милые люди. Незанятая службой мысль больного вся уходила в бездорожья и захолустья страшно далёкой отсюда России, и для него, действительно, было величайшим утешением получить оттуда и дать туда о себе весточку. Нина знала, что всё равно теперь этих писем не отошлют, что почта не пойдёт раньше, чем уйдут горцы, но многие из этих здесь могли умереть, а во-вторых, когда она читала им их же письма — какая светлая улыбка ложилась на их лица, как радостно и покойно дышали их измученные груди. Она готова была бы писать им без конца, лишь бы они хоть на несколько минут забывались в волшебном и кротком мире милых воспоминаний. Между делом «служивые», не церемонясь, рассказывали ей о дядях Петрах, Сидорах, тётках Матрёнах, Марьях, и мало-помалу перед вчерашнею институткою открывался совершенно новый, не подозревавшийся ею мир. Ей казалось уже, что это жалкое каменное гнездо, затерянная в кавказской глуши крепостца — составляет чуть ли не центр для целого мира, столько самых дальних интересов было связано с нею, столькими бесчисленными нитями она сообщалась чуть ли не со всею Россией… И все эти Сидоры и Матрёны вдруг делались для неё близкими и живыми людьми. Она знала, как должно на них подействовать написанное ею послание, рисовала себе, как они будут читать его со слезами, с неудержимым волнением — в волостных конторах или у управляющих имениями, — и в каком ярком героическом ореоле простым сердцам и искренним душам станет являться вот этот самый невидный Иван Сергеев, что лежит теперь с перебитой ногой, — и сам не понимает своего действительного величия.
Любившая прежде солдата какою-то отвлечённою любовью только потому, что сама была добра, Нина теперь полюбила его как живое определённое лицо. Она близко узнала его, а в нём — и весь народ, к которому принадлежала по отцу. Узнала с его самоотречением, смирением, преданностью, с его детскою, чистою верою, с его всепрощением, с голубиною кротостью… И сегодня, сойдя со стен осаждённой крепости, она долго оставалась в лазарете.
— Матушка… Ангел! — слышалось ей навстречу…
Ей самой хотелось плакать, но она уже выучилась сдерживаться и с ясным выражением в глазах подходила к ним и говорила с ними. Она принуждала себя быть весёлой, и это удавалось ей… Вместе с её голосом надежда проникала в измученные сердца, так что, когда у раненого в грудь навылет, уже обречённого смерти старика Сидорова, вырвалось наивно и просто:
— Голубушка, с тобой Сам Христос сходит к нам! — все подумали тоже самое, и один из них издали перекрестил её уже слабеющею рукою…
Чтобы совладать со своим волнением, она подошла к окну и отодвинула его зелёную занавеску, но то, что представилось ей там, ещё сильнее наполняло её сердце тоскою и печалью… Зарывать на кладбище вне крепости нельзя было теперь, и вот на залитой солнцем площадке уже зияла под старой чинарой глубокая яма… Точно жадно раскрытая пасть она ждала чего-то, какой-то жертвы, которую на веки вечные ей предстояло проглотить, чтобы никому уже не выдавать её более… И действительно, показалось четверо солдат, нёсших простой гроб, перед ними с кадилом в руках шёл священник той же бодрою поступью, каким она его помнила в ночь боя на стенах укрепления… Слабый напев «надгробного рыдания» донёсся было сюда; но Нина скорее опустила занавеску, боясь, чтобы больные и раненые не увидели того же. Она пытливо взглянула на их лица, но каждый из них в эту минуту был занять собственным горем и знать не хотел чужого.
— Ну, Архип, как ты сегодня? — подошла она к ближайшему.
— Горрит… Горрит… — хрипло проговорил тот, остановясь на ней воспалённым взглядом.
— Где горит? — и она положила ему на горячий лоб свою красивую, маленькую руку.
Солдат мало-помалу стал успокаиваться. Глаза его приняли сознательное выражение…
— Где горит?..
— В груди… Испить бы…
Нина взяла кружку, выжала туда лимон, налила воды, приподняла одной рукой голову раненого, а другою поднесла к его губам питьё. Он жадно припал к нему… Пот выступал у него на лбу…
— Буде… — отвалился он. — Спасибо… Дай тебе Бог, что солдату послужить пришла…
Глаза его стали смыкаться… Нина подоткнула вокруг постели сбившееся одеяло, поудобнее положила его голову и села рядом. Через несколько минут раненый задышал ровно и спокойно… Она ещё подождала, пока издали не послышалось:
— Барышня! Нина Степановна!..
— Что тебе, Спиридон?..
— Присохло… страшно жжёт…
Этот был ранен шашкою в плечо…
— Что ж, тебе разве не делали перевязки сегодня?
— Нет ещё… Дохтору неколи было… Всё с трудными занимался… А я-то ведь лёгкий! — и он радостно улыбался этому слову «лёгкий», хоть лезгинская шашка прорубила ему тело до самой кости. — Коли бы не лихорадка, я бы на ногах ходил! — утешал он сам себя…
— Да, да, — у тебя пустяки… Так… Ты скоро совсем здоров будешь.
— Я знаю…
Она умелою рукою сняла бинт и стала отмачивать корпию тепловатою водою… Ниточка за ниточкой она отделяла её от раны, так что солдат чувствовал не боль уже в ней, а что-то, веявшее на неё свежестью и лёгкою прохладою…
— Дай тебе Бог, родная, — тихо говорил он Нине. — Дай тебе Милосливый!..
Сняв корпию, она осторожно и терпеливо промыла прорез и тихо-тихо положила на него новую корпию…
— Теперь страсть хорошо! — весело уже проговорил тот…
— Ну, выздоравливай, выздоравливай!..
Нина сама не понимала, откуда у неё взялось всё это. В душу и в руки женщине, действительно, Сам Бог влагает умение служить больному и доброту, заставляющую её забывать всё ради этой святой цели. Она не чувствовала отвращения, промывая гноившиеся раны, она, не стесняясь, помогала доктору в тяжёлых ампутациях, даже не замечая, она дышала смрадным воздухом. Облегчить чужие страдания, сделать для всех несчастных сносными их муки, вот куда она шла упорно, не уклоняясь с пути. И то, к чему мужчина должен был бы привыкать целыми месяцами, годами работы, — ей далось разом, точно она родилась с этим знанием, с навыком, с этой кротостью и терпением… Она даже не плакала здесь, — она отводила душу у себя дома. Она знала, что мученикам-солдатам нужна была её ободряющая улыбка, её серебристый, чистый смех, голос, полный бодрости… Им нужна была надежда и уверенность, и она давала им и ту, и другую… Она находила в душе чисто мужскую твёрдость и силу. Потом, ночью, у себя, она давала волю нервам и рыдала в постели, вспоминая страдания, виденные ею днём… Теперь уже и отношения к ней в крепости изменились. Когда Кнаус, или фон Кнаус, заговорил было о том, что хорошо было бы после жениться на Нине и увезти её на одну из его остзейских мыз, Незамай-Козёл угрюмо перебил его:
— Молчи, немчура!..
— Отчего?.. Я с самыми благороднейшими намерениями… Вижу прекраснейшую девицу и…
— Молчи, тебе говорят! Потому что она не для нас с тобою.
— А для кого же? — делал тот большие глаза, поднимая свои белесые ресницы.
— Для Бога… Она святая!.. Разве она женщина, — ты на неё посмотри…
— На неё молиться надо! — подтверждал и Роговой. — Стать на колени и молиться…
— Я всегда готов стоять на коленях перед благороднейшею девицею!.. — упорствовал на своём немец.
Но тут уже Незамай-Козёл выходил из себя.
— Кабы ты не был так глуп, Кнаус…
— Может быть, я глуп на русском языке!.. — резонно соглашался молодой офицер, — но по-немецки, если бы вы могли со мной разговаривать, — я бы умнее вас оказался… Мои предки, тевтонские рыцари, говорили…
Те только отмахивались от него… Да им, впрочем, и некогда было. То и дело приходилось выходить на башню и оттуда следить за движениями неприятеля…
А следить стоило.
Степан Фёдорович всё делался озабоченнее и озабоченнее. Он стоял на углу большой и круглой вышки, оттуда неотступно смотрел в глубь ущелий, окружавших Самурскую долину, на скаты гор, млевших под солнцем. Смотрел и видел, как по этим скатам точно ползут вниз тени от тучек, только эти тени не пропадали, а внизу определялись резче и яснее, и уже стройными дружинами сходили в долину. Из глубины ущелий туманным маревом показывались такие же и, заполняя их, выливались сюда целыми реками новых ополчений… Гул неприятельских биваков был уже очень шумен и с каждым днём делался ещё стихийнее… Тысячи голосов присоединялись к тем, которые здесь уже были, ржание лошадей усиливалось тоже… Скоро лучи солнца стали играть на целом море ярких доспехов и пёстрых одежд, и Брызгалов понял, что это значит.
— Ну, братец мой, — обратился он к Незамай-Козлу, — дела неважны…
— А что?
— Кабарда пришла к ним… Надо на днях ждать решительного боя.
— Что ж, пущай с чёртом целуются… Накладём им как и в прошлый раз…
Брызгалов ничего не ответил на это и только озабоченно стал смотреть в противоположную сторону, на восток. Он хорошо понимал, что все они здесь сумеют умереть, что никто из его офицеров и солдат не испугается смерти, но дело было в том, чтобы спасти крепость, отстоять её, а не в подвигах личного геройства!.. И кроме того, — Нина! — И он ещё пристальнее вглядывался на восток, не покажется ли оттуда помощь… Но там всё по-прежнему было залито ярким блеском солнца, и горы стояли пустынные и безлюдные, и ущелья между ними мерещились, окутанные синими тенями… Веяло порою дыханием моря… Но вместе с ним — на крылах ветерка не долетал сюда ни один звук, который бы исполнил надежды душу старого коменданта.
И он, ещё грознее и мрачнее сдвинув седые брови, уходил к себе вниз.
Кабардинские певцы
Кабарда, действительно, выслала сюда лучших воинов.
Гордый и счастливый, с высокого камня, опираясь на плечо их князя Хатхуа, Шамиль — великий имам Чечни и Дагестана, горячими, вдохновенными глазами смотрел на сотни оборванцев и на другие сотни ярких щёголей. Одинаково, как те, так и другие, блестя оружием, проходили мимо него. Кабарда шла молча, — она кричала только в бою с врагом… Видя имама, дружины слегка наклоняли головы и подносили руки ко лбу. Строй здесь был тесен и сплочён. Казалось, что эти горцы выкованы из железа… Когда в середине их появились родные Хатхуа, Шамиль в восторге крикнул им:
— Чего желает Кабарда?..
— Победы и первого огня!.. — как один человек, отозвалась ему вся масса.
— Да будет! — торжественно обещал им Шамиль. — Благодарю братьев моих… Врата рая отверсты, и пророк ждёт верных…
И новые сотни шли за сотнями так же грозно, молчаливо и спокойно… Всадники сумрачно смотрели в лицо имаму, точно читая в нём предсказание их участи. Сухие горские лошадёнки, несравненные силою, быстротою и выносливостью, бодро ступали по мягкой земле Самурской долины. Они нисколько не устали за весь этот громадный переход… Впереди каждого рода ехал вместе с его главою и певец-поэт, — слагатель песен, которые так любила Кабарда, что не расставалась с ними даже в битвах. Как только наступил вечер, и запылали громадные деревья в кострах, сложенных этими благороднейшими представителями черкесского племени, озаряя лица столпившихся вокруг воинов, — у каждого огня оказался свой баян… Тихие ритурнели трёхструнных горских балалаек точно разгорались и падали вместе с полымем. То грусть, то оживление одинаково озаряло лица и залитого в золото узденя, и жалкого оборванца-байгуша, с открытою грудью и босого… Большая часть этих «гекоко»[44] были безграмотны. Они не учились в горских медресе у мулл, — они подслушивали голоса природы: свист горного ветра, пение пташки в чаще дерева. В свои немудрёные скрипки они собирали и слёзы, и жалобы, и радость, и веселье народа. Память их была верною хранительницею старых преданий. Герои, давно исчезнувшие из мира, — жили в ней со всеми своими подвигами и победами… Князья и уздени первые кланялись баяну. В бою гекоко шёл и песней ободрял сражавшихся. Простолюдины — они пользовались страшным влиянием. «Я умру, но душа моя будет жить в твоей песне!» — говорил Кан-Булат своему поэту. — «Песни гекоко низводят рай с небес на землю», — говорили другие. Знаменитый мулла Ибраим раз воскликнул: «Бессмертие дают только Бог и певцы: Бог — всемогуществом, они — Его волею»… Повелители кабардинских племён считали хорошего гекоко честью своей и славой. Впрочем, лучшие из этих князей и феодалов сами были импровизаторами. Закубанский богатырь Магомед-Алий славился как первый певец и поэт своего времени. Когда он играл на пшиннере, «лучи солнца сосредоточивались на его струнах и ласкали его руку». Ничья доблесть, никакой подвиг не умирали забвенными. Сотни певцов воспевали их в звучных стихах, воспитывая молодёжь в жажде героизма и самопожертвования. «Едва разносилась в горах весть о смерти богатыря, как точно из земли подымались богатою жатвою бесчисленные песни о нём. После они, эти песни, переходили из рода в род как святыня, их берегли, потому что в них жила душа почившего». Когда привозили в аул труп убитого в бою с неверными или оплакивали кончину прославившего себя некогда джигита, — со всех концов Адыге и Кабарды съезжались сюда певцы и поэты. Их принимали как драгоценнейших гостей наравне с влиятельнейшими князьями. Каждое утро певцы оставляли сакли и уходили в разные стороны леса, в ущелья, в хаос скал, чтобы в уединении и на свободе отдаваться творческому порыву и сложить каждый песню в честь героя. Вечером они собирались. В сакле зажигался костёр, и в его багровом зареве вдохновенные гекоко по очереди пели свои оды. Из каждой слушателями выбирались особенно поэтические строфы, — и таким образом слагалась одна общая песня… Её они уже разносили по всему народу. Её пели в бою, ободряя малодушных и окрыляя храбрых на такую же смелую кончину… В старину, когда черкесский народ был независим и могуч, — его повелители и князья видели в певце живую хронику. Гекоко были необходимы им, потому что письменности не существовало. Ими передавалась потомству только песня. Поэзия была жизнью, душою, живою летописью черкесов. Она управляла их умом и воображением. Дома, на джамаате, в бою — черкес не расставался с песней. Она как птичка вилась над его изголовьем от колыбели до могилы. Простой певец не значил ничего, но певец-импровизатор, певец-поэт — были часто знаменем для племени… Каждый дворянин должен был знать песни своего народа.
— Какой ты жених мне! — говорила знаменитая красавица Эмина молодому князю Тавриа.
— Разве рука моя слаба? Разве мало врагов убил я в бою? Разве кто сомневается в моей храбрости?
— Кто же из черкес не храбр, у кого из них рука слаба, кто не убивает гяуров в бою?!. Этого мало…
— Чего же надо ещё?
— Ты должен знать свой народ.
— Разве я его не знаю?
— Нет, не знаешь. Только тот знает свой народ, кто поёт его песни, кто плачет и радуется с ним… Только тот, кто в их звуках хранит память о предках, чьё сердце точит песню как горный камень, — воду освежающего потока…
И Эмина, отвергнув князя, вышла за простого гекоко, победившего соперников импровизацией на великом народном празднике.
Брызгалов стоял на стенах крепости, присматриваясь к этим кострам, — как вдруг около послышалось:
— Вашескобродие!.. Дозвольте отлучиться…
Он оглянулся. Хмурый и решительный перед ним стоял Немврод Самурского укрепления, Левченко.
— Куда? Зачем?..
— А к ним… Дознаться, что они себе думают…
— Узнают, — убьют тебя!..
— Меня узнают? — изумился Левченко. — Никаким порядком это невозможно.
Он с таким убеждением проговорил это, что Степан Фёдорович, действительно, понял, что ни убить, ни поймать Левченко — нельзя.
— Я по-ихнему балакаю… Сейчас допытаюсь… Опять же сколько их…
— Хорошо, только смотри, — береги себя!
— Меня Бог бережёт… А самому себя беречь не стоит, ваше высокоблагородие…
И Левченко повеселел. Старому охотнику было не по силам его бездействие в осаждённой крепости.
Он тихо вышел за ворота, перебрался на ту сторону. В секрете его чуть штыком не нащупали, потому что Немврод переоделся лезгином.
— Не трожь, Афремов! Своего не узнал?..
— Да ты куда это, Левченко, собрался?
— Не твово ума дело. Ты лежи себе… Эй, Валетка.
Сторожевые собаки все его хорошо знали и только ласкались к нему, не лая… Валетка, гордая сделанным им выбором, последовала за ним шаг за шагом. Когда он припадал к земле, и она делала то же. Левченко хотел было прочесть ей наставление, как вести себя в этой экспедиции, но собака была столь рассудительна, что солдат решил: «Нечего по пустякам с ей разговоры разговаривать. Она сама всё хорошо понимает»… И действительно, встречая уже за рощами таких же ободранцев, как являлся Левченко, но настоящих лезгин или кабардинцев, она не лаяла, а только хоронилась в кустах да к земле прилегала, чтобы её самое не заметили… Вот уже близко один из костров. Ярко распылался. Так ярко, что багровые языки пламени срываются оттуда и уносятся в высоту, целые снопы искр гаснут во мраке безлунной сегодня ночи… Как ясно видны горбоносые, суровые лица горцев кругом, их опущенные вниз брови… Полымя играет на них… «Не заметили бы!» — подумал про себя Левченко и тихо пополз в сторону к громадному каштану… Слава Богу, — легонько ветерок зашелестел в его чаще… Разбудил листву, перешептался с ней и к другим деревьям понёсся на лёгких крылах, точно передавая им Божье веление… Но этого времени было достаточно старому охотнику. Ещё и листва не успокоилась, а он уже крепко сидел в ней на толстом суке. Теперь его бы никто не увидел. Никто бы не отличил в вершине дерева этих спокойных пристальных глаз, устремлённых в самое полымя костра. И хорошо попал Левченко, очень хорошо! Это именно и был тот костёр, за которым во главе своих сидел князь Хатхуа. «Ишь разбойник! — любовался им солдат. — Подлинно разбойная душа, а храбёр, что и говорить! Настоящий богатырь! Ему бы нашему царю-батюшке послужить… Хорошее бы дело было!.. До больших бы чинов достукался… А он, дурак, бунтует… Эх, глуп народ!..» Валетка внизу тоже улеглась, но её не интересовало нисколько пламя костра и худые фанатические лица, на которых оно отражалось. Подняв морду вверх, она чуяла Левченко и следила за ним… Так она и лежала спокойная, неподвижная…
Вон сидящие у костра расступаются и кланяются кому-то.
— Кадаги[45], кадаги пришёл… — слышится кругом.
Старик с совершенно обуглившимся от солнца лицом и голою грудью важно садится на камень против огня, ставит на колено струнную пшаури…
«Петь сейчас будет!..» — соображает Левченко.
Старик тихо-тихо начинает монотонную и грустную прелюдию… Точно что-то вздыхает там у костра… Теснее сдвигаются кабардинцы. Хатхуа рядом со стариком смотрит в полымя, точно видит там в живых, сверкающих золотым блеском огня образах то, о чём сейчас запоёт гекоко… И песня не заставила себя ждать…
«Хорошо поёт!.. — одобрил и Левченко. — А всё наши, полтавские, лучше! Куда же ему бритолобому!..»
«Девы гор — у бедной сакли —
Храбрых подвиги поют…
Над кипучею Лабою
Уздени арканы вьют…
А Темир-Казек блаженный
Ночью тёмной с облаков
Указует им далеко
Сёла дремлющих врагов…
И на лодках остроносых,
На хребтах своих коней
Рассекает ширь Кубани
Сотня смелых узденей.
По степи летят безбрежной
И на славу, и на бой, —
Оставляя след огнистый
Вдаль — падучею звездой.
Древний Дон пред ними плещет,
Волны пенные катит…
Чу! В тумане над волнами
Коршун взвился и кричит»…
«Хорошо поёт, — одобрил его опять Левченко. — А всё у нас, в Полтавской губернии, лучше… Особенно, когда про то, как кукушка куковала… Куковала, да не знала, где детей пораспихала!.. Где им, гололобым, по-нашему!.. У нас куда жалостливее».
Песня кончилась. Кадаги опустил над струнами старую голову и задумался. Никто из окружающих не смел нарушить благоговейного молчания славного певца… Все понимали, что во мгле его воспоминаний теперь возникают перед ним дивные образы. Из давно позабытых могил, из тьмы ущелий, из-под скал высоких гор встают доблестные тени предков и молят его: «Дай нам жизнь, воскреси нас песнею!..» Опять пробежал он по струнам, только теперь грозно заговорили они. Вспыхнули старые очи полымем, перед которыми точно поблек огонь распылавшегося костра, и, глядя куда-то вдаль через этот костёр, через головы внимавших ему черкес, кадаги опять запел песню о подвигах старых богатырей Кабарды.
Невероятные деяния воспевал он. Перед каждым слушавшим его, облечённые песнью, воскресали его предки. Героическое прошлое не сказкою, а живою былью — становилось лицом к лицу с их потомками.
Левченко дослушал его… «Добре[46] поёт!» — решил он про себя и вдруг встрепенулся.
Послышался громкий голос Хатхуа.
Он благодарил старого певца.
— Голос твой приветствовал моё детство… От твоих песен мужество веяло в мою грудь, когда я был отроком. В первый бой я пошёл, повторяя твои стихи… Будь же ты благословен за это… И завтра, быть может, в последний бой мы пойдём с гимном, сложенным тобою о храбрых…
— Я буду с вами завтра… Мне пора умереть… Сквозь мою старую кожу душа давно просится на волю… Пусть пуля неверных откроет ей двери!..
— Сначала ты отпоёшь и обессмертишь нас…
— Нет, найдутся другие певцы помоложе… Их голоса будут звучать сильнее и слаще… Ты говоришь, — завтра назначен бой?
— Да… Завтра… Утром, только подымется солнце над Шахдагом, — лезгины двинутся справа, а мы — слева… Шамиль видел Зейн аль-Абидина, и святой именем пророка обещал ему победу… Чеченцы бросятся на гяуров с тылу… Аллах поможет, и каменное гнездо их к вечеру мы займём с бою… Они нас не ждут оттуда.
— Будьте чисты сердцем!.. Не давайте пощады никому! Ни старцу, ни молодому… Разве только тому, кого вы захотите продать в рабство. Пророку приятны стоны его врагов, пресмыкающихся от работы…
Левченко слышал довольно.
Воспользовавшись шумом, поднявшимся у костра, он тихо сполз с дерева, ещё тише свистнул Валетку, хотя она и без того была около него, и побрёл назад. По дороге он приметил коня, хотел было подобраться к нему, да вовремя расслышал тихую-тихую и печальную песню… Должно быть, хозяин был около. Не успел Левченко сделать и сотни шагов, как издалека донеслись громкие крики. Точно стадо волков завыло там в глубине ущелья. Левченко припал к земле, — гул доносился по ней оттуда… Он всё рос и рос, — шумнее и шумнее становились крики. Приближалась масса людей с воплями и дикими восклицаниями…
— Эх, беда; этих только не было, так чёрт прислал!
И старый солдат отплюнулся. Он угадал — «андийцы», дикие племена, неслись на газават, на общую битву с неверными с самых недоступных Андийских высот к Шамилю. Они катились оттуда как лавина, — увеличивая собою число наших врагов. Андийцы не умели подходить тихо. Привыкшие к горным бурям, они у них заимствовали их грозовые звуки… Вместе с ними, в долины, казалось, спускались чреватые громами и молниями тучи. Всё всполошилось им навстречу. Даже отважная Кабарда поняла, что Аллах посылает ей драгоценных товарищей. С бешенством и яростью андийцев ничто не могло сравниться в горах. Они стремились вперёд без разумения и без оглядки, как несётся смерч, циклон, всё разрушая перед собою и оставляя пустыню позади.
Шамиль рассчитал верно.
Разыгранная им комедия дала ему драгоценных союзников. С Кабардой и андийцами силы его почти удвоились, и уверенность в победе окрылила самых нерешительных. Не надо быть пророком, чтобы предсказывать гром, увидев молнию… Не надо быть великому имаму Чечни и Дагестана его обычной проницательности, чтобы понять, что Аллах предаёт ему врагов в руки…
«Завтра я отплачу вам за недавнее поражение!» — думал он про себя, глядя в ту сторону, где в ночном мраке должна была находиться русская крепость…
В огненном кольце
На востоке, за скалистыми твердынями сияла заря. Небо чистое, безоблачное, побледнев на рассвете, теперь всё было охвачено живым румянцем молодого дня… Точками чудились в его сияющей бездне орлы. Белые туманы колыхались над долинами. Но вдруг с моря подул сильный ветер и погнал их прочь в ущелья, изорванными клубами забросил их на скаты и на кручи, свернул в жемчужные облака и унёс далеко-далеко на запад, туда, где за Шельтахскими высотами ещё чуялось мрачное присутствие ночи… Левченко давно уже передал всё слышанное им Брызгалову, и тот делал в крепости необходимые приготовления: к мортирам и пушкам сносились снаряды, сами пушки прикрывались от ударов врага снаружи; перед крепостью, на всех доступах к ней закладывались фугасы. Чтобы преградить пути сюда диким андийским всадникам и кабардинским узденям — самым отчаянным воинам Шамиля — кое-где вбивались в землю колышки и их переплетали проволокой. Кавалерия на яром беге должна была, попав сюда, в эти западни, вся сойти на нет. Тонкая проволока калечила ноги коням, в бешенстве сбрасывавшим всадников… В самой крепости царила тишина. Брызгалов приказал не будить солдат. Пусть они выспятся и отдохнут перед решительным боем. Барабанщик сам спал под чинарой на холодке, хоть какая-то весёлая пичужка щебетала и издевалась над его головою. Нина недавно прошла домой. Она долго сидела в больнице. Двое за ночь умерло, — и девушка читала им Евангелие до последнего вздоха. Не раздеваясь, она как сноп свалилась в постель и заснула мёртвым сном. Всё утомление этих дней сказалось только теперь. Степан Фёдорович, войдя к ней, перекрестил её… Он не мог без слёз смотреть на неё, такую юную, прекрасную, чистую, попавшую случайно в кипень боевой жизни… Видя, что она не просыпается, Брызгалов стал на колени перед Богоматерью в серебряной ризе и жарко молился за дочь… «Если мы погибнем, — спаси её, Пречистая!» — шептали его побледневшие губы, а сердце всё уходило в бесконечность восторженным порывом к вечному престолу любви и милосердия. И в ответ ему казалось, что кроткие очи Девы ласково и нежно смотрят на его дорогую девочку. Он поправил фитиль, нагоревший в лампаде перед иконой и, тяжело вздохнув, вышел вон… Он знал, что люди его утомлены. В последнюю неделю провиант им выдавался в обрез. Нового трудно, почти невозможно было достать, — надо было растянуть, насколько возможно, этот… Снарядов тоже хватит ненадолго… И брови его сдвигались всё мрачнее и мрачнее… Он поднял глаза в бездну неба, так приветливо и тепло сиявшего сегодня, и тихо проговорил: «Да будет воля Твоя, Господи!»
— Ну, братец, — обратился он к рано проснувшемуся Незамай-Козлу, — ну, братец, — сегодня жаркий день.
— Что так… Ветерок с моря. Легко дышится… Разве к полудню.
— Нет, я не о том.
И Брызгалов ему передал всё, что сообщил Левченко.
— Что ж, Степан Фёдорович… Если помирать, так помрём…
— Я за нас и не боюсь… Мы должны… Дочь вот!
И что-то дрогнуло в его голосе. Он потупился и пошёл прочь… Незамай-Козлу стало тоже страшно… Впрочем, наивный офицер скоро успокоился. «Она — святая… За неё Сам Бог… Ради её и нас, поди, выручит!..» И уже хладнокровно вошёл на бастион, зорко оглядывая окрестности…
Медленно-медленно точно сдвигающиеся тучи отовсюду приближались полчища Шамиля… Сначала из-за тумана показалась и стала всё резче и яснее, определённее и отчётливее сплошная масса пеших лезгин… Только в двух местах пестрели — в одном дружины явившихся вчера на газават кабардинцев, в другом — тёмные сотни диких андийцев… И те, и другие выдвинулись вперёд. Незамай-Козёл хорошо понял, в чём дело. Андийцам и Кабарде предстояла честь первого огня. Они должны были открыть бой. В зрительную трубу он различал лица их вождей. Хатхуа, — сегодня весь в серебре, так и горит под солнцем. Под ним новый конь удила грызёт от нетерпения… Какой-то седобородый мюрид, рядом худой и длинный, с ярко как у орла горящими глазами. Как сосредоточенно-мрачны и зловещи эти лица!.. Вон сам Шамиль… Он далеко впереди. Весь сияет он воодушевлением… На этом лице уверенность в победе безграничная… Из-под его седых бровей глаза смотрят, как у коршуна на добычу, на крепость… Железное кольцо наступления всё суживается и суживается… Брызгалов вышел и взглянул…
— Сколько их тут?
— Сколько?.. Тысяч пятнадцать будет…
— Ого!.. Мы-то почище греков… В корпусе наш учитель истории, Единевский, рассказывал, как Леонид дрался с персами, один противу ста. Нам-то сегодня — одному против двухсот, пожалуй, придётся…
Лежавшие в секретах солдаты медленно возвращались назад…
Теперь им нечего было делать перед крепостью. За воротами столпились сторожевые собаки, — они вошли вместе с людьми и спокойно улеглись на площади в тени чинары. Ночью животные не спали, — только теперь их ждал отдых…
Долина была уже чиста от тумана…
Железное кольцо Шамилевых полчищ сдвигалось и суживалось тихо, зловеще тихо. Ни лезгины, ни аварцы, ни Кабарда, — никто не пел, не кричал… Но наступление их от этого безмолвия казалось ещё грознее и ужаснее… Там была готовность на смерть… Те люди — обрекли себя ей ради победы… И они умрут за неё — это чувствовалось защитниками Самурского укрепления…
— Шабаш, брат! — говорил один артиллерист другому.
— Что ещё?
— Ишь они как! Точно настоящее войско… Коли Господь нас сегодня вызволит…
— Ого! Прошлый раз здорово мы им наклали!
— Этих не было! — ткнул он толстым, заскорузлым пальцем в ту сторону, откуда надвигалась Кабарда и андийцы.
Сдвигались, сдвигались горные кланы и остановились на расстоянии пушечного выстрела от наших. Брызгалов взглянул на часы. Было уже девять.
— Барабанщик, тревогу! — звонко и резко крикнул он.
Спавший под чинарою барабанщик вскочил как встрёпанный схватил палки, и вдруг в грустном и торжественном молчании Самурской долины сухо, отчётливо, точно разом проснувшаяся, рассыпалась громкая дробь тревоги… Всполыхнулись птицы с чинары и мелким роем поднялись над нею, с угловой башни взмыл вверх громадный, чёрный ворон, из-под карнизов рассыпались во все стороны голуби. Заржали лошади в конюшнях и, почуяв близкую службу, забили копытами в плотную землю… Из казарм, — крестясь на восток, — один за другим, выбегали и строились солдаты, недоумело поглядывая на Брызгалова… Слева вышел священник с дьячком… На площади поставили аналой…
— Здравствуйте, батюшка!.. — подошёл Степан Фёдорович под благословение.
Тот молча перекрестил его и благоговейно начал молебен…
Солдаты молились тихо… В эту торжественную минуту всякий отдавал себя самого с душою и телом в руки Всемогущего. «Да будет воля Твоя! — шептали уста простых, бесхитростных людей. — Защити, спаси и помилуй!» За всё это время они все слишком были готовы к смерти… И близость её не потрясла их… Она только их верующие души наполнила смирением и преданностью…
— Ну, товарищи, — помнить присягу! — весело крикнул им Брызгалов. — Сегодня нам придётся поработать много. Я за вас не боюсь, — мы знаем друг друга. Я — вас, а вы — меня… Недаром мы вместе жили и делили пополам горе и радость… С Богом!..
Безмолвно солдаты вышли на бастионы… Брызгалов посмотрел в окно к Нине. Затомившуюся девушку не разбудила даже тревога. Она спала, всё также одетая, на постели… Только бессознательно подняла ладонь и заслонилась ею от солнца, уже щедро слепящими лучами заливавшее её комнату… Степан Фёдорович принудил себя оторваться от этого зрелища, сжал сердце рукою, чтобы оно не билось так болезненно и тревожно, и, суровый, пошёл наверх… Горные кланы тоже молились… Муллы, будуны печально пели гимны, замиравшие в прохладном воздухе… Медлительные и тоскливые мотивы их передавались от отряда к отряду, от одного племени к другому… Повернувшись к Мекке, — все они на коленях шептали про себя только имя Аллаха и его пророка… Шамиль лежал распростёртый на земле, и, когда все поднялись, он громко крикнул, так что услышали и кабардинцы, и андийцы, и ближайшие дружины спешенных лезгин…
— Великий пророк! Ты сегодня обещал мне победу над неверными, оскорбляющими имя твоё! Ты сказал, что напоишь досыта жаждущую землю их нечистою кровью, и все вороны чёрных и зелёных гор долго будут праздновать здесь и радоваться над не погребёнными телами гяуров… Великий пророк, — мы постились, мы молились тебе! Ты покрыл муками моими грехи народа, утверди же его в вере исполнением обетования твоего. Даруй нам победу! Да возвеселится дух твой ужасом врагов твоих. Врата райские широко отверсты, — много счастливых будут сегодня у тебя!
— Алла, Алла!.. — послышалось кругом.
Неподвижное до сих пор железное кольцо горных кланов точно дрогнуло, разомкнулось в нескольких местах, но за ними виднелись другие сплошные массы лезгин и чеченцев. От Шамиля во все стороны поскакали его наибы, и когда над великим имамом взвилось зелёное знамя пророка, — вся эта масса со страшной быстротою кинулась на крепость… Никто не жалел себя. Горцы жаждали смерти, потому что умиравших сегодня ждали сады Эдема… Чем ближе к стенам, тем бег кабардинских коней увеличивался… Люди старались перескакать одни других, все, точно к радостной цели, стремились к этому каменному гнезду, в котором, замкнувшись, безмолвно ожидал врага малочисленный гарнизон. Ни одной пули не выпустили из узких дул наступавшие, точно ранее решительного удара никому не хотелось тратить энергию… Всё только и думало об одном — скорее дорваться до этих бастионов… Воды наводнения, прорвавшие плотину, не так бешено заливают поля внизу, туча под ураганом не так стремится вперёд… Когда они донеслись до деревьев, росших над Самуром, и первые кони их уже расплёскивали копытами его чистую воду, — с угловой башни раздался первый выстрел… Бомбы падали и рвались в сплошной массе наступавших, но на место изорванных их осколками — являлись новые бойцы и, ни о чём ни думая, растаптывая тела павших, стремились всё-таки вперёд и вперёд. Картечь укладывала на земле целые улицы андийцев, с диким криком уже приближавшихся к стенам. Все башни и амбразуры оделись дымом. Казалось, это не медные горла пушек, а самые горы в ужасе кричат что-то человечеству, остервеневшему в оргии истребления, в жажде крови… Эспланда — из тонких проволок — выхватила целые сотни лошадей и людей, искалечившихся в неожиданном падении, но в эпопее сегодняшнего дня это было только одно мгновение, которого даже и не заметили наступавшие. Пешие потянулись через гекатомбы корчившихся людей и животных, всадники, — как река, встретившая скалу, — разомкнулись и обошли их… В чёрном, длинноволосые, с кинжалами в зубах, сверкая налившимися кровью глазами, с ружьями наготове — слепо стремились вперёд во рвы на верную гибель свирепые андийцы. Свинцовый дождь осыпал их, но в ответ слышалось только дикое «Алла-Алла!..» Скоро рвы были завалены телами, и море остервенелых врагов шумными волнами било уже в самые стены крепости… Надолго ли они устоят под этими ударами? Не рухнут ли?.. Что-то стихийное было в этих массах. Очевидно, и у них мозг не работал, — была только одна жажда подвига, ожидание обетованной победы, стремительность мести и ненависти, почуявших добычу… Тысячи людей гибли под стенами, другие тысячи взбирались на них и, сбрасываемые штыками вниз, в последние мгновения жизни повторяли всё тоже: «Алла-Алла!..» Спокойный, бледный, решительный Брызгалов руководил обороной. В эти минуты он забыл, что он отец, — он помнил одно только, что он — комендант, и если погибнет это укрепление, то и он должен погибнуть с ним вместе как командир корабля, как часовой на своём посту… Казалось, вся его душа перешла в глаза, — он зорко смотрел на неистовые толпы и направлял решительные удары туда, где они были нужнее всего. Он мысленно взвешивал силу этой беспримерной атаки, рассчитывал, насколько у горцев хватит энергии… И с ужасом, который, впрочем, ничем не выражался на его бесстрастном лице — видел, что позади у Шамиля стоят ещё нетронутые резервы, жаждавшие боя, в то время, как у него, у Брызгалова, всё было на стенах и бастионах, — и ни одной свободной руки не оставалось в самой крепости, внутри. Он заметил нескольких, не особенно тяжело раненых, которые, повинуясь чувству долга, оставили лазарет и, одолевая слабость, — вышли сами на стены…
— Авось понадобимся! — ответил один из них на безмолвный вопрос Брызгалова.
— Спасибо! — коротко ответил тот, сознавая, что за такое самоотречение нельзя «благодарить» человека, за него мог воздать один Бог Всемогущий.
Красным пятном близко от крепости показался Шамиль. Брызгалов разом узнал его сухую и могучую фигуру, и сам навёл орудие. Но перед ним был достойный противник. Шамиль не кинулся прочь и выдержал удар. Отчаянно громыхнуло медное жерло, словно скошенные серпом вокруг великого имама пали несколько наибов, — Шамиль оставался такой же гордый, с тем же коршуньим взглядом острых, пламенных глаз. Он проговорил что-то, и на его угрюмом лице мелькнула торжествующая улыбка. Брызгалов живо навёл второе орудие, — целый сноп свинца и огня вырвался вперёд и тёмным облаком взрыл землю вокруг Шамиля. Брызгалов всмотрелся: красного пятна не было. Неужели убит?.. И у него даже сердце затрепетало от радости… Неужели убит? Нет, вон, опять оно, это проклятое красное пятно… Шамилю подводят другого коня, он быстро вскакивает в седло и отъезжает, а на том месте, где он стоял, бьётся изорванная чугунными осколками лошадь… Ни грохот урагана, ни бешеный напор разбивающихся о скалы волн — не могли сравниться с этим оглушительным рёвом… К андийцам присоединились с гортанными воплями молчаливые до сих пор кабардинцы; точно крочеты — визгливо орали справа густые массы чеченцев, каким-то гулом ветра в ущельях доносились голоса целого наводнения лезгин, наступавших позади… Как одинокая скала посреди взбешённого океана — держалась крепость. Яростные валы забрасывали на её темя пену, колебали его основу, она дрожала, но стояла… Тысячи бойцов орали что-то этим камням, но с этих камней, с высоты, точно отвечала им перебегающая дробь выстрелов… Если бы кто-нибудь сказал Брызгалову, что он уже три часа отбивается здесь, он бы не поверил, — до такой степени быстро, головокружительно быстро сменялись впечатления… Оглянувшись, он увидел прапорщика Рогового, — тот сходил в крепость со своей башни, с рассечённым шашкою лбом. Брызгалов сообразил, что его фланг остаётся без начальника…
— Мехтулин! Отправьтесь на место Рогового. Если останетесь живы, вперёд поздравляю вас с офицерскими эполетами!..
И молодой татарин-юнкер с загоревшимся взглядом кинулся туда, и скоро его решительный гортанный голос дошёл до Брызгалова. У Кнауса рука давно уже была ранена, но он спокойно оставался на месте, отбиваясь от койсабулинцев, набросившихся на него… Незамай-Козёл так встретил дидойцев, что, не поддержи их Чечня позади, — они бы так же быстро устремились назад, как шли в атаку… Хатхуа — оказался уже на верху. — Он с горевшими глазами искал кого-то, и, увидев, наконец, вдали Кнауса, вдруг обрадованный, крикнул ему:
— Кунак! Исполни слово, если сможешь! — и бросился на молодого офицера. — Ты хвалился, что убьёшь меня… Вот — я!
Кнаус понял опасность и, прислонясь спиной к выступу башни, отбивался. Ему бы не уцелеть!.. Хатхуа уже поднял дуло нарезанного золотой насечкой пистолета в уровень с его головой и только приостановился, чтобы насладиться трепетом врага. Но был ли Кнаус потомком тевтонцев или нет, во всяком случае — в этом белесоватом немце жила рыцарская душа. Он презрительно смотрел в глаза Хатхуа… Когда тот готовился уже спустить курок, — набежавший сюда солдат схватил кабардинского князя поперёк и выбросил его за стену. Хатхуа уцепился за лестницу и, с быстротою кошки, опять забрался на бастион, но тут уже было несколько новых защитников, и кабардинцу пришлось, не думая о мести, защищать собственную шкуру… Вой шёл теперь повсюду… На стенах дрались грудь с грудью… Солдаты, подавленные числом неприятеля, слабели. Брызгалов хрипло кричал им что-то, но сам уже не верил в возможность спасения, как вдруг послышалось неожиданное: «Тебе Бога хвалим!» Он оглянулся — и вздрогнул. В облачении, весь точно в ореоле небесного сияния — на стену входит с крестом в руках священник… Не успел он показаться на бастионе, как всех его защитников охватило невыразимое чувство. Устали — как не бывало! С грозным криком «ура!» (откуда взяли его натомившиеся груди?), они кинулись на врагов, — одним усилием смяли и сбросили вниз. Спокойный и величавый, благословляя защитников укрепления, шёл дальше священник, осеняя их крестом… Враги копошились внизу, остервенение недавней атаки мало-помалу проходило… С обеих сторон, без всякого уговору — перестали стрелять… Наступила странная — после этого бешенства бури — тишина… Брызгалов только теперь понял, как он утомлён. Он опустился на парапет, схватился за голову. Он чувствовал, как напряжённо бьётся его сердце, как дрожат все его жилы, как в голове раздаётся какой-то звон, кружа её… Что-то подхватывало его и уносило, он сам не знал куда… Вдруг что-то коснулось его губ…
— Испейте, испейте!..
Он приподнял отяжелевшие веки и увидел жестяную манерку с водой и державшую её закорузлую руку… Он жадно припал высохшими губами к воде. Ему казалось, что он целую реку выпьет в эти мгновения… Оправившись, он вспомнил, что ему нельзя отдаваться слабости… Встал и начал обходить крепость… У врагов тоже всё было тихо… Шамиль вдали объезжал полчища… Лицо его было спокойно и весело даже…
— Сегодня ночью вы вдоволь натешитесь над ними… Сегодня ночью Аллах передаст их верным… Слава Аллаху!.. Они ослабели, — ещё два такие нападения, и у них не останется рук, чтоб держать ружья… Хатхуа, ты ранен?
— Нет, имам. Это русская кровь…
— Лучшее украшение джигита!..
Только обойдя крепость, Брызгалов вспомнил, что он отец. Сошёл вниз и заглянул в окно к Нине.
Бедная девушка лежала, распростёршись перед иконой…
Она молилась… Но молитва её была полна кротости и смирения…
— Господи! Да будет воля Твоя!.. — шептали её бескровные уста.
Усталь на время остановила нападение… Защитники Самурского укрепления опустили затомившиеся руки. Им теперь казалось всё равно: жить или умереть. Хотелось только одного часа покоя. Прислонясь к каменным стенам и бастионам и закрыв глаза, солдаты погружались в отупелое равнодушие. Тяжело дышали намучившиеся груди, веки сами собою опускались на усталые глаза. Брызгалов, поддерживаемый чувством ответственности, один находил в себе силы распоряжаться. Раненых сносили вниз, — но в крепостном лазарете уже не было места. Там лежали на постелях, на столах, на полу… Стон нёсся из открытых окон на площадь, где под чинарою на войлоках и нашедшихся в крепости коврах были уложены не поместившиеся под кровлей. Доктор терял голову. Нина была уже здесь, но и она не знала, что ей делать, — так много было кругом ожидавших помощи, и так мало рук для этого. Тяжёлое предчувствие сжимало сердце Брызгалову… Он знал, что, повторись ещё такая страшная атака, и у гарнизона не хватит сил сопротивляться ей. Все будут перебиты на стенах укрепления, всё падёт под шашками и кинжалами остервенелых горцев… Ещё хуже, если они обложат крепость и станут выжидать, — тогда поневоле вызывай их на нападение, иди на верную смерть, потому что иначе солдатам, прежде чем славно пасть в бою, — придётся выдержать все ужасы голода. Брызгалов скрывал ото всех, не желая лишать людей бодрости, но у него оставалось самое ничтожное количество запасов. Последние дни — неприкосновенный склад сухарей подходил к концу. Людям уменьшали порцию. Вчера убили трёх казацких коней и сварили их в ротных котлах… Сегодня у отряда с утра не было горячей пищи, — кашевары дрались на бастионах, ни одного человека нельзя было отвести вниз, отнять у обороны. Армянка-горничная с Ниной могли бы сделать кое-что, но первая, запершись у себя на вышке, голосила, а вторая, проработав в госпитале, чувствовала себя смертельно утомлённой.
Зловещий и тихий наступал вечер…
С той стороны от диких скопищ, обложивших крепость, доносился грозный гул десятка тысяч голосов… Наибы Шамиля торопливо переезжали от одного отряда к другому, передавая приказания; горные кланы перестраивались. Деятельность кипела там. Горы алели уже под золотыми и красными отблесками заката. В целом море полымя, слепящего глаза, торжественно и тихо опускалось за утёсы солнце… Твердыни Дагестана мрачно стояли перед долиною Самура, и только белые аулы на их утёсах розовели и желтели, обратясь лицом к умирающему дню… Наши видели, что неприятели отделяли большие партии людей куда-то в стороны и сюда поближе к крепости. «Что они задумали? Разбойники!» — тревожно размышлял Незамай-Козёл, пристально вглядывавшийся в эти отряды. Скоро он понял. Оттуда раздался глухой стук маленьких горских топоров… Одно за другим стали падать выросшие над Самуром деревья, — громадные чинары, каштаны, орешники, карагачи, зелёными облаками кое-где припадавшие к воде…
— Что они задумали?.. — повторил он опять.
— Себе на костры рубят?..
— На костры столько не надо…
Ему хотелось пугнуть их картечью, но он знал, что её оставалось немного, надо было беречь снаряды. Такие же атаки как сегодняшняя могли повториться завтра, послезавтра. Каким бы образом он справился с ними? И поэтому приходилось ограничиться только наблюдением. Свалив деревья, горцы наскоро обрубили их ветви и, не боясь вовсе солдат, смотревших на них с бастиона, начали подносить стволы к самым стенам укрепления…
— Стреляй! — приказал Незамай-Козёл.
Но, очевидно, фанатическим воинам газавата была сладка смерть сегодня. Убивали одного, — другой становился на его место, и желающих было больше, чем надо. Сам Шамиль, молчаливый, зловещий, грозный — подъехал близко-близко и смотрел, как исполняют его приказания.
Незамай-Козёл взбесился:
— А ну-ка, братики, ссадите мне его.
Даже Левченко между другими приложился и долго целился… Несколько выстрелов вспыхнуло в сумраке, уже окружавшем крепость и заполнившем долину, — убило двух наибов около Шамиля, но сам великий имам Чечни и Дагестана оставался недвижен, спокоен и цел. Он даже не поднял глаз на стрелявших.
— Заговорён! — и Левченко тяжело опустил на каменный парапет приклад ружья.
— Что? — переспросил его Незамай-Козёл.
— Заговорён!.. Теперь, чтоб его убить, надо сварить пулю из креста, ваше благородие… Та его точно доймёт, а простая не может…
Вокруг крепости часа через два, когда синяя ночь, ласковая и прохладная, давно спустилась на горный край и зажгла над его вершинами в таинственной глубине бесчисленные звёзды, когда с моря потянуло опять лёгким ветерком, — уже лежали массы костров…
— От дурни! — засмеялся Левченко.
— Чему ты? — спросил его Брызгалов, бывший около.
— Это они ночевать под крепостью собираются…
Но Брызгалов понял больше солдата…
Гул лезгинских, чеченских, андийских и кабардинских таборов к ночи замер. Они точно умерли все, — такая тишина царила в долине Самура. Вдруг в темноте блеснул факел у самой крепости… Меткая пуля солдата поразила державшую его руку. Но его сейчас же подхватил другой горец… Факел объял красным полымем ветки и сучья… Сухой треск послышался оттуда… Сизый дымок поднялся в темноте. Несколько языков пламени сорвалось и погасло над костром. В других местах, у стен было то же… Охотничьи инстинкты сказались у Левченко. Он понял, в чём дело, и выругался.
— Ваше высокоблагородие… Это они нас как лисьев из норы… выкуривают…
Брызгалов, давно сообразивший, в чём дело, нахмурился.
Час спустя, — крепость, обложенная кострами, казалась вся в огненном кольце. Дым клубился густо и чадно, ветерок гнал его за стены, и люди задыхались в этом дыму. Нечего было думать об отдыхе, — трудно дышалось. В казармах, в домах, в лазарете плотно затворили окна, но едкий и проникающий сквозь всякую скважину дым всё-таки наполнял всё кругом и внутри. Многие из раненых задохлись в нём, — а золотое кольцо всё росло и росло вокруг, лизало пламенными языками накаливавшиеся стены крепости, забрасывало их за зубцы, — так что встревоженный Степан Фёдорович заслонил снаряды и порох деревянными досками и озабоченно следил, как целые снопы искр летели в сторону к пороховому погребу. Если бы кто-нибудь сверху мог взглянуть на Самурское укрепление, то в однообразном мраке ночи увидел бы только одно — героическое каменное гнездо с горевшим вокруг, точно коронующим его венцом яркого пламени. Кое-где полымя подымалось уже выше стен… Солдаты должны были сходить с них, чтобы не изжариться. Скоро пришлось спустить вниз и орудия, и снаряды. Шамиль рассчитал верно… Сегодня в ночь ни один из защитников крепости не мог бы заснуть. Отдыха не было никому. Там, за этою завесою огня, переливавшегося золотыми волнами, тысячами радужных отсветов — виднелись озаряемые его перебегающими сполохами громадные таборы врагов, — в молчании ожидавших чего-то… Казалось, что волшебный, созданный из адского пламени змей сорвался откуда-то и обвил страшным телом крепость, обречённую смерти… Брызгалов ещё был на стенах, но он чувствовал, как платье на нём начинает куриться и тлеть, как волосы на его голове свиваются под влиянием жара. Стоны слышались внизу. А в огонь костров всё больше и больше разгоравшийся, спешенные лезгины несли издали новые и новые деревья. Ночь длилась и длилась. Бесконечной казалась она бедным защитникам этого каменного гнезда… Только часа в три с юга потянуло довольно сильным ветром… Брызгалов обрадовался. Если это течение воздуха удержится, — оно разгонит дым. И действительно, в стенах крепости вдруг повеяло прохладой. Ветер усиливался. Какая-то громадная, темнее этой ночи туча выдвинулась оттуда из-за гор; ещё несколько минут, — и она заняла полнеба, глотая звёзды за звёздами… Скоро уже ни одной не было… За этой тучей надвинулась другая. Теперь под яростным дыханием внезапно налетевшего урагана, дым к самой земле припал и стлался по ней, двумя рукавами огибая крепость и длинным хвостом струясь позади неё, к ущельям и противоположным горам… В стенах задышали свободнее. Полузадохшиеся люди выползали на руках на стены и падали там, обращая лица к освежающим порывам бури… Пламя злобно шипело в кострах, но уже не было у него силы подняться к стенам. Оно тоже стлалось по земле, точно лизало её жадными языками… Чу… Раскаты грома… Первые капли дождя… Ещё минуты две, и страшный ливень всё покрыл собою. Вспенилась река под ним, закурились паром раскалившиеся каменные стены, зашипели гаснувшие костры, — отошли и успокоились освежённые им люди… Окна отворили настежь, — раненые с наслаждением вдыхали проникнутый свежестью и сыростью воздух. Чуть не затопленные волнами влаги, падавшей с неба, лезгины отходили подальше к горам.
— Если бы это до утра! — вздыхал Брызгалов.
Желание его было понятно… Самур выступит из берегов и всё наполнит бушующими водами… Все горные ущелья обратятся в ложа бешеных потоков… Тысячи водопадов с неистовой яростью сбросятся вниз с отвесов и круч, и лезгинам придётся оставить эту долину…
Ливень
— Слава Богу, слава Богу, слава Богу!.. — повторял про себя Брызгалов, вглядываясь с высот бастиона в окрестности Самурского укрепления.
Действительно, нигде так не понятно выражение «хляби небесные разверзлись» как на далёком юге. Всё, что ещё недавно, озверелое, мрачное, заранее торжествующее свою победу над жалким каменным гнездом, куда заперлись русские, стояло кругом грозною силою, теперь стремглав уносилось прочь от крепости. Как бешеные стремились Чечня и Кабарда к первым предгорьям, неистово хлеща нагайками и без того испуганных коней, красные пятна мюридов казались жалкими точками вдали… Все эти сплошные горные кланы пеших лезгин, полудиких дидойцев и совсем диких андийцев — бежали в слепом ужасе пред стихийною помощью, нежданно явившеюся к русским. Самур уже вспучивался… Недавно тихие и спокойные воды его выступили из берегов, подняли на пенистое лоно головни залитых костров, целые деревья, срубленные дидойцами и лежавшие около, — подняли и, мощно ворочая их словно сучья в своей быстрине, понесли вперёд к Каспию. В самом стремени вода мчалась яро и шумно… Брызгалов видел сверху, как несколько всадников, попавших туда, тщетно боролись с течением. Самур сбивал их грудью с пути, скидывал оглушённых и измученных с лошадей, и, торжествуя, ревел над их головами, и захлёстывал их тела… Река теперь была неузнаваема, — двух часов ещё не прошло, а она уже готовилась всю долину очистить от воинственных дружин, сравнять её овраги и холмы и разлиться от гор до гор одним серебряным щитом… «Проснулась матушка наша, — повторяли солдаты. — Поила, кормила, а теперь заступилась за нас, бедных»… Воды её уже подступали к самой крепости, но стены и бастионы её были надёжны… Самур точно терял всю силу около них. Он ластился к ним, набегая волнами, точно хотел отчистить и отмыть чёрные пятна недавнего пожарища, подымал сотни валявшихся трупов и, легко стучась ими о каменную кладку и покачивая их, сносил прочь от крепости… Собаки и те поняли, в чём дело. Они тоже взбежали на бастионы и оттуда радостно лаяли на так во время пришедшее на помощь наводнение… Радостно лаяли и ласкались к уцелевшим. Сверху струились не прекращавшиеся волны ливня. Ветер подхватывал их, уносил в целом мареве брызг в сторону, но взамен тотчас же падали новые и новые… Ливень шумел ещё грознее реки. Куда ни вглядывался Брызгалов, — ни за одной из горных вершин, едва-едва видневшихся за этою серою завесою, не голубело небо. Тучи шли всё гуще и гуще, непрогляднее и зловещее… Казалось, там, в необъятной вышине, в недосягаемых глубинах неба яростно гремит своя стихийная битва… Молния скрещивались с молниями. Отблесками чьих-то чудовищных мечей падали они на землю, лились иногда не прерывавшимися линиями из громоносно раскалывавшихся и размётывавшихся туч, за которыми в эти свежие, зияющие прорывы точно в открытые раны виднелись другие, ещё гуще, ещё непрогляднее… От вершин к вершинам змеились огненные струи… От горного темени к отвесам скал и обратно свивались, связывались узлами и целыми снопами грозового пламени жгли трепетавшую землю… Вихрь налетал из ущелий, подымал бешеные воды Самура, бросал их с неистовством и гневом прямо в лицо тучам, те громили его опять молниями и яростно рокотали как потревоженный могущий зверь… Под громадами их неслись в слепом страхе обрывки сражённых, изорванных тучек, кидались в сторону, встречались и падали в бездны, и на смену им так же без оглядки, так же испуганно бежали такие же серые лоскутья и умирали, разрешившись новыми ливнями дождя… Часто молния золотым мостом пересекала всё небо от края и до края, чаще ещё недра туч разверзались, и в их таинственной глубине внезапно рождалось пламя, и новые удары заставляли вздрагивать на каменных стержнях величавые утёсы Дагестана… В этой битве земли и неба было столько величия, что смутный ужас охватывал самых спокойных людей. Из окрестных ущелий уже с бешенством отчаяния, точно гонимые стихийными бичами, с воплем и рёвом в долину неслись вспенившиеся горные потоки… Они поднялись до скал, подрылись за ними, обогнув их и, точно одолев врага сзади, с тылу, торжествуя свою победу, падали уже тысячами каскадов и с диким стоном бросались в наводнение Самура… По отвесам гор в бездны, по стремнинам в долины, с иззубренных скал по их трещинам — сотни водопадов зашумели кругом, и часто под ярыми их ударами сбивались и тонули в бессильном страхе десятки всадников… Тучи то припадали к горным аулам, то, разрываясь о их сакли, уходили прочь, но утром ни один луч солнца не золотил их влажные, плоские кровли, не играл весёлым блеском на лазуревой эмали их минаретов и на белых куполах мечетей. Деревья, точно молясь, пригибались раскидистыми вершинами к самой земле, но буря, не внимая им, вырывала столетние корни из земли и жалкими трупами валила в пучину лесные великаны…
— Что это?! — подошёл легкораненый Незамай-Козёл к Брызгалову, показывая ему на восток.
— Пень какой-то…
— Нет, не пень… Всмотритесь. В этой точке есть что-то живое… Она то течению отдаётся, то вдруг воспользуется затишьем и к нам поближе становится… Я давно смотрю за нею. Точно она думает.
— Несчастный кто-то, из ихних, может быть.
— Нет. Ихнему незачем было бы к нам приближаться… Вы взгляните хорошенько…
Брызгалов взял зрительную трубу. Из-за белых линий ливня — в ярой пучине Самура, в мыльных волнах пены ему примерещилась, действительно, фигура всадника с конём…
— Видите теперь?
— Да, в самом деле… Вороной конь… Это я вижу… Горец какой-то…
А сердце его невольно билось. Он угадывал борьбу живого существа с беспощадною силою бури, и ему жаль было, может быть, врага, который сам бы не оказал милости побеждённому Брызгалову. В этой точке, в этом атоме, действительно, было сознание… Она двигалась энергично, где было можно, и отдавалась воле течения, не споря с ним, где борьба являлась бы безумием. Тем не менее, — она делалась всё ближе и ближе. Она выигрывала каждую случайность, дававшуюся ей судьбою.
— Мужественное сердце у него, у этого горца! — тихо проговорил Брызгалов.
— Да… Молодчинище… — соглашался Незамай-Козёл, следя за движениями чёрной точки.
— До сих пор он не дал себя оглушить ни разу… Не растерялся…
И Брызгалов даже забыл полчища врагов, искавших спасения в горах. Он теперь не отрывался от горца, всё ближе и ближе придвигавшегося к крепости… Скоро можно было заметить голову горца, с которой ветром сорвало папаху. Черты лица пропадали за серым матом ливня, и ближе мудрено было бы отгадать их!.. И самая голова его не раз пропадала вместе с чёрною мордою коня в белой пучине, и когда Брызгалову хотелось уже перекреститься и сказать: «Погиб!», она вдруг появилась из воды… Старик Левченко, — тоже несмотря на рану, к которой он относился презрительно, называл её «дрянь нестоющая, — в шкуру пуля ткнулась и говядины не попортила!» — сам Левченко заинтересовался и тихо повторял:
— Вот джигит, так джигит! Удалой… Этого, братцы, и пристрелить жаль!
Нина, затомившаяся внизу, вышла наверх на башню подышать воздухом и одолеть хоть на минуту усталь. Она тоже не отводила глаз от этого всадника.
— Не знаю, почему, папа, мне его так жаль. Кажется, будь крылья, распустила бы их и кинулась к нему. Точно близкий мне человек гибнет там.
— Гибнет? Не погиб ещё… Может быть, и…
Но тут Брызгалов вдруг замолк.
Всадник с конём исчезли… Их уже не было видно… Потом показался конь один, — всадника не было. Конь наткнулся на дерево, нёсшееся, кружась со своей зелёною вершиной и растопыренными сучьями вниз по Самуру. Оно его сбило… Конь попал под него, вынырнул ещё раз… И уже совсем исчез в белой пучине Самура…
— Ну, конец!.. — вырвалось у Брызгалова, и он перекрестился.
Нина плакала тихо, опёршись о его плечо. Казалось, только теперь она дала волю нервам… Она билась и вздрагивала…
— Эге, братцы! — весело крикнул Левченко. — Ишь, точно казённое добро… Опять с Богом плывёт — джигит, настоящий джигит!
Действительно, теперь недалеко уже показалась голова плывшего человека… Конь погиб, всадник уцелел.
— Это он нырял, ваше высокоблагородие… Правильно!..
— Почему «казённое добро», дяденька? — спросил Левченко молодой солдат.
— Потому: казённому добру ни в огне гореть, ни в воде тонуть не полагается…
— Нина, голубушка, знаешь, кто это? — вырвалось у Брызгалова, пристально смотревшего теперь в зрительную трубу.
— Кто, кто?..
— Да, ведь, к нам он… Верно, с важными известиями… Эй, ребята, кто сможет помочь ему?! Ничего не пожалею…
А сам опять глазом к трубе припал.
— Да кто, кто, папа? — теребила его за руку Нина.
— Наш елисуйский молодой бек, Сын Курбана-Аги — Амед…
Нина вздрогнула и за сердце схватилась. Ей вдруг ещё дороже стал юноша, и она уже не сводила с него горящих глаз в то время, как её уста шептали тихую молитву: «Господи, помоги ему, помоги ему!.. Богородица, милая — спаси его!»
— Прикажите, ваше высокоблагородие, я попытаю свово счастья!.. — предложил какой-то немудрящий солдатик.
— С Богом, Егунов!
Его выпустили. Он привязал верёвку себе к поясу, и пустил другой конец свободно на воду, и сам кинулся в разлив Самура навстречу к елисуйцу.
На первых порах Егунову было очень легко. И плыть не приходилось кое-где… То и дело он попадал на отмели и на своих медвежьих ногах крепко держался противу удара волн… Он зорко смотрел только, чтобы его не сбило трупами, нёсшимися по течению, да брёвнами, вертевшимися в нём, точно они сознательно боролись противу этой страшной силы воды… Нину теперь никто бы не мог свести с бастиона. Она вышла из-под крыши над башней. Ливень хлестал ей в лицо, вихрь точно хватал её холодными руками и хотел бросить вниз, — мужественная девушка не обращала на это внимания. Кнаус подошёл было к ней и заговорил о том, что она простудится.
— Оставьте, уйдите! — коротко проговорила она и так проговорила, что тот тихо поднял фуражку и отошёл.
Она теперь уже видела юношу.
Тот задыхался в волнах. Они глушили ему голову ударами, они смывали его прочь и уносили далеко вниз, но он, отдавшись им, отдыхал минуту и ещё энергичнее принимался за борьбу с ними. Нина уже замечала теперь, как он широко раскрывает глаза, очевидно, чтобы оценить силу подымающейся на него массы пены и влаги, и, захлёстываемый ею, опять смыкает их немощно, и только молодые руки его работают в этой пучине, в страшной борьбе, где проигранная ставка жизни оставляла ему одну смерть… Не раз он совсем исчезал в волнах, и вся бледная, девушка уже молилась за него как за мёртвого… Но он опять вскидывался наверх как щепка, поднятая течением со дна. Его вертело, относило, било о деревья… И, наконец, — Нина твёрдо верила, что это её молитвами на пути ему попалось громадное дерево, сорванное потоком, попавшее на отмель и остановившееся на ней… Амед мигом взобрался на него. Один сук его торчал вверх, сук раздваивался, и в эту седловину цепкий как кошка всполз юноша. Теперь он уже ничего не видел. Он тяжело дышал, закрыв глаза и, по-видимому, отводя смертельную усталь… Он держал руку за сердце, должно быть, оно билось сильно, до боли… Он даже скоро опустил голову, схватясь за дерево и точно засыпая. А кругом, продолжая глушить его, грозно ревели волны, обдавали его брызгами, ветер срывал с них пену и бросал её в лицо елисуйцу… Самое дерево, на котором сидел он, — начинало колыхаться, точно ему хотелось скорее двинуться по стремени реки, колыхаться, — проминая для себя проход… Вода со зловещим шумом бежала через его смокшую, растрёпанную вершину, срывая листву и унося её прочь далеко-далеко. Не раз накидывались на Амеда сильные порывы ветра, будто желавшего его сбить как переспевшее яблоко с тонкой ветки… Но он держался бессознательно крепко… Вдруг ему послышался крик… Он широко открыл глаза и увидел шагах в ста от себя — солдата. Егунов был выше его по направлению к крепости… Что орал ему русский, — елисуец не мог разобрать, но он понял, что тот хочет его спасти. Он поднял невольно глаза на крепость и в серой сетке ливня увидел вдруг то, что придало ему разом нечеловеческую силу. На бастионе стоял силуэт женщины. Он угадал в ней Нину. Она смотрит на него, она, быть может, послала ему навстречу, она теперь молится за него своему Богу. Всё равно общему Богу, потому что Бог один… Бог Нины не может не быть истинным Богом. В утомлённую грудь юноши точно ворвалась новая, свежая сила. Его сладко отуманило порывом чего-то восторженного, радостного. Теперь, если он и погибнет, то погибнет на её глазах. «Благодарю тебя, Аллах, благодарю Тебя, Бог Нины… Великий, Неведомый»… Что это? — она его крестит издали… Да, теперь есть ли такая сила, которая помешала бы ему одолеть всё кругом? Он весело крикнул что-то солдату, взмахнул руками и одним прыжком кинулся в воду. Действительно, точно у него за спиною выросли крылья… Они его держат на воде, они не дают волнам захлестнуть его…
— Сюда, сюда, кунак… — слышится ему сквозь бурю, и он понимает, что это солдат, посланный ему на помощь. — Сюда держи, молодец!..
И он держит на голос… Что это хлестнуло его по лицу?.. Верёвка… Он инстинктивно схватывается за неё… Она вытягивается, но, должно быть, крепок Егунов, как ни отбивают воды прочь елисуйца, верёвка натянулась, — как струна, — но не поддаётся им… Теперь уже двое борются противу самого стремени Самура, но Амед знает, что на него смотрит сверху Нина. Он знает, что, хоть он и татарин, а она русская, а всё-таки он ей дорог… Она следит за ним, она благословляет его издали и призывает ему на помощь неведомого христианского бога… Чу!.. Что это?.. Воды слабее… Верёвка всё короче и короче… Ещё несколько усилий, ещё несколько минут и Амед уже видит солдата.
— Спасибо, друг! — тихо говорит он.
— Такого молодца да не вызволить!..
— Рад бы и я тебе услужить чем…
— Ты уж нам, кунак, послужил… За тебя барышня, вон как Богу молится… А она, брат, такая, что Бог её завсегда послухает…
Наивная речь старого солдата точно музыка звучит в его ушах.
— Э, да у тебя и Егорий… Давно ль?..
— Генерал в Петровске сам повесил.
— Ну, с тебя литки при случае, — весело говорит Егунов. — Теперь ты нам первый друг…
Они уже вне опасности… Смутно как сквозь сон видит Амед, что перед ним растворяются ворота крепости. Кто-то обнимает его… Едва-едва понимает юноша, что это Брызгалов. Чья-то маленькая рука жмёт его руку, и он только сердцем, а не глазами видит, что это Нина. Кто-то поздравляет его, с чем — он не может сообразить сам, и как сноп валится к её ногам.
— Устал, бедный… Скорей перенесите его в госпиталь.
— Папа, там места нет. Несите его за мною!
— Куда?
— Ко мне в комнату. Я пока перейду наверх, а из госпиталя офицеров можно перевести ко мне и Амеда туда же.
И, не ожидая, что ей ответит отец на это, она идёт за солдатами, бережно несущими юношу, приказывает уложить его к себе на постель и бежит за доктором.
Амед очнулся только часа через три. Обморок у него перешёл в такой сон, что, казалось, нет силы, которая могла бы его разбудить. Когда он открыл глаза, был уже вечер. Ливень стучал в окно и матовой сеткой заслонил всё перед ним…
Амед почувствовал себя здоровым, но страшно утомлённым. Он опять закрыл глаза и тотчас же, вспомнив что-то, привстал на локтях. Он было хотел одеться, но руки и ноги его, избитые ударами волн, ныли и болели… Он невольно откинулся назад и, заметив вдали солдата, спросил его:
— Мне снилось, или, действительно, барышня приходила сюда?
— Только сейчас ушла, а то всё время была здесь.
Он закрыл глаза, и на лице его отразилась восторженная улыбка. Потом он опять обратился к солдату.
— Мне надо коменданта…
— Сейчас позову…
Брызгалов ожидал с нетерпением, когда сознание вернётся к елисуйцу.
Он быстро пошёл к нему.
— Ну, ещё раз поздравляю тебя, братец, с Георгием…
— Сам генерал дал… Молодцом называл. Сказал, что второго даст, если я исполню его поручение.
— Ну?.. Что он велел передать?..
Амед снял с шеи кожаный мешочек и подал его Брызгалову…
Тот взрезал его и вынул записку.
«Держитесь до последней возможности… Ешьте коней, что хотите, но держитесь. Помощь подать вам прямо нельзя, — не пробьёшься… Но со всеми силами своими я выступаю на аул Салты, в Дагестан… Возьму его с помощью Божьей, и шайки, осадившие вас, поневоле вернутся. Вы представлены к чину и Георгиевскому кресту. Офицеры и солдаты будут награждены. Крепость, хоть помри, да стой. Гибните до одного, но не сдавайтесь. Я знаю, ваше положение отчаянно, но и у нас здесь не лучше… Да поможет вам Господь!..»
Брызгалов задумчиво опустил лоскуток бумаги.
— А насчёт продовольствия?.. Вам ничего не передавали?
— Из Дербента послать нельзя… Там мало солдат…
Степан Фёдорович опустил голову.
— Ешьте коней… Да они уже съедены…
— Можно мне слово сказать?
— Да. А что, Амед?
— Как я оправлюсь, я доставлю вам коней и баранов.
— Откуда?
— От них, от лезгин и чечни…
— Как ты это сделаешь?
— Я ещё не знаю… Попробую… Сделаю…
Брызгалов нагнулся и поцеловал Амеда.
— Я смотрю на тебя как на сына… Если бы ты был христианин, я бы перекрестил тебя… Ну, прощай, Амед, отдыхай пока… Ты заслужил несколько часов покою. Вечером поужинаем вместе…
Амед улёгся. Закрыл глаза, но у него на лице было такое счастливое выражение, точно он из-под опущенных век видел что-то светлое, ясное, радостное…
— Как сына!.. — тихо повторил он про себя.
Суд Шамиля и удача крепости
Лезгины долго не могли оправиться после бури, описанной нами. Горные кланы потеряли массу людей в наводнении. Они опять обложили крепость отовсюду, сомкнув края своей подковы, так что ни одно живое существо не могло из Самурского укрепления прорваться теперь к морскому берегу и, следовательно, в Дербент. Шамиль пробовал казнями поднять дух горных дружин. Он нашёл виновных в прошлой неудаче, всех, кто нарушал обряды тариката, и приказал зарезать их перед отрядами. Но эти жертвы не помогли делу. Раза два-три он бросался на крепость, но теперь в его руках не было уже прежних воодушевлённых бойцов газавата, — и он с каждым днём убеждался, что только победа может разбудить опять прежний фанатизм. Напрасно мюриды оказывали чудеса храбрости, напрасно его наибы, вроде Хатхуа, стыдили окружавших, — теперь на растерявшихся горцев мудрено было подействовать. Недавно ещё лучшие воины князя Хатхуа, — Джансеид, Селим и их товарищи, предложили кабардинскому князю прорваться в крепость. Они пробрались почти к самым её стенам — ночью, да так, что их не заметил никто, даже собаки лаяли беспорядочно, но понять, откуда грозит опасность, не могли… Секреты тоже не заметили смелых салтинцев, проползших мимо как змеи. Ночью, когда всё успокоилось, Джансеид с двумя десятками приятелей и Ибраимом — дождались, когда зачем-то, вероятно, для смены секретов, отворились крепостные ворота, ворвались в них и подняли резню так неожиданно для наших, что несколько солдат погибло ранее, чем на верху опомнились в чём дело… Хатхуа думал, что хоть мюриды поддержат эту смелую выходку молодёжи, но Шамиль стоял на молитве, и те не тронулись. Хатхуа кинулся на помощь к Селиму, — ворота крепости ещё не успели запереть, — резня началась страшная, ночью, задавшеюся такой тёмной, что нельзя было отличить своих от чужих. Но тут подоспели назад секреты, бросились в штыки на смелых лезгин, часть загнали на двор крепости, часть перекололи, остальные едва успели унести ноги. Между последними были Джансеид и Селим. Утром они ожидали казни от Шамиля. Всё их движение носило характер самовольства, удайся оно, — разумеется, великий имам Чечни и Дагестана не судил бы их… Но теперь…
Мрачный, с потупленными глазами, пошёл за ними Хатхуа.
Его как своего наиба послал Шамиль за молодёжью.
Джансеид и Селим гордо стали перед великим имамом.
Шамиль, сидя на брошенном на землю седле, чертил что-то на песке концом кинжала.
— Твоё имя? — обратился он к первому.
— Джансеид, сын Арсалана.
— Первый раз в газавате?
— Да… Мне только девятнадцать лет. Ранее я не успел.
— А ты? — обратил он взгляд на его соседа.
— Селим, сын Абу-Бекира, салтинец…
Переспросив имена их, Шамиль опять задумался.
— Скажите, дети мои, зачем вы вчера так неосторожно бросились на крепость?
— Мы думали, что нас поддержат. Мы обрекли себя смерти, желая дать восторжествовать правому делу…
— Могу ли я сказать слово? — вмешался Хатхуа.
Шамиль бросил на него быстрый и зоркий взгляд.
— Говори, сын мой.
— Я участвовал во вчерашнем деле. Лучше погибнуть в бою с неверными, чем бездействовать… Вчера ушли по домам андийцы, дидойцы тоже волнуются… Белоканцы — ненадёжны… Нужна была битва, чтобы одушевить малодушных и наполнить стыдом их сердца…
— Так, так! — взгляд Шамиля загорался. — Так, так… Ты правильно судишь, Хатхуа. Если бы у меня все были такие как эти, — кивнул он на Джансеида и Селима, — от того каменного гнезда осталась бы только груда мусора… А теперь… — и он опять потупился.
Джансеид вдруг выступил вперёд.
— Если бы мы вернулись домой без подвига, — родные бы стыдились нас, старики на джамаате корили бы и меня, и всех моих своими старыми битвами. Легче умереть было… Теперь, по крайней мере, — если ты повелишь зарезать нас, память наша останется светлой в ауле, и свои будут гордиться нами…
— Вас зарезать?.. — удивился Шамиль и встал. — Вам умереть?.. За что? Вы умереть можете только там, — указал он на крепость. — Джансеид и Селим — я вас делаю начальниками пятисотен… Хатхуа — подай мне чарсанэ-каллу.
Тот бросился в ставку к Шамилю и принёс ему ящик.
Шамиль выбрал серебряные с чернью полулуния. На них была вычеканена надпись: «один Аллах даёт силу»… и ниже: «смелость приятна Пророку»… Торжественно он надел эти своеобразные ордена на грудь Джансеиду и Селиму.
— А вас, — обратился он к остальным, — я благодарю… Не вы и не ваши виноваты в том, что мы стоим здесь столько… Если бы все были похожи на вас, — правое дело давно бы было совершено!
Джансеиду казалось, что он видит сон. Он уже мечтал, как встретит невеста его Селтанет, каким счастьем загорятся её очи, когда она узнает из рассказов его товарищей обо всём, что случилось вчера и сегодня. Салтинцы окружат его сплошною стеною, и он станет рассказывать им обо всех событиях этой ночи. В честь его будут резать баранов. Пока что — наибы приезжали поздравлять удальцов, и Хатхуа искренно гордился ими.
А в это время в крепости начиналось тяжёлое время… Сухари подходили к концу. Круп давно не было… Ели коней, но и их оставалось два-три… Кнаус отдал своего… Отряду грозила скоро голодная смерть. Оправившийся уже Амед ходил по стенам и о чём-то подолгу шептался с Левченко… Они высматривали окрестности… Самур давно опал, но всё-таки в самом стремени его воды оставалось достаточно. Молодой елисуец изучал направление этой реки и сдружился в последнее время с Мехтулином… Юнкеру были обещаны эполеты, и он горел жаждой совершить что-нибудь необыкновенное, после чего он был бы в состоянии смотреть прямо в глаза Нине… Два или три раза по ночам Амед выходил с ним из крепости и шатался по окрестностям. Возвращались назад они угрюмые и усталые и сейчас ложились спать. Давно уже была уменьшена дача даже больным. Доктор полетел было к коменданту.
— У меня раненые с голоду перемрут… — закричал он ещё издали.
Брызгалов взял его за руку и повёл в крепостные склады. Доктор вышел оттуда хмурый и молчаливый и на прощание молча пожал руку старому коменданту.
Нина бледнела и худела на его глазах, но у Степана Фёдоровича как-то за последнее время закостенело сердце. «Всем пропадать приходится! — думал он. — Лучше так, чем в когтях у тех», — мысленно указывал он на становища горных дружин, бездействовавших вокруг крепости. Солдаты чутко поняли это. Ослабевшие, больные, голодные, они слонялись по площади и только тютюном да махоркой обманывали себя… «Сегодня по полсухаря пришлось!» — замечал кто-нибудь. — «А ты размочи его в воде и ешь… Воды-то побольше… Вроде похлёбки»… Собакам было лучше всего, — они с голоду бросались на баранов, отбивавшихся от стад по долине Самура, затравливали их и возвращались в крепость сытые, с выпачканными в крови мордами… В кухне — с тех пор, как крепость уничтожила последнюю лошадь, не зажигали огня вовсе… Шамиль хорошо знал это — и ждал… Он решился дать ещё несколько дней поголодать осаждённым и тогда взять их руками… Как-то он прислал к Брызгалову наиба с письмом, предлагая почётную сдачу. — Наиб нахально явился не парламентёром, а чем-то вроде победителя. Его, по его требованию, впустили, но комендант, желая произвести на упавший духом гарнизон крепости сильное впечатление, наиба приказал повесить. Долго мимо стены, где болталось тело бедного лезгина, Нина не могла проходить. Теперь уже никто в крепости не заикнулся бы о сдаче, какие почётные условия ни предложил бы Шамиль. Собрав своих, Брызгалов предупредил их: «Всякому, кто заикнётся о том, чтобы оставить крепость, ближайший должен всадить пулю в лоб. И со мной первым поступите так!» Весть об этом облетела всю крепость. Солдаты подбодрились…
Каждое утро Брызгалов выходил на бастионы и смотрел…
Ему казалось, что экспедиция должна уже быть в горах, и что скоро-скоро все эти полчища бросятся домой на защиту своих аулов…
Но, увы, дни шли за днями, а лагерь Шамиля оставили пока только дикие андийцы, потерявшие всякую надежду на быстрый грабёж…
«Что же я скоро буду раздавать своим?.. Сухарей — осталось несколько мешков», — тревожно и день, и ночь думал Брызгалов. Как он ни прикидывал, — их бы хватило ещё на три дня, не более.
В одну из таких минут к нему явились наконец Амед, Мехтулин и Левченко.
Они заперлись с комендантом и о чём-то переговаривались. К вечеру им приказали выдать лезгинское платье, снятое с мёртвых у крепости. Часов в двенадцать тихо отворили крепостные ворота, и трое переодетых удальцов исчезли во мраке ночи… Ни одной звезды не сияло в небесах… После ливня и бури тучи стояли непроницаемой кровлей над долиною Самура… В нервном волнении Брызгалов ходил по стенам. Солдаты, попадавшиеся ему, мучили ему душу своим видом. Голодные, истощённые, они слабели у него на глазах. «Как я с ними отобьюсь от нового штурма? — думал он, следя за их неровною и неверною походкой. — Как я с ними отобьюсь?.. Ведь Шамиль теперь возьмёт нас руками… Хорошо ещё, если удастся Амеду. Да куда, — дело страшно рискованное»… А сам послал Кнауса по всем секретам — предупредить: не трогаться, что бы ни случилось сегодня… Чу! В долине раздался выстрел… Брызгалов вздрогнул… Потом оправился. Это не в той стороне, куда направился Амед… Вон далеко-далеко горят костры у неприятеля… Им хорошо, у них всего вдоволь… «Поди, — жарят теперь шашлыки и пьют айран»… И у него даже ноздри заходили как у голодной собаки при виде вкусного блюда. По лицам солдат, по их взглядам, прикованным к ярким точкам тех костров, он отгадывал, что и они думают о том же…
— Хорошо бы теперь каши! — вырвалось у кого-то. — Либо щей…
— Молчи!.. — ткнул его солдат локтем. — И без тебя, дурака тошно…
«Нина совсем гаснет… Если бы Бог помог Амеду»…
Тишина этой ночи была удивительна. Казалось, всё замерло кругом, всё точно прислушивалось… Даже Самур не шумел. Полные воды его медленно, без прежней ярости, катились на восток. Водопады, ещё утром шумевшие, к ночи иссякли, и по ущельям едва-едва влачили холодные звенья истощившиеся в своей злобе горные потоки… Амед, Левченко и Мехтулин медленно-медленно крались к горам, останавливаясь поминутно и боясь засады. Но, очевидно, лезгины не верили, чтобы истомлённый голодом и беспрестанными стычками гарнизон крепости решился на что-нибудь… По всему этому пространству их не было… Набежала было сторожевая собака да, узнав своих, весело и ласково завиляла хвостом и кинулась прочь на какой-то почудившийся ей шум. Мехтулин заговорил было с Амедом, но Левченко остановил его… Часа два шли наши, пока им не послышалось вдали мерное дыхание… Во мраке всё-таки можно было различить что-то серое, лежавшее на земле одним сплошным пятном… Громадные овчарки с ожесточённым лаем кинулись к Амеду и Мехтулину. Оба остановились как вкопанные. Когда озверелые псы подбежали близко, наши сунули им куски конины. Хрипя и задыхаясь от бешенства, собаки схватились за них и в тот же момент обе без звука рухнули на землю под ударами кинжалов. Кто-то крикнул издали. Ближайшие овцы шарахнулись куда-то. Крикнули ещё раз: должно быть, пастух-дидоец всполошился, но, обманутый спокойствием и тишиною, подумал, что это ложная тревога, и опять заснул, завернувшись в бурку. Тихо-тихо ползли к нему наши… Левченко зорко выглядывал вперёд… В стаде было штук сто-полтораста баранов… Дидойцы с собою привезли провиант «на ногах», как это они делали часто. Амед был уже близко от пастуха… Тот, верно, почувствовал что-то, вновь приподнялся и насторожился. Но ночь молчала, не выдавая своей тайны. Он вгляделся. Во мраке виднелись, и то смутно, вершины деревьев… Вверху — ни одной звезды… Дидойцу стало холодно, он опять завернулся в бурку и улёгся. Амед и Мехтулин — старались не дышать… Скоро послышалось лёгкое храпение пастуха… Юноши как змеи подобрались к нему… Мехтулин первый и поднял голову над головою того… Пастух опять встревожился во сне и открыл глаза… Но татарин — спокойно, верной рукой в самое сердце ударил его кинжалом, так что на губах несчастного проступила пена, и он, не крикнув, вытянулся, чтобы уже не вставать более…
— Тут должен быть другой пастух! — прошептал Мехтулину Левченко… — Они всегда вдвоём…
— Да… Надо искать…
— Вокруг стада поползём.
Ещё полчаса прошло в томительных поисках, — пастуха не было…
— К своим, к кострам на ночь ушёл.
Костры отодвинулись далеко назад на более сухое мосте, — овцы же заночевали на самом пастбище, где было сыро… Вероятно, второй дидоец вернулся к огням, рассчитывая, что при стаде довольно и одного с собаками. Амед отыскал лошадь убитого, татарин — отлучился в сторону, — наткнулся на другую такую же, подрезал ей треног и сел на неосёдланную… Левченко остался пешком.
— Хочешь, я тебе найду коня?
В татарине сказывалась душа настоящего барантача. Если не для себя, то хоть для приятеля ему хотелось украсть ещё одну лошадь…
— Не… не привыкши… Мы отродясь в пехоте! — отбивался Левченко… — Да мне и способней овец подымать…
Он уже не чувствовал никакой боли от недавней лёгкой раны и ходил по долине как у себя дома.
В голове стада он отыскал старого барана с громадными закрученными рогами и погнал его… Вожак, нехотя, поднялся и медленно пошёл вперёд. Левченко спугнул других баранов, оба — Амед и татарин Мехтулин — старались, чтобы овцы не отбивались от стада. Тихо двинулось оно за первым… Бараны шли неохотно, бок к боку, сплошной массой. Отбивались только задние, но их подгоняли всадники. Маленькие ягнята путались между матками, попадая им меж ног, падая на землю… Двое или трое животных ушли было в сторону, но, следившая за своими крепостная Валетка, невесть откуда вдруг явилась на место действия и подогнала их.
— Ай да Валетка! Спасибо тебе, слуга верная! — радовался Левченко.
А тут вдруг к нему что-то подкатилось под ноги, радостно взвизгивая.
— Да и ты здесь?
Он узнал ту, которая всегда с ним ходила на охоту…
— Ну, братцы, теперь с полгоря… Лайка с нами. А она всё понимает как человек. Даже, поди, умнее другого человека…
Лайка сейчас же доказала всю справедливость этой аттестации. Она стала обегать стадо — так разумно, точно всю жизнь прослужила в овчарках. Она — с одной, Валетка — с другой стороны, всадники — позади погнали баранов быстрее. Блеяние молодых ягнят слышалось повсюду, но оно пропадало бесследно в тяжёлой тишине ночи. Амед думал, что всё обойдётся счастливо, и заранее радовался успеху… Он, завернувшись в бурку убитого Мехтулином пастуха, ехал себе, мечтая о том, как будут счастливы все в крепости завтра… И вдруг вдали послышались оклики… Татарин стал было вынимать ружьё из бурочного чехла, но Амед остановил его.
— Погоди… Их много…
Действительно, слышалось шесть или семь голосов. Стадо остановилось. Усталые и желавшие спать бараны начали валиться на землю и сбиваться в сплошную кучу.
— Ждите меня!
Амед смело ударил коня нагайкой и двинулся навстречу ехавшим.
По красному платью, и то, когда он подъехал близко-близко, он различил наиба… С наибом ехало человек шесть лезгин. По щёголеватому оружию Амед понял, что перед ним салтинцы. Зорко всмотрелся юноша в лицо наиба и вздрогнул. Он узнал кабардинского князя Хатхуа, своего дядю и кровного врага их рода в то же время. Но юноша недаром вырос в горах. Он равнодушно проговорил свой селям и спросил по-дидойски:
— Куда я еду, господин?
Дидойцы слывут дураками в горах, и потому Хатхуа со своими улыбнулись.
— Куда?.. Прямо к шайтану…
— Должно быть, ты с ним знаком, что так верно указываешь дорогу?!.
Хатхуа вспыхнул и схватил предполагаемого дидойца за руку.
— Осторожнее, горная собака! С тобой говорит князь Хатхуа…
Кровь ударила в лицо Амеду. Вся воспитывавшаяся в нём годами юности и семейными преданиями ненависть поднялась вокруг его головы одуряющим туманом. Но, зная, где он, и что делает, Амед быстро овладел собою.
— Прости, господин! Ночью все люди равны… Перед её тьмой как и пред Аллахом нет ни раба, ни князя… Я хотел спросить, где стоят салтинцы…
— Зачем их тебе? — выступил позади молодой человек, ехавший несколько боком в седле, по салтинскому обычаю…
— А ты кто?
— Я — салтинец… Пятисотенник Джансеид!
— Слышал я о тебе… Слышал… Старики в Салтах купили у нас стадо и послали своим… сюда. Мы шли пять дней, десяток баранов потеряли, но ещё сотни полторы осталось…
Амед знал, что салтинцы стоят на противоположной стороне лагеря, — и к тому месту надо пройти мимо крепости…
— Ты что же по ночам гонишь?..
— А русские?
— Русские! — презрительно вырвалось у Джансеида. — Они теперь как полевые мыши сидят в норе и только об одном и думают, как бы им не попасть в руки к нашим коршунам.
— Потом сам знаешь, — у нас работа, нам надо скорее вернуться. А бараны у вас отдохнут и завтра.
— Селим, покажи им, где наши! — приказал Хатхуа. — Да возвращайся скорее!..
Молодой человек отделился и поехал рядом с дидойцем, за которого он принимал Амеда.
— Ты сам из Салтов?
— Да! — отрывисто проговорил Селим.
Ему как родовитому лезгину казалось постыдным разговаривать с простым дидойцем, да ещё пастухом.
— Хорошо у вас в Салтах!
Селим не отвечал ни слова. Амед прислушался, как вдали замер топот коней Хатхуа и его свиты, и насмешливо продолжал, обращаясь к Селиму:
— Хорошо у вас в Салтах, только жаль, что Алла языка вам не дал. А впрочем, — язык говорит, когда голова думает. А не думает голова, — языку делать нечего.
— Удержи свой, а то я тебя заставлю попробовать моей нагайки…
— У нас, у дидойцев, — нагайка только для рабов… Свободные люди у нас рассчитываются кинжалами, а мой в порядке.
И он показал его Селиму.
Тот надменно взглянул на Амеда.
— Погоди, — придём в лагерь, я посмотрю, какова у тебя спина…
И уже не обращая внимания на Амеда, тихо запел первую песенку, пришедшую ему в голову…
— У нас иначе поют, — вмешался опять Амед.
— Дидойцы не поют, а лают.
— Аллах дал каждому народу дар песен, чтобы в них люди собирали и слёзы, и радости свои. Заносчивым салтинцам не мешало бы знать, что сказал пророк про быка, смеявшегося над орлом, у которого нет рогов…
— Ты, верно, учился, кое-чему?
— Да!.. — улыбнулся Амед.
Он сообразил, что теперь он уже близок к русским секретам.
— Разве у дидойцев завелись школы?..
— Мы не у себя. Я, например, кончил русскую в Дербенте.
— Что? — приостановился Селим. — Кончил русскую… Для того, чтобы сделаться простым пастухом?
— При надобности и беки пастухами бывают…
Вдали послышался говор… Амед понял, что Левченко наткнулся на своих…
— Да, господин, когда нужно, и ты, пожалуй, прикинешься…
И он вдруг замолчал. Селим схватил его за руку…
— Смотри, — с твоей болтовнёй мы чуть не наткнулись в этой темноте на гяуров.
В стороне направо блеснул факел… другой… Амед понял, что их зажгли на башне крепости как сигналы.
— Скорей назад, не то у тебя не останется ни одного барана, да и сам ты лишишься головы.
— Как же ты говорил, — прикинулся Амед удивлённым, — что русские как мыши сидят в норах.
— Я тебе приказываю, — скорее прочь отсюда…
Вдали говор стал яснее… Не успел Селим прислушаться к нему, как его схватили сильные руки, и в одно мгновение ни кинжала, ни шашки на нём не было… Селим вспомнил было о пистолетах, но татарин оказался на страже, и рука Селима попала в его руки как в железные клещи… Амед наклонился и взял у Селима пистолеты.
— Послушай, гордый салтинец… Я мог бы сейчас перерезать тебе горло, да мне жаль твоей молодости. Я тоже молод, моложе тебя ещё, — а умереть мы всегда успеем… Притом, когда ты пел свою песню, мне казалось, что у тебя дома есть невеста… Я не хочу, чтобы она плакала о тебе. Возвращайся назад. Я не отниму даже и коня у тебя. Возвращайся назад и скажи князю Хатхуа, что он обманут его кровным врагом, сыном Курбана-Аги — Амедом… Постой, ещё не всё… Скажи — тем же самым Амедом, который, желая помочь своим друзьям русским, прорвался через ваши скопища и украл коня у князя Хатхуа… Я бы, пожалуй, ему вернул, да тот утонул у меня в Самуре. И ещё ему передай, чтобы он не встречался со мною. А если встретится, то… Впрочем, нет… Раз я уже пощадил его жизнь… Вот всё… Теперь — спеши скорее к своим и знай, что не всегда бывает пастухом тот, кто таким кажется!..
Он ударил изо всей силы нагайкою коня Селима, тот взвился и кинулся прочь от наших…
Ещё два факела на стенах крепости запылали багровым светом, далеко виднеясь в густом мраке, окружавшем всё.
Амед, Мехтулин и Левченко весело погнали баранов…
Утром в Самурском укреплении был настоящий праздник. Стадо оказалось в сто шестьдесят голов. Гарнизон с этим мог продержаться ещё недели две. На кухнях запылали огни… Солдаты весело толпились кругом и шутили. Уныния как не бывало. Нина радостно смотрела на Амеда, слушая рассказ о его похождениях.
— Какой вы смелый!.. Какой вы хороший! Я в Петербурге о таких как вы читала только в романах…
И он доверчиво и счастливо смотрел в её сияющие очи… И вдруг у него вырвалось:
— Зачем у нас не одна вера?..
Нина вспыхнула…
— Почему это вам пришло в голову?
— Потому что вы всегда будете на меня смотреть как на чужого…
— Неправда! — горячо заговорила Нина. — Вы никогда-никогда — ни мне, ни моему отцу не будете чужим. Напротив, напротив… Вы же сами говорили, Амед, что Бог один.
Но елисуец потупился и отошёл прочь.
В тот же вечер — у Брызгалова он опять подошёл к Нине.
— По-нашему ага, бек — то же, что по вашему дворянин. Правда это?
— Не знаю… А вам зачем, Амед?
— Так… Я хочу знать это.
Обратились к Степану Фёдоровичу, — тот подтвердил.
— Значит, я равен им всем, — показал он на Кнауса и Незамай-Козла.
— Ещё бы, понятно, равны!.. — даже обиделась за него Нина.
— Как бы мне хотелось узнать что-нибудь о вашем Боге! — мечтательно заговорил Амед, не отводя сияющих глаз от смущённого лица девушки… — Как бы я хотел знать о нём всё, что знаете вы… Нам говорили в медресе, будто ваш Исса[47] был тоже великий пророк, но он учил всему так строго, что людям было невозможно жить, как он хотел. Потому Аллах, который любит нас, послал к нам ещё более великого пророка Магомета. Учение его по силам людям… Оно не так сурово как учение Иссы… Трудно идти за Иссою и легко за Магометом…
Радостное чувство охватило Нину.
— Знаете что, Амед? Хотите узнать всё про этого Иссу, как вы зовёте Его? Хотите, я с завтрашнего дня стану рассказывать вам о нём?.. Я знаю, вы Его полюбите, как мы все Его любим… А потом…
И она не кончила своей мысли, только стала удивительно ласкова со всеми и, встречаясь глазами с Амедом, улыбалась ему так светло, что молодому горцу приходило в голову: если Исса смотрит теперь её глазами, то он, Амед, готов полюбить Его так же, как любит её…
— Амед, идите сюда! — звали его офицеры. — Мы вашего ягнёнка начинаем… Вы вина не пьёте, а всё-таки мы чокнемся с вами. За ваше здоровье! Без вас мы бы все поумирали с голоду.
Елисуец, краснея, чокался с ними, но нетронутый стакан с вином ставил около.
На другой же день, справившись с больными и ранеными, Нина застала на площади Амеда… Тот поднял папаху — и внимательно следил за девушкой… Он не смел сам ей напомнить её обещание. Она казалась ему до такой степени утомлённою.
— Ну, что, Амед, вы ещё не раздумали?.. Всё ещё хотите знать об Иссе?
— Да… Хочу… Я давно хотел… Ещё в Дербенте учился, хотел… Но там некому было рассказать мне…
За окнами комнаты, которую прежде занимала Нина, был маленький палисадник. Тут рос большой карагач; несколько розовых кустов, осыпанных цветами, разливали кругом нежный аромат… До осады крепости сюда слетались птицы и с утра до ночи щебетали и суетились, но гром орудий и трескотня ружейных выстрелов давно распугали пернатых гостей. Только ещё в густой вершине чинары оставались они, точно считая её листву достаточною для защиты…
— Сядем здесь… — скамейка, на которую указала Нина, была как раз под карагачом. — Сядем здесь… Я думаю, что сумею рассказать вам. У меня по закону Божиему всегда было двенадцать баллов…
— Что такое закон Божий?
— Ну, правила, которые установлены Богом, чтобы вести хорошую жизнь…
— А… по-нашему — шариат[48]… У вас адата нет… Ау нас и шариат, и адат, только адат легче… Шариат труднее адата[49]…
— Какой вы наивный… Законом Божьим у нас называлась и священная история…
— Это об Иссе?
— И об Иисусе Христе, и о том, как Бог создал мир, и обо всём.
— Рассказывай, пожалуйста, рассказывай… Много рассказывай. Я очень буду слушать тебя. Я так буду тебя слушать, что ничего не забуду.
Амед сам не заметил, как он, по восточному обычаю, перешёл на ты…
Нина, вся полная ей самой непонятного, внутреннего трепета, — тихо, ласково начала рассказ… Она забыла о том, что рядом с ней сидит разгоревшийся от любопытства елисуец-полудикарь и ловит каждое её слово, — точно это драгоценный жемчуг, падавший в его руки. Перед ней рисовались сожжённые солнцем скалы Палестины, масличные деревья, росшие на её каменистой почве, жалкие сёла и города, похожие на слепившиеся каменные гнёзда…
— Совсем наши аулы!.. — тихо проговорил Амед.
Странно! Она сама никогда не думала, чтобы эти картины так глубоко запали в её душу. Она говорила, закрыв глаза, вся бледная, и ей казалось, что её уста повинуются кому-то другому, вселившемуся в неё в эту минуту… Это он говорил её устами, он создавал в её памяти дивные образы…
— У нас тоже есть ангелы! — сорвалось у Амеда. — У нас тоже есть ангелы… Только они женщинам не являются. По нашему — не хорошо, по нашему, женщина — полчеловека… Это у нас не так… И здесь чувствую, что не так, не правда у нас… — дотронулся он до сердца.
Ясная Вифлеемская ночь… Ярко горят звёзды святого неба… Белея под луною, чуть мерещатся повитые синими тенями стены жалкого города… Одна звезда ярче всех… Так ярка она, что шейхи пустыни — цари-маги заметили её и угадали, о чём она засияла возвестить миру, утомлённому жестокостью и злобою… Тихий свет факела струится из убогой лачуги… В яслях лежит Спаситель мира, родившийся среди уничижения и обречённый кресту…
— Цари приходили поклониться Ему… А он в яслях!.. — с недоумением повторяет Амед.
— Так надо было! — убеждённо обращается к нему Нина. — Вы подумайте, Бог, создавший мир из ничего одним словом, — разве не мог воздвигнуть Сыну дворцов бриллиантовых?.. Но Он для Него выбрал низкий удел… Со смирением явился Сын Божий на землю и освятил примером Своим всех, кто так же как и Он смирен душою…
— Да, Он мог… Разумеется, мог… Если у нашего Магомета бирюзовые дворцы… Чего же Аллах не сделал бы для Своего Сына!.. Так надо было… И цари пришли поклониться нищему в яслях?..
Другая ночь, зловещая, мрачная… Ужас и отчаяние повсюду… Ирод послал убийц. Все младенцы должны быть истреблены в эту страшную, преступную ночь… Амед хватается за кинжал… Вспыхивает…
— Разве не было там храбрых людей — прийти и убить Ирода?.. Я бы!..
Но он вдруг успокаивается и точно видит далёкую дорогу — в дивный Египет… Иосиф и Мария везут туда на осле Божественного Младенца… С ними спасение мира — его единственная надежда… С ними воскресение в жизнь вечную…
Амед не даёт сам себе отчёта, что с ним, но у него на глазах слёзы… «Так надо было, так надо было»…
Потом уже Амед слушал всё с более и более возраставшим вниманием.
Вот юноша Христос работает в дому отца своего… Учится во храме…
— Он сам мог их научить всему.
— Он должен был пройти всю жизнь простого человека.
— Зачем?
— Затем, чтобы показать, что в самом скромном звании можно достигнуть спасения, можно сделать то же, что сделал Он. А тут его первая проповедь!..
В мире, где до сих пор око шло за око и зуб за зуб, где месть была законом и карою, где библейский Бог ужасом оковывал сердца людей — вдруг прозвучали сладкие и чистые слова любви и всепрощения…
Амед опустил голову на руки…
Он весь был в волшебном мире… Его душа плавала в благоуханном тумане, прислушиваясь к чудным райским песням… Этих мгновений он не променял бы ни на что другое…
— Счастливы были те, которые видели и слышали вашего Иссу! — вырвалось у него… — Скажи мне, у тебя нет книги, где всё это написано? Ты мне дай — я её прочту…
— Есть, Амед. Я пришлю её вам…
— Пожалуйста, скорей пришли. Я несколько раз прочту её… Только, надо ли прощать даже врагам своим?
— Разумеется… Это прежде всего… У нас есть молитва «Отче наш», где мы каждый день повторяем: «и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим».
— Это что же значит?
Она ему объяснила… Только что она хотела было продолжать рассказы, как её позвали в лазарет…
— До завтра, Амед. Приходите слушать, — я до конца вам расскажу всё…
Он поднялся ей вслед. Приподнял папаху, да так и остался на месте… Лёгкий ветерок колыхал листьями карагача, срывал лепестки роз и вместе с благоуханием нёс их в лицо ему… Изредка слышались выстрелы издали… Долетало пение: «Надгробное рыдание!..» Священник хоронил ещё одного солдата, скончавшегося от ран… Небо сегодня было безоблачно и чисто. Далеко-далеко серебряною митрою своею сияла на краю его какая-то гора…
— Всех прощать и никому не мстить!.. Этого я никогда не пойму… Нет, Магомет знал лучше людей… Хотя прощать хорошо, если можешь… Тогда всем приятно было бы жить на земле… Да, разумеется, приятно — только нельзя этого. Хатхуа мне не простит, и я ему тоже не прощу… Это Богу было легко, а человеку трудно… Жаль, что я не жил в то время… Я бы пошёл в их аулы, послушать Его… Должно быть, Он хорошо говорит. — и, сам не зная, что делает, он вдруг наклонился и поцеловал землю, по которой только что прошла девушка…
Удача Незамай-Козла
Дни шли за днями. А старая крепость всё ещё оставалась в кольце осады… Шамиль часто проезжал мимо, но всякий раз видел на стенах бодрые лица защитников Самурского укрепления… Откуда-то привезли горцам орудия, — и всего-то две пушчонки, — но имам так удачно расположил их на вершине одного из утёсов, что оттуда стал осыпать крепость ядрами… Днём он бросал их на кровли и площадь, ночью оставлял тот же прицел и тревожил гарнизон, не давая ему покоя. Несколько солдат было уже ранено… Наши злились, но ничего сделать не могли. Раз ядро взрыло землю перед Ниной. Девушка упала, и это спасло её. Ядро рикошетом перекинулось через неё, не задев… Брызгалов озабоченно хмурил брови… Скалу, где стояли эти орудия, он хорошо знал. Знали её и все в крепости. Амед тоже был знаком с тропинками к ней, не говоря уже о Левченко, который во время своих охот не раз ночевал на этом утёсе. Он и теперь отпросился как-то ночью и сходил туда… Утром вернулся усталый, а к вечеру вызвал Незамай-Козла.
— Ваше благородие! Коли бы попытаться скинуть их…
— Кого? — удивился тот, пристально глядя в лицо Левченко и думая про себя: «Не пьян ли?..»
— А пушечки эти самые горные… Махонькие они… В Даргинскую экспедицию отбили их у наших… И народу у них мало там.
— А что думаешь, ведь, пожалуй, и в самом деле, а?
— Никто, как Бог. Чего ж не попробовать. Охотников надо вызвать… Возьмём с собою татарву эту.
— Какую?
— А Ахмедку с Мехтулином…
Незамай-Козёл тоже призадумался… Пошёл к Брызгалову. Тот хотел было отговорить их, — да в эту самую минуту ядро пробило кровлю лазарета и упало среди раненых, вызвав переполох между ними.
— Нет, так нельзя. Эти две жалкие пушечки за несколько батарей работают.
— Попытаться бы, а?
— Что ж, вы сами хотите?..
— А отчего ж бы? Ахмед пойдёт и Мехтулин тоже. Левченко возьмём да ещё человек десять охотников.
— Да, разумеется… Ну, помоги, Боже! Завтра в ночь… Если тихо и хорошо будет.
Утром Незамай-Козёл причастился. Потом день провёл в приготовлениях.
— Ну, теперь и помирать легко. Бон-жур а Парис![50] — простился он с Ниной и даже поцеловал ей руку, сам испугавшись немедленно галантерейности своего обращения и нелепой французской фразе.
Молодой елисуйский бек нисколько не думал о том, что ждёт его ночью. Для него все эти вылазки и смелые подвиги были обычным делом. Он ребёнком умел угонять коней у немирных горцев и с кинжалом в руках защищался, когда на стада и табуны его отца нападали соседи. Амеда гораздо более занимало то, что ему должна была рассказать Нина про Иссу. Он всё это время ходил точно во сне. В душе юноши росло что-то странное, чего он никогда не испытывал. Вместе с Иссою он хотел общего счастья, «чтобы всем было хорошо»… Он только выделял пока из этого вселенского благополучия те роды, с которыми у него были «канлы». И хотя Нина уверяла его, что канлы — великий грех перед Иссою, — Амед на это улыбался и повторял:
— Зато наш Магомет — великий пророк — сам мстил и велел мстить за кровь — кровью.
— Вы поймите, Амед, — ведь Иисус одним движением руки мог уничтожить мир, а Он терпел поношения, обиды, побои…
— Да, он был очень добр… А, может быть, он боялся, чтобы вместе со злыми не погибли и добрые?..
— Но ведь он был всемогущ, он мог погубить только злых.
— Правда, правда. Исса был добрее Магомета… Только к нашему горскому адату Исса не подходит… Но он добрее, добрее… Ты знаешь, Он — Бог женщин и детей… Мы, мужчины, не можем следовать ему… Мы должны исполнять то, что велел Магомет…
И Амед успокоился на этом.
В страшное волнение он пришёл, когда Нина рассказывала ему о последних часах Спасителя мира. Униженный и измученный, Он стоял перед Пилатом… И тот же народ, который ещё накануне приветствовал Его «осанна!» теперь неистово кричал: «Распни, распни Его!»… Он был один посреди звериного стада… И Амед, хватаясь за кинжал, тихо говорил:
— Ах, зачем меня не было там?! Зачем меня не было?!
— Что же бы вы могли сделать?.. Бог должен был пострадать за всё человечество…
— Что я бы мог сделать… Я бы врубился в эту орду… Я бы…
— Но вы один, — а их было много! — невольно любовалась его воодушевлением Нина.
— Что ж, что один! Разве об этом можно думать — один!.. Всё равно — если нельзя было его освободить, я бы мог умереть за него как мужчина…
Нина, сама того не заметив, схватила Амеда за руку и пожала её.
Пустынная вершина Голгофы… три креста на ней… Посреди распят Тот, единый вздох Которого мог бы уничтожить все сущие миры и вселенные… И Он мучится как человек… И в последние мгновения, когда страдания Его не имеют предела, побледневшими от невыносимой боли устами Он оставляет человечеству вечный завет Свой: «Прости им, Господи, не ведят бо, что творят!» Елисуец сидел весь бледный. Он грозно смотрел вдаль разгоревшися глазами, до половины вынутый кинжал так и застыл в его руке.
— И Он умер?.. Как разбойники около умер?..
— Умер… и в третий день воскрес.
— Воскрес?.. Это всё в книгах есть, что Он воскрес?
— Да, да, Амед — есть.
— Как хорошо! И воскрес, и показался людям?.. Его видели, — ты говоришь?.. И многие его видели?.. Долго?.. И днём видели, и ночью?
— Да, видели и его ученики, и другие.
— Видели живого? Он говорил с ними, с учениками, со всеми, кто в него веровал?
— Да, один между ними был недоверчивый… Христос показал ему раны Свои.
— Исса — великий пророк…
Воскресение Господне впечатлительную душу Амеда наполнило неописуемым восторгом. Он смотрел в синее-синее небо, и ему казалось, что среди светоносного облака он видите Иссу, такого кроткого, такого кроткого!.. Он, видимо, искал сравнения… «Как ягнёнок, когда его режут!..»
— Его недаром мы называем Агнцем…
— Ты хорошо говоришь… Ты очень хорошо говоришь… Я бы тебя всю жизнь слушал! — вырвалось у него, и сам он был не рад, заметив, как вдруг вспыхнула девушка.
Она, впрочем, тотчас же засмеялась.
— Я вам, Амед, принесла книгу, где всё это написано. Ведь вы учились в русской школе. Как же вы ничего не знали об этом?
— Нельзя было знать. К нам мулла ходил. И когда у русских был священник, у нас был мулла. Он нам читал Коран, учил нашим молитвам, рассказывал о Магомете… Он и про Иссу говорил, только мало. До Магомета три пророка было: Моисей, Исса… А третьего я забыл… Раньше Моисея ещё… У него нога была как от этой горы до той…
— Адам, верно! — улыбнулась Нина.
И они оба замолчали. Ни тому, ни другой не хотелось словом нарушить эту сладкую тишину. Розы благоухали, по ветру неслись паутинки… Где-то журчала вода… На небо набежало светлое облачко, — попало под солнце, затлело по краям, загорелось бескровною жертвою… медленно-медленно, — и вот уже нет его, и та же лазурная бездна над Амедом. Елисуец думал в это время, высоко ли взлетел Исса… И почему до сих пор его учили, что Исса — один из пророков, а теперь он услышал, что Исса был Сын Божий… Сын Божий… Значит, он выше Магомета? И действительно, русские везде одолевают горцев… Русские молятся Иссе, горцы — Магомету. Следовательно, Исса сильнее. Был кроток, всех прощал, — а куда могущественнее пророка крови мести. Что значит это? Как понять?.. Голова его работала. Мысли мешались со страшной быстротой, а сердце жутко замирало от близости девушки, которую он, Амед, любил, за которую он бы рад умереть…
— Жаль, что я не родился русским…
— Почему жаль, Амед?..
— Тогда бы ты смотрела на меня как на… брата! — неожиданно сам для себя закончил он. — У нас был бы один Бог и один Исса. Мы бы ходили в одну церковь…
— Вы и теперь можете ходить в нашу церковь. Она открыта для всех…
Он ничего не ответил, но мысль его работала в раз взятом направлении безостановочно.
— И Исса, распятый, победил весь мир? Отчего же он не победил — падишаха, что сидит в Стамбуле?
— Русские войска часто били турок…
— Нам ничего не говорили об этом муллы… Они, напротив, называют султана непобедимым.
Он проводил Нину до лазарета и сел под чинарой на крепостной площади… Издали послышался гул выстрела, ядро взрыло землю около него и, подскочив, упало у его ног, вертясь и подымая пыль… Амед презрительно ткнул его ногой и задумался… У него есть Георгий, скоро будет второй… Если бы ему сделаться офицером… Он бы тогда был равен ей… Хорошо, если бы его сам царь захотел увидеть… Отчего же, если он прославится на всю Россию… Он ещё молод… Он может сделать многое. Царь позовёт его к себе — посмотреть на него… Скажет: «Проси, чего хочешь!..» Он ответит ему сейчас же: «Мне ничего не надо!.. У меня есть много всего — и коней, и домов, и денег… Дай мне только одну Нину. Пускай у неё будет Исса, а у меня — Магомет. Я стану любить её, и она будет счастлива». И царь скажет: «Возьми!» — и он приедет и возьмёт её. В Елисуе, посреди сада — он построит ей большой, белый дом, все стены уберёт шёлком, нарочно где-нибудь на дороге ограбит армянских купцов, — и потолок ему распишут персидские художники птицами, львами и цветами, стену спальни он отделает мовью, у персиян в Баку хорошая есть. По всем полам будут лежать ахалцихские ковры. Он сам выездит для неё Бэльсенэ, лучшего своего коня — за него наместник его отцу две тысячи серебряных рублей давал, но Курбан-Ага не взял их. Каждый день станет он колоть для Нины барана, большие подносы с конфетами будут стоять у неё в комнате… Хорошо будет. А что, если царь ему откажет? «Проси себе любую татарку, или лезгинку, или черкешенку, а Нины я не могу отдать тебе потому, что ты не русский». Что тогда?.. О, тогда проще всего. Он, Амед, — подберётся ночью и увезёт её… Увёз же его отец кабардинскую княжну. Отчего же ему не увезти русскую девушку? Он подобьёт молодых удальцов: Сефер-бея, Арсалана из Елисуя. Они, разумеется, помогут ему. Отказать в этом ни один молодой горец не посмеет, чтобы не навлечь на себя общего презрения. Ему никто не ответит: «Нет!» Напротив, все с радостью рискнут шеей… Он утащит её в горы, оттуда заберётся в такую глушь, где его никто-никто никогда не отыщет… Построит ей посреди дремучего леса саклю… Станет для неё охотиться… У него, ведь, пророк Магомет, а не Исса! Ну, его поймают… Будут судить, расстреляют. Что ж, — всё одно! Не боится он ни того, ни другого… И если там, — поднял он голову вверх, — Исса спросит, зачем он сделал это, он, Амед, ответит ему: «Отчего же Ты не устроил всё так, чтобы мы были счастливы?..» Но нет… Будущее ещё далеко. Все его любят. Сам Брызгалов называет его сыном. Зачем загадывать? И он тихо запел про себя елисуйскую песню:
«Ты не думай утром, будет ли к полудню —
Буря иль ненастья, а в полудень ясный
Не заботься, тучи омрачат ли небо
К вечеру!.. А вечер лишь придёт прекрасный,
Незачем о грозах помышлять, что ночью
Поколеблют горы — ярыми громами…
Пользуйся минутой… Смерть нежданной гостьей
К каждому приходит»…
— Это вы, Амед, поёте? — спросил его Кнаус издали.
— Я… — сконфузился юноша.
— Шли бы вы спать… Вечером, ведь, дело у вас.
Елисуец сообразил, что совет был хорош, и отправился в свою комнату. Тут он первым делом совершил намаз, причём вместе с пророком Магометом поминал и Иссу, не знал только, как назвать его — Богом или тоже пророком, и, наконец, остановился на словах: «Ты, Исса, о Котором говорила мне Нина»… У горцев крепкие нервы. Несмотря на все потрясения этого дня и ожидавшую его ночью страшную опасность, он заснул быстро и крепко. Так крепко, что, когда в девять часов вечера пришёл его разбудить Левченко, старому солдату удалось сделать это с величайшим трудом… Проснувшись, Амед долго оглядывался, не понимая, где он, и что с ним, и, только очнувшись совсем, понял, что его зовёт комендант поужинать…
— С голодным брюхом, кунак, — и дела не справишь! — пояснил ему Немврод Самурского укрепления.
— Разве есть надо каждый день? — улыбаясь, спросил Амед.
— Это только у вас, у гололобых, — проворчал Левченко, — напился воды и сыт. Русскому и на зубы надо чего-нибудь…
Амед оделся щёгольски. Сегодня он шёл на дело как на праздник… Ему почему-то казалось, что сделай он всё, чего ждут от него, — офицерские эполеты неизбежно заблестят на его не по летам широких плечах.
— Здравствуй, молодчинище! — ласково встретил его Брызгалов.
Незамай-Козёл был уже здесь. Он казался сегодня мрачным и серьёзным. Обычных шуток не было; даже на вопрос Степана Фёдоровича, желавшего развеселить его: «А ну-ка, братец, расскажи, как ты танцевал мазурку у наместника в Тифлисе!» — Незамай-Козёл только повёл на него глазами и опять весь ушёл в какую-то думу.
— Ей-Богу, — недовольно проговорил Брызгалов, — не знай я вас за храброго офицера, — я бы подумал, что вы трусите…
— Нет… Не трушу, — тихо проговорил Незамай-Козёл, — а только зеркало моё… Знаете, что я выписал?..
— Ну?..
— Хай ему чёрт, — треснуло сегодня…
— Неужели вы верите?..
— А как же не верить, коли все говорят…
— Нашли о чём!.. — засмеялся Брызгалов.
— А впрочем, — вдруг улыбнулся Незамай-Козёл, — о чём мне тужить?.. Если и помру, слава Те, Господи! Никого у меня ни впереди, ни позади. И плакать некому, а помолиться за душу может вся крепость!..
— Все под Богом ходим! — ответил на это Брызгалов. — Значит, баста!
Старые друзья, молча, пожали руки друг другу… Только, уже прощаясь, Незамай-Козёл вместо прежних вывертов, просто подошёл к Нине и попросил у неё:
— Матери я не помню, сестры не знаю… Перекрестите меня, Нина Степановна, и за мать, и за сестру!..
Та, едва сдерживая слёзы, благословила его…
— И меня тоже! — тихо и краснея, прошептал Амед…
— А вы верите? — ещё тише спросила его Нина.
— Не знаю… Только думаю, — это принесёт мне счастье…
Но горец сказался в нём. Когда Нина исполнила его желание, он выпрямился и с блистающими глазами восторженно проговорил ей:
— Ну, Нина Степановна, я вам сегодня такого коня у самого Шамиля украду!.. — и выбежал радостный и счастливый…
Незамай-Козёл зашёл к себе на одну минуту. Охотники выстроились за крепостными воротами. Это всё были старые кавказцы на подбор, некоторые помнили Ермолова и вместе с ним ходили в горы, другие — участвовали в Даргинской экспедиции, третьи — в Чечне и Дагестане обстрелялись так, что свист пуль на них производил не более впечатления чем шум горного ветра в ущелье. Простые, бесхитростные лица. Незамай-Козёл знал их всех, и все его знали. Он и говорить с ними не говорил, — просто снял шапку и поклонился им, по старому кошевому обычаю, и коротко спросил только:
— Помолились?
— Точно так! — тихо ответили ему те…
Так же спокойно как всегда смотрят их лица, так же ровно дышат груди.
«Помолились… Славу Богу… Сподобил Господь!» — вздохнул про себя Левченко и прибавил:
— Теперь и помирать не страшно… За веру Христову!..
Мехтулин молодцом держался на фланге. Он как южанин был чужд северной простоты. Для тех — подвиг являлся службой, присягой, будничным делом… Татарин — плавал в каком-то восторге, и сегодняшняя ночь казалась ему вся в ореоле славы и блеска… Амед тоже улыбался. Его душа не знала страха, и он о чём-то перешёптывался с Мехтулином, причём ближайшие солдаты слышали имя Шамиля, Хатхуа… Левченко подошёл уже на ходу к Незамай-Козлу.
— Ваше высокоблагородие!..
— Чего тебе?..
— Гололобым-то нашим прикажите не дурить…
— Каким гололобым?!
— А Мехтулину с Ахмедкой!
— Какие же они гололобые? — засмеялся Незамай-Козёл. — И тот, и другой с волосами…
— Всё одно — азия! А только они большую пакость Шамилю задумали сделать. Как бы нам не помешали!..
— Ну, ладно… Амед… Мехтулин… Подите-ка сюда!
Молодые люди подошли к офицеру. Он некоторое время стоял молча, не зная, как начать.
— Что вы там задумали?.. — спросил он у Амеда.
— Так, пустое дело одно… — уклончиво ответил он, не глядя на офицера.
— Пустое-то, пустое… А оно может помешать нашему важному!
— Нет! — засмеялся Мехтулин. — Не помешает… Мы обещали Нине Степановне Шамилева коня достать…
— Вот… — хотел бы сказать «дураки», да удержался Незамай-Козёл. — Что ж, у вас по десяти голов на плечах?..
— По одной… Только кажется десяти стоит! — гордо ответил Амед.
— Не сносить вам её, ребятушки!.. Там кончим дело, — дай вам Бог успеха… А только пока что — вы с нами… Шамилева коня!.. Шутка ли, что придумали!.. Да они вас в куски изорвут…
— Посмотрим! — и Мехтулин засмеялся, соображая, что, если ему удастся это дело, — завтра во всех горах, от Адыге до Белокани, заговорят о нём, и все горские девушки станут мечтать о таком богатыре.
— Знаешь что? — обернулся Мехтулин к Амеду.
— Ну?..
— Будем от этой ночи навсегда братьями…
— Я рад… Я всегда любил тебя… У тебя в груди бьётся настоящее сердце…
У нас в таких случаях меняются крестами… Татарин с елисуйцем — обменялись кинжалами. Амеду нисколько не жалко было отдать свой, оправленный в золото и бирюзу, за простой в кожаных ножнах Мехтулина. Оба поднесли их к сердцу, устам и голове и горячо пожали руки друг другу. Теперь они не задумались бы умереть один за другого!.. Незамай-Козёл видел всё это и догадывался, в чём дело… «Хороший народ, — сообразил он. — Кабы им да настоящую дорогу — в большие чины произошли бы».
Наши миновали секреты…
«С Богом!» — слышалось им вслед оттуда. Солдаты, лежавшие на земле, крестили охотников. Собаки скоро почуяли своих и молча подбежали, ласкаясь и тыкаясь мокрыми носами в руки приятелям. Потом опять залегли в траву и, чутко сторожа окрестность, всматривались в темень безоблачной ночи…
«Так ли мы идём?» — призадумался было Незамай-Козёл, но в это самое время, точно желая указать ему путь, вспыхнул вдали на небольшой высоте сноп огня, послышался глухой удар горного орудия, — и с визгом и трепетом чугунное ядро пролетело над головами маленького отряда… — «Ишь, отозвалось… Сюда-де»… — улыбнулся Незамай-Козёл. От тяжёлых предчувствий у него ничего не осталось. Перед лицом настоящей опасности он был уже и спокоен, и весел.
Амед и Мехтулин вышли далеко вперёд… Они должны были в случае чего подать сигнал тревоги. Но горцы стали за последнее время до странности беспечны. Возбуждение первых нападений давно улеглось. Вся эта масса горючего материала, собранного Шамилем перед крепостью, точно отсырела… Недавно отбитое Амедом стадо у дидойцев нисколько не заставило отдельные отряды горных кланов быть осторожнее, у великого имама тоже был расчёт. Взамен ушедших обратно в горы андийцев он ждал малую кабарду и чеченцев из самых диких аулов… Табасарань тоже прислала ему аманатов в залог того, что она скоро явится на газават. До нового отчаянного нападения ему хотелось усыпить русских… Он беспокоил гарнизон ночною канонадою, но сам оставался неподвижен… Наибы просили его разрешить отдельные нападения. Он позволял им накидываться в окрестных горах и ущельях на аулы мирных горцев и разорять их, но крепости не тревожил. Ещё будет время, соображал имам. У русских всё равно неоткуда взять сил… Никто не придёт им на помощь, и последний удар, который он нанесёт, должен быть, действительно, последним, роковым, уничтожающим. Ему хотелось сердца всех исполнить ужасом, и он решил никому из гарнизона не давать пощады. Когда крепость будет взята, — он повесит и расстреляет весь её гарнизон. Там есть две женщины, — он отдаст их не в плен, а в рабство. Священника сожжёт живьём вместе с комендантом. Пусть у русских долго помнят об этой расправе, а в горах власть и обаяние имама только вырастут после этого.
Благодаря такому решению Шамиля — усыпить пока защитников старого укрепления, — наш маленький отряд между своими стенами и первыми кланами не наткнулся ни на одну сторожевую партию горцев. Когда охотники подошли уже ближе, новый сноп огня со скалы вспыхнул, точно чьи-то веки поднялись и открыли на мгновение чудовищное пламенное око… Костры вдали у кабардинцев гасли. Лезгины сегодня их и не зажигали… Тихо-тихо шёл отряд… Так тихо, что двигавшимся впереди Мехтулину с Амедом трудно было расслышать его движение по мягкой и сырой почве… Утёс, на котором стояли орудия имама, гребнем подымался почти отвесно над ближайшим холмом… Позади он пологим скатом сливался с ним… По этому скату нужно было подняться нашим… Татарин и елисуец дождались их…
— Пойти нам первым?.. — спросили они. — Один останется там — другой вернётся к вам и скажет, сколько их…
— Хорошо! — одобрил Незамай-Козёл. — Амед, ты там дождёшься нас, а Мехтулин вернётся.
Отряд остановился. Неслышно горцы двинулись по козьей тропинке. Чем ближе к вершине холма, тем яснее доносился до них шум голосов оттуда… Пока слышалось немного. Мехтулин, слух которого как и у всех татар был чуток, — различил восемь голосов. «Кто бы это был? Если кабарда, — плохо дело»… Но как нарочно один из артиллеристов Шамиля запел в это время унылую и протяжную песню… «Слава Аллаху, — это веденцы!..» — прошептал Амед.
— Отчего слава Аллаху? Веденцы — храбрые люди.
— Да, умирать и драться мастера… Зато сторожат плохо… Постой, — я пойду к ним, а ты возвращайся и веди отряд.
— Как — к ним?.. Они убьют тебя.
— Ты знаешь нашу горскую пословицу: «в кармане у одного елисуйца поместятся десять веденцев… А остальные сами придут за ними и влезут туда же»…
Мехтулин стал быстро спускаться, а Амед, уже не скрываясь, вполголоса запел чеченскую песню:
«Ай, за быстрою Лабою
Кони ржут!.. Скорей в седло —
Ночь близка… Вперёд, со мною,
Уздени, пока светло»…
— Кто там? — послышалось сверху.
Амед, не отзываясь, продолжал петь:
«Там — богатые станицы, —
Пропасть всякого добра…
Налетим на них как птицы,
Уздени!.. Пора, пора»…
— Эй, кабарда! — насмешливо прозвучал сверху чей-то весёлый голос… — Ты бы вместо песни назвал своё имя!..
— Скоро узнаете! — ещё веселее ответил Амед…
«Пусть мулла поёт молитву —
Пусть старик в мечеть идёт.
Шашки вон, смелее в битву, —
Ночь подходит, слава ждёт»…
— Эй, свет очей моих, как хорошо поёшь ты… — пришли в восторг на верху.
— Смелым — привет, товарищам — благоволение, всем верным — милость Аллаха! — приветствовал их Амед.
Их было, действительно, восемь человек. Они сидели у потухшего уже костра. Под грудою золы то краснели, то золой покрывались угли, точно сонное око, то и дело смежающее утомлённые веки. Елисуец одним взглядом определил их. Всё молодцы на подбор. Вот гигант, широкоплечий, весь увешанный знаками отличия… Елисуец часто видел его в свите Шамиля… Он поклонился ему особо…
— Наибу Аслану — почёт и слава… — и он отдельно подошёл к нему.
— Ты почём, юноша, знаешь меня? — удивился тот.
— У нас, в Хунзахе, поют песни о твоих подвигах… Что же ты думаешь, что у нас память коротка; мы не рабы, что забывают последнюю нагайку.
— Садись… Нечем угостить тебя… Сами с вечера ничего не ели…
— Сюда сейчас придут к вам на помощь — пешие лезгины… У них с собою будут лепёшки…
— Зачем лезгины?.. — удивился тот… — Зачем лезгины?.. Что, мы одни не можем справиться?..
— А я почему знаю? Угодно было имаму так. Разве можно у него спросить почему? Спроси у орла, зачем он сел на скалу, а не на дерево?
— А кто передал его приказ?
— Князь Хатхуа…
— Ну, тогда дело иное, — успокоился старый боец. — Что же у вас в Хунзахе поют про меня? (Ни один горец не мог оставаться равнодушным к этому). Скажи, если вспомнишь.
— Про Даргу… Как ты чуть не изрубил нынешнего наместника… Воронцова…
— И изрубил бы, — если бы не молодой офицер один. Ну, да и с ним мы скоро сведём счёты…
— Знаю и офицера этого… Теперь он уже немолод… Это комендант крепости, с которой до сих пор ничего мы сделать не можем…
— Храбрый человек… С таким и драться хорошо!.. — и Аслан задумался…
Амед заметил, что двое отделились и подошли к горному орудию… Остальные, кто привалился к огню, кто оставался сидеть, глядя, как угли всё больше и больше гасли, подёргиваясь серою золою как глаз умирающей птицы серой плёнкой. Елисуец, точно желая расспросить о чём-то Аслана, встал и перешёл к нему…
— Хорошо у вас, в Ведено… Гордый аул… на самой вершине горы сидит, как всадник в седле.
— Хунзах тоже хвалят! — вежливо ответил польщённый веденец.
— Да, Хунзах — красив… Но…
И умолк… Сердце юноши сильно забилось. Внизу слышался шорох целой толпы народу. Очевидно, Незамай-Козёл шёл к месту, где сидели веденцы, — всё ближе и ближе… Амед вдруг расхохотался.
— Чему ты?
— Так, уж очень смешно ходят эти лезгины, совсем как медведи… Издали их слышно… Тяжелы…
— А храбрые люди…
— В горах мудрено найти трусов… Ишь как ползут, точно их как ослов навьючили…
— Хунзахцы не любят лезгин…
— Да… — коротко ответил Амед. — Как их любить… Они и моются-то песком, а утираются сальными шальварами…
— Зато хунзахцы слишком много обращают внимания на одежду! — улыбался Аслан.
— Какие у тебя пистолеты! — наивно воскликнул Амед.
— Это подарок Шамиля! — гордо ответил наиб.
— Дай посмотреть. Должно быть, чеканили серебро в Белокани, у нас так не умеют.
— Нет, это в Гаграх турецкие мастера; тут, по приказанию Имама, моё имя вырезано «за Ашуру и Гимры».
— Как же, я знаю… знаю… — Амед делает вид, что любуется пистолетами, и слушает, слушает.
Казалось, вся жизнь его перешла в слух… «Наши уже близко… Вон голова Мехтулина вдали… Они впереди»…
— Это мой кунак! — предупреждает Амед наиба… — Славный боец во славу Аллаха… Молод и уже сделал кое-что…
— Да будет счастлив твой приход, сын мой! — приветствует его наиб.
Амед тихо показывает Мехтулину на своего соседа слева, угрюмого веденца, не проронившего до сих пор ни одного слова. Тот садится около…
— Хороши пистолеты! Я ещё не видал таких, — и он, любуясь ими, взводит курки… Очень хороши, — у нас, в Хунзахе говорят: «две вещи должны быть верны у человека — сердце и пистолеты». А у вас, в Ведено, кажется, «конь и пистолет — друзья. Они редко обманывают»…
Аслан с удовольствием слушал юношу. Он стал даже поверять ему, что имам, взяв крепость с этими проклятыми гяурами, — передаст ему управление ею, и что здесь, в долине Самура будет передовой ведёт Чечни и Дагестана, что на окрестные вершины Шамиль перебросит всё, что у него есть наиболее смелого и храброго, — и тогда этот край будет потерян для русских…
— А что он решил сделать с защитниками крепости? — спросил Амед.
— Что делают с бродячими собаками, не знающими хозяина, когда они начинают кусаться… И их перевешают и перестреляют…
— Там есть девушка.
— А её отдадут в рабыни к Хатхуа. Молодой наиб заслужил такого подарка. Пусть она ему варит просо.
— Он сам просил её у Шамиля? — с сильно, до боли, бьющимся сердцем ждал Амед ответа Аслана.
— Да, сам. Он видел её на стенах… Их бы всех следовало сжечь живыми…
Вдруг вдали из-за выступа скалы блеснул тускло штык, другой… Аслан широко раскрыл глаза, но он не успел ещё сообразить, в чём дело, как одновременно послышались два выстрела… Амед бросил один из пистолетов Мехтулину, и оба веденца — Аслан и сидевший рядом с татарином — ткнулись лицами в горячую золу костра. Точно пламя, вспыхнуло «ура» — нескольких голосов… Защитники орудий, растерявшиеся, не успели ещё и вскочить, как большинство из них уже вздрагивало и билось под штыками старых солдат…
— Бей их! — хрипло звучал голос Незамай-Козла.
— Не уйдут! — весело отозвался Левченко. — Всем одно решение…
Трое веденцев сбилось к орудиям и, защищённые ими, навели дула ружей на нападающих… Очевидно, они решили дорого продать жизнь. Они ждали, не стреляя. Левченко недолго думал. Он снял шапку, перекрестился и кинулся туда… Другие за ним. Послышался чей-то крик, другой, третий… «Бей ещё!» — опять тем же резким и хриплым голосом крикнул Незамай-Козёл, но тут вдруг его точно палкою ударили в ногу… Другою — в плечо. Он только и почувствовал в первую минуту… И опять было ринулся вперёд. Но ноги подкосились, и он тяжело рухнул… В ноге, в плече стало жечь… Он дотронулся до них рукою, сквозь его пальцы побежало что-то влажное, липкое, тёплое… «Вот оно зеркало-то!.. А Степан Фёдорович ещё смеялся»… И вдруг на минуту что-то заслонило ему тёмное, ночное небо. Точно между его глазами и этими выступами скал надвинулась серая, густая туча… Когда он очнулся, — слышался стук молотов… Левченко орал что-то… Незамай-Козёл собрал последние усилия и крикнул его… Старый солдат подбежал…
— Прощай, брат!.. Что, как?
— Ранили, ваше благородие?..
— Да!.. В плечо и в ногу… Вот оно… зеркало-то. Пушки что?
— Заклепали. Сейчас сбросим их… Вниз… Пущай их… А что ранены — так унесём на руках… Снимем с гололобых (всех побили) чуху и на чухе…
И, не продолжая, Левченко подошёл к солдатам. Одну за другою пушки подкатили к обрыву скалы и скинули вниз. Послышался треск ломавшихся лафетов, звон искалеченного орудия… Амед спокойно сунул себе за пояс пистолеты Аслана, снял с него дорогой кинжал и шашку… Левченко стащил с громадного веденца чуху, — Незамай-Козла подняли на руках и переложили на неё… Вдали слышались крики тревоги. Пора было спускаться вниз… Амед и Мехтулин выждали, пока сошёл последний солдат, и только тогда, не сходя общей тропой, а цепко, как кошки, пользуясь во тьме каждою щелью скалы, быстро и смело ползли по самому её отвесу… Внизу они опередили солдат…
— Как же теперь быть с лошадью Шамиля? — спросил елисуец у татарина.
— Посмотри!..
Кругом далеко-далеко, насколько хватало глаз, вспыхивали факелы. Очевидно, орда подымалась на тревогу. В темноте мелькали уже всадники, точно сослепу кружившиеся по долине… Куда-то проскакал конный отряд… Другой ему наперерез. Встретились, перебросились несколькими словами и рассыпались по побережьям Самура… Очевидно, в непроницаемом мраке лезгины и чеченцы хотели нащупать врага… Несколько всадников пронеслось мимо Амеда и Мехтулина… Они остановились было перед скалою… проехали вдоль и, заметив обоих юношей, живо поскакали на утёс… Солдаты шли тихо… Амед догнал их и угрюмо следовал за ними… Ему досадно было, что сегодня он не исполнил своего намерения. Теперь, поди, Шамиль сам уже в седле и ждёт донесений от узденей… Вон какая-то лошадь без всадника несётся мимо… С невероятною ловкостью Амед вскинулся ей на спину и схватил сильными руками её шею… Лошадь остановилась, оглядываясь… Амед погнал её прямо на всадника, мчавшегося за нею, и сильным ударом рукоятки кинжала в лоб свалил его…
— Мехтулин! — крикнул он.
Татарин подбежал и сел… Оба они тотчас же подъехали к отряду.
— Где раненый офицер?
Его несли посредине.
— Левченко! Давай его сюда, мы его скорее довезём до крепости… А вам ещё отбиваться придётся…
Левченко огляделся. Тревога шла как круг по воде — всё шире и шире… Кое-где даже вспыхивали выстрелы…
Незамай-Козёл почувствовал себя вдруг в чьих-то руках, сидящим на крупе лошади…
— Мехтулин! Я его повезу, а ты защищай… Нападать будут…
— Аллах Экбер!.. Если пророк захочет — он поможет нам. Он лучше знает, кто прав, и кто виноват…
— И Исса тоже… Бог, которому верит Нина, помоги нам, — тихо проговорил Амед и погнал коня по направлению к крепости…
В старое время Кавказской войны — рассказываемые здесь подвиги не составляли исключительного явления… Практика горных экспедиций и набегов создавала героев на каждом шагу, даже не героев, потому что, назови кто-нибудь героями Левченко и его товарищей, они первые изумились бы этому.
— Какие мы герои? — ответили бы они. — Мы просто Бога помним, — царю служим, а там уже не наше дело…
И в самом деле, прочтите воспоминания старых офицеров, — к сожалению, их так мало напечатано, — люди в то время много дрались и мало писали. Да и печататься негде было!.. Послушайте рассказы о былях того эпического времени, и вас не удивит отступление горсти солдат, ощетинившихся штыками, от в нескольких сот наседавшего на них отовсюду неприятеля. Точно дикий кабан, выставив вперёд клыки, отходит в сплошные заросли сырого ущелья, — так и Левченко со своими медленно и спокойно подвигался по направлению к крепости… Кабардинские всадники скоро открыли наших. Огнем выстрелов они дали знать своим, что враг, наконец, найден, и отовсюду на эти выстрелы понеслись с дикими выкриками чеченцы, с бешеным рёвом потревоженных горных медведей — дидойцы, с тихою и сосредоточенною злобою — лезгины ближайших округов… Шамиль на первых порах ничего не понял, — ему показалось, что русские отвлекают его внимание горстью смелых охотников, а сами хотят где-нибудь прорваться сквозь железное кольцо, которым он обложил крепость отовсюду. Солдаты то и дело строили каре, отстреливаясь в упор, но Шамиль ещё не двигал на них пехоты. Он ждал, где именно русские, куда они ударят. Эта ошибка пока спасала два десятка охотников.
— Отобьёмся! Не впервой! — ободрял своих Левченко, хотя они вовсе не нуждались в этом ободрении.
Старые кавказцы только хмурились, молча принимая на штык и коней, и всадников — кто попадался… Отойдя шагов пятьдесят-шестьдесят и видя, что кругом опять начинается дикий визг и гомон налетающей горской конницы, — они сбирались в каре, выжидали её на себя и, по команде Левченко «пли», били, прямо в самые лица джигитам. Один, встретивший их, отряд мюридов хотел было врубиться в каре, но штыки сделали своё дело, — и солдаты только дорубили трёх молодцов, перескочивших через их ряды в середину каре… Были раненые, — но не в ноги, и потому они шли молча, не выдавая своих страданий, чтобы не смутить товарищей… Полдороги уже прошли наши таким образом. Раз перед ними вырос точно из-под земли пеший отряд джарцев… Должно быть, случайно, бродя по Самурской долине, наткнулся на них. Наши не растерялись, и такое грозное «ура» крикнули в самые лица врагов, с такою неистовою стремительностью кинулись на штыки, что те дрогнули и побежали прочь… А тут как раз кстати на помощь накинулись сторожевые собаки. Чего не мог доделать, кого не мог нащупать штык, на того бросались они остервенелой стаей. Скоро все дрались вместе — и собаки, и люди. Солдаты работали прикладами и штыками, собаки — зубами.
— Сам шайтан у них! — кричал какой-то наиб, которого они отбили.
К счастью, позади сообразили, в чём дело, и человек двадцать из секретов выбежало вперёд и присоединилось к каре, которое в эту как раз минуту отбивалось от Хатхуа с небольшим отрядом.
— Джансеид! Скажи своим, чтобы залегли кругом за конями… Эти будут как в ловушке! — предложил Хатхуа.
Тот живо кинулся назад. Салтинцы были недалеко, они вихрем налетели на русский отрядец… Засвистали особенным образом, понятным только их коням, которые по этому сигналу рухнули наземь. Салтинцы залегли за ними и, поставив дула ружей на головы лошадей как на сошки, открыли убийственный огонь по нашему отряду.
— Ложись! — крикнул Левченко. — До людей, братцы, не дорвёшься, — бей по коням!
С противным щёлканьем и чмоканьем свинцовые пули стали, как говорили на Кавказе, «дырявить шкуры» бедным животным. Те срывались с места и уносились прочь, — но кольцо, в которое попал отряд, не размыкалось. Попробовали было наши на «ура» кинуться, но, к несчастью, именно по пути к крепости засели Джансеид, Селим и сам Хатхуа с лучшими из джигитов.
— Нет! Тут все пропадём! — крикнул Левченко. — Ложись опять!
— Теперь никто как Бог! — ответил ему старый солдат.
Но что это? Левченко насторожился… И вдруг радостно перекрестился. Издали, из крепости послышалась тревожная дробь барабана.
— Сейчас, братцы, ракета будет. Возьми на изготовку! Как скажу «пли!», чтобы ни одна пуля даром не пропала.
И, действительно, точно желая узнать, где наши, — Брызгалов скомандовал ракету. Огненная змея взвилась под небеса и выхватила на несколько мгновений из мрака всю долину реки Самур.
«Пли!..» — раздалось резко и смело, и разом сорок ружей выбросили огонь в не ожидавших этого горцев.
Ракета потухла, но барабан в крепости продолжал бить тревогу.
Теперь наши знают, что помощь близка… Они зарядили ружья, и на каждый огонёк выстрела от салтинцев отвечали несколькими выстрелами… Страшна и зловеща была кругом тьма этой ужасной ночи… Так страшна и зловеща, что у отряда, вышедшего на помощь своим из крепости, захолонуло сердце. Там казалось, что тут в долине Самура уже не осталось ни одного живого, что солдаты дорвутся только до трупов своих товарищей… Приближение их почуял Левченко. Шелохнулись и салтинцы… Хатхуа с несколькими человеками кинулся было на встречу им, но этим моментом воспользовались наши и сквозь разомкнувшееся кольцо — выскочили вон, а приближавшийся отряд принял всадников прямо на беглый огонь, и те рассеялись веером по долине…
Через час — и Левченко со своими, и отряд, вышедший из крепости, вернулись.
Раненые были, — но мало… Незамай-Козла Мехтулин и Амед доставили в крепость.
Брызгалов, когда всё успокоилось, стал искать юношей, но их не было…
Обошли всю крепость, — нигде не оказалось ни татарина-юнкера, ни елисуйца.
— Никто их не видел?
— Нет… Где видеть…
Но, немного спустя, какой-то солдат вспомнил.
Когда возвращавшийся отряд входил в крепостные ворота, — из них выскочили точно угорелые оба «азиата» и унеслись куда-то.
— Ты знаешь, зачем они?.. — покачал головою Брызгалов, передавая дочери это сведение.
— Нет.
— Ведь они непременно уволокут лошадь у Шамиля… Или оба лягут… Этакие барантачи! Всякий горец, — самый лучший даже, — прирождённый разбойник.
Нина не ответила ни слова.
Она только пошла к себе, замкнулась и стала молиться за Амеда.
А он в это время, пользуясь сумятицей, царившей вокруг крепости, точно от погони нёсся между сплошными массами лезгин, чарохцев, дидойцев и кабардинцев, не отзываясь на вопросы и не отвечая на ругань сбитых им с ног пеших. Ветер свистал у него мимо ушей. Конь тяжело храпел, утомлённый этой бешеною скачкой… Наконец, вдали блеснули красные факелы…
— Здесь Шамиль! — весело обернулся он к Мехтулину.
— Да поможет нам Аллах!
— Аллах всегда за смелых… — «И Исса тоже»… — уже мысленно прибавил он от себя.
Факелы были близко-близко. Вон сухая и грозная фигура великого имама… Амед вынул было пистолет, но Мехтулин удержал его.
— Что ты хочешь делать? — с ужасом спросил его татарин.
— Убить врага!
— Но ты забыл, что Шамиль — имам всего ислама у нас.
Амед вздрогнул, провёл рукою по лбу и спрятал пистолет.
Он спешился и тихо стал ждать…
Факелы там погасли. Тьма окутала Шамиля, даже и не догадывавшегося, какой страшной опасности он только что избежал.
Утром, чуть только рассвело, — перед воротами крепости появились Амед и Мехтулин. В поводу у первого был великолепный арабский конь, весь белый, с чёрной отметиной на лбу. На этом коне краснел шитый золотом чепрак, и сверкало расписное, всё в серебре, бирюзе и сердоликах седло.
Нина только что вышла из дому, как Амед подвёл к ней коня.
— Что это? — отшатнулась она.
— Я обещал тебе…
— Но ведь вас могли убить…
— Всё равно, — я обещал тебе… А от исполнения обещаний избавляет только смерть…
Потом он не мог отказать себе в удовольствии. Выскочив на бастион, он дико заорал что-то проезжавшему далеко кабардинцу. Тот подъехал.
— Пожалуйста, не стреляй! — обратился Амед к солдатам. — Я с ним говорить хочу…
— Эй, джигит! Подъезжай смело!..
Елисуец дома, в горах, выучился кричать так, что его могли услышать за версту.
Тот осторожно двинулся вперёд.
— Ты знаешь князя Хатхуа?.. Наиба…
— Знаю… Он наш… И вы его знаете… Его шашка — хорошо поработала над вашими спинами…
— Ну, так передай ему, что сегодня ночью я — елисуец Амед, сын Курбана-Аги, его племянник — украл и привёз сюда в крепость лучшую любимую лошадь великого имама Шамиля.
— Да будет проклята душа твоя, подлый изменник!
— Я не изменил никому, — я дал клятву верности русским и служу им. Ступай и скажи-ка Хатхуа, пусть он гордится своим племянником!..
Вызов Хатхуа
Весть, посланная Амедом князю Хатхуа, не пропала даром.
На другой день к крепости издали подъехала группа блестящих всадников. Комендант хотел было брызнуть в них картечью, — да разглядел джигита с белым лоскутом, привязанным к дулу его ружья… Это был глашатай. Позади, окружённый пышно одетыми наибами и несколькими из наиболее известных мюридов, ехал сам кабардинский князь… Сегодня весь убор его коня лучился серебром и золотом. Сам он был точно в ризе, — так на нём сверкало золото патронов, драгоценная оправа пояса, кинжала, пистолетов и шашки. Рубинами и яхонтами горели их рукояти; несмотря на жаркий день, белая, отороченная позументом бурка была откинута назад, и красная папаха, отодвинутая на затылок, оставляла открытым его молодое и смелое лицо… Он разглядел Нину на стенах. Она вышла подышать воздухом, — он снял папаху, обдав её опять пламенным взглядом своих соколиных глаз. Только теперь девушка уже не вспыхнула, а спокойно глядела на него…
— Что вам надо? — спросил Мехтулин по-лезгински у глашатая.
— Кабардинский князь Хатхуа шлёт привет коменданту крепости.
— Если вы приехали за этим, то можете убираться назад. У нас достаточно запасено картечи в орудиях…
— Нет, не за этим только… У вас служит сын Курбан-Аги из Елисуя — Амед… Знаешь ли ты его?
— Я думаю, что и вы его знаете, — он мой брат названный, — и Мехтулин гордо закинул шапку назад. — И вам мудрено его не знать… Не он ли прорвался через ваши отряды и отнял лошадь у Хатхуа, не он ли отбил стадо у дидойцев?.. Ты, может быть, и сейчас слышишь, как бараны их блеют у нас во дворах… прекрасные, жирные бараны. Такие курдюки у всех, что в плов мы льём сало, не жалея… Не он ли участвовал в уничтожении ваших пушек и потом отнял любимого коня великого имама. Он мог и убить Шамиля, потому что был близко от него, — но не хотел поднять руки на первосвященника…
— Да, да, — мы слышали о его подвигах… Мы любим храбрых, где бы они не были… Так вот, князь Хатхуа — его дядя, свидетельствует ему привет и благоволение… И шлёт ему, простому елисуйскому беку, — по старому кабардинскому адату, вызов на суд Аллаха… Он будет ждать Амеда, сына Курбана-Аги — до заката солнца здесь, и ежели не явится, то Хатхуа и на вершинах гор, и внизу в ущельях объявит его лишённым чести…
И, по обычаю, глашатай вынул предварительно надпиленный кинжал, сломал его, нижнюю половину оставил у себя, а верхнюю, ручкою вперёд, швырнул по направлению к крепости…
Мехтулин живо перевёл всё Брызгалову.
— Я, кажется, их своим судом, а не судом Аллаха — разгоню картечью… Орудие! — крикнул он.
— Не делайте этого! — крикнул Мехтулин.
— Почему? Что ж я позволю этому головорезу убить Амеда?
— Ради Аллаха, не делайте этого… Тогда Амед будет обесчещен перед всеми народами гор… Он не переживёт этого… Он зарежется сегодня же ночью… Позвольте мне пойти к Амеду и рассказать ему обо всём.
Брызгалов махнул рукою и пошёл прочь. Мехтулин понял это безмолвное разрешение и бросился вниз, но по площади бежал уже ему навстречу молодой елисуец. Татарин-юнкер наскоро передал ему, в чём дело. Не заметив Нины, весь разгоревшийся, Амед как дикий тур вскочил на бастион и звонко крикнул:
— Моему славному дяде, храброму князю Хатхуа — привет!
И снял папаху. Хатхуа как старший только дотронулся до своей. Амед продолжал стоять без папахи. Ветер шевелил его кудрями. Он был необыкновенно красив в эту минуту. Тонкий, широкоплечий, высокий, с большими, пламенными глазами и худощавым, нервным лицом — он казался образцом горной красоты.
— Чести нашего рода — почтение!.. Мне передали твой вызов… Я не говорю с жалким наёмником — глашатаем… Не с ним я встречусь на суде Аллаха, а с тобою, и посему свидетельствую тебе, что между нами накопилось слишком много обид с обеих сторон. Ребёнком я видел мать свою плачущею, вследствие твоего пренебрежения… Взрослый, я слышал, как ты всюду, где только мог, оскорблял моего отца… Я благодарен тебе за вызов!.. Буду драться с тобою до смерти, и да даст пророк победу — правому.
— Да будет он славен в небесах! — ответил установленной формулой Хатхуа. — Приготовился ли ты, юноша?
— Мне нечего готовиться для встречи с тобою. Землёю, водою, огнём и воздушными силами клянусь, что принимаю твой вызов. Погоди немного. Мне надо одеться, чтобы достойно встретить тебя…
Хатхуа оглянулся и сказал что-то наибам и мюридам. Те отъехали далеко. Перед крепостью остался один кабардинский князь. Он гордо сидел в седле, ожидая противника. Нина, бледная, плохо понимала в чём дело, она только знала одно: Амеду грозит опасность. Не прошло и нескольких минут, как Амед опять показался перед ней. Но это уже не был скромный елисуйский юноша. Глаза его жгли внутренним огнём. Нахмуренные брови сдвинулись и придавали суровость его сухому лицу, орлиный нос, казалось, вздрагивал ноздрями, точно надышаться хотел прохладой… На нём была щёгольская белая, шитая золотом черкеска; патроны, отделанные чернью и бирюзой, на золотых цепочках прикреплялись к бриллиантовым пряжкам. Оружие в серебре так и сияло, за поясом были пистолеты, отнятые вчера у Аслана. Внизу Мехтулин держал его коня.
— Я пришёл к тебе, может быть, перед смертью… Перекрести меня, как ты крестишь своих!
— Послушай, Амед!.. Помни, что я скажу… В минуту смертной опасности вспомни Христа Иисуса…
— Прощай, девушка, — враг меня ждёт! Он не должен говорить, что я не спешу ему навстречу…
Амед сбежал вниз. С ним были Мехтулин и Кнаус. Кнаус вспомнил всех своих предков, тевтонских рыцарей, закрутил белобрысые усы вверх и таким фертом сел в седло, что Левченко только улыбался себе в усы. Медленно растворились крепостные ворота и выпустили елисуйца с его провожатыми…
Он быстро подъехал к Хатхуа и подал ему руку… Во взгляде князя он прочёл суровое благоволение.
— Ты похож на сестру! — проговорил тот, всматриваясь в него. — Ты храбрый юноша… Мне жаль, что ты не с нами.
— Храбрость, князь, в роду у нас. В Елисуе и рабы храбры! Я рад увидеть тебя лицом к лицу… Сердце моё всегда горело, когда произносили твоё имя… Душа моя могла быть исполнена сладостью любви к тебе. Ты сам отравил её ядом ненависти…
Хатхуа любовался ловкостью и изяществом его движений, посадкою, манерою говорить. Он заметил на его груди солдатский георгиевский крест и нахмурился… Но скоро лоб его разгладился… Он опустил голову на руки и прочёл молитву; тоже сделал и Амед. Они ещё раз пожали руки друг другу — обычай, заимствованный горцами у русских — и разъехались в разные стороны. Хатхуа — к двум красным наибам, ждавшим его направо, Амед — к Кнаусу и Мехтулину.
— Ну, Амед! Если он убьёт тебя, я твой мститель! — сказал Мехтулин.
Кнаус только пожал ему руку…
Амед медленно двинулся навстречу Хатхуа… Они три раза должны были так проехать один мимо другого, меряя друг друга глазами и не опуская их под взглядами противника. Даже кони их исполнились ненависти. Тот, который был под князем, норовил схватить зубами Амедова. Хатхуа тронул своего нагайкой, и он успокоился. Ещё два раза они проехали один мимо другого, — не отрывая глаз от глаз врага, — и вдруг, отделившись в разные стороны, мгновенно повернули коней и с криком: «Аллах, Аллах, Аллах!» — ринулись один на другого. Кони их столкнулись мордами. Изо рта у того, на котором сидел елисуец, хлынула кровь. Хатхуа выстрелил и сорвал папаху с Амеда, — выстрел того пролетел мимо. Оба выхватили кинжалы, но было поздно, — кони их унеслись в разные стороны. Опять оба повернули их и с тем же криком: «Аллах, Аллах!» ринулись в роковую встречу. Амед заметил в самый последний момент, что в руках у Хатхуа не кинжал, а широкая кабардинская шашка. Он мгновенно отпрянул в сторону, и лезвие противника, прозвенев, рассекло кованную серебром луку Амедова седла. Опять лошади их разъединились… Амед выхватил свою шашку, но рука его вдруг скользнула по её рукоятке, и перед самым столкновением с Хатхуа шашка, точно кто-нибудь ударил по ней, вылетела вон. Мгновенно — Амед почувствовал себя безоружным, и тотчас же в ушах его прозвучал голос девушки: «В смертельной опасности вспомни Христа Иисуса!» Елисуец уже не помнил, когда он успел проговорить: «Исса! Дай мне победу, спаси меня, и я уверую и поклонюсь Тебе!» И, сам не зная зачем, он употребил нежданно для Хатхуа ловкий горский приём, перевернувшись головой под брюхо своего коня. Оружие Хатхуа вонзилось глубоко в седло его, так глубоко, что ранило лошадь в хребет, и та взвилась. Этим моментом воспользовался юноша и с ловкостью пантеры уцепился за подпругу лошади Хатхуа. Когда раненый конь унёсся вперёд — Амеда на нём не было. Хатхуа, думая, что его враг там, хотел повернуть за ним, но его племянник в это время с дьявольскою ловкостью и силой схватил его за ногу, — и когда князь очнулся, руки Амеда сжимали его горло, а ноги перевили его стан.
— Ты мой теперь! — хрипел елисуец с налившимися кровью глазами. — Ты мой теперь!.. Скажи! Ведь, ты бы убил меня?..
— Рази скорей!.. Не тешься, мальчишка!.. Аллах дал тебе победу, не оскорбляй меня твоими словами; бери кинжал и бей в сердце, если у тебя осталась честь.
— Аллах… Нет, не Аллах… Не Аллах…
И вдруг, точно из бесконечной дали, в ушах елисуйца прозвучал нежный, кроткий голос Нины… Он вспомнил, что она тогда рассказывала ему про Иссу. «Исса одним движением руки мог уничтожить мир, а Он тихо терпел поношения, обиды, побои»… Руки его ещё давили Хатхуа, а в голове у юноши звучали последние слова Нины: «Он с креста прощал Своих врагов и приказал всем прощать… Он дал тебе победу сегодня, — ты ведь к Нему обратился… Он тебе, слабому юноше, бросил в руки лучшего витязя Чечни и Дагестана, — неужели ты забудешь Иссу?..» И вдруг, совсем неожиданно, позади Хатхуа прозвучал нервный, вздрагивавший голос Амеда:
— Слушай, дядя, что я скажу тебе!.. Ты — брат моей матери… Я — твой племянник. Ты знаешь, я не трус, и победа в моих руках… Я мог бы убить тебя, и все в горах сказали бы, что я поступил хорошо, но… Я не хочу этого… Душа моя полна любви к тебе в эту минуту.
Он разжал руки.
— Бери свой кинжал и рази меня, если хочешь… Моя рука не подымится на тебя. Прости мне обиды и забудь!..
Хатхуа круто обернулся в седле… Амед соскочил вниз и стоял перед ним.
— Послушай, Амед… Я не в долгу у тебя за жизнь, которую ты дал мне сейчас…
— Почему?
— Ты заплатил за отца… Полтора месяца назад я встретился с ним над безднами Шайтан-Булаха и пощадил его так же, как ты меня сегодня. Прощай, будь счастлив!.. Скажи матери, — когда кончится война, я приеду к ней с роднёй и дарами. Тогда я буду рад встретить тебя… Прощай и будь счастлив!..
Амед поймал своего раненого коня и вскочил в седло.
— Исса! Исса! Так ли я поступил, как Ты велел?.. Доволен ли ты мною, Бог Нины и… и… и мой Бог?..
— Зачем ты не убил его? — накинулся на него Мехтулин.
— Довольно того, что он был в моих руках, и я мог убить его! — и он таким светлым взглядом обдал Мехтулина, что татарин, не понимавший такого великодушия, потупился.
— Вы поступили как рыцарь! Я вас и почитаю за такового, — торжественно приветствовал его Кнаус.
Нину Амед застал у неё… У девушки не было сил во время боя оставаться на башне.
— Вы убили его… Вы живы, не ранены? — кинулась девушка к Амеду.
— Нет… Не убил… Ты говорила: «Христос одним движением руки мог истребить мир и терпел»…
Слёзы брызнули из глаз девушки.
— Твой Бог — мой Бог… Ты христианка, — и я хочу быть, ради тебя, христианином… — звучало в её ушах.
Горе забытой крепости
Прошла неделя…
Последний баран был съеден. Каждое утро, выходя на бастионы, Брызгалов с сердечною мукою видел, что горцы не тронулись за ночь и стоят там же, где стояли вчера… Ясно было, что экспедицию в Салты задержало какое-нибудь обстоятельство, или же она потерпела неудачу. Иначе дагестанские кланы снялись бы отсюда и ринулись в горы на защиту своих аулов. Ещё оставалось несколько мешков сухарей, которых не трогали, когда было мясо… С сегодняшнего дня почали и их… Считая по самой нежной доле на каждого солдата, — продовольствия хватило бы на три дня, не более. Отбить ещё что-нибудь у неприятеля нечего было и думать; после событий, описанных в предшествующих главах, лезгины и чеченцы стали бдительны. Вокруг их отрядов целые ночи бодрствовали цепи пеших воинов, по всей долине Самура рыскали конные кабардинцы. Нельзя было даже прорваться одному человеку, чтобы дать знать в Дербент об отчаянном положении укрепления… Хоть теперь, — пока солдаты после мясного пайка, были крепки и сильны, враг атаковал бы крепость, но нет… Шамиль отлично понимал, что каждый день выжидания отдаёт всё вернее и вернее победу в его руки… Он тянул время, только его удальцы подъезжали под самые башни, острословили и ругались. Гарнизон уже не отвечал им. Мрачные, изверившиеся в возможности победы солдаты молча слушали и только изредка, уже очень озлобясь, брызгали в тех свинцовым дождём…
Опять переели отбитых коней. Даже знаменитому Шамилеву — грозила такая же участь. Амед ходил бледный, не зная, что ему предпринять, а бездействие томило юношу. Незамай-Козёл лежал в лазарете и мечтал о том, что после осады он выйдет в отставку и поселится у себя в полтавской губернии, в зелёном кутке[51] над рекой, где у него был хутор… Наконец, начался настоящий голод…
Как-то утром Брызгалов вызвал людей на площадь по барабану.
Солдаты выстроились…
— Сегодня, братцы, вы съедите последний сухарь… Больше у меня ничего нет… Остались две лошади, — сварим и их. А потом, что мы будем делать, не знаю; но я думаю, что пока мы живы, — крепости не сдадим… Так ли, товарищи?
— Рады стараться, ваше высокоблагородие!..
— С вами жили, с вами и помрём! — отозвался Левченко. — А Самурской крепости не видать им, разбойникам…
— Ну, так вот, ребята!.. Обманывать вас я не хочу… Кому трудно, — тот выходи и пробивайся! Я не оставлю укрепления и умру на его стенах. Думаю, что нам подадут помощь… Правда, нам тяжко, — но, ведь, мы не на одну радость присягу принимали… Надежда у нас теперь на Бога!..
И он, сняв фуражку, перекрестился на скромную и маленькую крепостную церковь.
Солдаты разошлись. Стало ещё сумрачнее кругом… Съели и лошадей. Знаменитый конь Шамиля два дня кормил крепость… Потом начали варить кожу, есть всякую дрянь, которую только могли достать… Люди ходили бледные. С тоскою они всматривались в горы. Хоть бы враг сунулся, — отвести голод на нём… Погибнуть в бою, как следует честному солдату… Но враги стояли спокойно, и каждый вечер у них зажигались костры… Наши знали, что в кострах этих варятся и жарятся бараны, пекутся лепёшки из гоми и проса… Раненые начали умирать… Ежедневно у чинары на площади рыли новую яму и опускали в неё несчастных…
— Никого у меня не останется, никого…
Раз Брызгалов увидел, как Нина шла-шла по дворику, пошатнулась и рухнула вниз. Её подняли… Девушка сильно истощала… Нашлась у кого-то щепотка чаю, — его сварили и дали ей напиться… На карагаче показались зелёные ещё плоды, их сорвали и сварили… Вышла кислая и скверная похлёбка. Но и её с жадностью глотали люди… Варили всевозможные корни, которые секреты рвали у воды… Раз в Самуре сетью вытащили несколько крупных рыб и двух больших сомов. День целый крепость питалась ими. На другой — пошли ещё на ловлю, — на противоположном берегу в камышах засели черкесы… Они убили несколько человек на выбор. Остальные вернулись. Забыли даже, что крепостные собаки были боевыми товарищами. Хотели за них приняться, но те оказались умнее. В одно утро они не вернулись в крепость. По-прежнему исполняли сторожевую службу, — но домой не приходили. Они цепью лежали между нашими и неприятельскими позициями, но не приближались к старым приятелям… Странно было смотреть, как недавно ещё сильные и здоровые люди ходили словно тени, держась за стены… Ни кровинки в лицах… Точно предвидя это, Брызгалов заложил фугасы предварительно вокруг крепости. Теперь у его людей не хватило бы силы на эту работу. Он сам по ночам ходил голодный по кухне и искал за всеми столами, нет ли сухой корки хлеба. Наконец, в одно утро вернувшиеся из секретов солдаты сообщили:
— Сегодня ночью через реку наши крысы переправлялись…
— Как так?
— Так, стеною шёл гнус. Есть ему нечего, — и он оставил Самурское укрепление…
Приказа генерала нельзя было исполнить — ни крыс, ни мышей не оказалось уже у самурцев…
— Ну, братцы, теперь шабаш… Теперь они нас руками как слепых котят заберут…
— Ещё хватит силишки курки спустить…
— Курки спустить хватит. А штыками до него дощупаться, куда…
И действительно, — ружья часто падали из рук часовых, и сами часовые вслед валились за ними… Страшное время было… Смерть смотрела всем в очи… Но никто ещё не заикался о возможности оставить крепость…
Часть третья. Кавказские богатыри. Победа!
Есть нечего!
Положение Самурского укрепления с каждым днём становилось всё ужаснее и ужаснее. Дошло до того, что комендант должен был собрать вечером у себя офицеров.
Все были покалечены. Роговой едва вошёл и тотчас же должен был опуститься в кресло. После раны его мучила лихорадка, рука была перебита у плеча. Пуля ещё сидела в левой ноге, и он ходил, опираясь на костыль… Незамай-Козёл, весь в шрамах и царапинах, угрюмо ждал коменданта… Шашка взбалмошного лезгина украсила потомка славных запорожцев неопасною, но громадною раной через весь лоб… Кнаус тоже был молчаливее обыкновенного… Сюда же пригласили и Хаби-Мехтулина, как уже представленного за отличие в прапорщики…
Брызгалов вышел суровый и молчаливый…
Он долго сидел без слова, потом, точно опомнившись, скороговоркой произнёс:
— Извините, господа, — не предлагаю вам ничего… У нас нет ни крохи…
И опять смолк.
Кнаус кашлянул. Брызгалов поднял на него вопрошающий взгляд и тотчас же опустил его… Странно было видеть выражение непреклонной решимости на этих измученных истомлённых лицах.
— Господа! — наконец, начал комендант. — Я вас пригласил на военный советь… Наше положение безвыходно… Есть нечего… Люди утомлены и голодны… Завтра Шамиль набросится на нас со всеми своими силами…
Такая тишина стояла кругом, что можно было слышать пение цикад в вершине чинары…
— Я получил уже сведения об этом… На утро — с восходом солнца — он назначил общий штурм крепости. Костры их придвинулись. Отдельные отряды почти у стен… Они уже не считают нужным бояться нас. Кабардинцы раскинулись ближе пушечного выстрела и бесцеремонно зажгли огни. С юга на нас идут хунзахцы и дидойцы. Их тоже придвинули так, что наши часовые на башне слышат их разговоры, разбирают отдельные слова…
Он утомлённо опустил голову… Видимо, собирался с силами…
— Речи о сдаче не должно быть… Мы все умрём, как приличествует воинам Российские державы… Итак сдачи не может быть!.. Я не допущу её, хотя вместе с нами (у него дрогнул голос) погибнет и моя дочь… Но драться мы тоже её в состоянии. У многих солдат ружья валятся из рук. Нет силы ни у кого… Что нам делать? Хаби-Мехтулин как младший, с вас начинаю, что вы скажете?..
— Я буду драться…
— Хорошо… А вы, Роговой?..
— Умрём, Степан Фёдорович, и только… О чём же толковать?..
И он устало опустился опять…
— Штабс-капитан?..
Незамай-Козёл приподнялся.
— По моему мнению… следовало бы выйти всем и постараться пробиться через них, паршивцев.
— Пробиться нельзя… — коротко ответил Брызгалов. — Лезгинцы перехватают нас руками как кур. Мы не далеко уйдём. Пробиться нельзя. Теперь их здесь более 18.000… А нас слишком мало — раз, и мы истощены голодом — два…
— Всё одно… Они нас и в крепости перехватают…
— Я имею план… Вы, господа, решились умереть и не сдаваться?..
— Неслыханное дело, класть оружие перед горцами.
— Ну так вот… Мы отступаем к пороховому погребу… В ту минуту, когда неприятель ворвётся; — мы отбиваемся около погреба… сколько можем, чтобы в наше бедное Самурское укрепление набралось побольше врагов… Я буду в погребе и…
— Ура! — крикнул Незамай-Козёл, да так, что забывшаяся было в тяжёлой дрёме Нина, рядом, вздрогнула и широко открыла впалые глаза…
Но там было опять тихо, и только ровный медленный голос отца её раздавался среди общего молчания… Нина взглянула в окно. Широко и ровно струился в комнату лунный свет, рисуя параллелограммы окон на полу. Вон в одном чёрною тенью отразилась какая-то ветка и колышется в окне, и на полу колышется. Тёмное пятно проплыло по полу… Должно быть, между луною и окнами пролетела сова…
— Вы меня поняли, господа?.. Приготовьтесь к смерти!.. Мы не сдаём крепости… Я в последний момент взорву её вместе с оставшимися в живых нашими товарищами и массами ворвавшихся горцев. Нам остаётся теперь одно — слава в потомстве и молитвы в настоящую минуту… Прощайте, господа!
И, не подав никому руки, такой же суровый и решительный он повернулся и пошёл к Нине…
— Ты не спишь, голубка?
— Нет…
— Прости меня… Я погубил тебя… Я не должен был вызывать тебя сюда…
И он устало опустил голову на руки.
— О чём ты, папа? Как тебе не стыдно!.. Разве я не должна быть там, где ты?..
— Нам надежды не осталось вовсе… Завтра последний день… Приготовься!..
— К чему?.. — Нина приподнялась в постели на локте и обернула бледное лицо к лунному свету.
— К чему?.. Завтра горцы ворвутся сюда… И… мы решились умереть…
Лицо её хранило задумчивое выражение…
— Ты это скрывал от меня, папа?
— Да!
— Напрасно… Я не боюсь… Я давно готова…
Только одна слезинка покатилась по её впалой щеке на подушку.
— Я пугалась одного… Попасть в плен к ним… Этот Хатхуа такими глазами смотрел на меня… А умереть — что ж… Бог нас ждёт там… И мама тоже… Я её теперь часто вижу во сне. Она такая счастливая, радостная… Я спокойна, папа… Мне не страшно…
Брызгалов взялся за голову… Точно она у него болела. Потом быстро наклонился, поцеловал Нину и, благословив её, вышел вон…
Ночь была тепла и тиха…
Луна, уже на ущербе, всё ещё сияла ярко… В серебряном блеске словно очарованные стояли горные вершины… Цикады громко пели в листве чинары… Их не испугала боевая тревога. Тени ложились черно и резко… Издали слышался гул… Брызгалов печально улыбнулся… Он понял — Шамиль придвигает остальные отряды…
— Последняя ночь жизни… Жена моя милая! Теперь уже скоро… Завтра встретимся… И дочь свою я приведу с собою…
И вдруг ни с того, ни с сего тихо, чуть слышно он запел:
«Во блаженном успении вечный покой — новопреставившимся рабам Твоим подаждь, Господи!»
Корабль в бурю
Тихи и пустынны теперь суровые горы надолго задремавшего Кавказа… Безлюдны жалкие руины аулов, гордо сидевших когда-то на самом темени его великанов… Один ветер уныло свищет, врываясь в зияющие как глазные впадины в черепе окна пустых саклей и в бойницы башен. Мало-помалу рушатся минареты и купола мечетей, и только порою волки ищут в них пристанища от непогоды, да совы и филины прячутся от света там, где ещё так недавно величалось правоверными чудное имя Аллаха и его пророка… Пустынны тропинки ведущие к этим орлиным гнёздам, — не слышится на их кремнях звонкая иноходь кабардинского коня… Безмолвие в ущельях, пропадают сады, с такими усилиями целыми веками взращавшиеся чуть не на голом камне… Всякая ползучая, цепкая поросль глушит драгоценное дерево, и только по вечерам, точно эхо старых былей или отзвучие давно забытой песни, — вдруг на вас пахнёт благоуханием цветов, взлелеянных когда-то горскими красавицами… Дичает край, бывший ареною эпических подвигов старых кавказцев, школою для боевых сил целой России… Печально рисуются на его тёмно-голубых небесах силуэты средневековых построек… Молчит всё вокруг… И только в отдалённых захолустьях Турции — за дымным мангалом — потомки изгнанных нами горных рыцарей передают из уст в уста сказания о дивном, навеки потерянном для них крае… Поют его яркие песни девушки, проданные в гаремы, рассказывают его легенды юноши — в дворцах Стамбула… А сама их родина — угрюмо безмолвствует как могила, к которой всеми дорогими близкими людьми уже забыт путь, и глушит его дикая поросль, и только усталый зверь знает, где лежит никем не оплаканный надгробный камень… Не то было в эпоху, описываемую нами… Вся эта страна от моря и до моря кипела жизнью и боевою деятельностью, везде на седловинах и утёсах гор сидели многолюдные аулы. В саклях, похожих на башни, росли храбрые джигиты, предпочитавшие смерть рабству и унижению… На отвесах, над безднами, над прохладными ущельями змеились тропинки, по которым проносились из конца в конец удивительные всадники… Внизу — поэтическою дрёмою стояли леса. По окраинам — выдвинутые нами вперёд — шумно, весело и бесстрашно жили казачьи станицы, хмурились сторожевые бастионы и крепости… И часто отсюда, в самую глубь немирного края как смелые корабли, рассекающие море, шли небольшие отряды… Кругом бешено подымались волны народных ополчений… С неудержимою стремительностью они набрасывались на борта и на нос этого корабля, с высоты над ним небесными громами раздавались тысячи выстрелов. С каждого утёса невидимые враги встречали отважных пловцов молниями, а корабль-отрядец всё шёл да шёл в даль этого взбешённого моря, в самое сердце воинственного края, разбрасывая бунтующую стихию и оставляя за собою далеко белую пену… Всё шёл да шёл!.. Каждый шаг ему доставался с бою… Каждый день начинался и оканчивался взятием завалов или аулов, пожарищами… Солдаты таяли… Русские могилы росли по пути как указатели его направления, а корабль ещё смелее плыл вперёд и вперёд по неугомонной стихии… И мало-помалу смирялись её оперённые пенистыми гребнями валы; громы стихали, и гасли их молнии!.. Ураган сменялся штилем… Горные кланы приносили повинную, высылали аманатов, и мы останавливались в глубине враждебного края, строили там крепостцу, сажали в ней две или полторы роты, — слабую по численности, но безмерно сильную по духу горсть людей, решительных, смелых и гордых сознанием своей нравственной доблести… Надолго всё смирялось кругом… До нового восстания, до нового газавата… Крепостцы тонули в неукротимой буре народного гнева… Их защитники спокойно умирали, иногда взрывая на воздух себя, чтобы даже обессиленным и раненым им не пришлось бы попасть в позорный плен… Память о таких героях до сих пор ещё живёт на Кавказе, — но новый день с новыми заботами уже глушит её, как глушит руины славных крепостей горная поросль и дикая лоза… Легенды не стало, но вместе с нею ушла и жизнь… Новая не создаётся по щучьему велению, — и, может быть, пройдут ещё века, прежде чем говор весёлых голосов и мелодические звуки песен опять воскресят старые и молчаливые захолустья горного края…
Корабль в бурю… Именно — корабль в бурю…
Таким казалась «экспедиция», как называли тогда, которую, желая спасти Брызгалова, послал прямо в глубь восставшего края смелый Фрейтаг. Добраться до Самурского укрепления берегом, — прошли бы месяцы, и оно бы пало ранее. Проще было через Чечню кинуться в Дагестан на Салты, где на этот раз родился газават, — разнести всё на пути, сжечь дотла аулы, пославшие туда бойцов, на месте Салтов не оставить и камня на камне и заставить таким образом скопище Шамиля опрометью броситься назад на защиту своих очагов и саклей… Недаром горцы, в гимне газавата, просили Аллаха пуще всего беречь остающиеся в аулах семьи мюридов… Удар по этим аулам и семьям был всегда ударом по сердцу, и его не выдерживали бестрепетные рыцари гор… Напротив, они рассеивались тотчас же, как воробьи от холостого выстрела над полем, и каждый всадник стремглав летел к себе, чтобы защитить родных, чтобы стать у порога своей сакли, и, если нельзя отстоять её, то умереть у входа… Пусть враг переступит в неё не иначе как через труп бойца… Малые отряды, чтобы их не раздавили многочисленные горные кланы, должны были бить по воображению, — они это и делали… Русская экспедиция проходила, как циклон, как смерч… Всё гибло при встрече с нею, — и позади оставалась пустыня. Надолго после того враг склонялся и покорно молчал…
Корабль в бурю — в пути уже вторую неделю…
Он перевалил несколько хребтов, покинул много сырых и прохладных ущелий… Прошёл леса, встречавшие его молчаливою дрёмою… В нерукотворённом величии возносились над ним гиганты Кавказского хребта; вершины их тонули в небесах, выдвигая обнажённые чела из густой чащи девственных боров и дубовых пустынь… Некоторые, казалось, скалами подпирали синеву безоблачной тверди. Как полуразрушенные колонны эти утёсы всё выше и выше подымались. Но отряд ещё был внизу. Тишина стояла кругом… Генерал Кузнецов хмурился: безмолвие было здесь зловещим признаком… Солдаты бросались к попутным аулам, оттуда никто не бежал при их виде. Аулы оказывались уже оставленными. Встреча готовилась где-то впереди. Где? Кто мог указать это?.. Безлюдье было призрачно. За отрядом наблюдали тысячи глаз… Со всех высот, со всех утёсов — зоркие бойцы следовали за нашей экспедицией и угадывали путь корабля… Всадники и пешие давали знать о нём тем, кто ждал впереди… Вон на скале мелькнула папаха. Её никто не видел — слишком далека она, — но у горца орлиный глаз… В синеве ущелья он, притаясь, уже рассмотрел авангард. Тихо и осторожно двигается он… Три сотни казаков… Надёжные роты… Несколько горных орудий… Всё сосчитал горец и, пока авангард дальше и дальше уходил по извилинам утонувшего в темноте ущелья, чеченец уже краткими турьими тропами перебежал вперёд… Тут пологий скат. Здесь вся наша экспедиция, весь наш корабль будет на виду, и горец как чайка над морем рассмотрит каждую мачту его, каждую снасть… Солнце бьёт в этот скат; золотистым туманом лежит на нём свет, тыльный для сторожевого чеченца. Золотистым туманом, в котором нежно и мягко обрисовываются голубые тени рытвин, оврагов, складок выступивших горбин… Авангард показался здесь… Точно маленькое пятно тень от случайно набежавшей на небо тучки… Пятно это всё движется и движется. Несколько раз в нём точно полымя блеснуло, — горец угадал под солнцем медь горных орудий, лёгким отвесом чешуи какой-то чудятся штыки… А вон другая уже большая тень — это движутся главные силы — колонна экспедиции… Тут уже горец весь перешёл в глаза… Он зорким оком одолевает пространство и часто угадывает то, что недоступно ему рассмотреть… Он считает роты и сотни… За нею, за этою главною силою набега медленно ползёт подвижный парк… Транспорт… Обозы… Всё заметил и запомнил горец, ни одна телега, ни одна пушка не укрылась от него… Теперь весь отряд на склоне горы… Вес отряд под светом… Вон арьергард… Две роты… Казаков там нет… Вон по бокам — особые колонны, охраняющие главную, прикрывающие её… Непрерывные цепи от авангарда до арьергарда точно ожерельем охватили отряд… Кавалерия зачем-то выехала вперёд и веером раскинулась… Горец наметил себе одного драгуна, подъехавшего слишком близко к сакле, на которой он засел как коршун… Наметил, приложился… Да вдруг почему-то раздумал и прочь отвёл ружьё, а сам сполз скорее вниз на противоположную сторону от отряда, нашёл под утёсом своего стреноженного коня, кошкой в седло вскочил и взвился птицей по неприступным, казалось, местам, — дать знать кому надо о всём, что он увидел, о чём он догадался и что сообразил.
— Место открытое… Спокойно идти… — заметил молоденький адъютант, ехавший позади генерала, товарищу, старому добродушному казачьему офицеру.
Тот сплюнул в сторону… Скосил глаз к юноше и мигнул ему.
— Чего вы это?..
— Так… Лесок от видите… Ишь махонький…
— Ну?..
На противоположном скате лес стоял щетинкой… Казался изумрудным под этим солнцем. К нему со всех сторон примыкали утёсы.
— Там, будьте благонадёжны… нас встретят…
— Кто… Кому встретит?
— Воны[52] встретют… Гололобь самая… Только мы туда носом, — сейчас начнётся. Я их знаю, азиатов…
— Ну, это вам так кажется… Вы подумайте, какая тишина…
— А вы полюбуйтесь-ка на этих птиц…
Над лесом, действительно, реяли птицы.
— Коли, не глядя на жару, они не садятся, — значит им там, в лесу, неспокойно. Уж, как пить дать, встретют. Сидят они там в завалах.
— Надо бы генералу сказать…
— А вы думаете, ён глупей меня, — не видит… Небось, уже мозгует, как и что…
И действительно… Точно, чтобы оправдать лестное о себе мнение офицера, — тот вдруг обернулся.
— Кошенко! Прикажите, чтобы подтянули орудия… Казаков веером вперёд… Авангарду быть наготове… Его подлецы эти без выстрела пропустят… Боковым колоннам не зевать… Цепям смотреть в оба. Да пошлите туда Кыштымского… Он молодец и знает их природу… Арьергарду — собраться в кулак… У всех ли там заряды в исправности? Эти разбойники прежде всего на него набросятся.
Юноша летит исполнить приказание, а сам про себя думает: «У страха глаза велики… Перепугались наши старики. Тишина такая. Кто из горцев может ещё думать о чём-нибудь в такую жару!..»
Но вот у самой опушки леса мелькнула какая-то красная точка. Мелькнула и исчезла… Офицер сообразил, в чём дело… Очевидно, высматривали русских оттуда… Ну, значит, надо быть готовым… Это было для него — первое дело. Он только что приехал на Кавказ и «горел желанием сразиться». Так он читал об этом у Марлинского и весь был в трепете и лихорадке ожидания…
— Слава Богу, слава Богу, слава Богу!.. — повторял он про себя. — Только бы оказаться молодцом… Господи — помози!.. Так, кажется… Ах, жаль, нет особой молитвы на это… Вот ведь не учили в корпусе…
Лес молчал…
Словно замершие в свете и зное стояли старые вековые деревья… Кое-где солнечные лучи проникали сквозь листву и целыми водопадами изумрудного блеска падали в зелёную траву… Казалось, всё задумалось кругом… Или ждало?.. Чего?.. Тайною веяло отовсюду: и от этих вершин, и от серых корявых стволов, и от далей, где они сливались в сквозное марево… Тайной, которая или уже совершилась, или ещё должна была совершиться.
Тихо и осторожно вошёл сюда авангард… Всадники рассыпались впереди и по сторонам и, пробираясь сквозь чащу, пристально всматривались в глубину леса. Но там ничего не было. Кошенко даже успокоился. «Это у старых кавказцев бывает. Они иногда преувеличивают опасность», и, странное дело, только что он хотел боя, ждал его, искал ощущений, казавшихся такими заманчивыми на корпусной скамье, а тут вдруг обрадовался, да как!.. Счастливою волною что-то прилило к сердцу, и он даже заломил фуражку набок, совершенно так же, как это он видел у одного штабного… Авангард уже весь в лесу… Маленькая дистанция, и в его суровую дрёму вступает главная колонна… генерал супится: ему не по душе это зловещее молчание векового бора.
— Уж начинали бы скорей, прохвосты! — ругался он, глядя вправо и влево.
Все боковые цепи вошли в тень старых орешников… Солдаты едва пробираются между деревьями и в кустарнике… Чу!.. Что это?.. Около просвистало что-то… И щёлкнуло в стороне, будто толстый и сухой сук обломился… Именно, сухо щёлкнуло… Опять снова что-то треснуло, и опять жужжит свинцовая пчела…
— Ну-ка, стрелки… Брызните!..
Скоро лес, казалось, весь наполнился этими свинцовыми пчёлами и шмелями. Щёлкало и трещало отовсюду… И спереди, и с боков, и позади… Неприятеля не было видно… Где он? Кошенко тщетно всматривался, пока пуля не задела козырька его фуражки.
— Э, чёрт! — сорвалось у него.
— Что, братику? — спросил его казак.
— Да фуражку попортило.
— Ну, за нос-то козырьком поплатиться хоть куда… А то бы вдруг вас всякой красоты лишили… Тоже и без носу вашему брату, адъютанту, ох нехорошо!
Пуля с противным чмоканьем шлёпнулась где-то близко-близко… И Кошенко вдруг сообразил, что это в лошадь не в меру шутливого казака… Та взвилась, потом опустилась на ноги и зашаталась… — «Ну, ещё чего!» — вытянул тот её нагайкой… Лошадь тряхнула ушами и опять пошла, только у шеи — красная полоса крови побежала… В авангарде было всё тихо. Авангард шёл, точно его заколдовал кто-то от опасности, зато позади — перестрелка разгоралась на славу. Там, казалось, каждый листок дерева трещал, самый воздух обращался в сплошной свинцовый дождь… Были уж и раненые… Двое убитых… Один — в висок, другой — в сердце… А неприятеля никто ещё не видел… Откуда он бьёт наших? Все глаза обращались пристально и пытливо туда, откуда летели эти шмели, но там серели всё те же корявые стволы леса… Один из солдат заметил движение в ближайшей вершине дерева, — приложился и спустил курок. Огнем брызнуло из ружейного дула, и тотчас же грузно, нелепо взмахнув руками, шлёпнулся оземь громадный оборванный чеченец… Он приподнялся, было, на локтях, но упал опять… Кошенко стороною объехал его. На носилках уже несли раненого офицера.
— В ногу меня! Идти сам не могу… — точно извинялся тот.
— Вон-вон они!.. — радостно крикнул солдат около.
Вдали, в целом мареве серых стволов, смутно и неопределённо замелькало что-то… Огонь оттуда разгорался не на шутку…
— Эх, штыками бы!..
— Егеря! — точно угадал их желание генерал. — Ну-ка, выбейте мне их!..
С криком «ура» — рота бросилась туда; её встретил залп из-за пней… Кошенко, хоть ему никто не приказывал, поскакал тоже туда. Стреляли и спереди, и сверху…
— Как птицы, негодяи, в деревьях засели… — заметил незнакомый офицер, ласково улыбаясь Кошенко.
Смутные фигуры стали ещё смутнее… Скоро и совсем пропали… Но зато с другой стороны началось то же. Отбились там, — враг перекинулся опять сюда. Казалось, что он повсюду… Чем дальше, тем было хуже… Уже в цепи очень поредело у нас. Оттуда выбыло немало народу… Послали туда новых солдат, но чеченцы ещё более усилили огонь. Скоро и этих оказалось недостаточно… Раненых было уже много… Горцы, очевидно, заметили урон, понесённый нами, потому что не успели ещё очнуться наши, как казавшийся недвижным лес вдруг ожил, воскрес… Точно из-под земли поднялись со всех сторон остервенелые бойцы… Замелькали всадники, с вершин деревьев сползли вниз пешие чеченцы, засверкали шашки и кинжалы, ещё мгновение, — и вдруг в лесу раздались повсюду дикие крики, гиканье, какой-то рёв проклятий. Свалка на минуту отбросила цепь назад. Юный Кошенко не взвидел света. Он вдруг бросился вперёд и сам не понимая, в чём дело, увидел себя скачущим с двумя какими-то чеченцами. Те верно, тоже оторопели и не трогали его… К счастью юноши, откуда ни возьмись десятка два казаков. Они вихрем пронеслись наперерез. Кошенко заметил только, как один из чеченцев ткнулся почему-то носом в шею лошади, а другой — откинулся назад… Кто-то схватил лошадь молодого прапорщика под узды и повернул её обратно…
— Куда, — зачем? — сам не понимая, в чём дело, спрашивал он.
— Туда нельзя, ваше благородие. Там они вас как барана зарежут.
Не успели вернуться они, — бой уже закипел по всей линии. Казалось, что в пустынном дотоле лесу самые деревья рождали врагов. Они вдруг являлись справа, слева, впереди и сзади. Особенно они налегали на арьергард. Прорвав в одном месте цепь, они накинулись на обоз и стали его грабить. Но тут в них уже выровнявшиеся горные орудия брызнули таким градом картечи, а очнувшиеся линейные роты и егеря так дружно ударили в штыки, и такое «ура» молодецкое и бешеное крикнули прямо в лица врагам, что чеченцы вдруг, как явились, так и исчезли…
— Что это, что это? — оторопело повторял Кошенко.
— Чего вы дивитесь[53]? — повернулся к нему казак.
— Помилуйте… Что ж это? Точно в театре… Где они?
— Чеченцы-то?
— Ну, да. Были — и нет. Ведь их тут больше тысячи наверное, — куда же они спрятались?
— А уж такая у них подлая повадка.
Действительно, лес точно умер… Только наш отряд с несколькими ранеными и убитыми… Стволы старых дубов, орешников и каштанов. Величавые вершины сводами вверху — и зловещая, что-то сама про себя затаившая тишина… Молча двигается отряд вперёд… Чу… Опять засвистали свинцовые шмели отовсюду.
— Теперь они во весь лес стрелять будут, пока не выйдем, — угрюмо ворчит казачий офицер. — Сами прихилятся[54], только знай себе пущают. Подлец народ…
— Прапорщик Кошенко! — подозвал генерал.
Тот подъехал.
— Я вами недоволен. Только и прощаю вам, что ради вашей молодости. Вы чего кидаетесь в свалку? Кого здесь между нами вы думаете храбростью удивить?.. Истинная храбрость заключается для подчинённого в спокойном ожидании и ещё больше, спокойном и точном исполнении приказаний. Безрассудство не имеет ничего общего с отвагой… Чего вы залетели туда?.. Кому принесли бы вы пользу, если бы чеченская шашка прогулялась по вашей шее?
Потом, заметив, что юноша сконфузился, генерал уже ласково продолжал:
— Погодите, — ещё будет время вам отличиться. Это сегодня детская забава, — серьёзное ждёт впереди… Тогда я вас сам пошлю!
Что-то просвистало у самого уха Кошенко, и он невольно наклонился…
— Знакомая? — спросил его генерал. — Пуля-то «знакомая»?.. А вот нагибаться не следует и напрасно, главное! Потому что, если уж просвистала, значит, — опасность прошла… Ну, поезжайте с Богом!
Чеченцы теперь били со всех деревьев, за каждым пнём, казалось, сидел, притаившийся враг, и Кошенко отовсюду чудилось направленные на него дула… «Неужели я такой трус? — соображал он про себя, замечая, как его лошадь пугливо и осторожно поводит глазами в сторону, откуда налетают эти свинцовые шмели. — Неужели я трус?.. Ведь это ужасно, ужасно!..»
А корабль-отряд всё плыл да плыл вперёд посреди враждебного моря… Он всё разрезывал, куда ни приходил, и нигде не оставлял следа, где прошёл… Позади смыкались те же бешеные волны!.. Ни следов опустошения, ни следов покорности… Только тот клочок земли, где стоял отряд, был наш, — стоило ему сойти, и кончено… Волны народных ополчений заливали его отовсюду…
Зловеще молчал казавшийся мертвенным лес… Тихо плыл корабль к намеченной цели…
Поход
Когда лес остался позади, и отряд вышел на открытое место, вокруг наших солдат всё опять стало спокойно… Ни одна пуля не прорезывала недвижный воздух, весь переполненный зноем… Тихо было кругом… Так тихо, что звон медных орудий разносился далеко-далеко… Команда повторялась эхом бесчисленных скал, точно она отзывалась в их каменной груди… Причудливы были очертания утёсов, резки их острые гребни… Всё тонуло в безоблачной синеве. Всё точно млело в полуденном огне… Тут, за лесом — были уже голые и пустынные скаты. Солнце сожгло их в своём неукротимом гневе. Только жалкие голубые колючки трепались кое-где, да в сухом бурьяне слышался шорох потревоженной змеи… Генерал недолго ехал таким образом. Ему донесли, что в арьергарде есть уже поражённые солнечным ударом… Несколько их было и впереди… Он озабоченно оглянулся. Отряд уже подходил к горной площадке. Позади оставался отвес с ощетинившимся лесом. Впереди, пустынная и пологая, подымалась каменная вершина. Между нею и этим плоскогорьем шла выемка с кустарником. По выемке точно в глубокой складке сочилась вода…
— Ну! — решил он. — Баста… Часа на три привал… Пусть разложат костры… Да, пожалуй, разобьют палатки, — всё защита от солнца… Кашу варить, братцы!..
Отряд остановился. Скоро кругом закипела привычная, будничная жизнь бивака. Одни ставили палатка и с наслаждением заползали туда, хоть и там было жарко и душно. Солдатам разрешили сбросить шинели, — и они радостно исполнили это. Только часовым досталась трудная работа. Им приходилось стоять и ходить вокруг всего лагеря под солнцем, которое с каждою минутою становилось ужаснее и ужаснее… В лазури чистого неба подымался сизый дымок от костров; кашевары озабоченно хлопотали над котлами… В отряде были бараны — их свежевали и вместе с крупою валили мясо в котлы. Некогда было готовить отдельно щи да кашу… Через три часа опять начинался трудный переход в горы.
Кошенко заполз под палатку и заснул ясным и бестревожным сном молодости. Его растомило. На лбу выступил пот, лицо раскраснелось. Смотрел-смотрел на него старый кавказский солдат, и улыбнулся сурово и добродушно в то же время в седые усы…
— Ишь ты! Совсем дитё ещё! И жарко же ему, братцы…
Он обошёл палатку с другой стороны, приподнял её и дал воздуху свободный доступ внутрь. Кошенко сладко-сладко зачмокал во сне… «Сосунок! — ещё добродушнее улыбнулся солдат. — Кабы не казаки — лежать бы тебе сегодня крестом в чеченском лесу… Сняли бы тебе живо голову… Хорошо, что наши вызволили»…
Он тихо, стараясь не разбудить Кошенко, расстегнул ему воротник и сюртук…
— Ну, теперь спи, рабёнок!..
— А храбёр! — заметил другой солдат, сочувственно следивший за заботами первого о молодом офицере.
— Отчего не храбёр… Барское дитё… Ему нельзя иначе. У него и отец, поди, военный был.
— Как он на чеченцев швырком утресь?
— Ну, это он сглупа… Нешто он понимает…
Со всех сторон сносили к лагерю хворост… Генерал ещё не садился. Он обходил отряд, засматривал в ротные котлы, что и сколько там варится, говорил со старыми боевыми товарищами, вместе с ним помнившими времена Ермолова и выросшими в этой замечательной боевой школе. Таким образом начальник отряда случайно подошёл к самому обрыву плато, на котором стоял его лагерь. Далеко-далеко расстилались отсюда перепутавшиеся миражи ущелий, долин, рвов и горных склонов… Вон бездны дымятся светлым паром, синими тенями подёргиваются ущелья, точно задвигаются сквозными занавесями, почти чёрными кажутся узкие теснины… Внизу точно белая ниточка бежит горный поток… Против его течения движутся вверх точки.
— Дайте-ка трубку! — приказал генерал.
Ему подали. Он посмотрел, — несколько сот конных чеченцев пробирались в горы, очевидно, наперерез нашему отряду…
— Самойлов! Как вы думаете… куда они?..
— Разумеется, на андийское Кой-су, ваше превосходительство!
— Это бенефис нам устраивают?
— Точно так-с.
— Ну, и пусть их! — и генерал засмеялся. — И пусть их. Обочтутся голубчики. Нас-то там наверное не будет. Поезжайте с Богом. Мы и беспокоить вас не станем…
— Должно быть, туда много собираются. С другой стороны по тому же направлению пробирается ещё более сильный отряд.
— Вы были в Салтах?
— Точно так-с. Когда ещё Салты со своим округом значились мирными, у меня там кунак жил.
— Это до мюридизма?.. Скажите, как расположен аул?
— Как ласточкино гнездо. Ниоткуда доступу…
— Так что взять его нельзя по-вашему?..
Старый кавказец задумался.
— По обыкновенному рассуждению, — нельзя…
— Ну, а по кавказскому нашему?
— А по нашему: если прикажут, — возьмём…
— Как? — улыбался генерал.
— Как… — Об этом что же задумываться… Придём, — посмотрим… Там видно будет. Как же не взять, если приказано? Тут рассуждать нечего. В лоб пойдём. Большое облегчение, что вся ихняя молодёжь теперь у Самурской крепости…
— Да, только вопрос ещё, удержалась ли крепость. Может быть, давно пала…
— Это у Брызгалова-то?.. — удивился Самойлов. — У Брызгалова — наверное удержится…
— А вы его знаете?
— Ещё бы. В тридцать девятом году мы вместе Ахульго брали… С Граббе… У Брызгалова — всё в руках удержится. Солдат надёжный… Дай Бог таких побольше.
— Да, вот и толкуйте… Всё, что покорилось при Ермолове, в сороковом отложилось, — и теперь приходится опять начинать сначала…
— Вон, вон ещё одна партия…
— Всё туда же — на Кой-су!
— С Богом, с Богом, голубчики! — радовался генерал, считая уже дело наполовину выигранным. — С Богом — скатертью дорога… Так, по обыкновенной логике, нельзя, а по кавказской можно? — весело засмеялся он.
— Точно так-с. Потому, что же делать, если начальство приказывает?..
Генерал пожал ему руку и отошёл назад. У него на душе оставалось ещё одно печальное дело. В лесу было убито трое солдат, да по пути четверо из раненых скончалось. Надо было их похоронить. Они лежали там, где расположился обоз, под брезентами, из-под которых наружу торчали только недвижные ноги усопших… Первые жертвы экспедиции были у него точно на совести. И идя к ним, он думал: нельзя разве было избегнуть этого дела?.. Но другого пути не было, как через лес… Разумеется, можно было двинуться через андийское Кой-су, но там, наверное, погибла бы половина отряда!.. Наверное… И, бросив последний взгляд на «боевых товарищей», как он мысленно называл их, старый кавказец перекрестился и пошёл прочь…
— Что, ваше превосходительство, прикажете делать с ними? — нагнал его командующий обозом.
— Похоронить… Вечером, когда солдаты отдохнут. Теперь это неудобно… Да и жаль тревожить, — и без того устали… Работать при этой жаре им будет не под силу…
И действительно… Зной огненными стрелами падал с небес на обнажённые каменные отвесы. Приходилось жалеть даже о предательских тенях молчаливого леса, где из-за каждого дерева грозила смерть… Солдаты отдыхали тяжело, точно в каком-то бреду, обливаясь потом… Часам к трём жара поддалась… Не так томительно было пёкло, не так пронимало сухостью… Лучи уж не впивались стрелами… У ротных котлов сидели и стояли обедавшие… Но сегодня не слышалось здесь весёлого смеха. Не до того было. Даже заправские заводчики всякого солдатского развлечения молчали, угрюмо глядя вдаль, где подступы к вершинам гор, казалось, ещё горели огнём беспощадного южного солнца. Так же молча выстроились солдаты, когда барабанщики забили «сбор». Генерал им не говорил ни слова, — народ был испытанный, и ободрять его не приходилось. «Сами ободрятся, — рассуждал он, — как прохладою повеет». Безмолвно, в порядке, двинулись они, и с первых же шагов все прелести горного перевала дали им себя знать… Дорога только снизу казалась пологой. Осетин, исходивший все эти горы и знавший их как свой каменный двор над тесниною Дарьяла, — служил проводником. Его подозвал к себе генерал.
— Это, по-твоему, дорога?
— Другой нет! — спокойно отвечал тот.
— Да это разве дорога?.. Ты говорил, что пройти можно!..
— Говорил. Отчего не можно. Джейран ходит, коза ходит, я хожу!..
Генерал только пожал плечами и отпустил его.
Чем дальше, тем становилось хуже. Солдаты с трудом одолевали кручи, где кремень торчал остриями вверх, точно природа сама озаботилась сделать как можно менее доступными для человека священные алтари своих вершин. Одно утешало: с каждым получасом жара спадала всё заметнее и заметнее. Но зато отвесы гор становились круче и круче.
— Неужели и на эту взлезем? — спрашивал молодой солдат у старика, но не только взлезал сам, но, оглядываясь, видел, что туда же взлезают и орудия, и обоз, и парк, и транспорты… Кто сидел на коне, тому было в полгоря.
Цепкие горские лошадёнки как мухи ползли по откосам и, предоставленные сами себе, даже выбирали самые невозможные кручи, сокращая тем дорогу, и только отряхивались ушами, да тяжело дышали, взобравшись на выступы утёсов. Тысячи камней из-под их копыт летели в бездны, но они не смущались этим и с такою же уверенностью ставили тонкие ноги на узкие тропинки… Тем не менее, часы шли за часами, а вершина казалась так же далеко. Она точно смеялась над усилиями отряда. Чем ближе он подходил к ней, тем дальше отодвигалась она… Её утёсы всё так же воздушно, мягко и нежно рисовались на заметно посиневших к вечеру небесах… Только теперь с них то и дело срывались чёрные точки орлов и реяли в недосягаемых безднах лазури, встревоженные приближением отряда. Тихо за конями пододвигалась пехота, со звоном и блеском выползали медные орудия…
— Поработай, поработай ещё!.. — с суровой нежностью гладил нагретое тело пушки шедший рядом артиллерист. — Поработай!.. С нами вместе отдохнёшь, сердешная!
Мелкие горные орудия были навьючены на лошадей. Самое орудие на хребет приторочено, колёса — по бокам. На других следовали за ними и впереди ящики с зарядами… На одном из поворотов солдат вдруг обдало свежестью. Они встрепенулись, жадно задышали. Откуда донёс этот ветер животворное дыхание снеговых вершин — никто не мог сообразить, но главный кавказский хребет в нём слал свой привет чудо-богатырям, не раз одолевавшим ужасы подступа к нему… Даже кони, и те, подняв головы, жадно раздувавшимися ноздрями втягивали в себя эту прохладу и смотрели в ту сторону, откуда неслась она… Ещё раз потянуло ветром, и ещё легче и лучше стало… Точно в ответ на эту заочную ласку далёких ледников, узнавших в странниках сынов ледяного севера, — в рядах, утомлённых и обессиленных, вдруг вспыхнула песня, сама по себе бессмысленная, но одушевлённая и яркая тем огнём, который, казалось, пылал в каждом её звуке.
«Гремит слава трубой:
Мы дралися за Лабой…
По горам твоим, Кавказ,
Прогремит слава о нас!..»
Ещё полчаса, — и авангард приостановился. Даль словно раздвинулась перед ним. Отступили куда-то и принизились утёсы. Теперь они уже не заслоняли ничего впереди… Из золотистой дымки заката вдруг выступили одни за другими вершины кавказских сторожевых великанов поближе, — тёмные, грузные и тяжёлые, — ощетинившиеся лесами; синие за ними и совсем воздушные, матово сиявшие ледниками позади. А ещё далее — какими-то призраками намечивались чуть-чуть точно фата-моргана те, которые стояли уже над счастливыми и мирными долинами Грузии… Тут всё распускалась в золотом свете… За отрядом к западу солнце тонуло в океане нежного пламени…
Солдаты живо разбили палатки, которые в прощальном свете умиравшего дня казались ещё шедшему внизу арьергарду розовыми… Около — гремел ключ. Подземные источники выбились тут на волю из холодной тьмы и радостно, шумно, белою пеною и алмазными брызгами праздновали освобождение… К источнику поставили часовых, чтобы затомившиеся и изжарившиеся на солнце солдаты не делали беспорядка. Живо, с весёлым звоном, студёные и чистые струи полились в манерки и котлы, пока остальные части отряда подтягивались к вершине горы…
Мало-помалу лучи гасли, и небеса вновь синели… Вершины гор, прощаясь с блекнувшим светом, напряжённо и ярко отражали его.
Генерал долго смотрел на юг…
— А бедный Брызгалов теперь из последних сил, может быть, отбивается…
И старик вздохнул, представляя себе далеко-далеко отсюда маленькую крепость, сплошь залитую бешеными волнами могучего газавата…
А в стороне уже располагался отряд. Опять запылали костры, и кашевары кипятили воду и крупу в котлах. Когда из-за ближайшей горы золотым шаром поднялась луна, и на нём обрисовались резкие очертания скал — в глубоком рве несколько солдат рыло яму — общую могилу для убитых сегодня… Тихо будет спаться им — жертвам сурового долга на пустынной вершине Кавказа. К кресту их могилы не прикоснётся ничья рука. Только ветер порою пронесётся мимо, да всеобщая печальница туча окропит его холодными слезами… Когда долины и ущелья утонули в тумане, — дело было кончено… Мёртвые покоились в тёплой за день нагревшейся земле, крест стоял у их могильной насыпи, и рывшие яму солдаты, склонив колени, тихо молились простыми сердцами Господу сил за павших товарищей. И ветер упал, и всё затаилось… Пустыня внимала сама этой чудной молитве.
В благоговейном молчании ночи слышались только крики часовых да неугомонное бульканье ключа, вырывавшегося из своей подземной темницы…
В завалах
Только через несколько дней наш отряд вступил в Дагестан… Совсем иная природа раскидывалась кругом. Не было лесов, свежею тенью ласкающих Чеченские низины, не было пологих скатов, по которым всё-таки легко было двигаться солдатам. Настоящий разбойный край пошёл, пересечённый, изрытый оврагами, весь перерезанный ущельями, над которыми горы громоздились на горы, скалы на скалы… Каменный хаос царил кругом, пугая непривычное воображение. Тут всё тянулось в высоту, и тропки ложились головокружительными зигзагами над страшными безднами. Аулы взбирались в поднебесье, оспаривая у орлов их недоступные гнёзда… Сама природа позаботилась так защитить доступы к ним, что снизу казалось невозможным добраться до первых саклей, а добравшись и глядя сверху, делалось непонятно, каким образом без птичьих крыл удалось это! Только местами по рвам и оврагам, где змеились в вечной тьме холодные потоки, росли вековые леса, переплетались своими чашами. Даже дикому кабану надо было сначала прорезать себе выход острыми клыками, а потом уже ринуться к потоку… Стояла мёртвая тишина, нарушавшаяся грохотом обвалов… Уже нельзя было идти как в Чечне — ни цепям, ни боковым колоннам не было места… В Дагестане и авангард, и главный отряд, и арьергард вытягивались гуськом, а справа и слева притаившиеся за скалами, обломками утёсов, за гребнями, трещинами и рвами били на выбор из метких ружей отчаянные полудикари, обрёкшие себя, по обету, верной смерти. Русские, одолевая невозможные препятствия, кидались на горцев и оставляли одни трупы, но за каждый такой приходилось платиться десятками солдат… Тут горная война выходила из пределов действительности и делалась легендой. Часто, заранее простившаяся с жизнью, горсть мюридов садилась в какую-нибудь башню на горной тропе и на целые часы задерживала движение экспедиции. «Рыцари» гор отстреливались, почти ни одной пули не выпуская даром. Они били наших — и дорого продавали жизнь. Когда солдатам, наконец, удавалось ворваться в подобное каменное гнездо, мюриды с громким и восторженным пением знаменитого «гимна смерти» кидались в шашки, кинжалы, и часто, только перебив фанатиков, наши с изумлением видели, какая жалкая шайка храбрецов сумела преградить нам дорогу и вырвала у нас столько жертв. Дагестанцы боролись не по-чеченски, они не прятались в засады. Эти богатыри горных кланов дрались лоб в лоб, лицом к лицу, грудь с грудью. Такого чудного боевого материала не существовало нигде, и даже озлобленные солдаты отдавали им должную справедливость. Каждый пункт края находился под наблюдением опытного военного муртазегита, которому подчинялись составлявшие зерно всякого отряда мюриды. Важнейшие завалы, башни аулов и мостов были непременно отмечены их значками. Муртазегит как паладин родовыми гербами гордился ими и умирал под ними спокойно, зная, что он теряет только жизнь, но спасает то, что для дагестанца было гораздо важнее, — честь… «Обо мне будут петь баяны моего аула! — говорили они в агонии, — на их угрюмых лицах отражалась при этих словах счастливая улыбка. — Что смерть? Она открывает нам двери рая, она его привратник!..» И они весело шли ей навстречу.
Отряд, движение которого по Чечне мы уже видели, вступив в Дагестан, тотчас же принял все меры предосторожности, ненужные в других горах. Выслали вперёд пластунов, всюду, где можно было раскинуть разъезды, — разбросали лучших казаков. По ночам на высотах гор, давая от вершины к вершине грозную весть о приближении русских, вспыхивали заготовленные горцами столбы, обёрнутые соломой… Аулы как орлиные гнёзда в высоте готовились к обороне, но, заметив, что отряд минует их, тотчас же посылали всадников ему навстречу. Наши решили не действовать по мелочам, и направить главный удар в самое сердце края, и потому не останавливались перед этими горстями слепившихся белых саклей, высматривавших сверху движение врага. Отряд много уже оставил таких орлиных гнёзд за собою…
— Кажется, пока что, пройдём благополучно! — соображал по своему Кошенко, уже считавший себя знатоком горной войны.
— А вот погодите! — загадочно отвечал ему казачий офицер, всё суровее и суровее хмуривший седые брови…
— Чего годить?.. Вон аулы, если бы хотели, — могли бы устроить нам хорошую встречу… А до сих пор — нигде ещё…
— Скоро Ильгеринские леса пойдут… Есть тут такое подлое место — скалы, и на скалах лес. Тогда и увидите…
И действительно, сверху, с одной из занятых наших отрядом высот, мы увидели, наконец, эти знаменитые леса… Тут хаос скал был охвачен отовсюду хаосом сплошной растительности. Точно она хотела заполонить утёсы и, если нельзя расколоть и разрушить их своими могучими корнями, то хоть так покрыть их ползучею зеленью, цепкими стволами и ветвями, чтобы никто не видел под ними голого камня. Под этим лесом и скалами с гневным шумом пробивался поток, забравший яростную пену на самое темя утёсов, выбившихся-таки из зелени. Он гремел в теснине, ворочал камни, павшие на его пути, разливался в более широком ущелье, подмывая его отвесные скаты, и нигде не отражал солнца, потому что сквозь эту дебрь они ни одним лучом не могло к нему пробиться… Сами лезгины называли это место «проклятым». Тут царил шайтан, и Аллах посылал сюда ангелов на гибель гяурам только тогда, когда русский отряд показывался напротив. Без этого горные кланы объезжали далеко Ильгеринский лес…
Вон он весь внизу. Грохот и рёв потока оттуда. Зелень и острия скал… Всё перепутано, перегорожено, сцепилось какими-то узлами. Откос крут, растрескался и расщелился, так растрескался и расщелился, что не знаешь, куда завтра, начав переход через него, поставить ногу… Рвы идут зигзагами и встречаются с другими такими же. Всюду какие-то провалы, где лежит туман… Тропинки, если и есть, пропадают над отвесами…
— Отдыхайте, ребята, лучше… Утром будет дело! — слышится по отряду.
— Коли завтра Бог пронесёт, — остальное всё обладим!
— Только бы Ильгеринский лес пройти…
Обойти его нельзя было — направо и налево нет доступных мест. К востоку ущелье со своим потоком падали в бездну, с запада стеною подымалась гора, с которой такой же поток гремел тонкою струйкою водопада. Впереди за Ильгеринским лесом, крутой взлёт стремнины, трудный как и этот спуск… Они заканчиваются в высоте острыми выступами утёсов. Бывалые люди знали, что за этими выступами — страшная пропасть. Гора оканчивается там, точно её кто-то срезал, и за пропастью начинается другая, такая же… От скалы здесь к скале за пропастью перекинут узенький мост, кажущийся отсюда остриём ножа. Страшно смотреть на него снизу. Неужели придётся идти по нему, одолев Ильгеринские леса, идти над этим чудовищным провалом — по ниточке, где и один человек помещается с трудом, где нет ни перил, ни парапета… Вон горец показался на нём… Страшно, действительно, страшно! На скале, у входа на мост — башня. Дагестанская башня! На мост нужно проехать под её воротами, за мостом у выхода — такая же…
— Дорого нам достанутся эти башни! — соображает старый казачий офицер. — Очень дорого! Теперь и в той, и в другой засели мюриды… Их не заставишь отступить, их надо перебить всех до одного! Только, пока перебьёшь, — мы у нас у самих не досчитаемся сотни-другой народу. Особенно та вон башня, что позади… Не дай, Боже!.. Жаркий день завтра…
Лагерь стихал с тягостным предчувствием боя, ожидавшегося на утро.
— Никто как Бог! — говорили солдаты.
— Не впервой… На то и присягу принимали, чтобы помирать, когда надо!
И, утешив себя этим, спокойно засыпали старые кавказские богатыри, так спокойно, что, казалось, тут нет никого, и если бы не силуэты часовых, которым сегодня было приказано не перекликаться, то вершина этой горы казалось бы мёртвой и безлюдной…
Луна скупо засияла под самое утро над острыми и причудливыми вершинами. Тусклый фантастический свет её мерцал на отвесах. Где-то в горных узлах свистал ветер, падая роптали потоки… Ярко пылали у аулов зажжённые соломенные сигналы, передавая всё дальше и дальше весть о том, что смелый враг вторгнулся в считавшееся недоступным сердце Дагестана. Кротко и печально сияли звёзды в высоте, сияли и словно смаргивали слезинки… Им было жаль обречённых смерти… Они видели души, над которыми беспощадная смерть уже остановилась в грустном раздумье…
Чу! Послышалась тревожная дробь барабана, тихо начали подыматься солдаты…
Зловеще стал на пути Ильгеринский лес… Чёрною дрёмою он окутал ущелье между двумя пустынными каменными горами. Сверху кажется, что это туча припала к нагретой земле и не может оставить её… Гневно шумит и бесится поток в чаще, ревёт и мечется, точно хочется ему поскорее освободиться от охвативших его отовсюду гранитных объятий… Хаос скал и деревьев всё ближе и ближе… Чу! Сквозь шум потока слышатся и другие звуки… Это не чечня воровская, что, притаясь, ждёт врага да норовит его расплохом взять. Здесь лезгины — «рыцари гор», они не прячутся… Солдаты вслушиваются — воинственная песня койсабулинцев всё громче и громче, точно резким рисунком выделяется на однообразном фоне грохота негодующей воды… Старая песня, знакомая многим из бойцов, бывших уже в Дагестане!.. Чутко насторожились солдаты. Каждый припоминает, когда и в каком бою он её слышал, и рядом с нею из безвестных и забытых горных могил подымаются десятки павших товарищей и, кажется, рядом в ногу идут, с задумавшимися друзьями… из далёких и безвестных могил!.. В какие-то лягут эти — ещё живые люди?.. Вот первые деревья леса… Рёв воды и напев дагестанцев здесь ещё слышнее. Они наполнили весь лес…
— Что это? — интересовался Кошенко.
Казачий офицер только отмахивается. Толстый и коротенький пехотинец-капитан, так и замёрзший в этом роковом для старых кавказцев чине, широко улыбается…
— Знаем мы это место!
«Чему он это радуется?» — соображает про себя Кошенко.
Ещё бы, чему! Для него эта песня полна значения. В ней встаёт и воскресает перед ним вся его молодость… И, как будто, чтобы пояснить это, капитан, сияющий и возбуждённый, торопливо говорит юноше:
— Я её четыре раза слышал… Хорошо знаю… Первый раз ещё с покойным Лермонтовым в Голофеевской экспедиции… Помните «Валерик» его…
— Неудачная была! — хмурится казак. — Неудачная была она…
— Да и остальные не лучше… Надеюсь, на этот раз мы не опростоволосимся… Дадим им знать…
— А в каких ещё вы участвовали? — интересуется Кошенко.
— В Ичкеринской и Сухарной… т. е., Даргинской… В этой недавно ещё…
Чу!.. Засвистали пули… В рёве воды и напеве боевого гимна — даже не слышно было выстрелов.
Старый капитан снял фуражку со вспотевшей головы и перекрестился. Словно шорох пробежал по рядам солдат. Все делали то же. «О, Господи!» — послышалось откуда-то… И тотчас же навстречу — ещё гуще, целым роем зажужжали свинцовые шмели… Вон и поток виден. Ревёт и мечется, белой пеной закидывает до верхушек скалы и деревья… Точно невидимые в воде бесчисленные громадные руки целыми горстями швыряют её… Неудержимо рвётся бешеная вода в перегородивших её камнях… На одном из этих камней гордо стоит зелёный значок муртазегита, командующего завалом. За ним мелькнула рыжая папаха, другая, третья… Остановились солдаты… Завал тянется по всему противоположному берегу. Грудами навалены там срубленные деревья, камни, земля… Как одолеть эту преграду? А за ней видна другая такая же, за той третья чуть мерещится по отвесу лесной горы… И везде, во всех завалах мелькают папахи, блестят тонкие дула ружей… «Алла, Алла!» — слышится оттуда… Перебегающая дробь выстрелов…
— Орудия вперёд! — резко командует генерал. — Картечные гранаты…
Мигом выдвинулись медные жерла и жадно направили пасти к завалам. Не поспели поднести к ним снаряды, как прислугу у орудий точно ветром смело… Пули снесли её прочь, и раненые и убитые корчатся у лафетов… Но спокойно, не торопясь, на их место становятся другие… Пли!.. Точно рухнули скалы, и разом целый ливень картечи хлынул в завалы… Пли!.. Ещё раз огненные снопы ринулись туда… Значка муртазегита уже нет, — его скинуло удачно направленным снарядом… Но так же важно и торжественно доносится оттуда с перебегающею дробью выстрелов священный напев:
«В бой отважных кличет честь…
Азраил летит над нами…
В каждом дуле спеет месть
И победа над врагами…
Мать, не плачь! Твой сын в бою —
Лучший воин у Аллаха…
И не даром жизнь свою
Он продаст врагу. Без страха —
У завалов смерти ждёт…
Слыша голос Магомета:
„Кто погибнет, в рай войдёт,
В бездну радости и света“»…
Картечь ливнем падала туда, но на выстрелы наших орудий ещё вдохновеннее звучала песня дагестанских воинов… Перебегающая дробь оттуда сыпалась, не умолкая… У нас целыми рядами падали солдаты, но считать их было некогда…
— Ребята!.. — бодро и весело звучит голос генерала. — Не раз мы с вами одолевали их. Покажем и теперь им силу нашего родного штыка! Ур-ра!!.
Бешеный треск наступления, оглушающий крик целой массы солдат, и невиданное чудо! Ревущего потока с его пеною не видать под их сплошною массой. Всё, что было здесь, кинулось туда. Страшные, неукротимые воды, кружа людей по окраинам как щепки, сносят их прочь. Одни борются со стихией, другие, настигнутые лезгинскою пулею, раскинув руки, покорно отдаются волне этого стремительного течения, третьи задыхаются в нём, исходя кровью, но масса непобедимо живою плотиною кидается к завалам, чтобы прямо из воды поднялись грозною стеною. Как они одолеют эту стену? Но такой вопрос можно было предложить только не кавказцам… Вот они уже лезут по ней, падают и лезут опять, на место одного убитого — десятки живых, и враг оказался достойным такой отваги. Он не бежит под прикрытие скал и леса, — он ждёт, стоя во весь рост на завалах. Муртазегит с мюридами впереди. «Ура!» смешивается с именем Аллаха… Львиным порывом каким-то, словно возносятся к ним солдаты… Кошенко, оглянувшись, не узнал коротенького и пузатого капитана. Старый навагинец проснулся в нём. Он швырнул куда-то фуражку, — лицо его пылает одушевлением, грозно нахмурились брови, и его «ура» выделяется смелою ноткою в общем унисоне боя… «Ну-ка, товарищи, ну-ка, друзья!.. Покажем им ребятки!..» И он уж на верху… Точно во сне Кошенко видит, как над ним заносит мюрид шашку, но старый капитан не такие видел над собою, и мюрид летит вниз на штыки столпившихся у завала солдат. Бой уже по всей линии. Беспощадный штыковой бой. Грудь с грудью, лицом к лицу. Не просят и не дают пощады. Не смотрят друг другу в глаза — колют и рубят. Выстрелы пистолетные только изредка нарушают страшное молчание схватки, поток ещё неистовее ревёт позади — ему обидно, что через его свободные воды перетаскивают туда орудия… Но времени терять некогда… Чего не возьмёшь быстрым натиском, то сейчас же будет утрачено. Нет резервов, некому уходить в них… Вся линия в бою, и всем есть дело. Даже обозные бросили телеги и кинулись на помощь общему делу. Теперь каждая рука на счету… Не выдержали лезгины, — отхлынули… Отдельными кучами дерутся ещё… Остальные кидаются ко второй линии завалов, которые тоже надо взять, не отдыхая, — взять сейчас, сию минуту. Нельзя допускать их опомниться… Каждое мгновение отнимает у нас бойцов, каждый отдых достаётся ценою десятков жизней… Нельзя дать этим горным орлам время засесть за те вон завалы, и старые кавказские солдаты уже не ждут команды — они по следу бегущих врываются во вторую линию неприятельской обороны и работают там штыками, нисколько не беспокоясь о том, следуют ли за ними товарищи или нет… Да и не о чем беспокоиться… Вся масса отряда кидается туда… Ещё полчаса, — и эта линия завалов в наших руках… Но из третьей — та же перебегающая дробь выстрелов… Там сосредоточилось всё, что уцелело у лезгин. Этим уже некуда бежать, эти обрекли себя смерти. Им не предлагают сдаться. Знают наши, что лезгины не сдаются! Незачем! Чего им бояться?.. Ведь «смерть — привратник рая». Смежив глаза здесь, они тотчас же откроют их в раю у Аллаха… Там даже опять вспыхнула песня, и наши слышат на лезгинском языке воодушевляющую строфу этого гимна смерти…
«Кровь за кровь — мюрид вперёд!
Для души, не знавшей страха,
Мост пылающий ведёт
Над пучиной в рай Аллаха»…
Но дальше петь некогда, — напор отряда слишком стремителен… Почти на плечах отступающих врываются туда солдаты. Ничего нельзя разобрать толком, но генерал спокоен. Он опытный боевой психолог и по крику своих воинов видит, что нечего бояться неудачи. Лишь бы поменьше было потерь, побольше уцелело людей! Ведь таких лесов как Ильгеринский ещё много впереди… Он, оглядываясь, считает умирающих и убитых.
Кошенко, радостный, сияющий, бежит к генералу сверху.
— Поздравляю, ваше превосходительство!.. Последний завал взят. Наши уж…
И, не кончив, нелепо взмахнул руками и валится к ногам генерала.
— Что с вами?.. Ранены?.. — наклонился тот.
Но юноша недвижен… Под затылком его сочится маленькая рана.
— Бедный! — про себя шепчет генерал и крестит умершего. — Бедный… — и слеза падает на седые усы старого кавказского солдата.
Завалы, действительно, взяты. Воодушевлённое «ура» несётся сверху и повторяется в обозе за потоком. «Ура» точно огнём охватывает лес, будто языки пожарища, — перекидывается оно вдаль и, повторенное тысячами скал, ущелий, утёсов, возвращается обратно торжествующее и радостное — в Ильгеринские леса, в эту страшную трущобу… Весело смотрят уцелевшие на тихо подходящего к ним генерала… Весело, возбуждённо и радостно, — и никому пока нет дела до тех, что не могут уже теперь присоединить счастливых голосов к общему победному крику, до тех, что раскинулись по этой круче и вместе с врагами ждут — осуждения или оправдания перед общим и нелицеприятным судом Божиим…
— Сколько потерь… Сколько потерь!.. — тихо соображает генерал… — Ещё несколько таких стычек, и экспедиция станет невозможной, и бедному Самурскому укреплению останется одно из двух: позорно сдаться или…
Но что — или, он не окончил…
К нему — изорванного и израненного, но сурового, решительного и гордого вели муртазегита.
— Как вас зовут?
— Али-Ибраим-бек. Я вам памятен по Аварскому Кой-су…
И угрюмая усмешка чуть-чуть показывается на тонких губах горца.
— Вы аварец?
— Все храбрые люди — аварцы…
— Сколько вас было в завалах?..
— Сочтите!.. Мы предоставляем Богу считать своих воинов… А сами не считаем… даже врагов!..
— Займитесь им… Перевяжите раны! — приказывает генерал… Али-Ибраим-бек, я вас знаю… Даёте ли вы слово не бежать, и тогда я вас не прикажу караулить…
Глаза у аварца гордо сверкнули… Он поднял голову…
— Благодарю… Но дать слово не могу… Я не баба… Я воспользуюсь первым случаем, чтобы уйти от вас…
Генерал ласково положил ему руку на плечо.
— Иного ответа я не ждал от лучшего Шамилева наиба!.. Холщевников!..
Толстый капитан подбежал к командующему отрядом.
— Поручаю вам. Обращайтесь хорошо, — но смотрите за ним в оба. При первой попытке к побегу — пулю в лоб. Переведите ему это!..
И генерал тихо пошёл к завалам.
Бой в облаках
— Приведены ли в известность потери?
Был уже вечер… Отряд не трогался из Ильгеринского леса. Надо было дать отдых солдатам, счесть убитых, распорядиться ранеными. Над вершинами платанов и самшита горела заря… На её огневом фоне листва старых деревьев казалась совсем чёрной. Поток ревел и шумел, покрывая и говор отряда, и треск валежника в кострах, и сигналы горниста, порою раздававшиеся в скалах. Обоз давно уже перебрался… Несколько искалеченных коней билось у самой воды, пока их не приказали пристрелить… Прохлада стояла над утёсами…
— Сколько убитых?
— Двести человек выбыло из строя: шестьдесят убитых, сто тридцать раненых… А десять без вести пропали…
— Вы точно в реляции — всё круглыми цифрами!.. — недовольно проговорил генерал.
— Я не виноват в потерях сегодняшнего дня! — понял отвечавший начальник штаба раздражение генерала.
— Десятеро, верно, унесены водою… Может быть, ещё окажутся… Послать казаков вдоль потока, — пусть поищут.
— Виноват, ваше превосходительство, — я уже распорядился этим.
— Очень хорошо сделали…
Действительно, — избитых, измученных и истерзанных нашли четырёх солдат, которых волною прибило в заводи… Остальные шестеро были снесены в бездну, куда падал этот поток… Их пришлось помянуть в общей панихиде… Многих из раненых нельзя было и думать тащить с собою во всю экспедицию, их решили оставить с небольшим конвоем в тех башнях, которые ждали нас ещё на верху. Их предполагали подобрать на обратном пути. Легкораненых было мало. Лезгины били на выбор и метко. Даром пуль они терять не любили. Ночью внизу было даже холодно. Поток ещё громче ревел… Где-то, далеко-далеко, должно быть, в каком-нибудь ауле, лаяли собаки… Вверху ярко сияли звёзды, но свет их не доходил в потёмки Ильгеринского леса. Под утро прорезался последний рог месяца — с завтрашней начинались уже безлунные ночи… Солнце брызнуло огненными лучами на вершины каштанов и чинар, — дробь барабанщика разбудила отряд… Сегодня ожидал его страдный день, и потому надо было накормить солдат сейчас же… Кое-как развели костры и сварили кашу.
Али-Ибраим-бек сидел у огня и грелся. По его нахмуренному лицу бежали тени. Толстый капитан, говоривший по-лезгински, спросил его о чём-то… Тот ему не ответил… «Тоскует!» — решил по своему навагинец и угадал. Сердцем люди всегда угадывают. Ошибается только ум, а не сердце… «Тоскует. Должно быть, семья дома».
— У тебя, бек, есть дети? — спросил он.
Тот посмотрел на него и, должно быть, прочёл в его глазах не одно праздное любопытство.
— Троих оставил в ауле…
— Маленькие, верно?
— Один недавно родился… Старуха-мать есть…
— Ну, что ж… Бог даст, свои их поддержат…
— Я не о том! Я не голода боюсь… У меня три тысячи голов в табунах ходят. Да и золота я немало отбил у вас. Я о другом. Они все вырастут джигитами. У меня всё мальчики… Только мне их не придётся видеть.
— Отчего же? Если принесёшь покорность… Наш царь — милостивый…
— Я не о том… Я знаю это… Только не Ибраим-бек будет являться в Тифлис к вашему наместнику с повинной… Я — мюрид. У меня и любовь, и ненависть кончаются со смертью…
И он опять мрачно засмотрелся в огонь распылавшегося костра.
Пушки уж потянулись вверх, обозы тоже. Солдаты главного отряда и арьергарда оставались здесь. Им нечего было торопиться. До первого взъезда пока доберутся орудия, — успеют насидеться… Авангард бился с пушками… Лошади тратили последние усилия поднять их, но круча была слишком тяжела. Солдаты схватывали лафеты и, обливаясь потом, в смертной истоме едва могли протащить их несколько шагов, падали оземь, едва дышали… В три часа времени батареи не сделали и двухсот шагов на высоту, а дальше их ждали кручи ещё ужаснее, скалы ещё отвеснее. Зной становился палящим, и, когда остальная часть отряда вышла из леса, солнце безжалостно лило огонь с побледневших от ужаса небес. Скалы накалялись… Неосторожно опираясь на них ладонями, солдаты обжигались… Обжигались и дотрагиваясь до меди орудий. Казалось, что это не лучи, а пламенные стрелы падают с верху… Полдень Дагестана был так невыносим, что уцелевшие завидовали тем, кто теперь лежал на веки веков в одинокой общей могиле Ильгеринского леса. Для тех — окончилось всё. Им — тишина, покой, отдых! То и дело солдаты пили воду из манерок, но скоро и её запасов не стало. Знали, что вверху есть ключи. Они падали, обогнув гору с другой стороны, в ту же бездну, куда стремился и Ильгеринский поток. Но до них было ещё версты полторы, а на этой страдной дороге каждая сажень доставалась ценою неимоверных усилий. Уже по обе стороны беспутья (потому что дороги здесь не было, а она определялась просто направлением, взятым солдатами) — лежало много народа, поражённого солнечным ударом. Некоторые хрипло дышали, их глаза налились кровью, воспалённые лица были ужасны, другие метались и бредили… Но теперь уже некогда было обращать внимание на них. Вверху — на казавшейся недоступною высоте — мерещилась точно в небесах повисшая башня… Наши знали, что она оберегает подступ к мосту, через бездну — от вершины одного утёса к темени другого, — где тоже должна быть такая же. В этих башнях засели отчаянные мюриды, обрёкшие себя смерти. Сколько было их? На вопрос об этом, Ибраим-бек только угрюмо улыбался и говорил:
— Довольно, чтобы многие из вас сегодня уже полетели на суд к Аллаху!
Много часов прошло, — наши всё ползли к этой башне, а она, казалось, всё дальше и дальше отступала. То пропадала, когда отряд огибал скалы, то являлась опять над самыми головами в опаловой глубине неба, то убегала вдаль. Чёрные бойницы её зловеще зияли… За её чёрным ходом должна быть смелая арка переброшенного через пропасть моста… Кто соорудил его — никто не знал… Горцы говорили, что это дело рук Аллаха, когда шайтан одним ударом кинжала раздвоил гору на две части и вырыл бездонную пропасть между ними… Наконец, на одном из поворотов авангард увидел этот мост и остановился на минуту поражённый. И было отчего… Две скалы, отвесами обращённые одна к другой… Основания их падают вниз, сливаются, пропадают в бездонном провале… На страшной высоте от одной скалы к другой перекинулась тонкая, едва заметная отсюда ниточка моста… И по этой ниточке надо пройти — да не просто, а боем!.. Перетащить по ней орудия, парк, транспорт, обозы, перенести раненых… Захолонуло сердце у отважных солдат… У входа на мост — мрачная башня; она вся на свету теперь, и едва-едва выделяется над нею значок защищающего её муртазегита. Другая такая же башня у другого конца моста, и там тоже значок… В ней засела отчаянная вольница дагестанских гор… Мост в небесах тонет. Жутко даже смотреть на него снизу… Там ни барьера, ни перил… Иди как лунатик… Сильней сердце забьётся, — и полетишь в бездну… Вон облачко наползло, окутало башню позади, часть моста закрыло… Теперь он до половины точно от земли в небо повис… Страшно!.. Страшно даже старому навагинцу… Он почувствовал, как у него загодя кружится голова. И только Али-Ибраим-бек сурово улыбается и шепчет:
— Легче вам по острию ножа в рай Аллаха попасть, чем этот мост перейти!
И, действительно, легче… Облако потянулось сюда… Теперь оно оставило башню, и она, вся влажная, заблестела на солнце…
Оно заслонило середину моста, и он точно разорвался там.
Два отростка оттуда и отсюда висят над ужасным провалом…
Сюда двинулось ещё, и мост оттуда растёт, а здесь пропадает конец этой арки и ближайшая башня…
— Да, страшное дело ждёт нас… Страшное!.. — солдаты пугливо, стороной как-то смотрят туда… — Нагородили, подлецы!.. — ругают они про себя лезгин.
— Тут мухе проползти или птице — лётом… А у нас крыльев нет!..
Орлы реют ниже моста над бездной… Широко разбросив большие, тёмные крылья, они точно плывут над нею. Некоторые опускаются в пропасть и пропадают в ней… Наклоняясь, солдаты уже не видят их в потёмках этой чёртовой дыры… Позади звенят орудия по каменным выступам, слышится лязг штыка, встречающего штык, стопы солдат, падающих от огненных стрел солнца; а оно ещё строже смотрит с бледных небес, ещё беспощаднее жжёт истомившуюся под его огнём землю… Около скал уже проходить трудно, — они пышут точно накалившиеся печи… Там, где тень, — душно, дышать нечем… Разреженный воздух, кажется, весь обратился в сплошную массу искр… Ночью бы идти здесь, но ночью пол-отряда останется в безднах… Где-то показался зёв пещеры… Глубокий!.. Генерал ввёл туда часть отряда, потом другую… Солдаты на минуту отходили в потёмках от этого режущего блеска… Сверкало всё: и отвесы скал, и изломы кремня, и воздух. Небо, несмотря на его опаловый цвет, тоже слепило глаза… В пещере слышалось шуршание заползавших в глубину змей. Вверху из потёмок точно виноградные лозы висели кистями сцепившиеся нетопыри, летучие мыши… Генерал приказал пока сложить здесь раненых и пленных. Оставил с ними несколько конвойных. Сюда же принесли и поражённых солнечным ударом. К вечеру они, если отойдут, должны будут соединиться с отрядом…
После одного из поворотов, башня неожиданно выросла вдали…
Теперь уже она была не на высоте…
Отряд сам поднялся в уровень с нею, — и она чернела, молчаливая, грозная, выжидающая. Вверху, в безветрии повис значок муртазегита… В бойницах ни души… Башня казалась оставленной.
Но только казалась!.. Тут стояла такая тишина, такая подавляющая тишина, точно весь мир умер, а жива одна всемогущая, всё победившая и никем не побеждённая смерть… Орёл спустился на башню и тотчас же быстро взвился оттуда… И его обмануло её молчание. Но говор голосов изнутри испугал горного хищника… А мост всё так же висит, тонкий и одинокий, над бездной… Неровный! Отсюда уже видна его головокружащая дуга… Вся видна… Никому не верится, чтобы по нём можно было пройти… Кому, впрочем?.. Из тех, что остановились здесь, — не многим, удастся, пожалуй… Ведь, мюриды, засевшие в башне, твёрдо решились умереть, перебив как можно более врагов… Разумеется, можно было бы ударами пушек, ядрами, разнести это разбойничье гнездо… Но вместе с первобытною каменною кладкою башни в пропасть рухнул бы и самый мост, а тогда перебраться туда — в салтинские пределы уже не будет никакой возможности…
— Как мы одолеем это?.. — задумался было генерал, да вовремя вспомнил слова старого кавказца: «По обыкновенной, человеческой логике, невозможно, ну, а прикажут, — сделаем»…
И он широко перекрестился… Надо было бы вызвать охотников, но ему жаль было храбрейших из своих солдат. Их бы всех перестреляли ранее, чем они подошли к башне. Пока он смотрел в зрительную трубку, на верх башни вышел какой-то мюрид и стал тоже оглядывать наш отряд. Счастливая мысль пришла в голову командующему. В самом деле, дробить силы — значило бы отдавать людей поодиночке на жертву засевшим там отважным узденям. Не лучше ли всей массой ринуться туда, и там будь, что будет… Он приказал отвести в сторону парк и обозы… Раненые остались внизу… Они теперь не затрудняли отряда…
— Ну, братцы, мне деваться некуда… Я пойду с вами. Полковник, — обратился он к начальнику штаба, — если меня убьют, вы примете команду.
Высокий, рослый хохол в мундире генерального штаба отдал честь…
— Смотрите, отступления не будет ни под каким видом! Салты должны быть взяты…
— Слушаю-с! — спокойно отвечал тот: «Должны-де, так и будут наши! О чём тут много разговаривать»…
Солдаты выстроились… Тихо было в рядах их, так же тихо, как в той башне…
— Ну, ребята! — начал генерал. — Сегодня одно дело вы сделали, — а уж ночевать нам придётся по ту сторону, за этой ямой! — а сам про себя думает: «Хороша яма, — и дна ей не видать»… — Кончим, — с полгоря нам останется. До Салтов два дня только. Мы этот переход мигом одолеем… Тем, кто уцелеет, легко будет… А кто падёт в бою — славною смертью воина, — того Господь примет… Значит, и рассуждать нечего… Ну… ребята… с Богом!..
Тихо двинулись солдаты… Всё ближе и ближе подходят они к предательской башне, а она замерла и молчит… Вот уже на ружейный выстрел… Ещё несколько шагов, — и разом вся она оделась дымом и молниями выстрелов. Изо всех бойниц десятки железных дул огонь и смерть выбросили в наш отряд.
— Беглым шагом марш! — крикнул генерал и сам впереди кинулся к ней.
Живо обогнали его солдаты. Дробь барабанов, бивших атаку, кровожадно раздавалась перед ними… В бойницах и на кровлях показались мюриды. Люди падали, на отсталых не было, — вся эта масса, повинуясь дисциплине, бежала на верную смерть как на праздник… «Урра! Урра!» — слышится впереди. Много посеяли товарищей солдаты, много ещё упадёт, но те, которые добились до цели, остановились и затоптались. Нельзя было дать им ни одного мгновения остаться так. Паника могла охватить их, — и они, кинувшись назад, потеряли бы гораздо более…
— Ломай ворота, ребята! — бодро крикнул им генерал. — Нащупаем их штыками. Ишь, схоронились…
Но скорей можно было приказать, чем исполнить это. Ворота внутри были заделаны кирпичами. Первые солдаты, заработавшие прикладами над этой кладкой, пали, насмерть сражённые мюридами. Те воспользовались каждым пробитым ими отверстием и положили смельчаков, но тут вся масса нахлынула. Толстый капитан опять почувствовал себя в своей сфере. Он восторженно размахивал руками.
— Душки… Голубчики мои! А ну-ка ещё… А ну-ка ещё… — уже в каком-то бессознательном порыве орал он.
Окуренные пороховым дымом «душки» и без него работали вовсю.
— Ангелочки! Теперь мы им, прохвостам, накладём и за Голофеевскую и за Сухарную… Немало мы порастеряли товарищей тогда!
А сам не обращает никакого внимание на то, что какая-то пуля скользнула по его плечу, и на рыжее сукно его сюртука сочится из лёгкой раны кровь. Он сам выхватил у убитого солдата ружьё и давай работать прикладом…
— Постой, постой, ребятушки!..
Старый артиллерист подобрался.
— Отойди в сторону… Подальше… Вот мы им покажем.
В руках у него громадный патрон, набитый порохом. Он всунул его в скважину. Внизу висел фитиль. Зажёг и побежал… Едва успели отойти наши, показался красный огонёк, — что-то взвизгнуло, ахнуло, и точно чудом в башне открылось безобразно зияющее отверстие. Мигом кинулись туда солдаты, но мюриды уже отбросили прочь ружья и с шашками наголо, с кинжалами в зубах, выбежали навстречу. Солдаты гнали узденей по лестницам башни… Много падало, но место павших тотчас же занимали другие. Смерть уже не пугала никого. Шаг за шагом отступали мюриды, — и очутились под знойным и слепящим солнцем на кровле. Полумрака больше не было, — он остался внизу. Первый солдат, показавшийся на свет за ними, полетел вниз обезглавленный, второй тоже. Третьему удалось как-то проскользнуть, и шашка мюрида прорезала пустое пространство, зато тот сам схватил его за пояс. Уздени кинулись на помощь своему, но было уже поздно — снизу из потёмок явились несколько солдат, и на крохотной площадке завязался последний бой. Заметив, что солдаты на мгновение отхлынули, мюрид бросается к молодому новобранцу, как пантера овцу схватывает его и, сжимая мощными руками, с криком «Алла-Алла!» смелым прыжком рушится в зияющую позади башни пропасть. Оба ударились о камень моста, перевернулись в воздухе и, не разжимая обвившихся рук, скрылись в страшной глубине. Теперь здесь уже не было никого, кроме наших…
— Молодцы драться!.. — одобрил мюридов пришедший в себе толстый капитан.
Мост был открыт, но теперь наступила самая страшная минута. На другой башне за мостом торчал тоже значок муртазегита… Каждый, сунувшийся на узкий мост над бездной, сразу был бы сорван с него пулею метких абреков… Генерал, войдя в башню, долго смотрел туда…
— Дайте трубку! — приказал он.
Уже несколько минут внимательного наблюдения.
— Полковник, пожалуйте сюда. Взгляните вы. Не обманываюсь ли я… Как вам кажется? Ведь эта башня стоит, несколько отступя от моста… Да?
Тот весь ушёл в зрение… И только вместо ответа спросил коротко (старые кавказцы не любили много разговаривать):
— Прикажете выдвинуть горные орудия?..
— Да. Ведь я не ошибаюсь, нет? С башней не повредим моста?
— Нет, если прицел взять верно и стрелять издали. Иначе мост от движения воздуха рухнет.
— Ну-да, ну-да… Вам нечего говорить. Вы знаете, сколько от этого зависит. Вся экспедиция на волоске.
Начальник штаба взглянул туда и усмехнулся: «Действительно, на волоске», — так тонок и лёгок был этот мост.
Он спокойно пошёл назад. Из той башни, из-за бездны, несколько пуль ему вдогонку шлёпнулась о камень скалы… Скоро орудия были выдвинуты на требуемую дистанцию… Их зарядили ядрами. Спокойная и ровная канонада началась. Солдаты, сообразив, в чём дело, весело наблюдали: чем всё это кончится. Башни горцы складывают из шифера и обломков скал, без всякого цемента. Не прошло и десяти минут, не успели наши сделать и двадцати выстрелов, как верхняя половина башни рухнула, взрыв целое облако пыли, щебня и осколков…
— Молодцы, ребята!.. Ну-ка ещё…
Поняв, в чём дело, десятки мюридов, единственно уцелевшие, выбежали оттуда, и вслед за ними она рухнула уже вся — безобразною грудою неровно наломанного камня и плитняка. Мюриды засели за нею; ядра и тут не давали возможности укрыться, как следовало бы… Скоро горцам пришлось разбежаться за окрестные скалы, но они были ниже той вершины, на которой стояли наши… Мост был свободен, но никто ещё не решался пройти по этому волоску над бездной. Когда его выстроили? Никто не знал. Может быть, это был жалкий остаток от грандиозного некогда сооружения… Века изгрызли его и оставили ничтожную кость от целого остова… Страшно было подумать о необходимости одолеть его. Одни горские лошади, смело помахивая головой, прошли туда, но и то не совсем благополучно: у одной, посреди моста, лопнула подпруга, — и несчастное животное вместе со всадником, нелепо кружась, полетело в бездну… Сторожко, похрапывая и поводя раздувающимися ноздрями, двинулась следующая…
— Ну, ребята, марш! Полдела осталось!
Впереди двинулся генерал… Он нарочно остановился посреди моста, где этот мост слегка расширялся, и пропустил мимо весь авангард. Пули уцелевших мюридов посвистывали с унылым стоном около, но на это уж никто не обращал внимания. Бездна теперь как жадно раскрытая пасть чудовища тянула к себе…
— Смелей-смелей, товарищи! — кричал генерал. — Да не смотри вниз. В небо гляди!..
Люди так и шли, — глядя перед собою в синюю даль. Один солдат взглянул было в бездну и вдруг почувствовал, что тонкий мост под ним шатается… Расставил руки, точно за воздух хотел схватиться, и грузно, тяжело, с помертвелым лицом, рухнул. «Со святыми упокой!» — перекрестился шедший за ним и, уж не опуская головы, добрался до другого конца…
— Что же вы? — спросил казачий офицер толстого капитана.
— Послушайте… войсковой старшина! Считаете вы меня за труса?
— Ну, вот… Слава Богу, показали вы себя… Сейчас ведь только.
— Я сам знаю. И никогда трусом не был; в нашем роду о таких и не слыхали, а я чувствую, что сейчас, сию минуту, не могу пройти через этот проклятый каменный рукав. Не могу и не могу. Умру на середине… или застрелюсь…
— Послушайте. С ума вы что ли…
— Не с ума… И не трус я, а не могу… И молод был, — не мог… Ах! Зачем меня не убили?!.
— Какие глупости. Вы зажмурьтесь, а вас за рукав солдат…
— Это перед генералом-то… с поводырём?.. Что я за калика перехожая?!. — попробовал было пошутить он и вдруг заплакал. — Нет, мне одно остаётся… одно! Я застрелюсь…
— Капитан Холщевников! — послышалось издали.
— Генерал кличет. Скорее оправьтесь.
— А вы правы, капитан: по обыкновенной человеческой логике нельзя, а приказали, — и сделалось можно…
И вдруг Холщевникову стало совестно… Неужели это он так смалодушествовал?.. Что-то угаром поднялось ему в голову. Краска бросилась в лицо…
— Забудьте, пожалуйста! — тихо обратился он к казаку.
Капитан смело пошёл теперь на мост. Ему было стыдно за одну минуту трусости. Он вдруг остановился на самом краю этого узенького мостика и заговорил с генералом…
— Ну, идите, идите, капитан, — там поговорим… Видите, — задерживаете…
Орудия сняли с лафетов и перевозили их на хребтах коней. Лафеты несли на руках…
До поздней ночи продолжался этот переход через бездну.
Как-то налетело облачко, окутало всё… В его мгле трудно было двигаться вперёд. На камне после него осталась влага. Солдаты скользили, — несколько не осилило и полетело в бездну. Ночью зажгли факелы, и в чёрном царстве безлунной ночи под блеском этих факелов, мост казался какою-то страшно костлявою, багровою рукою, которую одна скала протянула к другой и положила ей ладонью на самое темя… Обоза нельзя было доставить, — перевьючили его на лошадей. Телеги, припасы и раненых решили вместе с двумя взводами солдат оставить в пещере внизу и в уцелевшей башне наверху. Только к утру кончилась переправа через бездну…
Первые лучи озарили усталый отряд по ту сторону её.
Нечего было и думать сегодня идти дальше. Солдаты нуждались в отдыхе…
— Ну!.. Здесь днёвка… Через два дня, ребята, мы в Салтах и там отдохнём, как следует.
— Теперь Салты наши! — торжествующим голосом проговорил генерал, обращаясь к окружающим.
— И Брызгалов спасён!..
— Если уж не сдался.
— Брызгалов?! — изумился казачий офицер.
— Степана Фёдоровича я давно знаю! — проговорил Холщевников. — Вместе в Ахульго бедствовали… Он не сдастся.
— А если ему есть нечего?
— Взорвёт крепость — это верно. Он не из тех, что кладут оружие. Да он, поди, и слов таких не знает…
Опять в Салтах
Степан Груздев давно уже замечал, что горцы что-то скрывают от него.
Русского пленного, когда старики собирались в джамаат, начали даже приковывать на цепь, чего давно с ним не делали…
Уже выздоровевший, после недавней попытки — неудавшейся, впрочем — уйти в Турцию, — старик Гассан, пленником которого Груздев считался, даже не старался извинить себя. Прежде он говаривал в таких случаях:
— Ты воин, а не баба. Только бабу можно удержать в плену хорошим обращением. Мужчину одни цепи остановят от побега.
Теперь же он только жался, хмурился и коротко говорил:
— Ложись, кунак, — ковать тебя велено!..
— Кто велел-то? — спрашивал Степан Груздев, вполне понимая, что сам Гассан на это не пошёл бы.
— Кто велел?.. Мулла велел… Я тут не причём. Селтанет даже плакала. Она тебя любит.
— Баба ласковая, что толковать, — одобрил её Груздев. — Одно — по вашему обычаю, хлибка больно…
Степан Груздев только головой покачал, по-видимому не обращая никакого внимания на то, что старик замыкал в это время замки его цепей…
«На пёсьем положении, с чего бы это?» — рассуждал Груздев…
Но как-то утром пришла к нему Селтанет, — на ней лица не было… Долго она ходила вокруг него, видимо, хотела расспросить о чём-то и не решалась.
— Урус… Эй, дядя Иван, ты не злой, хороший… Скажи мне… Только отцу не болтай, слышишь…
— Да что? Ты толком говори… Иван, Иван… Сказывал я тебе, что Степаном меня крестили…
— Ты — храбрый джигит… Когда тебя в плен взяли, у тебя на груди серебряный знак был даже…
— Не улещай, не улещай… Чего надо-то?.. И без тебя знаю… За Ильгеринское дело Егория получил. Здорово мы вас тогда раскатали… Едва ноги унесли ваши…
— Я знаю, что ты храбр… Скажи, — неужели русские могут взять Салты? Ну, вот… положим подошли ваши джигиты… неужели они доберутся до нас?.. Ведь, у нас и девушки защищаться будут. Все возьмут ружья и кинжалы…
Степан Груздев вдруг за сердце схватился… Оно у него забилось с болью… И волнение он боялся выдать, и радостно ему было… Он принудил себя насупиться и сурово посмотрел на глазастую женщину. И вдруг заговорил по-русски, забыв, что она не понимает этого языка.
— Ах, ты, сорока-сорока!.. Ну, чего таращишься?.. Большая выросла, а глупее воробья малого… Да разве есть на свете такие места, куда бы наши солдаты не взошли?.. Дура ты дура!.. Ты таперчи подумай — сыграл горнист сигнал: «ребята храбрые вперёд, — дирекция направо!» (и для пояснения, он протрубил ей это в кулак). Что ж, мы стоять будем?.. Должны мы при этом случае присягу сполнять?.. Ты Ахульго знаешь?.. Почище ваших Салтов будут… А мы какими орлами с сердарем Ермоловым влетели туда! Нам, брат, рассуждать не полагается… Скомандовали, — и кончено! Мало ли чего нельзя, как барабаны вдарили, — и можно… То-то!
Потом, опомнившись, он перевёл ей, это по-аварски.
— Ну, а что русские солдаты делают, когда они ворвутся?
— Боем? То есть, по согласу, или силком?
— Нет, после сражения?
— Беда вам тогда: от аула одни головни останутся. Ни единой целой сакли. И зверю, и птице небесной деваться некуда… Гимры мы под корень срезали, Баязетли — точно бритвой… Где стоял Сурхан, — голый камень теперь… Ну, а если добром — с хлебом и солью — первые друзья! Пальцем не тронем, не только что…
— Ну, а с женщинами и девушками как?
— С бабой русский солдат не сражается… — и он засмеялся. Ему с каждым мигом делалось всё веселее. — Вот погоди, — скоро и до ваших Салтов доберутся… Так ты и знай — чуть что, сейчас сюда с Аслан-Коз. Я вас спасу. Не то — пропадом пропадёте… Да гляди — не дури! За кинжал не хватайся… Тихо, смирно веди себя. А там уж моё дело — приберечь вас… Наш солдат добёр, только ты не дразни его, а то как расколыхаешь, так он и тебя штыком ткнёт. С ним тоже шутки плохие… А ты вот что скажи мне, Джансеида хочешь увидеть?
У той только глаза засверкали в ответ. Она отвернулась к окну сакли, в которое зеленела ветка карагача, и голубело вдали безоблачное небо.
— Вижу, — хочешь… Мы тебе всё это обляпаем. На меня надейся: я тебя не выдам! Только надо мне знать, — что у вас на джамаате задумали… Всё едино — я помешать не могу…
— Ничего не задумали. Русские близко… Ильгеринские прошли… Две башни у Субархинского моста взяли и снесли прочь… Теперь к нам подвигаются…
Страшно хотелось Степану «ура» крикнуть, да во время поостерёгся.
— Ну, а вы что дорогим гостям готовите? Какое угощение?
— Пули льют, смолу варят… Ежели они в аул ворвутся…
— Будь спокойна, — раз уж пришли, так ворвутся. Это как пить дать… Они не шутят, наши… Даром тоже гулять в горы не ходят. Эх вы, азия!.. Теперь одно скажу: если не покоритесь, хвоста от ваших Салтов не останется… Не гляди, что в поднебесье забрались. Куда орлу дорога, туда и солдат придёт… Не удержишь его…
Вечером, в этот день — старик Гассан цепи надеть надел на Груздева, но приковать его забыл к стене… Солдат, благодаря этому, мог выползти из сакли и усесться в свой любимый уголок, где груда скал нависла над бездной. Туман уже курился оттуда, переполненный запахом цветов, дымом кизяка. Туман мало-помалу и ущелья заполнял, медленно цепляясь вверх по их скалам и откосам. Горные вершины величаво плавали в целом море жёлтого, умирающего света. В рубиновом блеске сияли их утёсы… Чу! Что это? — Закурился дымок на одном. На некотором расстоянии повторилось то же… Вон на другой вершине тот же дымок — тонкою струйкою вытянулся вверх и стоит, не рассеиваясь в недвижном воздухе… Степан Груздев сообразил, что огня в заревом блеске не увидеть всё равно… А дымок подымается на тех местах, где стоят сигнальные столбы, обвитые соломой… Горцы, значит, дают знать окрестностям, что враг близко. Он уже ворвался в этот горный и считавшийся неприступным край… «Помогай, Боже! Помогай, Боже!..» — и в умилении, забыв, что сигналы эти вражьи, Степан Груздев назвал даже их «Господними свечками»… «Что свечки воска ярого горят… Горят, горят… Голубчики!.. На выручку»…
Гасло мало-помалу рубиновое пламя ледников и утёсов, блек, темнел жёлтый фон чистого заката, ночь ползла с запада, спокойная, прохладная, молчаливая, со своею мистическою тьмою… И как только погасла одна гора, Степан Груздев вместе с дымком сигнального столба увидел под ним и крохотный огнистый след…
— Жгут, жгут!.. — бессмысленно повторял он, радуясь близости своих.
Вверху на джамаате тоже заметили, — шум и говор донеслись оттуда… Шум и говор росли… Очевидно, между стариками подымался спор, — и отголоски его по узеньким, похожим на ложа горных потоков, улочкам, как в трубу раздавались сюда.
«Ну, до греха — домой уйти!» — сообразил Груздев.
Он вернулся в саклю и прилёг к той стене, к которой должны были приковываться его цепи… Ему недолго пришлось лежать. В дверях блеснул факел. Показался угрюмый Гассан.
— Спишь? — коротко спросил он у солдата, не входя в саклю.
— Спал… А теперь ты разбудил. Чего ещё?
— Так… Я ничего… Ты молись своему Богу!..
— Я всегда молюсь. Я, брат, Бога вот как помню… Нам Его забывать, Милостивого, не приходится.
— Вот, вот! Ты проси Его, чтобы русские стороной прошли мимо Салтов.
— Какие русские? — притворился Груздев ничего непонимающим.
— Русские идут сюда, ваши… — угрюмо сообщил ему Гассан. — Ильгеринские леса прошли… Башни у Субархинского моста тоже. Мы не знаем, куда ваши направятся… Может быть, и не к нам… Но только если сюда, так на джамаате решили, — отрубить тебе голову и послать её к вашим…
— Гостинец! — усмехнулся Груздев. — Ну, что ж, помирать, так помирать… Попа нет — отысповедаться. Да Господь простит. Мученическая смерть — то же причастие святых Его Таин… Так и скажи своему джамаату, — перешёл он на лезгинский язык, — плевать-де Груздев на вас хотел и смерти не боится… А от вашего поганого аула не останется и на воронье гнездо соломы… Наши добры-добры, но при случае и грозны бывают.
Гассан ещё раз кинул на него мрачный взгляд и пошёл прочь…
— Молись!?. Мы молиться не забываем… А только не за себя, а за то, чтобы помог Господь милостивый разбойный аул ваш снести прочь… А там будь, что будет!..
И он повернулся к стене и заснул было, — только сон бежал от него прочь.
Сегодня и пол сакли казался ему слишком твёрдым, и ночь не приносила с собою прохлады… В ауле вверху всё смолкло… Собаки ещё лаяли с плоских кровель, да и они скоро заснули. Стало тихо, так тихо, что сухой звон цикад снизу доносился ясно и резко, точно это было рядом. Пташка шелохнулась на ветке у окна, и это расслышал Груздев. Он тихо поднялся. Что-то молнией блеснуло у него в голове… Грудь заходила, в висках застучало. Он поднял свои цепи и, чтобы не делать шума, вышел с ними, старательно переставляя ноги, — не зазвенело бы невзначай… Положим, около — никого, да ночью каждый звук снизу вверх не пропадёт. Ещё сверху не долетит, — а вверх, как воздушный пузырёк в воде, так и подымется. Где-то со сна тявкнула собака, — и опять безмолвие… Ни зги не видать. Всё небо в звёздах, — а внизу тьма кромешная… Млечный Путь выступил — ангельскою дорожкою считал его Груздев… Так выступил — простым глазом различишь его несчётные звёзды… «Что ж, — если и поймают, всё равно голову срубят… Русские покажутся, — тоже башку долой… Одно на одно… Так сем-ка я им навстречу, голубчикам. Всё путь покажу… А что они сюда идут именно, — куда же иначе им?.. Первый аул по всей округе… Возьми его, — всё остальное смирится… Только одуматься надо»… Он пошёл к своему месту в скалах. Дорога что, — дорогу он и ощупью найдёт… Дорога — пустое дело. К рассвету-то он в Чёрной балке будет… А пока здесь хватятся, и в лесу схоронится… Дело самое пустое… Да далеко за ним идти побоятся… У себя теперь будут оборону готовить…
Он всмотрелся в мрак, расстилавшийся перед ним… Теперь в нём всё пропадало — и вершины, и горы, и ущелья… Одни звёзды сияли в небесах… Вон одна покатилась, оставив лёгкий след на мгновение… Но — что это?.. Точно примерещилось что-то на одной из вершин… Нет, пониже… Да — это на горной плоскости, верстах в десяти отсюда… Он знает это место. Днём его видел… Точно огоньки… Блеснут и пропадут… Ещё блеснули, остались… Опять занесло их будто облаком. Не звёзды же небесные пали туда?.. Нет, разумеется… Аула там отродясь не бывало. Чему же там гореть… Неужли наши костры?.. Они и должны быть… Близко-близко, значит, свои… Вон куда им надо навстречу. Только как же они разбили там лагерь, — ведь на высоте аул около. Днём его видно было. На его плоских кровлях и белых саклях утренняя заря всегда розовыми лучами играет… Да-да… Вон он. Нет, не дали наши промаха… Запылал аул… Далеко — выстрелов не слыхать, — а видно, как огонь бежит по слепившимся саклям вверх; ишь вытянулся тонким языком, — обвился, должно быть, вокруг минарета мечети… Ну, теперь и Степан, уходи! Ждать добра нечего!..
Он тихо стал на колени…
— Господи!.. Спаси… «Да воскреснет Бог и расточатся врази его… И да бежат от лица Его ненавидящие Его… Яко исчезает дым, тако да исчезнут»… Как дальше?.. Всё равно: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, помилуй мя!..»
Он в последний раз взглянул на спящий аул…
Только в сакле муллы у мечети мелькал огонёк… Всё остальное пряталось в непроглядную тьму…
— Прощай, Салты!..
И он тихо пополз вниз знакомою тропинкою, которою так часто спускался за водою… тихо-тихо. Так тихо, что даже шорох цепей о выступы камня слышался только здесь, у самого уха… А дальше внимательный слух не отличил бы его в задумчивом молчании горской ночи… Ступеньки… Он их хорошо знает. Сколько ходил по ним, — не оступиться бы теперь… Но ни один камешек из-под ног не полетел вниз… Днём Груздев, зажмуря глаза, мог бы пройти… А тут чувство опасности ещё обострило все его ощущения… Что это за шорох около?.. Сухой шорох. Змея лежала, должно быть, на нагретом камне — и теперь в колючки заползла от него… Внизу далеко-далеко что-то ухнуло; — кабана, верно, спугнуло, и он ринулся в чащу… А звон цикад всё громче и громче, и сквозь него слышится теперь меланхолический ропот фонтана. Точно этой безмолвной и грустной ночи жалуется и плачет вода… Вот и фонтан. Степан подставил голову его освежающей струе… Фу, как хорошо!.. Напился потом. Присел у бассейна. Сколько раз горские девушки вместо себя посылали его сюда… Бабье дело сполнял он, что ж!.. Всякая работа — благо перед Господом. Теперь, коли Бог услышит его молитву, — Груздев опять будет между своими… И ружьё возьмёт, и покажет, что он не забыл ещё службы… Он отыскал большой камень и поднял его. Положил ногу с цепью на другой и изо всей силы ударил по звену… По третьему разу оно хрупнуло и распалось… Одна нога была свободна. Теперь ему легче будет идти. В руках понесёт железо. На другой ноге цепь он собьёт внизу. И без того этот удар пронзительно и визгливо раздался в теснине. Ещё чего доброго услышит Гассан вверху, проснётся и поймёт, что это вскрикнуло железо под камнем… Пойдёт посмотреть, что делает пленник, — ан его и нет. Широко и истово перекрестился Степан и шибко-шибко пошёл вниз…
Теперь старому солдату ни до чего не было дела.
Он срывался с камней и удерживался на других; иной раз земля точно уходила у него из-под ног… Случалось катиться там, где было мягко, и он даже радовался этому — на ногах так быстро не сползёшь, а каждое мгновение всё больше и больше увеличивало расстояние между ним и «нехристью», оставшеюся позади. Сползая, ему случалось попадать в колючки. Они рвали ему тело, царапали лицо, вонзались в руки, но пока некогда было обращать внимания на это… Он как преследуемый волк отлёживался в чаще, в траве, в кустах. Кругом мрак тысячами слепых глаз смотрел ему в душу, — и он сам смотрел зрячими, но ничего не видевшими в этот мрак… Во все стороны, потревоженные в надёжных убежищах, расползались змеи… Некоторые в темноте шипели… Каждую минуту любая гадина могла его ужалить насмерть, он даже изредка чувствовал её характерный мускусный запах, — но путаться, осторожничать было некогда. И Степан, отлежавшись, полз всё дальше и дальше… Сколько времени прошло, много ли осталось ночи? Почём он знал? Ему надо было уйти как можно дальше, и, пока мрак этот спасительно висел над ним, он знал, что безопасен от человека. А человек здесь являлся для него врагом, опаснее и ужаснее всякой змеи и дикого зверя. Чу… В темноте что-то зарыдало, завопило, застонало… Чекалки пробежали куда-то… Заплакал филин вверху, засмеялась горская птичка одна, которую Груздев часто слышал по ночам, но никогда её не видел. Он знал только, что лезгины считали её «сестрицей шайтана», но Груздев, боявшийся русского чёрта, — лезгинского шайтана просто презирал и был спокоен. «Что он, дурак, может крещёной душе?» — говорил он. Что-то чёрное, громадное зашуршало вверху, в листве. Но тут уже Груздев опять выбился к воде и понял, что он внизу у потока, пробегающего по ущелью. В это ущелье могуче упёрлась гора, носящая на своём темени аул Салты. Живо сделал беглец эту дорогу, так живо, что и сам подивился и только теперь понял, что он устал и очень… Он нашёл два камня, — разбил цепь на другой ноге и теперь два её конца подвязал к поясу, вокруг которого шёл большой железный обруч. Он прилёг к песчаной промоине. Струйки в перегонку бежали мимо, булькая, всхлипывая, радуясь и плачась в одно и то же время как ребёнок, засыпающий в колыбели…
Степан Груздев сообразил, что у него есть несколько минут на отдых.
Вверху ни одна собака не залаяла, — значит, его побег не открыт, его не заметили, и тревога не поднялась в ауле.
Тут внизу густо лежал туман. Ноги ныли, и он вытягивал их перед собою, разминая в коленях. Исцарапанное тело болело, изорванные колючками руки тоже… Но руки и тело, Господь с ними! Вот ноги — иное дело… Без ног далеко не уйдёшь, — а идти надо, и скоро надо идти… Был бы айран, — он бы натёр им икры и колени… Или, если бы в темноте можно было разглядеть сумах. Да его, пожалуй, и нет здесь внизу… Сумах весь у скал наверху растёт. Он любит почву, насквозь сожжённую солнцем!.. Кстати Степан вспомнил, как казаки лечат своих загнанных, усталых и севших на ноги коней. Они ставят их на несколько времени в текучую воду. Не поможет ли и ему то же самое? Груздев, долго не думая, спустился в воду. Струйки бежали, лаская изодранную кожу его тела, тихо и нежно лаская… Бодрящий холодок охватывал его тело, и солдат чувствовал, как что-то свежее, прилив какой-то силы снизу вверх разливается по всем его жилам и нервам. Беглец испытывал, как усталь сама уходила прочь, и через несколько минут бодро уже перешёл через поток и двинулся в сплошную чащу леса перед ним… Когда вверху он уже мог различить очертания лесных вершин, следовательно, — ночной мрак уже поддавался первому пробуждению рассвета, — Степан оглянулся. Опасные места остались позади. В обычное время эта балка страшна была бы, но не теперь, когда горцы дома, и у себя ждали русских, и готовились к обороне… Разве разбитые и бежавшие из других аулов могли бы забраться сюда, — но и то едва ли. Им путь лежал в другую сторону, совсем в другую, им незачем было соваться в эти места. Здесь они столкнулись лицом к лицу с русскими…
— Ах, скорее бы до своих добраться!.. Скорее бы…
Он знал, что для наших будет неоценённо его знание гор и подступков к Салтам. Он торопился не только выйти из смертельной опасности, но и сослужить службу… Он считал теперь часы и минуты… Всё, что ещё несколько дней назад казалось ему несбыточным сном, невозможным счастьем — теперь становилось близкою-близкою явью… «Наши, наши», — повторял он про себя, и от этого слова силы его удваивались, и он всё быстрее и быстрее шёл вперёд.
Подымаясь на один откос, когда солнце уж горело на вершинах гор, он оглянулся.
Салты выступали в розовом блеске. Плоские кровли аула сверкали как ладони, подставленные солнцу. Вон мечеть с зелёным куполом и белым минаретом. Теперь схватились его, кличут, ищут. Старик Гассан, впрочем, не особенно сокрушается. Он, поди, радуется. Не гляди, что пленный, — кунаками были… Не особенно сладко кунаку на площади джамаата собственноручно другу голову рубить… А ведь пришлось бы…
— Ну, да теперь поглядим. Сам у меня «аману» запросит!.. — и он усмехнулся. — Девчонок надо от беды вызволит, а тех, бритолобых, пущай, чтоб на джамаате, негодные, не галдели…
Не замечая голода, он шёл всё вперёд и вперёд. В полдень поел каких-то ягод, корней выкопал, — пожевал… Вечером русский отряд был уже близко. С одной из гор увидел Груздев тёмную массу солдат на походе. Когда стала ночь, вдали перед ним вдруг сверкнули костры, и послышалось ржание лошадей… Степан кинулся туда…
— Свой… Не стреляй! — ещё загодя он кричал часовым.
— Как свой?! — донеслось до него по ветру.
— Свой… Солдат… Из плену ушёл… Свой…
И непрошеные слёзы катились по серому, огрубелому лицу Груздева…
Поход титанов
Наш отряд был уже внизу.
Точно на гранитной ладони, приподнятой к самому небу, белел на казавшейся недосягаемою вышине аул Салты…
Генерал пристально и озабоченно всматривался туда и пожимал только плечами…
— Эк, негодяи какие! — вырвалось у него. — Выдумают же, право… На какие вышки взбираются… Поди, достань их…
Лучи солнца в это мгновение из-за облака золотистою полосою обдали слепившиеся сакли.
— Достань-ка!..
— Никто, как Бог! — отозвался позади начальник штаба.
— Бог… На Бога надейся… — оглянулся генерал.
— И сами не плошаем, ваше превосходительство. Не в первый раз за такими гнёздами лазить… Я уже говорил с этим пленным солдатом.
— Ну?.. Степан Груздев, кажется? Что же он?..
— Да у него логика простая… «Коли, — говорит, — я оттуда слезть мог, так влезть нам оченно даже способно»…
— Способно!.. А потери?.. Не на его душе они будут…
— Где же их не бывает? На то война… А всё-таки завтра — конец Салтам…
— Достукайтесь до них сначала… Хотя… Салты падут, — всё кругом покорится… А устоят, — так и нам конец, и Брызгалову с амурцами — вечная память! Коли бы крылья были, тогда и я бы не сомневался…
Начальник штаба знал, что смелый и решительный в бою генерал накануне переживал всякие страхи. Полковник поэтому только улыбался себе в усы. Тот это заметил и недовольно насупился.
— Чего вы там… Надо мною, что ли?
— Никак нет, ваше превосходительство… Помните, когда мы муллу Кадура брали?
— Ещё бы не помнить… В самое небо разбойник забрался…
— Ну, так мы его и оттуда стащили…
— Стащили… Ну, Бог с вами… Идите, отдыхайте пока!..
Но сам он успокоиться никак не мог. Он пошёл по биваку, сосредоточенно вглядываясь в лица солдат и точно читал в их чертах, что ему и им обещает загадочное «завтра». Салтинцы по всему Дагестану славились необычайною стойкостью и храбростью. Шамиль их называл «воинами пророка» и «опорою газавата». Сами салтинцы про себя говорили, что они — замок Дагестана… Ключ к нему был когда-то, но его Аллах взял в сады Эдема и спрятал там. И пока Аллах не бросит его своему избраннику, до тех пор никому не удастся отпереть замок. Когда персидский шах воевал Дербент, он послал лучших воинов к Салтам, но те, увидев гордо сидящий на вершине гор аул, вернулись…
— Пошли птиц брать Салты, — сказали они шаху, — людям это сделать невозможно!
Так и уцелели Салты среди всеобщего погрома… «В Салтах всякая девка стоит трёх джигитов», — говорили здесь, потому что на такой выси и в таком хаосе камней, действительно, женщина, вооружённая ружьём, заменяла нескольких мужчин. В бинокль генерал видел, что в этом орлином гнезде каждая сакля является крепостью. Все они были башнями. Вместо окон — прорезанные в их стенах бойницы грозно смотрели всюду, куда только мог добраться враг.
— Ведь, как строятся, как строятся! — вздыхал генерал. — Ни одного подступа, который не обстреливался бы с пяти-шести пунктов. Ну, будет дело! А мечеть — целая крепость. Знали, куда забраться! Знали… А всё-таки мы им всклочим шерсть завтра! — совершенно неожиданно для себя, бодро и весело проговорил он.
— Расчешем мы их, а? — неожиданно обратился он к ближайшему солдату.
— Рады стараться, ваше превосходительство!
— Так расчешем, — а?
— Точно так-с. И без гребенки, ваше превосходительство.
— Где тут Степан Груздев?.. Послать его ко мне!
Но посылать не надо было. Старик оказался около.
Он весело и радостно смотрел на всех и только сквозь слёзы повторял:
— Голубчики, братцы! Двенадцать годов как один день… Думал уже век свековать здесь…
— Здравствуй, молодчинище!
— Здравия желаем вашему превосходительству!
— Рад тебя видеть… Экой орёл! Сколько тебе лет?
— Пятьдесят три…
— Ну, вон как… Долго ты был у них? — вскинул он бровями наверх по направлению к Салтам.
— Двенадцать лет.
— Как тебе жилось?
— Ничего… Народ глупый, а только хороший… Храбрый народ… Ну, и точно, что без пути не обижали… Сами едят и мне дают… Ласковый народ… Мулла только… Он у них всему заводчик… Коли ихних муллов изничтожить, и бунту конец…
— Много ли у них осталось джигитов?
— Настоящие все, ваше превосходительство, на газават пошли. Шуму у них тоже было! Ну, а на селе остались старые, которые… А только драться будут всё равно, что молодые… И девки ихние за ружья возьмутся.
— Ты все пути туда знаешь?
— Точно так, ваше превосходительство!
— И проводить отряд берёшься? Ну, Степан Груздев, сослужишь службу, — я тебя к Георгию с бантом представлю… О деньгах говорить нечего… За все двенадцать лет получишь…
— Дозвольте мне только в ряды…
— Что такое?
— Как доведу отряд, дозвольте в строй… Что ж я, старый солдат, смотреть буду, как молодые дерутся!..
— Ну, хорошо… Спасибо тебе, старик! Покажи-ка молодым, как при Ермолове мы в горы хаживали…
— Рад стараться!
Степан Груздев пошёл к ротному котлу. Целый вечер он был молчалив и ни слова не отвечал на расспросы товарищей. Он обдумывал, как бы лучше подступиться к Салтам, перебирал в памяти все тропинки туда… Лошадей, которые везли орудия, надо было оставить внизу. Им бы не повернуться с пушками на узеньких карнизах… А орудия были необходимы. Степан понимал, что без них не разнесёшь горного гнезда… Он опять пошёл туда, где, по его расчёту, должен был генерал. На счастье Груздева, тот, действительно, вышел из палатки и в бинокль смотрел на горы кругом… Закат огнём обдавал занёсшиеся в поднебесье аулы… Салты точно из одного куска коралла, розовели на самой маковке крутого утёса… Лагерь стихал, и теперь внизу слышался только шум воды да тихий говор листвы. Ветерок медленно струился по ущелью, точно перешёптывался с каждым платаном, пересчитывал, все ли ветки целы у карагача, и срывал лёгкие лепестки с «ночных красавиц»…
— Здорово, служба! Ты ко мне? — заметил, наконец, Груздева генерал.
— Точно так, ваше превосходительство!
— Что надо?
— Насчёт орудий. На конях их неспособно будет… Надо на людях.
— Зайди ко мне в палатку, старик!
Уже ночь наступила. Запад гас… С востока синяя темень тихо-тихо надвигалась на весь этот горный край. Салты ещё светились на высоте будто жертва, обречённая смерти! В ущельях становилось сыро… Белые туманы вставали со дна долин и точно гигантские привидения поднимались, широко распуская складки своих одежд и рукавов над падями и трущобами Дагестана. Беззвёздная, точно слепая ночь… Вверху — в аулах люди видели яркие очи неба, — здесь, внизу мгла заслоняла их… Именно слепая ночь подкрадывалась к биваку, и только жёлтые пятна костров разгоняли её мрак… На окрестные холмы выставили часовых… Секреты выдвинули в горы… Каждую минуту надо быть начеку. Самые опасные места кругом… Сердце Дагестана билось тревожно… Спать приходилось в полглаза… Далеко-далеко раздавалось печальное и протяжное «слушай!» — раза два в ночь где-то вспыхивали выстрелы и снова гасли… Что-нибудь подозрительным шумом обманывало секреты!.. Тишина не нарушалась даже говором водопада вдали. Он стал глуше теперь, точно и его испугало что-то зловещее, носившееся над лагерем.
К утру костры погасли.
Сырость проникала до костей… Солдаты напрасно кутались в шинели.
— Ну, и сторона! — вздыхали проснувшиеся.
Как только первые лучи рассвета зажгли каменные алтари дагестанских вершин и сверкнули на серебряной чаше Шахдага, — в ущелье резко и звонко запела труба горниста… Сигнал был подхвачен барабанами… Груздев вышел из палатки, где спал, и перекрестился на восток… Он смотрел именинником… Солдаты живо подымались… Кашевары хлопотали у вновь разложенных костров. Надо было теперь накормить всех. Неизвестно, когда ещё придётся отряду варить горячую пищу. Салты вверху сияли и сверкали… Они казались так близки!.. С глиняными верандами, висящими над пропастями, с белыми башнями саклей, с серыми стенами кругом… Ни один дымок оттуда не поднимался в синее-синее небо. Ни в одном дворе горцы сегодня не топили печей… Ждали врага и готовились к бою. Через два часа отряд выстроился… Степан Груздев пока был впереди. Лицо его носило радостное выражение. «Сподобил Господь милостивый своим послужит!» — говорил он про себя, широко крестясь на небо.
Казалось, — никогда ещё солнце юга не пекло так как сегодня. На первом подъёме солдаты уже обливались потом, а было ещё утро… Безоблачное небо с каждым часом раскалялось всё больше… Скалы, не остывшие за ночь, жгли людей, прислонявшихся к ним. Тщетно было искать спасения в тени! Под защитою пылавших жарою утёсов парило, дышалось тяжело. Глаза слепил этот страшный блеск кругом. Невыносимо горели вершины, сияли гладкие точно отполированные поверхности камня, отражавшие солнце как зеркала; пылали зигзаги тропинок по горам, и беспощадно лучились небеса. Даже в их тёмной глубине взгляд не находил отдыха. Оттуда, из неведомых бездн, лилось, казалось, ещё более яркое сияние другого, несравненно более ослепительного солнца… Медь орудий накалялась так, что, подхватывая их, чтобы они не рухнули в пропасти, солдаты обжигались… Штыки впереди искрились, точно пламя падало на их острия с этих чистых сегодня высей. Зелень деревьев никла, — и её объял какой-то стихийный, во всей природе разливавшийся ужас. Тише роптали горные потоки. Вода их была тепла, и аспидное дно из-под золотистых струй сверкало и блистало какими-то чёрными, отражёнными лучами. Кони — они тащили пушки до первого подъёма — выбивались из сил… Тишина стояла кругом. Нигде не было завалов и засад. Всё наличное население Салтов собралось в ауле и на ближайших подступах к нему, над узенькими тропками и лестницами… Солдатам иной раз казалось, что вместе с воздухом они вдыхают пламя — так был зноен и сух воздух. Неистово из теснин и рвов благоухали цветы, одуряя людей… Голова кружилась от этого аромата. Кровь стучала в висках… Всё млело, всё изнемогало… Вдали, в целом океане солнечного огня чудились какие-то миражи, но глаза невольно слипались прежде, чем различали их контуры… Где-то далеко-далеко прозвучал выстрел, и опять зловещая словно что-то подстерегающая тишина… В авангарде люди идут налегке, — им ещё сносно, но главная часть отряда и арьергард едва одолели первый доступ… А там ещё отвеснее и ужаснее поднялась перед ними горная стремнина.
— Неужели сюда? — спросил Груздева старый солдат, шедший около.
— Это ещё что. Это ещё полгоря, а настоящее горе будет дальше…
— Господи, спаси!.. — перекрестился тот. — Ну и вышка… Разбойничий народ… Ему бы как кречету, — всё на припёк, да на припёк, к небу поближе, а от людей подальше. Потому, разве они, азиаты эти, живут? Не живут, а хоронятся. Поди-ка, сними его с вешалки!..
Тут отдохнули недолго… Коней отпрягли. Наши лошади не выдержали бы этого взлёта. Да и на его узинах коню бы не справиться с орудиями… «Ну, ребята, — выручай!» — крикнул генерал, и послушные артиллеристы схватились за гужи. Скрипя лафетами, звеня медью дул об углы и выступы горной породы, двинулись орудия. Страшно было смотреть на солдат после нескольких минут этой нечеловеческой возни. Ни на ком лица не было. Тут едва у самих ноги помещались на невообразимых зигзагах карнизов, а надо было ещё тащить и поднимать орудия. Там, где лафеты не помещались, и зарядные ящики колёсами висели над бездной, под эти колёса, чуть держась на изломе камня, ложились на спину люди и, упираясь руками в лафеты и ящики, подвигали их вперёд до более широких площадок. Слёзы стояли в глазах старых, испытанных солдат… Тут ещё до встречи с врагом смерть грозила на каждом шагу… И не только грозила… Вон один не удержался на ребре утёса и полетел вниз, как-то перекидываясь и вертясь в воздухе… Скоро уже не видать, — пар, стоявший внизу над бездной, поглотил несчастного… Точно жадная пасть чудовища дымилась эта пропасть. Пушка, лишённая таким образом подпоры снизу, со звоном и скрипом сбилась было вниз. Вот и она уже висит над бездной. Но из последних сил надрываются солдаты, другие пробираются к ним и схватываются за гужи… Страшно наливаются кровью лица, глаза выкатываются, шнурками натягиваются жилы… Кажется, ещё мгновение, — и мускулы изорвутся как перетёршиеся верёвки… «Вызволяй, братцы!.. Держи»… Чу! — с треском лопается один гуж… Пушка ещё ниже опускается, и схватившийся за конец этого гужа солдат тоже летит в жадно-раскрытую пасть дымящейся бездны… Но другие рванулись и разом вытащили орудие… Только молодой новобранец впереди не осилил работы… Рухнул вниз — лицом в накалившийся камень тропинки. Рухнул — и недвижен. «Лекаря»… — отзываются где-то позади… Проходят минуты… Бледный и встревоженный молодой врач пробивается вперёд… «Где, где?» — спрашивает он. А видимое дело и самому жутко. Голова кружится… Ноги точно скользят и в бездну тянут… Ему чудится, что каменная тропа из-под него убегает туда, и он схватывается за выступы утёса, за колесо орудия…
— Где, где?..
— Здесь, пожалуйте…
Он быстро приходит в себя… Наклоняется… Через минуту встаёт.
— Готов… Разрыв сердца… Тут мне делать нечего…
— Помер? — тихо спрашивает старый солдат. — Помер?..
— Да… Сердце слабо было…
— Не осилило… Натуги-то… Ах, племяш-племяш… Племянником мне он был, — сестрин сын… Ну, прощай, Андрей… Авось и мы здесь не заждёмся, — встретимся скоро!..
И он крестит его, а на седые усы надают предательские слёзы… Но двигаться дальше нельзя — труп мешает… Снести его тоже некуда, — налево — отвес, внизу — обрыв…
— Со святыми упокой! — шепнул солдат. — Прости, Андрей…
Тихо подымают его тело… Придвигают к излому отвеса… Лёгкий толчок, и оно головой вниз с разбросанными руками летит в ту же общую могилу…
А отряд уже двинулся дальше, и солнце играет впереди на остриях штыков и жжёт суровые, изнеможённые лица.
Вышли на площадку и рухнулись, едва отводя усталь.
— Да разве нет другого подъёма? — в отчаянии подходит генерал к Груздеву.
— Есть, ваше превосходительство. Только неспособный.
— Неужели хуже этого?
— Нет, там пошире… И путь лучше.
— Что же ты там не ведёшь!
— Нельзя, ваше превосходительство. Там ни одному живым не дойти. Я так смекаю, — здесь неоткуда салтинцам стрелять, нет ему способного места приложиться. Куда он спрячется? Везде откос, да откос. В воздух пули пущать он будет?.. А там малый ребёнок весь отряд удержит… Там бы пол-отряда осталось, а то и не дошли бы. Потому я и повёл тут.
— Трудно! — вырвалось у начальника отряда.
— Точно так-с, ваше превосходительство. Трудно. А только дойдём… Как не дойти! Коли приказано…
Генерал посмотрел в глаза Груздеву и печально отвернулся. Стало стыдно чего-то. Этот простой солдат спокоен, а ты, приказывающий, волнуешься… «Коли приказано!..»
— Коли прикажут, и на небо взлезем, — слышится позади.
— Спасибо, ребята! — сквозь слёзы, но уже весело благодарит их генерал.
— Рады стараться…
— Правда ваша. С таким орлами — и на небо взлетишь…
— Жарко только, а то отчего не взлететь…
Отсюда орудия везла вторая смена… Зной становился всё яростнее и яростнее. Солнце уже не просто жгло, — оно разило лучами… Оно бросалось ими как молниями…
— Братцы, — вода есть около! — крикнул Груздев.
В отвесе трещина, засыпанная обломками скал. Двинулись по ней… В глубине что-то булькает, точно малый ребёнок всхлипывает… Тонкая струйка воды падает сверху в щебень и сочится под ним. Тотчас же она зазвенела в манерки. Люди пили и головы подставляли, но несколько шагов, — и от влаги не оставалось следа. Солнце сушило голову, руки и шею. И тут солдаты находили возможность шутить… «Чудесно здесь прачкам! — засмеялся один. — И верёвки завязать не успеет, а бельё уж и сухо!..»
Но ждать долго нельзя было.
Авангард уже втянулся в узкую щель между двумя отвесами… Тут тропинка шла неровными ступенями. Опять зазвенели орудия… Натянулись гужи, люди справа и слева, исходя в смертной натуге, подпирали плечами и спинами тяжёлые пушки… Вверху узкой лентой голубело небо. В этой щели не так жгло, но солдаты задыхались, потому что воздуху не хватало для дыхания. «Уж лучше пущай солнышко палит!» — думали они, и, когда щель вдруг из теснины вывела на широкую площадку, все вздохнули свободнее.
— Вот они, Салты-то!.. Мы и на ладонь не подвинулись к ним!
Действительно, белые, скучившиеся башнями сакли аула были так же далеки… Зато перед солдатами горная страна раскидывалась во все стороны отсюда. Целая перепутанная сеть синих ущелий, серых отвесов и сверкающих вершин… Аулы за аулами на них…
— И всё немирные? — спрашивает у Груздева сосед.
— Известно… Азиаты!.. Возьмём да изничтожим Салты, — и они покорятся…
— Дай-то Бог… Потому, ежели каждую вышку одолевать так, — силы не хватит.
— Одолеем… Чего тут… А только те держаться не будут…
— Помогай, Боже!..
Нельзя даже приблизительно описать всю страшную тяжесть этого подъёма. В письмах старых кавказцев встречаются урывками подробности таких походов, но офицеры того времени были немногословны, да и значения не придавали раз оконченному делу. «Господь помог! — кратко выражались они. — Господь помог, — а начальство приказало»; вот и всё, — и не останавливались более на героических подробностях горной войны, в которой сражения были только бледными страницами общей дивной эпопеи… Автору помогло в описании этих подвигов то, что ещё ребёнком он рос в этой среде. Часто возвращавшиеся из походов его отец и офицеры, под живыми впечатлениями, передавали эпизоды недавно пережитых экспедиций и набегов. Поэтому, так ярко и выпукло в его памяти, во всём блеске детских впечатлений, воскресают эти забытые уже люди-титаны, умевшие побеждать стихии и не знавшие, что значит «невозможность»… Их простые и спокойные лица — въявь грезятся ему — с нелицемерным удивлением встречавшие недоверие к себе, потому что всё совершённое казалось им такою простою и будничною вещью, о которой и говорить-то не стоило. «Что ж, — служба!» — кратко выражались они, и действительно, то, что обыкновенной, человеческой логике, казалось невероятным, неисполнимым, по кавказскому выходило и возможным, и даже не особенно трудным… Нигде до такой степени не была развита дисциплина в боевом товариществе и товарищество в боевой дисциплине как тут. В обыкновенное время уничтожалась вся разница чинов и положений, но раз начинался поход или бой, — кончено. На смерть шли без рассуждений и умирали без упрёков. Приказ исполнялся свято, и вчерашний товарищ сегодня делался вернейшим орудием своего начальника… Это было истинное рыцарство, братство по оружию — и в мрачные, пережитые Россией времена, кавказская армия представляла в этом отношении едва ли не единственную светлую полосу тогдашней жизни.
В трясинах и щелях салтинского подъёма — от генерала до офицера все брались за гуж в буквальном смысле слова и тянули орудия, и никто не жаловался на то, что не дюж… Страдали молча и братски. Раз было решено, что орудия необходимы, и без них Салтов не одолеешь, — их надо было вознести на эту гордую и грозную вершину. Но и перед героями бывают неодолимые на первый взгляд препятствия. Изнемогая от зноя и устали, солдаты остановились, наконец, перед таким: дорогу им перегородил узкий ров… Люди могли его перейти, но пушек перетащить было нельзя.
— Груздев, что это?.. — остановился генерал. — Ведь нам назад придётся!.. — и такое отчаяние прозвучало в его голосе…
Степан как вкопанный замер над нежданною преградою. Он бессмысленно смотрел в неё и, видимо, ничего не понимал.
— Это… это… — растерялся он. — Этого не было. Сколько я ходил здесь. Первый раз в бега ударился тут же, а рва не было… Это не иначе как ливнем размыло. Ливнем и есть… Ишь, по бокам видать, как вода рыла…
Отряд остановился… На ту сторону перекинулись солдаты.
Пушки, — если бы они здесь повисли на гужах, — оборвали бы их, и, рухнув, искалечились… Отряд не мог передать через овраг ни одной… Камней около тоже не было, чтобы засыпать его… Стены кругом стояли, точно отполированные.
— Что ж, братцы… — глухо проговорил седой солдат. — Надо!.. Присягали Богу и царю…
Соседи воззрились на него, но видимо ничего не понимали.
— Помолитесь за меня… Сорок лет прослужил верой и правдой, — пора и помирать на службе… Всё одно — никого у меня!
Он широко перекрестился и сделал земной поклон.
— Господи, прими мою душу!.. В руце Твои предаю. Прости мя.
И он решительно сошёл вниз и лёг поперёк рва…
У всех захолонуло сердце, но пример его не остался без подражания…
Ещё трое таких же исконных Ермоловских служак сделали то же — и легли на первого спинами вверх.
Благоговейное молчание царило кругом. Солдаты про себя молились за обречённых товарищей и, сняв шапки, стояли вокруг этой ямы, которая сейчас должна была стать могилою для героев.
— Господи, спаси!..
Также без шапок — перекинули они гужи орудий на ту сторону, там подхватили… Перетянули ими себе груди, натужились, наклонились вперёд… С мягким шорохом колёса лафета врезались в живой помост… Послышался глухой стон, хруст… Ещё и ещё…
— Господи! — вздохнул снизу солдат…
Кровь брызнула под гнётом медного чудовища из его тела… Послышался звук ломавшихся костей… И так же тихо орудие выползло на противоположную сторону… Безмолвно крестились солдаты, отведя его дальше, а на их место другие, чуть не жмурясь, уже по телам умиравших товарищей переходили с гужом нового орудия… Оно тоже колёсами врезалось в живых, чувствовавших страшную боль людей и перекатилось на ту сторону. Молодой врач стоял около и ничего не видел, — слёзы застилали ему глаза… Когда перевезены были все орудия, лежавший наверху солдат был уже бездыханен… Спинной хребет его был изломан. Внизу — умирали тоже… Тихо вынесли их солдаты и положили в тень… Истерзанные, полные страдания лица уже без сознания смотрели и не узнавали никого!
— Горит… горит! — схватился один из них за грудь.
Потянулся… Хотел глубже вздохнуть и вдруг раскинулся недвижно. Только по лицу его бежало отражение чего-то нездешнего.
— «Со святыми упокой»… — проговорил кто-то.
Тихо склонили колени солдаты и земно поклонились умершим товарищам.
Самоотвержение их спасло отряд.
Лёгок им будет страшный суд Господень, и без страха великие в простоте души их предстанут перед дивным Его престолом… Не надо им молиться… «Нет выше сия любви, да кто жизнь свою положит за други своя»… Ветер горный просит за них, тучи плачут над ними… Зачем им, этим бесхитростным угодникам и мученикам земли русской, кресты и могилы? Счёт им ведёт Сам Бог, и ими держится наша родина многострадальная!
Долго ещё шли без шапок солдаты, как вдруг за одним из поворотов перед ними разом выросли уже недалёкие Салты, и не успели показаться первые люди авангарда, как в них из-за скал, утёсов и камней, перегородивших путь, брызнуло горячим свинцом залпа.
Но это уже было нестрашно.
Только что пережившие смерть своих праведников, солдаты не ждали команды, — они бросились сами в штыки даже без крика «ура», который нарушил бы благоговейную тишину их сердец, и выбили из первого завала горсть засевших туда салтинцев.
— Не трожь, не трожь! — крикнул Степан Груздев, заметив, что острый штык уже направился в грудь его хозяина Гассана.
Тот лежал, сброшенный ударом приклада, и только хмурился, ожидая смерти…
— Ён добёр был. Пусти его! Ён меня в обиду не давал. Вставай, Гассан, — и он заговорил с ним по-лезгински. — Говорил я вам, дуракам, чтобы не бунтовали… Эх, ты, гололобый… Вот теперь от ваших Салтов и хвоста не останется… Раз уж мы дорвались, — не жить аулу…
— Кто это? — подошёл генерал.
— Хозяин мой… Гассан… Из здешних дураков, ваше превосходительство! Добёр только… Уж я его прошу себе, — за мою службу… Он за нас стоял. Говорил им, что с нами плохое дело вязаться!
Гассана кто-то добродушно ткнул в бритую башку.
— Ступай в арьергард… Небось, — не тронут теперь…
Но тот присел, — пугливо озираясь.
Груздев взял его за руку, повёл и сдал позади «на хранение».
— Ты небось, старик! Я твою хлеб-соль помню и Селтанет спасу… Девка добрая, пущай её дышит. Она меня тоже никогда не обижала…
А впереди наши уже дрались на второй линии завалов.
За камнями мелькнула рыжая папаха, другая… Показались дула ружей. Наши не ждали выстрелов и опять в штыки… Несколько стариков легло под ними…
— Да где же у них настоящие джигиты? Тут всё крашеные бороды одни!
— Сказывал я, — все помоложе на газават ушли… Только вы, ваше высокоблагородие, не извольте беспокоиться, — и старики с ихними бабами чудесно драться будут…
Из-за стен аула слышался гул.
В бойницах показывались дымки выстрелов, но они на таком расстояний не были страшны. Сами салтинцы сознали это и перестали стрелять. На вышку минарета вышел будун и громко пропел свой намаз на весь аул… На плоских кровлях его разом склонили колена лезгины. Близость неприятеля не заставила их забыть молитву.
— Хороший народ! — одобрили их солдаты. — Своего Бога завсегда помнят.
Генерал подозвал пленного Гассана и предложил ему пойти в аул и убедить салтинцев принести повинную.
Гассан покачал головой.
— Что он говорит? — спросил генерал у переводчика.
— Отказывается. Он говорит, что души их принадлежат Аллаху и в рай пойдут сейчас, а тело — земле и в землю уйдёт… Он не может и передать своим предложения покорности, потому что его убьют. Да он и не стал бы передавать, — напротив, как старик, которому нечего уже бояться смерти, он бы убеждал их умирать, как следует по заветам тариката… Он говорит, что до газавата он был против войны с русскими, но раз она началась, — и рассуждать нечего, надо драться!
Гассан опустил голову. Поза покорности, принятая им, не соответствовала энергии и отваге его ответа.
— Значит, передай ему, к утру от Салтов не останется и развалин…
— Кысмет!.. Судьба! — тихо проговорил Гассан.
Последняя ночь аула
В виду аула отряд остановился. Солдаты укрылись за скалами, выставив цепи впереди… Все были так утомлены, что нельзя было и думать о немедленном нападении на это горное гнездо.
— Вот он — ты! — радовался Груздев, и вдруг он почувствовал жалость к старому аулу, в котором он всё-таки, хоть редко, да знал счастливые минуты. — Вот он — ты! Храбёр народ, точно! — задумчиво повторил он. — На своё горе храбёр!
Жара спадала. Здесь, наверху уже веяло прохладой близкого вечера…
Не так пекло уходившее за горы солнце, тени ложились длиннее. Громче шумели водопады и потоки. Ярче на потемневших небесах сияли снеговые великаны, резче и ближе казались силуэты дагестанских вершин… Плоскокровельные аулы выделялись на них выпукло со своими башнями и мечетями… Салты снизу вверх покрывал всю эту часть горы. Кровли саклей и башен казались ступенями бесчисленных перепутанных лестниц, стремившихся к подножию мечети (джамии) — к площади гудекана. На этих кровлях теперь сотни детей и женщин, прижавшись друг к другу, с видимым страхом смотрели вниз — на белые палатки русского лагеря и незнакомые ещё силуэты солдат, стоявших в цепи… Враги молчали, — молчали и мы… Вон как на ладони виден джамаат, — там собрались старики, обсуждают, что им делать… Толковали недолго и разошлись. Гул скоро пошёл по аулу. Дети спрятались… Люди с ружьями побежали к городским стенам. Салты здесь казались почти городом, они выходили из размеров простого аула. Когда-то вокруг было ханство со столицей именно тут. Вон башни старого ханского дворца, состоявшего из таких же саклей, только попросторнее и числом побольше. Там сосредоточилось всего более защитников. Другая группа их засела в мечети…
— Ну, мечеть мы разнесём сразу! — всматривался генерал. — Хорошо было бы весь аул смести пушками, — да за скалами большая часть его! Тут каждая сакля — крепость. Придётся сегодня много поработать…
Радуясь прохладе быстро наступившего вечера, солдаты засыпали под утёсами. По небу уж бежало полымя заката. Орудия были вынесены на выдающиеся пункты. Сюда ружейный огонь салтинцев не мог достигать вовсе, и артиллеристы оказывались в полной безопасности. Надо было засветло подготовить штурм орудийным огнём… Отряду приказано отдыхать, но в новоявленных батареях кипела деятельность. Горные пушки весело блистали в радужных лучах солнца. Со всех сторон к ним подносили снаряды. Когда всё было готово, — взяли прицелы, на стену, чтобы пробить брешь, и на мечеть, которая в ауле занимала самое грозное положение…
— Первое! — послышалась команда.
Сноп пламени и дыму, треск выстрела… Ядро прорезало застывший воздух и упало далеко за мечетью…
— Перелёт! Возьми прицел ближе! Первое!
Опять грохот, опять огонь, точно молния сверкнула в дыму. Ядро упало на площади джамаата.
— Недолёт! Ещё… Первое!
На этот раз ядро сорвало вышку минарета и упало на купол мечети…
— По этому прицелу — бейте, не ожидая команды!..
— Второе!..
Второе и третье работали в стену… Там послышалось беспорядочное пощёлкивание бесполезных выстрелов… Началась спокойная канонада… Точно по ритму какому-то, одно за другим, ахали медные жерла орудий, чугунные шары летали туда, взрывая вверх целые груды щебня, песку, глины и обломков… Привыкшие солдаты отдыхали внизу, даже не подымая отяжелевших век, когда над ними высоко перелетали ядра.
— Несладко им теперь! — потянулся один, поворачиваясь животом вниз.
— Ну, да и нам не рай! — сонно ответил другой, засыпая.
Когда дым рассеивался, наши видели, что минарет мечети уже лежит в развалинах, что купол рухнул вниз, и в ней самой чёрным зёвом зияет свежая брешь. Кое-как сложенные из камня и не скреплённые цементом стены крепости тоже не могли держаться долго и пали там, куда решено было направить главный удар, для назначенного на утро штурма боевых колонн… Но тут и нам пришлось опомниться. У одного из орудий вдруг без стона упал вниз артиллерист, рядом фейерверкер схватился за голову и, зашатавшись, покатился с утёса… Офицера одного ударило в плечо… Ещё двое солдат, поражённых в грудь, — точно ринулись вперёд, широко расставив руки…
— Подобрались, негодяи!..
В прикрытии лежала полурота… Мигом поднялась она и, взяв ружья на руку, бегом направилась в гряде скал впереди… Точно взрыв — «ура»; несколько мгновений штыкового боя, — и рота залегла за занятыми ею скалами… Оказалось, что несколько крашеных бород из Салтов выбрались сюда и отсюда перебило на выбор нашу орудийную прислугу… Теперь канонада продолжалась уже безостановочно и беспрепятственно. Стена, окружавшая Салты, рухнула. С мечетью было кончено, и орудия били по старому ханскому дворцу и по месиву слепившихся саклей… Точно взбудораженный муравейник кипел и шумел встревоженный аул. Рыжие папахи показывались на кровлях и перебегали как по ступеням лестниц, с одной на другую. Кое-где слышались визг и плач женщин, мычание коров, блеяние баранов, ржание коней… Уже в двух или трёх местах — в Салтах, в самой гуще каменных башен виднелись плешины от павших мусором и щебнем саклей…
— Конец Салтам приходит!
Тихо-тихо заходило солнце. Запад весь тонул в океане розового пламени. Оно охватывало горы и утёсы, по их стремнинам ползло вниз, зажигало туманы, висевшие над глубокими долинами, искрилось в тонких нитях водопадов, в пене разъярённых горных потоков… Вон далеко-далеко какое-то озеро на плоскогорье. Как золотой щит горит и светится… Солнце всё ниже… Теперь только краешек его виден, — а обречённый смерти аул в розовом сиянии стоит на темени горы, и башня за башней падают его гордые сакли… Громче крики оттуда.
— Ах, ты, Господи! — вздыхает Груздев. — Две девчонки там есть. То есть, не то девчонки, не то мужние жёны. Только что повенчались.
— Жаль тебе, что ли… татарву некрещёную?..
— Селтанет и Аслан-Коз жаль… Я и мужей ихних знаю. Славные джигиты… Они под Самурское укрепление ушли… Надо, братцы, выручить девчонок-то. Они сглупа тоже за ружья да кинжалы схватятся… А только непристойно российскому воину с бабами драться… Ну их, к Богу!.. Я, как ворвёмся с товарищами, прямо в их саклю…
— Коли поспеешь… Тоже — драка подымется такая, — освирепеем… Не сообразишься тогда, кого колешь.
— Пожалеть надо…
— Твоё дело — жалей. А только у меня в Самурском укреплении брат… Мне его тоже жалко…
Солнце зашло… Потемнели долины, посинели ущелья. Залиловели скалы гор. Одни их вершины сияли и лучились, отражая последний привет умиравшего дня… Салты ещё сверкали вверху, но тени ночи быстро подступали снизу и с востока тёмной каймой к аулу… Ярче вспыхивал теперь огонь орудийных выстрелов, — ещё несколько минут, и ночь уже окутала всё своей прохладой и тишиной…
— Зарядить орудия!.. Последний общий залп!.. Пли!..
Точно раскололись горы, и земля треснула. Восемь пламенных снопов вскинулось из медных жерл… Восемь ядер полетело в скучившиеся сакли… Стоны ещё громче послышались оттуда…
Тишина… Ярко горят звёзды… Аул кажется белым призраком на горе. Спят и отдыхают солдаты. Присев на походный складной табурет, задумался генерал… До штурма осталось два часа…
Торжественная ночь в мистическом величии плывёт над горами Дагестана… Она равнодушна к людским страстям и мукам… Она одинаково ласкает и обвевает прохладой и русских, и лезгин. Что ей за дело до мелочной ссоры, до жалкой борьбы человечества!..
Генерал смотрит на часы…
— Полковник!.. Будить солдат! Скорее… Без шума…
Команда в молчании бежит по рядам спящих… Тихо подымаются они и крестятся…
— Штурм… штурм… — слышится шёпотом. — Штурмовать азиатов будем…
У Степана Груздева захолонуло сердце: жаль ему своих девочек. Вдруг, глупые, схватятся за кинжал и попадут на штык. Разве он, штык, разбирает?.. Особливо ночью, в темноте…
— Холщевников… С Богом, ведите своих. Помнить, — без шума… Ура — под самым аулом. Мы вас сейчас же поддержим…
Ряды сдвинулись и тронулись. Глухой топот нескольких сот ног покрыл остальные звуки… В ауле услышали его. На площади джамаата вспыхнул и загорелся обвитый соломой сигнальный шест. Долго сверкал он над Салтами как высокая свеча… Под его блеском выступали руины мечети и тёмная масса платана…
Гассан позади в нашем арьергарде молился Аллаху…
Он не верил в победу своих и просил чуда…
Агония Салтов начиналась…
Как ни был в тайне и тишине подготовлен штурм, — салтинцы оказались предупреждёнными. За стенами залегла часть его защитников, встретившая огнём приближавшуюся к бреши колонну. Тотчас же в безмолвии и мраке ночи в разных местах вспыхнули смоляные факелы и закурились красными языками пламени. Под их зловещим блеском на первой же площадке наш авангард весь показался лезгинам. С диким криком они осыпали солдат пулями. Оранье возбуждённых горцев сливалось с беспорядочною трескотнёю выстрелов. Наши тем не менее подвигались молча. Солдаты только смыкались там, где ряды их редели. Ни одной пули они не выпустили из ружей, и багровое зарево факелов отражалось на массе штыков. Сверху казалось, что это река медленно струится по направлению к аулу, искрясь и глухо шумя… Смоляные факелы вспыхнули над многими башнями, стоявшими поперёк улиц или пропускавшими их под своими арками. Они же, — эти багровые зарева, — поднялись над джамаатом и целым морем огня запылали над руинами мечети… Весь аул теперь, казалось, уходил в одно красное море, выделяясь на нём чёрными силуэтами саклей, плоскими кровлями — ступенями, узенькими трещинами перепутавшихся улиц, зубцами стен и башен, чёрными шапками редких деревьев… В алом блеске этом видны были смятенные толпы, бежавшие на защиту родного гнезда. Женщины и дети, вооружённые, стремились вместе с другими, — и в общем гвалте злобы и бешенства их крики выделялись резкими и тонкими нотками…
Наши подвигались неотступно и безмолвно… Ни одного слова в суровых рядах. Даже стона раненых, припадавших к земле не было слышно… Только ровный и мерный топот да лязг штыков, встречавшихся со штыками… Позади вдруг сорвались огненные снопы из молчавших до сих пор орудий, и чугунные гранаты и ядра полетели в аул… Ещё до начала боя они уже сеяли там смерть и истребление. То и дело доносился сюда грохот рушившихся башен, треск падавших стен и саклей и глухие удары разрывов… Мало-помалу в Салтах гасли смоляные факелы, что осветили защитникам горного гнезда дорогу к аулу, и открыли им наступающего врага, — и скоро тёмная ночь опять окутала Салты непроницаемою тенью…
В пробитой ещё вечером бреши — вместо рухнувшей стены — стояла живая стена лезгин…
Они даже не ждали нападения наших. Осыпав приближавшихся солдат свинцовым дождём, они отважно кинулись им навстречу, и некоторым удальцам, обрёкшим себя смерти ранее других, посчастливилось даже прорвать железную линию первых шеренг и, с шашками наголо очутившись посредине колонны, они дорого продавали жизнь, рубясь направо и налево и отбиваясь от стальных штыков… Лишь покончив с этими, наши солдаты могли опять кинуться вперёд. Грудь с грудью схватывались они с лезгинами и часто, только сразив прикладом или заколов штыком врага, наклонявшийся к нему солдат видел, что он имел дело с женщиною… Задние ряды напирали на передние, — наконец, вспыхнуло разом могучее «ура!», и, как вода прорвавшая плотину смяв стоявших на пути горцев, — первая волна наших бурно и неудержимо докатилась до бреши. Тут грудами лежал рассыпавшийся камень и щебень… Первая волна разбилась об это препятствие, — вторая и третья, такие же бурные, неукротимые, ударились о новую плотину, — о живую стену салтинцев, спокойно ожидавших врага… Бой во мраке — молчаливый бой кипел здесь над руинами…
Солдаты смотрят во тьму… Весь аул перед ними, с перепутанною паутиною его улочек, с башнями и саклями — чёрным маревом в царстве безглазой ночи не видится, а мерещится. В этом мареве вспыхивают в разных сторонах сотни огоньков…
— Ну, товарищи, полдела осталось! — бодро и весело слышится где-то голос генерала. — Через час от аула ничего не будет, и мы с вами славно отдохнём… — Спасибо за службу! За мной, дети!
Кто-то выхватывает знамя у рослого унтер-офицера и кидается вперёд; за ним, перегоняя его, несутся всё те же неукротимые волны атаки… Солдаты грудью встречаются со стенами саклей, ощупью ищут улиц и, попадая в них, как вода, наконец, отыскавшая исход своей замкнутой силе, всё сметают перед собою… Бой уже делается неописуемым… Со всех сторон в живую массу атаки — из окон саклей по сторонам, из бойниц башен, перегородивших улицы, с кровель, ступенями разбегающихся направо и налево, — сыплются тысячи выстрелов… Теперь уже здесь нет ни женщин, ни стариков, ни детей. Всё дерётся, всё только и думает, убивая, умереть, всё идёт само навстречу смерти и сеет смерть… Пронзительные крики женщин, визгливые восклицания мальчиков сливаются с грозными боевыми молитвами старых бойцов, осыпающих узкие улицы всем, что может только повредить врагу. Из башен кипящими струями льётся на него смола, в таганах топят свинец и огненными брызгами сыплют им в густую толпу всё дальше и дальше по невозможным улицам подвигающихся солдат. Каждый дом приходится брать штурмом, но нигде не просят пощады. Бой на улице, бой в саклях, бой на их плоских кровлях! Как злобные привидения белые закутанные женщины, сбрасывая с себя покрывала, кидаются навстречу освирепелым солдатам и, схватываясь, падают с ними на камень улицы или на штыки пробирающихся к ним товарищей. Сверху, навстречу нападению стремятся группы нескольких оставшихся в ауле мюридов, сметают перед собой наших и гибнут… Вперёд можно пройти только через их трупы… Всюду дерутся. В каждом доме, в каждой башне… Всюду смерть празднует своё торжество, и сотни душ — от всего этого ужаса, с последними впечатлениями озлобления, ненависти и мести вырываются из пробитых насквозь тел и уносятся в темень неоглядной ночи… Вдруг где-то вспыхнуло пламя… Красным языком жадно лизнуло плоскую кровлю, обвилось вокруг стены следующей сакли и закурилось к небесам густыми клубами дыма… В другом конце аула то же… Потянуло ветром, и, повинуясь ему, красные языки вытянулись с запада на восток, перебрасываясь с крыши на крышу… Они уже стелются теперь по всему аулу… Ещё чернее на их огненном фоне стоят его обречённые башни, ещё громче оргия истребления сливается со свистом и треском кровожадного пожарища…
Степан Груздев один бросил ружьё и смело двинулся по пустому переулку…
Кто-то кинулся на него с шашкой — он отвёл тесаком удар и укоризненно крикнул:
— Ты что, ешак[55], на кунака бросаешься?..
Вон щель знакомой улицы… Вон чёрная дыра в саклю…
— Эй!.. Кто тут есть…
Прямо в него, по направлению голоса, блеснул огонёк, и раздался выстрел. Пуля шлёпнулась в стену около…
— Ишь, дура!.. — по-русски выругался он. — Эй, Аслан-Коз… Селтанет…
Что-то шарахнулось в темени…
— Аслан-Коз, Селтанет… Я, старый Иван, ваш пленник… Не кидайся, чего ты!.. Пришёл спасти вас… Ведь вы пропадом пропадёте… Заколют. Смирно сиди, дура! Чего ты на меня с кинжалом суёшься… Я тебе такую затрещину дам… Аль ошалела… Вернутся Селим с Джансеидом, — а от вас и костей не будет…
Имена любимых юношей привели в себя озверевших девушек.
Тяжело дыша, Селтанет опустила молот, уже поднятый над головой бывшего их пленника «Ивана», как они называли солдата… Аслан-Коз отошла прочь и упала в угол, закрыв лицо руками…
— Дуры были, дуры и есть… Гассан ваш жив — он у нас в сохранности. От всего аула, пожалуй, только вы и останетесь…
Вдруг красные пятна заиграли на стене посреди мрака. Зарево пожарища блеснуло в огне сакли и в дыре её выхода…
— Вон ваш аул… Наутро — лысина будет на горе… Ничего не останется… Сказывал я вам, дуракам, — повиниться. Нет, думали — мулла умнее… Меня даже резать хотели… Только что глупости мне вашей жалко… Давай напиться, Аслан-Коз. Где у вас тут вода?..
Та ему показала в угол… Он жадно сделал несколько глотков.
Во входе какой-то силуэт…
— Здесь, ребята! — кричит кто-то. — Бей их!
— Полегче, полегче, товарищ. Здесь мои…
— Ты, Груздев?..
— Он самый… Вот что… Там и без вас теперь будет кому. А вы мне девчонок поберегите. На моих глазах дуры выросли… Во какие были махонькие!.. От земли не видать… Жалко…
— Известно, — жалко! — сочувственно отозвался солдат. — Нехристь, — а жалко. Тоже душа…
И только что работавшая беспощадно штыком, грубая рука ласково опустилась на голову Селтанет…
— Ну, чего ты? Плачь, плачь… Это ничего… Небось, — тебя не тронем… Братику, а есть у тебя курнуть?
Степан Груздев подал кисет…
Солдат, расставив ноги, набил трубочку, закурил и сел на порог. Ещё несколько пробежало мимо; заметив здесь своего, — перекинулись словечком с ним, — и в следующую саклю. Аслан-Коз схватилась за голову и зарыдала. Селтанет сидела, точно окаменев, в углу, выглядывая большими, недвижными глазами оттуда на Груздева и его товарища, спокойно помещавшихся у порога.
Аул Салты, переживший несколько веков на гордом темени горы, не знавший позора поражения, умирал, раздавленный пятою страшного врага, которому так безумно он послал вызов… Аул Салты умирал, окуренный и задушенный дымом пожарища, корчась всеми своими саклями и башнями в огне… Аул Салты посреди Дагестанских вершин в эту ночь пылал ярко и зловеще очистительною жертвою… Казалось, что на грозном престоле кровожадного бога войны совершалось ужасное таинство, — и со страхом и трепетом со всех окрестных гор прислушивались и присматривались сюда другие лезгинские аулы… Со страхом и трепетом, — потому что на их глазах воочию исполнялось то, о чём до сих пор они только знали из песен и преданий. Грозный враг, не ведавший пощады и всегда доводивший до конца свои замыслы, — ворвался в самое сердце их края… Завтра, послезавтра — могла настать очередь этих аулов, гордившихся неприступным положением на утёсах… Салты были настоящее орлиное гнездо… До него можно было донестись только на крыльях, — а эти русские, «равнинные медведи», не только взвились к нему без крыльев, но ещё пушки принесли с собой!.. И вот свершилось то, о чём думали и на что рассчитывали наши… По окрестным горам — на всех тамошних гудеканах собирались джамааты. Горцы советовались, кого наутро послать с повинною к победителям. Важные кадии, муллы, фанатические шамилевские мюриды — молчали… Теперь их ожесточение было бы не у места. Они бы только погубили аулы… Ещё более: завтра именно они должны были идти в смирении и унижении к торжествующему врагу, принести ему покорность и умолять о милосердии и пощаде. Если в ком-нибудь нежданно и взрывалась старая ненависть к русским, то для её успокоения достаточно было взгляда в непроглядное царство тёмной ночи, в самом сердце которой теперь так ярко пылал ещё вчера могучий и неприступнейший из горных аулов. Вон он — костром горит, венчая тёмную массу горы. И над ним, в звёздном мраке ночного неба, ходят багровые зловещие сполохи… Такие же могут замерещиться и над этими ещё целыми и по своему счастливыми аулами…
А в Салтах разрушение оканчивало своё дело…
Защитники его, наконец, дрогнули… Немногие из них уцелели, — но и этих охватил ужас, слепой ужас, отнимавший силу у рук и мужество у сердца… Они кинулись вон из аула по козьим тропам, по отвесам скал, по карнизам и рубчикам над безднами… Женщины, дети, старики — все, точно из мешка, просыпались вниз.
Утро встало — в блеске и славе…
Яркое и весёлое, умывшись горными туманами, поднялось солнце, блеснуло животворящими лучами на десятках других аулов, но тщетно эти лучи искали на вершине знакомой горы — лучшего и многолюднейшего из них — Салты. Его не было… Вершина курилась пожарищем. Тёмный дым уносился в ясное, безоблачное небо… Ни одной сакли, ни одной башни не стояло над грозными отвесами утёсов… Чёрные, обгорелые остатки когда-то счастливого горного городка безобразными грудами подымались всюду, и кое-где в их массах сверкали последние жадные языки догоравшего огня. Около пожарища белели палатки победителей… В нескольких из них были помещены уцелевшие женщины и дети… На карауле стояли солдаты… Груздев растянулся у входа в ту, где спали Аслан-Коз и Селтанет, и где сидел, словно окаменевший, старик Гассан… Старый солдат тоже заснул. И снилась ему далёкая-далёкая деревушка, — а в ней такие же родные девчонки, которые, пожалуй, даже и не узнают его, когда он вернётся к ним из этого солнечного края…
А снизу медленно и важно тянулись всадники и пешие…
Кадии в длинноруких овчинных шубах, муллы в зелёных накидках, наибы в красных черкесках… Они вели в «пешкешь»[56] победоносному генералу баранов, быков, несли кур… Это были выборные от аулов, просивших помилования…
Весело сверху смотрели на них русские.
— Ну, ребята, теперь замиренье. Страсть сколько они нам баранов нагонят… В котлах будет тесно.
И наголодавшиеся герои забыли всё — неописуемые трудности и ужасы эпического похода и павших товарищей, которых санитары укладывали теперь в общие ямы.
Салты курились, и среди пожарища чернели обгорелые трупы…
День обещал быть ясным и жарким…
Туман со дна долин подымался к горным утёсам… Где-то, в лагере уже слышалась только что сложенная песня:
«Эй, ребята удалые,
Эй, солдаты молодые…
Расскажите-ка скорей,
Как вы в горы шли гулять
И с Салтою воевать»…
Тебе Бога хвалим!..
В зловещей тишине и мрачном спокойствии просыпался этот день на другом конце Дагестана, над долиною реки Самур.
Враги стояли лицом к лицу… Обойдя стены, бастионы и гласисы крепости, Брызгалов видел лезгин около… Те, сомкнувшись, ждали. Позади двигались остальные отряды Шамиля. Сегодня и у горцев тихо. Задиравшие наших, джигиты не подъезжали к крепости. Ругательства и насмешки оттуда не звучали в нашу сторону. Точно и те понимали, что Самурскому укреплению пришёл конец, что оно сегодня обречено смерти… Всюду суровые массы неприятеля густились в ожидании имама… Брызгалов подошёл к пороховому погребу и отпер двери, чтобы в решительную минуту их замки и затворы не удержали его… Отряд весь приготовился к смерти… Накануне солдаты и офицеры исповедовались и приобщались… Тихая грусть лежала на измождённых лицах голодных людей… Они сознавали, что их спасти могло бы чудо, но чуда не ожидал никто! Измученные защитники орлиного гнезда молились и, спокойно глядя на лезгин, понимали, что обессиленные руки и груди уже не могут теперь сопротивляться напору озверелой толпы. Численность и отвага неприятеля не победили бы самурцев. Их сломил голод. Все знали, что сдачи и позорного плена не будет, что сегодня ждёт их отдых и успокоение вне этого мира, за пределами мучительной жизни… «У Бога будем к вечеру! — повторяли старые солдаты. — Иде же несть болезни и печалей!.. До конца исполним присягу»… Мехтулин и Амед горевшими ненавистью глазами всматривались в сплошное наводнение вражьих отрядов и давали друг другу слово умереть у порога Нины, чтобы и до взрыва ничья рука не смела коснуться девушки. Наступил тот страшный момент, когда никому уже не хотелось жить… Все как-то разом и всей душой примирились со смертью… Им казалось, что её чёрные, громадные крылья уже бросили тень на них, и вместе с этою тенью сердца их были охвачены удивительною тишиной… Так разом становилось легко, точно вся их задача на земле была уже решена, и здесь, среди крови и уничтожения, нечего было делать.
Вот вдали показалось красное пятно…
Солдаты пристально всматривались в него… Это приближался Шамиль с наибами… Впереди везли его значок, за ним медленно двигалась пёстрая свита имама… Они не торопились сегодня. К чему? Ведь добыча лежала перед ними, вся истекая кровью… Уйти она не могла… Железные когти глубоко вонзились в её истерзанное тело, — а проклевать ей голову стальным клювом всегда успеешь… Да и кроме того, горцам, как и всякому пернатому хищнику, доставляло наслаждение видеть агонию побеждённого врага…
— Не предложить ли им сдаться? — подъехал Хатхуа к Шамилю.
— Напрасно… Они и без того наши…
— Но я Брызгалова знаю. Он взорвёт крепость…
— Ты забыл, что у него там дочь…
Небо здесь сегодня было всё обложено тучами. Дождь не накрапывал, но, казалось, что он собирался на Дагестанских высотах и ждал, когда к нему стянутся остальные, ещё лежавшие в ущельях и над безднами ночные туманы.
— А впрочем!.. — вспомнил что-то Шамиль. — Отчего и не предложить им сдачи?..
Он, побывавший когда-то в Тифлисе и знакомый с европейскими обычаями, захотел щегольнуть великодушием. Всё равно — эти люди вечером будут его пленниками… Он послал наиба. Крепость представлялась настолько обессиленной, а защитники её казались упавшими духом так, что с ними тот не счёл даже нужным соблюсти обычных форм. Он не приказал навязать белой тряпки на значок и подъехал беспечно к стенам.
— Эй, кунак! — крикнул он снизу.
В амбразуре показалось исхудалое и измученное лицо старого солдата.
— Эй, кунак! Имам меня послал к вам… — лезгин говорил по-русски.
— Зачем?
— Всё равно заберём вас как баранов сегодня. Сдайтесь! Скажи своим… А то никого живым не оставим… Дай ответ скорей!
— Сейчас…
Левченко, — это был он, — приложился… Одинокий выстрел прокатился по долине, отражаемый и повторяемый горными скалами и ущельями… Наиб, получив пулю в голову, бессильно покатился с седла. Ноги его запутались в стремени, и испуганная лошадь стремглав понеслась к Самуру сквозь ряды сторонившихся горцев.
— Вот тебе и ответ! — угрюмо улыбнулся Левченко.
— Настоящий самурский! — одобрил его рядом стоявший солдат.
— Нам будет горько, да и им несладко… Погодите, негодяи!
Смерть Шамилева наиба была точно сигналом общей атаки. Имам что-то крикнул громко и хрипло… Его приказ повторили начальники горных кланов, и вдруг вся эта ещё мгновение назад неподвижная масса с рёвом, визгом и воплем кинулась на стены Самурского укрепления. Свинцовым градом посыпались пули. Они во всех направлениях низали воздух кругом, мелко и часто падали на крепостной двор, со зловещим шорохом врывались в листву громадного платана на нём, чмокались о стены домов и, шипя, уходили в мягкие насыпи земли… Но трескотни выстрелов не было слышно вовсе. Всё покрывал собою сплошной гомон и гвалт этой массы, ринувшейся вперёд. В её бешеном грохоте пропадали и удары картечных орудий, сметавших всё перед собою, и только разрывы фугасов тускло и глухо звучали у подступов к укреплению. Но сегодня и лезгины обрекли себя смерти… Их взмётывало с землёй и каменьями вверх и бросало изорванными трупами обратно, массы картечи вырывали целые ряды в скучившейся орде, но у тел павших товарищей тотчас же становились живые и неудержимо лезли на стены крепости. Сам Шамиль сегодня не оставался в стороне. Он двинулся в самую кипень боя, в средоточие свалки и, повинуясь неудержимому боевому порыву, снял папаху — белую с красным верхом — и швырнул её за зубцы укрепления. За нею точно воды из внезапно наполнившегося ими ущелья прокатились отряды оставшихся андийцев и дидойцев… — «Аллах-Аллах!» — слышалось кругом, и только голодные защитники крепости, молча, стояли на своих постах, хмуря и сурово озирая напор разъярённой стихии… «Ура!» — не вспыхивало на башнях, не передавалось на бастионы… Самурцы умирали безмолвно… Свирепые крики неслись снаружи, — здесь стояла тишина смерти. Шёпот молитвы не нарушал её… Брызгалов уже не показывался на стенах… Зачем? Сегодня он там был не нужен. Он слишком хорошо знал своих, чтобы за них беспокоиться и им не верить. Он решил остаться за дверями порохового погреба. Он должен быть до решительного, последнего мгновения целым… Иначе план его не удался бы, и крепость с её защитниками попала в руки Шамиля… В погребе было темно и холодно… Сев на мешок с порохом, он задумался… Вся жизнь проходила перед ним в ярких красках, в милых образах, в звуках дорогих голосов… Увы, сколько позади могил!.. Сегодня и он умрёт, и в целом мире от родных покойников не останется никакого следа!.. Ведь эти могилы, эти люди, в них схороненные, жили только в его воспоминаниях… Его не будет, и они совсем-совсем уйдут из мира… Явятся сюда новые люди. Воскреснет и зацветёт в долине р. Самур иная жизнь, — и никому-никому не придёт на память он, Брызгалов, с целою полосою, оставшеюся позади былин… Кто о нём узнает?.. Он хотел помолиться в эти последние, оставшиеся ему часы. Но слова молитвы переплетались с Бог весть откуда, из каких далей прошлого прилетавшими речами, в которых он узнавал голоса покойницы жены, друзей, родных. Детство воскресло вдруг и заслонило опять молитву ракитами затерявшегося где-то над Окою сада… Доброе-доброе лицо матери с морщинками, лучившимися у глаз, с тихою улыбкою и ласковым взглядом выделилось из сумрака порохового погреба… Брызгалов зажмурился, и вдруг ему почувствовалось, что её тонкая, худая рука поднялась над ним и перекрестила его… Он даже ощутил движение воздуха от неё на лице… И ему почудилось, что он опять, маленький, засыпает в кроватке, и над ним стоит она, добрая, любящая!..
— Всё позади, всё позади!.. — вслух повторил он про себя. — Ничего впереди, кроме смерти и Бога!..
— Да, Бога… Теперь именно пора о Нём подумать…
Он стал припоминать слова молитвы… Чудные, вдохновенные строки Иоанна Златоуста точно огнём на мраке этого погреба вырезались, — и он повторял их, чувствуя разом, что сердце его охвачено умилённою преданностью и торжественным смирением…
— «Господи!.. Аз, яко человек, согреших, Ты же, яко Бог, щедр, — помилуй мя, видя немощь души моея!»
И вдруг он открыл глаза. Дверь отворилась, яркий сноп лучей ворвался сюда, и в его ореоле, вся в белом, стояла там Нина…
— Ты зачем сюда?
— Я умру вместе с тобою, батюшка!..
С площади доносился визг, треск и шорох пуль, глухие удары орудий и гвалт наступавшей орды… За Ниной стояли Амед и Мехтулин.
— Я вместе с тобою умру, батюшка… Моё место теперь около тебя…
— И мы тоже…
Глаза у Амеда горели как у разозлённого волчонка…
— Притворите двери!
Опять мрак и тишина…
— Амед и Мехтулин! — обратился к ним Брызгалов. — Вы бы могли попробовать пробиться и спастись. Вы можете переодеться…
— Нет, не будем говорить об этом! — решительно ответил молодой елисуец. — Я умру с тобою…
Он было хотел сказать: «с Ниной» — да в последнее мгновение язык его не послушался…
— А ты, Мехтулин?
— Мы с ним, — кивнул он на Амеда, — кровные братья теперь, и не можем разлучаться… У нас всё вместе — и жизнь, и смерть…
Как тихо опять… Земляная насыпь погреба скрадывала звуки. Только через массивную дверь они отражались сюда, но смутно и глухо… Бой идёт уже на башне… Справа доносится озверелый визг диких андийцев… Чу! Это ревут дидойцы налево… Неужели уже ворвались? Неужели сейчас, сию минуту?
Брызгалов подошёл к дочери… Обнял, поцеловал её. Она упала перед ним на колени.
— Благослови меня!
Тихо поднялась его рука над склонившейся головкой девушки… И ему опять почудилось, что вместе с его рукою в темноте порохового погреба чуть-чуть наметились и другие… Смуглая — его жены, и тонкая, бледная, с насквозь проступающими жилками — его матери…
«Скоро увидимся!» — мелькнуло в его памяти.
Нина осталась на коленях…
Брызгалов отошёл, — он зажёг фитиль и пока вставил его в безопасное место, в угол стены… В чёрном мраке он загорелся красным языком, курясь тонкой струйкой удушливого дыма… Красный, зловещий свет, колеблясь, разгонял темноту, в которой смутно рисовались серые мешки с порохом, бочки его, гранаты и картечь позади… Багровое отражение чуть-чуть колыхалась на суровом лице Брызгалова, на бледном, но спокойном — Нины… Она только опустила веки и так застыла…
— Послушай… — вдруг послышалось над нею. — Послушай!
Она подняла голову, — над нею стоял Амед.
— Отчего ты не молишься Иссе?.. Он, Исса, всё может… Он вдруг, если захочет, — всех нас на небо возьмёт. Он меня спас уже, и я уже обещался ему… И ещё обещаюсь… Молись, молись Иссе… Он один Сын у Аллаха… Аллах ему ни в чём не откажет. Молись, Нина Степановна, Иссе!.. Молись…
Вдруг точно какая-то мысль озарила Нину.
— Амед… стань рядом, здесь стань… На колени…
Тот опустился.
— Повторяй за мною… Слышишь, — повторяй за мною… «Верую во единого Бога Отца»…
— Верую во единого Бога…
— «Отца вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым… И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия»…
В торжественной тишине порохового погреба при колеблющемся красном пламени рокового фитиля тихо и искренно раздавались слова символа… Голос девушки из неуверенного и робкого делался всё решительнее и сильнее, — «чаю воскресения мёртвых и жизни будущего века» — она произнесла с такою восторженною радостью, что и Амеду вдруг показалось, что сердце его раскрылось чему-то светлому, яркому, бесконечному…
— Всё? — тихо спросил он. — Всё?..
Опять открылась дверь, опять вместе со светом и теплом ворвались сюда рёв и грохот остервенелого боя. В погреб вошёл священник в полном облачении — с крестом в руках. Заметив стоявшего на коленях Амеда, он тихо перекрестил его…
— Готовы? — спросил он у Брызгалова.
— Да, батюшка.
Священник подал ему крест, тот приложился, за ним подошла Нина… Амед стоял в нерешительности. Ему хотелось тоже поцеловать «Иссу распятого», но он думал, что обидит этим священника. Тот понял его колебания и, светло и радостно улыбаясь, подошёл к нему… Амеду показалось, что от креста на него повеяло какою-то чудною силою, и ему вдруг стало так радостно и покойно…
— Чу… Кажется, они близко уже…
Точно вихрь каких-то звуков, ураган целый обвил погреб… Очевидно, драка была уже внизу… Лезгины ворвались… Смятение на одну минуту показалось на лицах обречённых смерти, но священник медленно и выразительно начал читать молитву:
«Владыко Господи, Иисусе Христе, Боже мой! Твоего ради страдания на кресте и погребения, не остави меня в гресех погибнути, зане же зело грешен есмь; но, по множеству щедрот Твоих, очисти вся беззакония моя и даждь ми Твоим заступлением без напасти препроводити живот мой и радости святых причастника мя быти сподоби, яко благ и человеколюбец. Аминь»…
Бой давно шёл на стенах крепости… Лезгины теперь уже не обращали внимания на сотни своих, падавших вниз под ударами штыков, которыми пока ещё работали ослабевшие руки. Сегодня — конец газавату, сегодня — великое торжество Пророка над неверными, возвещённое имаму. Сегодня горсть богатырей, столько времени сопротивлявшихся неудержимому напору горных кланов, падёт под ударами освящённых шашек воинов Аллаха… И новые, и новые кланы бросались на многострадальные стены… Точно львы отбивались Незамай-Козёл и Кнаус… Роговой давно уже лежал, раскинув руки у орудий и недвижным взглядом остеклевших глаз пристально и упорно всматривался в серое, пасмурное небо… Левченко тоже убит!.. Он напоследок переколол штыком набрасывавшихся на него дидойцев, но как-то штык встретил медную бляху от пояса и сломался… Он перевернул ружьё и отбивался прикладом, чувствуя, что силы его оставляют. В его измождённом теле всё больше и больше гасло боевое воодушевление. Старик чувствовал, что ему делается как-то «всё равно»… Смерть стояла рядом… Он сердцем её чуял и был готов… Раскроив череп набросившемуся на него горцу, он вдруг бросил ружьё и только и успел сказать: «Господи!», как острая шашка лезгинского джигита снесла его усталую голову… Неудержимым потоком «орда» пролилась со стен вниз… Уже дрались на площади крепости… И отступая к пороховому погребу, Незамай-Козёл и Кнаус ощущали прилив того же равнодушия ко всему, которое заставило Левченко швырнуть ружьё, как вдруг случилось нечто непонятное, по-видимому, бессмысленное и вовсе уж неожиданное…
В это время Брызгалов размахивал фитилём, желая раздуть его.
Нина, сжав глаза и не замечая, что её рука осталась в руке Амеда, ждала смерти, священник тихо читал: «Со духи праведных скончавшихся, души рабов Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их в блаженной жизни, яже у Тебя, человеколюбче»… Мехтулин, обернувшись лицом к Мекке, тоже замер. Тьма погреба то рассеивалась, когда фитиль вспыхивал, то вновь сгущалась, когда язык его, казалось, падал и курился одним чадом… «Пора»… — проговорил про себя Брызгалов… Но вдруг широко распахнулись двери погреба, вместе со светом, ворвавшимся снаружи, в них показался Незамай-Козёл…
— Степан Фёдорович… Ура! Ура! Ура!.. Спасены!..
«С ума сошёл!..» — мелькнуло в голове у Брызгалова.
— Спасены!.. — кричал позади Кнаус. — Лезгины бегут по всей линии. Посмотрите сами…
Он бросился и стал целовать руки у Нины, у священника. Брызгалов, не выпуская из рук фитиля, выбежал… Он ничего не мог ещё сообразить… Но одушевлённое ура неслось отовсюду, со стен, с башен… со двора… Вон в углу не успевшие выскочить лезгины, скучились как стадо баранов и отбиваются!.. Вон какой-то джигит, с криком, сам отчаянно бросается со стены вниз и плашмя падает на камни без стона…
— Что такое? Что случилось?..
С окрестных гор дымятся тревожные сигналы — в аулах зажгли столбы, обёрнутые соломой.
— Что такое случилось, что? — всходит комендант на стены.
Полуумирающие, обессиленные защитники ничего не понимают.
— Тут… вот… дрались мы. Вдруг крики у них…
— Какие крики?
— Оттуда с гор прискакали какие-то… Орут что-то, вся орда и унеслась прочь…
Степан Фёдорович смотрит в долину, — Бог знает, что там творится…
Массы андийцев, дидойцев, салтинцев, конных и пеших смешались в одно марево, и все стремятся назад в горы… Расстояние между ними и крепостью растёт и растёт. В паническом страхе, сломя голову, несутся они в ущелья, на пути, ведущие назад в горные узлы таинственного Дагестана… Казалось, что невидимые силы гонят их прочь отсюда, от этих многострадальных стен и башен…
— Я знал, что это так будет… Я сказал Нине: «Нина молись Иссе! Исса всё может!»
— Да, но в чём дело?
И вдруг безумная радость охватила Брызгалова.
— Неужели всё спасено?.. И честь, и крепость, его крепость… Неужели же опасности нет?..
Вон к нему ведут какого-то наиба… Видимое дело, в плен взяли.
— Ты кто? — спрашивает его Брызгалов.
— Салтинец…
— Как тебя звать?
— Наиб… Джансеид!
— Такой молодой и уж наиб?..
— Имам на днях пожаловал…
— Отчего вы бежали все?
— Судьба, кысмет! Аллах послал победу русским… В ту минуту, когда мы уже были в крепости, когда вам грозила смерть, прискакали к нам вестники, много вестников из наших аулов… И по всем горам загорелись сигнальные шесты… Ваши ворвались в самое сердце Аварии… Салты взято и сожжено… Наших режут… Аулы приносят там покорность…
Брызгалову вдруг захотелось обнять этого «врага»…
— Наши кинулись назад в горы… защищать свои сакли и семьи… У меня тоже была… Что теперь с нею?.. — сам про себя вдруг прошептал Джансеид.
«С нею!..» Разумеется, это не относилось к его сакле… И молодой наиб вдруг бессильно опустил голову, удерживаясь, чтобы не выдать врагам своего горя.
А в это время снизу на стены вдохновенный и радостный шёл священник, высоко подымая крест, и всё перед этим знамением милосердия Господня склонило колена…
— Ну, что я с тобой стану делать! — вдруг обернулся Брызгалов. — Убирайся и ты, пока цел, на радостях. Отведите его за ворота, — пускай уходит! — приказал комендант, указывая на Джансеида…
Тот не заставил себе вторично повторять этого… Он вскочил на коня и понёсся вихрем вдаль. К вечеру никого уже из недавних врагов не было в долине Самура. Зато с гор спускались кадии и депутации от окружающих аулов… Они шли поздравить коменданта с победой и заручиться его покровительством. Горные дипломаты всегда на стороне сильного… За ними гнали стада баранов — в пешкешь солдатам и гарнизону… Позже — крепостная церковь вся засияла огнями, и уцелевшие богатыри, склонясь перед старыми и бедными образами убогого иконостаса, сливались все в одно сердце и душу, когда священник читал в алтаре:
«Тебе Бога хвалим! Тебе, Господа, исповедуем, Тебе, Предвечного Отца вся земля величает»…
После победы
Амед и Мехтулин возвращались в крепость.
Целый день они провели вне её стен, объезжая Самурскую долину, взбирались на первые отроги гор, заглядывали в таинственную глубь ущелий, — и видели, что враг, ещё вчера утром бешеным наводнением своих дружин заливавший всё кругом, отхлынул прочь… Точно река, прорвавшая плотину, унеслась куда-то, оставив за собою смытые поля, сдвинутые камни, сломанные деревья. Только издали доносился смутный гул, и молодые горцы догадывались, что это лезгинские пешие кланы, пропустив вперёд конные отряды Чечни и Кабарды, ещё лепятся по отвесам и крутым скатам, торопясь к разорённым аулам, горящим саклям, разбросанным и осиротевшим семьям. Кое-где гул этот был особенно силен, точно там за первыми стенами утёсов бурное море билось о берега. В одном из ущелий они даже заметили марево остальных шаек, серою тучею всползавшее на перевал… Оттуда доносились и отдельные крики, и топот угоняемых стад, и взвизгивания диких андийских воинов, и изредка выстрелы: беглецы, очевидно, боем среди недавних союзников, прокладывали дорогу… Амед и Мехтулин повернули назад. Теперь они решили осмотреть самую долину, но она была тиха и мертва. Тиха и мертва до того, что какою-то невозможною сказкою чудилась вчерашняя быль, не верилось даже в те тысячи остервенелых бойцов, которые, ещё накануне, направляли отсюда свои страшные удары в полуразрушенное каменное гнездо заброшенного отряда. Перекопанная земля, остатки коновязей, вытоптанные луга, безлюдные дидойские землянки, тлеющие уцелевшие шалаши елисуйцев и койсабулинцев, брошенные лохмотья, чёрные, под серым налётом золы, пятна костров — одни говорили о шуме и движении, кипевших недавно над этою «долиною торжествующей смерти», как Нина окрестила её в письме к её петербургской подруге. Дальше боевые следы принимали более мрачный характер… Под жгучим солнцем разлагались палые кони, от наших всадников отбегали во все стороны трусливые чекалки, одичалые псы и горные волки, чутьём с вершин почуявшие обильную и лакомую добычу. Отбегали, видимо, отяжелевшие, сытые — недалеко. Из-за деревьев и из-за ворохов собранного сюда хворосту они следили за Амедом и Мехтулином, изредка оглашая безмолвную долину жалобным воем… Чёрными тучами подымалось отсюда жадное вороньё над головами Амеда и Мехтулина, точно заклиная их отчаянными и пронзительными криками — убираться скорее, не мешать им, зловещим птицам, будто выброшенным сюда из таинственных бездн ада, оканчивать печальную трапезу.
— Спешили домой! — тихо проговорил Амед и, заметив недоумевающий взгляд Мехтулина, пояснил ему, — даже своих не убрали.
Эти мертвецы, недвижные свидетели недавнего ужаса, без слов говорили, какою безумною паникой были охвачены отряды Шамиля. Бросить павшего, не похоронить его по своему обряду — для мусульманина не только грех перед Аллахом, но и вечный позор. Влияние даже отринутой веры было так велико и на Амеда, что, заметив труп знакомого ему елисуйца в богатой черкеске, юноша соскочил с коня и попросил своего друга сделать то же.
— Чего ты хочешь?..
— Товарищи были… Сафар-бек это. Как песни пел, да поможет Исса его душе!
Мехтулин сошёл с седла. Оба стреножили коней, чтобы они не ушли далеко. Сафар-бек лежал лицом к небу, широко раскинув руки. Мехтулин опустился около него на колени и прочёл молитву пророку; Амед дождался, когда тот кончил и пошёл искать места, куда бы похоронить Сафар-бека. Молодому елисуйцу не хотелось обижать товарища, и когда тот обернулся, — он тихо прошептал:
— Великий Исса, добрый Исса! Ты, помогающий всем, кто Тебя просит, Бог русских, Бог Нины… помоги ему!
И, вспомнив, как Нина крестила мёртвых, он тихо перекрестил Сафар-бека. Потом вынул кинжал, отрезал прядь волос, завивавшуюся у того над ухом, и спрятал. «Приеду в Елисуй, — отдам его родным!»
Как раз в это время Мехтулин обернулся к нему и крикнул:
— Здесь ему хорошо будет!..
— Где это?
— Тут вот. Должно быть, землянку начали рыть и не окончили.
Амед посмотрел. За горбом выброшенной земли зияла глубокая, чёрная яма. Она сама смотрела как свежая глазная впадина на мёртвом лице земли. Оба они подняли Сафар-бека. Елисуйский певец был тяжёл, — точно его к земле тянуло. Руки его повисли и странно как-то болтались во время этого пути.
— Точно для него рыли! — заметил Мехтулин.
Тело уложилось как раз вдоль ямы… Только голова была выше её.
— Ну… прощай, друг! — тихо проговорил Амед. — Вместе росли… Детьми играли с тобой.
— Снять оружие?..
— Нет. Оставь. Он умер воином… Я расскажу его отцу, — тому будет приятно узнать, что он схоронен как джигит… Не станешь ты петь теперь… Сафар! А как он пел! Звёзды слушали… Бывало елисуйские девушки от зари до зари с кровли не уходят! Прощай, Сафар…
Они оба сдвинули массу рыхлой земли, лежавшей около… Она шурша навалилась на труп… Теперь одно лицо его странно торчало из неё. Скоро и его не стало видно… Только лёгким горбиком над ямою лежала земля…
— Чекалки разроют ночью?..
— Нет… Глубоко слишком.
Они оба постарались ещё притоптать могилу. Скоро её нельзя было уж отличить от других пустырей этого так неожиданно и внезапно оставленного бивака…
Амед слишком был истинным горцем, чтобы на его нервы зрелище это произвело значительное впечатление. Он, торжествуя, оглядывался кругом и прикидывал в уме, сколько на каждого защитника старой крепости приходится уже погибших врагов. «Недаром страдали и работали, — думал он, и вспомнив, как ужасно и безвыходно было ещё накануне положение русских, тихо повторил, — а всё Исса, а всё Он!..» Радостное чувство победы, знакомое каждому, хоть раз видевшему бегущего перед собою неприятеля, охватывало Мехтулина. Он, улыбаясь, оглядывался на Амеда, и тот угадывал, что значит эта улыбка… Обоих точно поднимали крылья. «Теперь будут о нас долго говорить в горах. Наши имена не забудут в родных аулах!» И ему уже грезились вечера на аульных площадях, слышались тихие, унылые звуки джианури и важный, медлительный напев старика, поминающего в вдохновенных импровизациях славное имя Амеда, храброго джигита, сына Курбана-Аги. Тут опять стало почище, — земля была свободна от трупов, и они оба, — Амед и Мехтулин, ударили нагайками коней и в каком-то опьянении кинулись вперёд. Воздух свистал мимо ушей, грудь дышала глубоко и вольно, глаза точно у молодых орлят гордо и жадно смотрели на всю эту даль, бывшую свидетельницей их подвигов, их отваги, их великодушия. Как вдруг Амед круто осадил коня, да так, что тот чуть не сел на задние ноги. Осадил и как вкопанный остановился… В самом деле, как это он в жару воспоминаний, в радостном сознании торжества, охватившем его, забыл то, что случилось вчера, в чёрном погребе, лицом к лицу с людьми, обрёкшими себя смерти, стоящими у её таинственного порога.
— Что ты? — обернулся к нему Мехтулин.
— Ничего, так!..
А мысль его продолжала работать в этом направлении… Да, — он не грезил. Всё случилось именно так, как и теперь вдруг воскресло в его памяти, загромождённой тысячами так быстро сменявшихся образов, чувств, впечатлений, отчаяния, радости, бешенства, тоски… Там, в пороховом погребе, незаметно для других — блеснул ему ярко призрак счастья, наполнивший его сердце таким восторгом, таким бесконечным очарованием, которое в следующую минуту показалось ему обманчивым сном — и только сном. Он теперь вспомнил всё. Почему всё сегодняшнее утро он не думал об этом мгновении, изменившем его душу, всколыхнувшем его тогда?.. Он даже зажмурился, вспоминая, что предшествовало этому счастью и что было потом… Да… В той именно страшной тишине… Брызгалов размахивал фитилём, раздувая его… Каждая искорка могла взорвать порох — но они не думали об этом. Минутою ранее или минутою позже, казалось всё равно… Он теперь, зажмурившись, видит, как пламя факела от размахов вздувалось какими-то взрывами, выхватывая из темноты мрачные стены погреба, зловещие бочонки с порохом и бледное, полное печали и молитвы личико Нины.
Она забыла всё: разность их положений, то, что она дочь коменданта, а он только простой татарский дворянин… Забыла до того, что оставила свою руку в его руке и не только оставила, — она сама схватилась за неё и крепко сжала, да так и замерла… А когда вдруг распахнулись двери погреба, широко распахнулись, и в них на светлом фоне дня, внезапно ворвавшегося в потёмки, показалась фигура возбуждённого, радостного офицера, кричавшего им, первым обрёкшим себя мученичеству: «Ура! — Мы спасены, спасены!» и он, Амед, бросился целовать руки у Нины, она не только не мешала ему, но вдруг уронила к нему на грудь головку и в первый раз за всё это время разрыдалась.
«Надо, чтобы её крест стал моим крестом!» — мысленно повторил он.
И опять точно обеты он шептал кому-то, чудившемуся ему в бездне лазури вверху: «Её Бог будет моим Богом, её отец — моим отцом, её родина — моей родиной!..»
— У тебя, Амед, есть сестра? — вдруг прервал Мехтулин его грёзы.
— Что? — точно с неба упал он.
— У тебя в Елисуе есть сестра?
— Да…
— Я буду её защитником… Если для неё твоя мать уже не выбрала другого.
— Нет… Ей только тринадцать лет… Я рад, если ты будешь моим братом. Хотя придёт время, когда ты, может быть, так же, как и мои все, — станешь осуждать меня.
Мехтулин с удивлением поднял на него голову.
— Что? Осуждать тебя?..
— Да… Я, может быть, со всеми своими разойдусь… Я люблю их, и не сделаю ничего такого, чего бы они могли стыдиться… Но часто дороги наши уходят в разные стороны.
Друг его понял разом. Он потупился и, немного спустя, проговорил:
— Бог один… Мы его называем Аллахом, христиане — Иссою… Он стоит за правых… Все дороги — и твоя, и моя, одинаково ведут к Нему… Может быть, ему так же приятна молитва муллы в мечети и намаз мусульманина на кровле его сакли, как и пение христианского священника, и крест солдата на стенах крепости… Как бы ты ни верил, как бы ты его ни называл, — мы будем молиться одному Богу. Имя не делает разницы. Сердце твоё останется таким же мужественным, а ты уж вырос в бою, чтобы без чужой указки самому находить путь. И какой ты найдёшь, — тот для тебя и будет хорош.
Они крепко обнялись, наклонясь друг к другу с сёдел и как раз вовремя, потому что через минуту наткнулись на громадное стадо баранов.
— Чьё это? — спросили они у погонщиков.
— Кадий верхнего аула посылает с покорностью коменданту.
— Не смела старая лисица сама показать носу! — засмеялся Амед.
— Скажи кадию, — вмешался Мехтулин, — что моя шашка давно по его шее плачет.
— Твоя воля, господин…
— А там что за толпа?
— Тот же кадий посылает в крепость хлеб и просо, и бузу…
— Знает, с какого конца начинать! — тихо проговорил Амед.
Но он был так счастлив в эту минуту, что встреться ему кадий, наделавший столько хлопот русским своею изменою, он бы и его встретил радостною улыбкой…
В освобождённой крепости
Не успел ещё Амед подъехать к воротам крепости, как навстречу ему вышла оттуда Нина с доктором и священником. Молодой горец, краснея, поклонился ей, — она тоже вспыхнула, увидя его, и застенчиво отвела глаза.
— Ну, герои, — смеялся доктор, — что нового узнали?
— Ничего нет. Все ихние шайки ушли в горы… Мы обыскали долину и в ущелья смотрели.
— Да?.. Слава Богу, слава Богу… «Славься сим Екатерина, славься нежная к нам мать!» — фальшиво запел он. — Вот барышня, дела ей видно мало, заставила по жаре ходить. Может, вы поможете убедить её.
— Что вам угодно?
— Раненых ищем… Нет ли раненых, вишь!.. Стосковались по ним, верно, — у самих мало.
Нина только улыбнулась.
— Я не видел. Там, где я был, их нет. Может быть, около крепости?
— Наверное, не найдём.
Лишь теперь, сам оправившийся от устали всех этих страшных дней, Амед заметил, как побледнела и осунулась Нина за время осады. Только большие глаза её стали ещё крупнее, и на лицо девушки легло выражение решительности и силы. Не даром для неё прошло это испытание. Она окрепла в нём и вместо наивной и простодушной, несколько сентиментальной и робкой «девы гор», как её называли в Дербенте, — Нина стала настоящим человеком, готовым на борьбу и уверенным в победе. Сегодня, тоже оправившийся, Брызгалов всё утро любовался ею и предложил было ей уехать в Тифлис к родным, чтобы немного очнуться ото всех пережитых ужасов, но она только с удивлением повела на него взглядом.
— Мне уехать? Зачем?.. Здесь ещё столько дела… У нас лазареты полны…
— Да тебе-то надо отдохнуть…
— Я не устала… Моё место здесь, с вами.
В крепости, когда в неё въехали наши всадники, царило спокойствие и тишина. Даже странно было прислушиваться к ней после всего этого недавно пережитого ада. Солнце жгло стены, хранившие везде следы разрушения, косые лучи его сквозь амбразуры горели на закопчённой в пороховом дыму меди тоже отдыхавших пушек. Между ними, в тени, привольно раскинувшись, спали крепостные собаки, впросонках тявкая на чудившегося врага. Вон «Филат», как его называли солдаты, привалился к орудию, зажал лохматую голову между громадными и сильными лапами и только хвостом чуть машет, видя издали Амеда с Мехтулином. А потом, сообразив, что невежливо так встречать друзей, поднялся было, но не осилив одолевшего его ощущения покоя, опять свалился и ещё счастливее засопел на весь мир Божий. Часовые дремали, прислонясь к стенам. Не от кого было караулить укрепление, да и всякий непорядок пока в счёт не ставился. Исхудалые солдаты, ещё вчера бродившие как тени, сегодня тоже отражали на себе радостное ощущение безопасности, покоя, доблестно-заслуженного и давным-давно раззнакомившегося с ними. Всюду, где был хотя клочок тени, под стенами, в углах за траверсами, даже под расстрелянною горцами чинарой — лежали они, отсыпаясь за всё это время. Одни спали, другие, уже отдохнувшие, возились, свежуя баранов, разводя костры. Солнце не щадило и тех, и других. Тень отойдёт, — и бедняки оказываются под ним. Лучи его обжигают лежащим носы и лица, — но тем и невдомёк… Просыпавшиеся приподнимались при виде Брызгалова и офицеров, но те ласково останавливали их: «Спи-спи. Отдыхайте, братцы». И в тоне голоса их слышалась суровая нежность: «И прежде одна семья была, а теперь вместе пережили такое горе, что бесконечно дороги стали друг другу». Дымки от костров тонули в небесах. Пахло жареным мясом… Вчера ещё были осторожны после голодовки, а сегодня всё ело до отвалу. Шашлыки зарумянивались над углями, сало капало в огонь, шипело и голубым полымем вспыхивало. У недавних героев лица лоснились, но они уже не разбирали: «Мы не женихи», — и съедали столько мяса, что первого присланного сюда кадием стада уж не хватило к вечеру. Вдоль стен крепости сушили на солнце шкуры ягнят и овец. Лошади, отбитые у горцев, с наслаждением ели траву, тоже доставленную им в Самурское укрепление. Кто-то из «героев» даже на балалайке было затренькал, но свалился, балалайка попала под голову, и он сладко заснул на ней. Казаки, те разостлали попоны и бросили сёдла в изголовье… Если где и когда-либо было сонное царство, то оно, наверное, походило на Самурское укрепление…
Спал в небольшой церковке и поручик Роговой. Спал в тесном деревянном гробу, тоже сладко отдыхая на мягкой подушке. Нина отдала ему свою. Он тоже заслужил отдых, и в его недвижимых чертах читалось так много счастливого спокойствия. Ни бешеного возбуждения боя, ни злобы, ни отчаяния уж не было в них; просто между свечами, перевязанными креповыми бантами, лежал себе хорошо и честно потрудившийся воин, и солнце, проникавшее золотыми лучами в окна, с одинаковою любовью ласкало и лики немудрёных икон, и убогую живопись иконостаса, и это мёртвое, недвижное лицо… Несколько раз уже заходили сюда и Брызгалов, и Незамай-Козёл, и Кнаус. Они тихо опускались на колени, молились за товарища, крестили его. Появлялись сюда и солдаты. Один седоусый долго смотрел на Рогового.
— «Со святыми упокой». Подлинно отец нашему брату был… Не выдавал… Ему и смерть-то легка будет… Потому Господь его и судить не станет. «Ты, — скажет, — не осуждал и Я тебя оправдаю!..»
Сбросил с усов слезу и, грозно на что-то нахмурясь, вышел вон отсюда.
Днём несколько раз служили панихиды… За солдатами даже крепостные псы бежали сюда и только останавливались у паперти — сидели, опустив лохматые головы, точно и они поминали добром и сердечною грустью боевого товарища. Нина входила, когда никого не было. Она со слезами в глазах думала о храбром офицере, несколько смешном сначала, всё декламировавшем из «Библиотеки для чтения» и на первых порах так бескорыстно любившем её и так героически боровшемся на этих облитых кровью стенах… «Бедный, бедный», — шептала она про себя, и ей приходило в голову, какие тысячи таких невидных и никому неведомых героев гибнут в горах и трущобах Кавказа. Что за чудные страницы можно было бы написать о их подвигах! Но кто их расскажет родной стране, кто, кроме ветра, пробегающего по зорям синими ущельями, видел и знает их забытые могилы? Только товарищи вспомянут порой: «Бравый офицер был» и ни слова больше, потому что кто ж здесь не бравый офицер? Кто ж из них не способен на такую же смерть? «Бог им счёт ведёт, — сказал раз при ней старый солдат. — Оно и лучше, что люди не славят, там за всё заплатится». И она пристально вглядывалась в это лазурное, бездонное, мистически загадочное «там», полное тишины, света, блаженного покоя, и её самую тянуло туда; казалось, что она тотчас же встретит в ней, в этой лазурной бездне всех, кто был ей так дорог, и кого уже нет с нею. И первую — свою мать!.. Она молилась и ей, звала её и верила, что «святая женщина» сошла сюда и новопреставившимся помогает в новом чудном и таинственном мире. Роговой лежал один, — ему не удалось быть вместе со своим приятелем — Левченко… Левченко, когда ему лезгины отрубили голову, был так искрошен их шашками, что его нельзя было и отличить от других мученически погибших защитников Самурского укрепления. Одну голову его нашли, скатившуюся в ров за стены. Она страшно смотрела на подходящих солдат; те, простясь, завернули её в платок и принесли в крепость. Останки Левченко сложили в общую могилу.
— Не стало нашего охотничка!
«Филат» всю ночь выл над ним, царапал землю, лаял в неё, уткнувши морду вниз, будто хотел разбудить приятеля, — но на другой день успокоился: «Все де там будем», и отдыхал у пушек.
К вечеру третьего дня в крепость прибыла оказия.
Она давно ждала возможности прийти сюда.
В крепости радостно вздохнули. Ещё бы — значит, обычное течение дел вполне восстановилось, и укрепление переходило таким образом на мирное положение. Всю ночь Брызгалов просидел за составлением подробной реляции, целый день её переписывал писарь, и к следующему она была готова. Накануне, за ужином, Степан Фёдорович посоветовался с уцелевшими офицерами и позвал к себе в кабинет Амеда.
— Завтра я пошлю тебя в Тифлис.
— Слушаю-с.
— Ты явишься к главнокомандующему. Я тут пишу и о тебе… А там будет, что Бог даст… Я доволен тобою как солдатом… И люблю тебя как сына!
Амед быстро поклонился и поцеловал Брызгалову руку.
— Ну, Бог с тобой… Счастливой дороги… Передай его светлости бумаги и сумей рассказать подробно обо всём, что ты здесь видел, испытал и слышал… Прощай!.. Тебе надо отдохнуть.
Но отдыхать Амед не пошёл.
Ночь была ясная, светлая, серебряная ночь… Тени ложились черно и резко. Какими-то призрачными маревами чудились вершины гор кругом. Тихо шумел Самур у стен крепости… Амед прошёл к окну Нины… Ему почудилось что-то белое в нём… Он выступил на освещённое луною пространство, так что Нина его увидела.
— Амед, подойдите сюда…
Он приблизился к окну, наивно схватясь за сердце. Ему казалось, что оно разобьёт ему грудь.
— Вы завтра едете?
— Да…
— Отец представил вас к офицерскому чину. Вы знаете, что делать в Тифлисе?
— Знаю.
— Просите светлейшего быть вашим крёстным отцом, тогда все ваши родные поневоле помирятся с вами.
Тифлис
Тифлис того далёкого от нас времени только что возник из руин. Бешеные полчища персидских шахов, предавшие несчастную страну огню и мечу, оставили здесь, в полном смысле слова, мерзость запустения. К счастью злополучной Грузии, русская власть, — если не сейчас же после этой страшной эпохи, то во всяком случае вскоре, — была на Кавказе в руках у энергичных и талантливых людей. В сороковых годах оба берега реки Куры, от гор и до гор, свидетельствовали о настоящем гении тогдашнего наместника князя Воронцова. Вся Грузия казалась воскресшею, обновлённой. Современные путешественники отказывались верить, что ещё в 1801 году столица картвельского народа почти ничем не отличалась от жалких, слепившихся ласточкиных гнёзд дагестанских аулов, представляя только ещё большее разорение. Мазанки тогдашнего Тифлиса так были скучены, что часто выходы из них открывались не на улицу, а на плоские крыши. Женщины и девушки, ещё не освободившиеся от затвора, не смели выходить даже в переулки, а посещали одни других по крышам, проходя, таким образом, целые кварталы. До Воронцова был ряд наместников. За Кноррингом следовали князь Цицианов, граф Гудович, Тормасов, маркиз Паулуччи и Ртищев, — но им некогда было заниматься Тифлисом и вообще устройством страны. Аббас-Мирза и царевич Александр кидались на Кавказ, Персия ещё не была раздавлена. По всем окраинам одни боевые позиции сменялись другими, битвы за битвами отвлекали способности и силы русских правителей. В эту героическую эпоху никто и не думал о «насаждении семян общественного и градского благоустройства». Царством смерти казалась бедная Грузия. То моровая язва, то холера, то чума вторгались в наши пределы. Дмитрий Бакрадзе и Николай Барзенов рассказывают в своей превосходной монографии о Тифлисе, что даже при таком талантливом, неукротимом и решительном человеке как князь Цицианов, случалось, что при одном глупом слухе о приближавшейся чуме Тифлис пустел совершенно. Духовенство запирало церкви и тайно бежало в горы, даже чиновники бросали дела и спасались куда попало. Как живёт вся эта масса народа, — трудно было узнать, потому что власти не было доступа, по местному обычаю, внутрь домов. Всякая попытка проникнуть туда, хотя бы с гигиеническою целью, встречала открытое сопротивление. Сентиментальные люди, мечтавшие об оздоровлении края, натыкались на кинжалы. Скот резался в самых саклях и мазанках, кровь и всевозможные отбросы гнили там, мясо висело, ничем не прикрытое, в тучах мух, разлагаясь и заражая воздух. В самом городе были кожевни и бойни. Войскам приходилось оставаться чуть не на улице, чиновники работали где попало. Помещений не было, потому что, во-первых, у несчастного населения на это не оказывалось средств, да если бы такие и нашлись, нельзя было ничего выстроить, так как на Грузию был назначен только один архитектор. Когда он умер, — и этого ресурса Цицианов лишился. Каменщиков же на всю страну считалось — десять! Никто не возделывал землю. Персы согнали работников в города. Сады и поля пустели. Хлебопашцы открывали лавки, где всего-то товару не оказывалось и на два абаза. Что ни делали для того, чтобы хотя из Тифлиса создать нечто лучшее, чем полудикий аул, — всё было бесполезно. Грузины, по своим пословицам, твёрдо верили, что не следует оставлять ни «старого дома, ни старой дороги, ни старого друга». Они знали, что «привычная болезнь лучше непривычного веселья», и ни на какие нововведения не шли. Так Тифлис дожил до Паскевича, да и при нём хорошие дома стали строить вне города одни армяне, более способные и понявшие ранее грузин выгоды нового положения вещей. Надо было совсем взболтать картвельские мозги блистательною эпопеей персидских походов, бить по воображению тифлисцев подвигами русских войск в Иране, мстивших шаху за разорение Грузии, чтобы она очнулась. Войска вернулись с колоссальною добычей. На базарах рассказывали, что персидское золото, в виде кирпичей, целыми обозами отправлено в Петербург. Персию Паскевич так разнёс, что все здесь почувствовали себя в полной безопасности, и в первый раз за долгие ужасные годы несчастный народ вздохнул свободно… Русские стали для него идолами. На нас, на наши обычаи, на нашу манеру жить чуть не молились Богу. Пределом честолюбия лучших грузинских семей было выдать дочь за русского офицера. Понятно, что не в прежних грязных, вонючих и тесных мазанках можно было принимать победителей. Армяне стали уже сплошь строить дома побольше и почище, не изменяя плоским кровлям и наружным верандам, придающим солнечному и сказочному югу колоритную и причудливую красоту. Таков был первый большой дом Тифлиса, выведенный в тридцатых годах Зубаловым, так что когда император Николай в 1837 году посетил Тифлис, для его приёма не могли найти здесь лучшего помещения. Короче, когда приехал сюда Воронцов, знавший Тифлис по легендам о добром старом времени за город храмов и дворцов, он ещё нашёл здесь полуразорённые смрадные гнёзда, жалкие слепившиеся груды тесных домов, без улиц и площадей, непроглядную кутерьму горских построек, точно с неба упавших грудой, да так и оставшихся здесь непонятным и неодолимым лабиринтом плоских крыш, таинственных переходов, узких тупиков, похожих на трещины, саклей, взмостившихся на чужие крыши, мазанок, прилепившихся на эти сакли, целых паутин выступов и лестничек, неведомо как державшихся снаружи. Это было, разумеется, очень живописно, всё так и просилось на картину, но дышать было нечем, везде текла кровь зарезанных баранов, дворов не оказывалось, и всякие нечистоты выбрасывались за стены. Пыль стояла такая, что в ней нельзя было ничего различить, и только пышные чинары и инжир, с зелёными рампами тутовых дерев, придавали идиллическую прелесть этой новой конюшне Авгия! Воронцов явился сюда истинным Геркулесом. Надо изумляться гению этого человека, сумевшего создавать всё из ничего, куда только не бросала его судьба. Это не только была твёрдая воля, но и воля творческая; ум разнообразный, видевший всё, и целое, и подробности, не упускавший в самых захватывающих задачах и того, что близоруким людям казалось посторонним и не идущим к делу. Воронцов для Тифлиса был тем же, чем Пётр Великий для России, только новое время создало и новые приёмы. Воронцов умел убеждать и не нуждался в жестокости. Если бы последующие правители Кавказа только продолжали его систему и ничего нового не придумывали, — Кавказ теперь кипел бы мёдом и молоком. Мы не удивлялись бы тому, что Франция сделала за короткое время с Алжиром, — у нас свой Алжир мог бы служить для неё идеалом и образцом, чем-то вроде рая земного!..
Воронцов, казалось, не знал слова невозможно. В потёмках суровой эпохи он умел выше всего ставить человеческое достоинство, не делая в этом отношении никакой разницы между всесильным вельможею и жалким, по своему общественному положению, чиновником. Понятно, что он скоро сделался кумиром Тифлиса. На его вечерах впервые появились женщины-грузинки, и не прошло нескольких лет, как от гаремного затворничества остались только слабые следы. Местная молодёжь приучалась к европейскому образу жизни, хотя Воронцов оберегал свято живописные обычаи грузинской старины. Красивые костюмы кавказских племён, очаровательные пляски утонувших в поднебесье горцев, гурийские мелодии — чуть ли не включительно с местною зурной — всё это пользовалось его вниманием и поддержкой. Его жена являлась лучшею сотрудницею наместника. Она собрала вокруг себя цвет местных женщин, сумела приучить их к себе, так что недавние узницы картвельских теремов скоро почувствовали себя как дома в пышных, по тому времени, залах дворца главнокомандующего. Воронцов поощрял смешанные браки. Русских, женившихся на туземках, он очень высоко ценил и выдвигал как пионеров культуры, требовал от подчинённых, чтобы они не ждали, пока туземцы заговорят по-русски, а сами учились местным языкам. Ничто талантливое, выдающееся не уходило из его рук. Случайных туристов он умел так заинтересовать Кавказом, что они оставались здесь навсегда. Из отдалённейших уголков Европы сзывал сюда учёных и техников, широкою рукою оказывал им помощь, отстаивал всегда и всюду. Умение выбирать сотрудников у Воронцова простиралось до такой степени, что служба при нём служила неопровержимым аттестатом на знание, талант и энергию. Скромный в личных требованиях, он никогда не принижал служащих, чтобы все лучи славы сосредоточивать на себе одном. Это была натура не только гениальная, но и великодушная. На похвалы государя, обращённые к нему, он всегда откровенно заявлял — это сделано не мною, а таким-то и таким-то. Служба при нём поэтому делалась уже не простым исполнением обязанностей. Она теряла казённый характер. Каждый отдавал ей все силы и способности. Каждый вносил в неё лучшие стороны своей личности. Действовали ревностно, не боясь ошибиться. Воронцов на это не раз говаривал: не ошибается только тот, кто ничего не делает. С его лёгкой руки, боевое товарищество Кавказа приняло тот рыцарский характер, которому так удивлялись впоследствии попадавшие сюда представители официальной России. За его столом, в его кабинете, в его залах не оказывалось начальников и подчинённых: встречались только братья по оружию, слуги одного и того же великого дела. Он был доступен каждому и выслушивал всех. С ним никто не чувствовал себя тяжело и жутко, неловкость и робость первых мгновений скоро проходили, и оставалось одно уважение к этому крупному человеку, так вдумчиво и пристально заглядывавшему в душу каждому. Он гнушался мер, вызывавших ужас; в его личном арсенале были другие, привязывавшие к нему сердца и души людей. С ним хорошо работалось, потому что каждый видел в нём самом первого и неутомимейшего работника. Его не боялись, потому что он понимал недостатки людей и умел их прощать, ради их достоинств. Его глубокое и разностороннее образование избавляло его от ошибок узких администраторов-специалистов. Казалось, что у этого человека были сотни глаз, которыми, в одно и то же время, он схватывал тысячи предметов. Он знал всё, интересовался всем. В его натуре был настоящий изящный аристократизм, тонкий вкус, и потому на всём, что здесь осталось после него, лежит до сих пор отпечаток не только глубокой идеи и сильной воли, но и удивительной гармонии, нравственной красоты, наружных подкупающих форм. Это был человек, призванный стоять на рубеже двух эпох. Одна должна была кончиться, другая — начаться с его появлением. Кавказ того времени дал двух таких великанов. Дикая мощь и неустрашимая отвага горных племён выдвинули имама Чечни и Дагестана — Шамиля; Россия поставила сюда ещё более величавую фигуру цивилизатора и устроителя края М. С. Воронцова. Между ними двумя была целая бездна, но на рубежах её они пристально всматривались друг в друга, изучали взаимно один другого и если боролись неравными средствами, то обладали почти одинаковым гением. Неизвестно, что бы один, если бы обстоятельства ему благоприятствовали, сделал из разрозненных кланов, рассеянных по горным узлам, но мы хорошо знаем, что создал другой из царства руин, пожарищ, опустелых деревень, одичавших полей, куда он являлся могучим волшебником, чтобы передать преемнику цветущие города, край, закипевший благородною работою, пышно поднявшуюся производительность, молодое общество, прекрасно и своеобразно складывавшееся в красивые и очаровательные формы, где так стройно сливались трудолюбивая и меркантильная Европа с мистическим великолепием и яркою мозаичною поэзиею Азии. Останься Воронцов ещё лет двадцать на Кавказе, — какая бы чудная будущность ждала этот край!..
И какая доброта была в этой душе! О ней свидетельствуют нам записки сотен несчастных людей, в те тяжёлые времена попавших на Кавказ рядовыми, под беспощадную ферулу жестоких требований, невыносимых условий и бесчеловечных кар. Как, — не нарушив ни в чём закона, исполнив повеления государя, — он сумел поддержать эту выброшенную из колеи молодёжь, воскресить в ней надежды и оправдать? Есть старое опошленное выражение: «отец-командир». Если кто в полной мере заслуживал его, то это несомненно М. С. Воронцов, благодарную память о котором сохранит не только история государства Российского, но ещё более и история человеческого сердца!..
С того дня, как он приехал в жалкий аул, называвшийся Тифлисом, — началась здесь неустанная деятельность. Азиат падок на зрелища, — надо было его отчистить от вековых нарослей этим путём, — и вот, в разорённом гнезде открывается театр. Потребовалось изучение края, и из ничего создаётся первая газета «Кавказ», которая при Воронцове была интереснее, жизненнее, талантливее, чем тогда, когда страна уже обладала гораздо большими средствами. В казённой типографии печатаются книги о местных племенах и народах. Повсюду организуются до тех пор неизвестные благотворительные общества, куда впервые получает доступ теремная затворница — местная женщина. Её не только вывели из гарема, для неё открыли училище св. Нины, и, несколько спустя, в местном обществе уже являются образованные по тому времени девушки, учреждается множество школ, гимназий, институтов, развивается и упорядочивается торговля и промышленность, вырабатываются облегчительные тарифы для черноморских портов, беспошлинному транзиту указывается путь из Редут и Сухум-Кале через Тифлис и Нахичевань в Персию и из Персии через Баку в Европу. Открываются приказы общественного призрения с правами заёмного банка, сохранные и ссудные казны, сберегательные кассы… В трущобах, где бродили кабаны да горные волки, стучит топор, основываются поселения. Там, где ещё недавно чернели пустыри, свидетельствовавшие об ужасах персидского нашествия, — подымаются первые фабрики, учреждаются конские заводы, улучшается скот. Впервые прочно и самостоятельно вырастает кавказский учебный округ, подчинённый только наместнику, является устав кавказского общества сельского хозяйства в феврале 1850 г., а в марте, 6, уж открыта выставка естественных произведений, образцов ремесленной и фабричной промышленности в Закавказье, всюду являются публичные библиотеки; основываются учёные общества, работы которых немедленно вызывают удивление и уважение европейских научных деятелей, воздвигается магнитная и метеорологическая обсерватория, даются обширные права местным наречиям. Воронцов, этот сеятель жизни по преимуществу, хочет и их вызвать к жизни, — по его инициативе открываются первые со времени существования племени картвелов представления на грузинском языке, в ещё недавно жалкое гнездо вызывается итальянская оперная труппа. Учреждаются коммерческие суды и т. д., и т. д. Ещё немного и разорённый персами, казавшийся громадною могилою мёртвого народа, жалкий Тифлис, вечное пристанище моровой язвы, лихорадок и чумы, — делается прелестным городом, одним из живописнейших в мире, действительно столицею воскресшего, помолодевшего, обновившегося новыми жизненными соками, закипевшего способными и трудолюбивыми племенами Кавказа…
Это было несомненно чудом, и автором его оказывался один только человек — М. С. Воронцов.
Иностранцы до сих пор изумляются ему; мы, русские, оскудев талантом и волей, забыли не только программу его, но и самого чудотворца!
Нужно сказать правду, — коротка у нас вообще память!..
М. С. Воронцов для Тифлиса был в одно и то же время и межевщик, и архитектор, и чуть не каменщик: город рос не по дням, а по часам. Он расширялся, устраивался и застраивался. Всюду прокладывались новые улицы, пустыри покрывались общественными сооружениями, через Куру перекидывался Михайловский мост, подобного которому ещё не было и в старых русских городах. Мост вызвал к жизни пустынные берега. За ними протянулись Куки с широкими улицами и площадями вплоть до цветущих и благоуханных садов немецкой колонии. С другой стороны — на гору св. Давида и на «скалистый Сололакский гребень» всползли новые дома. Точно от старого зачумлённого, ещё сохраняющего исключительно азиатский характер города — всё бежало на его окраины, в поисках простора, чистого воздуха и более человеческих условий. «Сололаки», покрытые садами, чудом превращаются в лучшую часть Тифлиса. Как наводнение новые кварталы переполняют овраги, перебрасываются через них на крутые обрывы Табора, Сенд-Абида, Мтацминды в соседство к уединённым монастырям, к легендарным башням, к утёсам, политым кровью, бывшим свидетелям героизма и гибели почти половины картвельского народа. Даже скалистые берега Куры не остались безлюдными. Где была ладонь, достаточная для фундамента, там строился дом в несколько этажей, с нависшими над быстро бегущими струями балконами… Безмолвный доселе, даже угрюмый город, вдруг вспомнил старые весёлые времена счастливой Грузии. Персидское нашествие и ужасы недавнего прошлого отошли назад. Воспоминания — чёрные и зловещие — поблекли перед яркою действительностью. Квартвели вспомнили старые песни. Предки говорили: «Когда смеётся грузин, — чертям в аду делается тошно, а когда запоёт грузинка, — ангелы в раю радуются». И смех, и песни вернулись в сердце народа, и теперь в прохладные вечера на плоских кровлях города тысячи женщин и девушек плясали под пение и хлопанье в ладоши своих подруг, а с улиц доносились громкие и бесшабашные, хотя, для европейского уха и нестройные, звуки зурны, весёлой зурны!.. Тифлис как Лазарь из гроба вышел под Божье солнце на простор и на волю…
И Амед, въехав сюда в жаркую пору дня, только любовался направо и налево его кипучею жизнью, его шумною и весёлою толпою, забывая даже о том, что через несколько часов его должен встретить сам наместник… Скоро, впрочем, он въехал в более тихую часть города.
Он с удивлением оглядывался на всё.
Ничто кругом не напоминало ему того, что он слышал о Тифлисе!
По его мнению, это должен был быть большой Дербент — только.
Но перед ним со всех сторон, куда только достигало его зрение, раскидывался громадный город с церквами, монастырями, соборами.
Первые впечатления
Стояла жара невыносимая…
Несмотря на близость вечера, Тифлис ещё спал! Даже бездомные псы свернулись в кустах и под деревьями или дремали в небольших клочках тени, под чинарами, тутом и алычой, широко разбрасывавшими ветви по переулкам.
Солнце медленно опускалось над городом и жгло его всюду: и на Авлабаре, где грузинские сакли ещё как во время Цицианова и Кнорринга громоздились непроглядными кучами одни на другие, и на Песках, и в Сололаках — деваться было некуда.
Только в крытых галереях армянского базара кишмя кишела толпа самых разнообразных образчиков племён и народов Закавказья, хотя ещё более людный в остальное время Майдан был уж пуст и тих, точно всё кругом вымерло. Как оригинален этот уголок! Направо и налево расходятся, разветвляются многочисленные коридоры, в стенах которых точно ниши зияют маленькие лавочки. Повсюду вывески на русском, грузинском, армянском, персидском и татарском языках. Тёмные магазины сверху донизу загромождены всевозможною пестрядью яркого и фантастически-оригинального востока. Тут же жаровни, вокруг которых густится голодный люд. Валит чад пригорелого масла, запах жареной говядины так и щекочет носы всей этой ободранной публики, терпеливо ожидающей кебаба или двух-трёх кусков шашлыка с жирным пловом; невдалеке, просто на прилавке торчат корзины с луком, алычой, чесноком, черешней, черемшой, тупом, шишкаки и другими южными плодами и овощами. Посреди разнообразной снеди спят, сидя на корточках, толстые как арбузы и красные как спелая граната, армяне в чухах, расшитых позументами, с неизбежными кинжалами в аршин. Другие — худощавые, красноносые, с острыми, лукаво бегающими глазами, юрко суетятся перед ними, произносят им речи, неистово размахивают руками. Спящие только порою качнут головами в такт красноречивому оратору и опять погружаются в дремоту. А дальше — целый ряд лавок, откуда слышится стук и визг. Это оружейные мастерские. Вся лавочка шага в три в длину и ширину, но в ней сидят человек пять грузин в папахах, лихо заломленных набекрень. У всех в руках кинжалы. Один оттачивает уже готовое остриё, другой наводит глянец на клинок, третий золотит надпись на нём, у четвёртого рукоятка, и он заботливо украшает её бирюзой или просто производит насечку по серебру, пятый пробует готовые клинки, врубая их в железную полосу и в тоже время все эти работники неистово, как-то в одно и то же время болтают между собою. Иногда из болтовни разом вырвется и также разом потухнет визгливый напев, более похожий на крик… А вот и персы — недавний ужас грузин. При Воронцове они явились сюда уже как скромные купцы и деятельно сколачивают деньгу, пользуясь тем, что здесь, под покровительством русских законов, ни шах, ни его чиновники, ни сарбазы у них не отнимут ничего. Они молчаливо сидят в лавчонках, чёрные, словно обгорелые, с крашеными в красное ногтями и бородами. Высокие барашковые шапки сдвинулись на затылки, за ушами какими-то запятыми завиваются традиционные локоны. Сухие черты словно замерли в одном выражении раболепного смирения, веки глаз постоянно опущены, только порою из-под них сверкнёт на минуту острый, насквозь пронизывающий взгляд чёрных глаз с кровавыми белками, и опять вы ничего не прочтёте на этих восковых лицах. Персы или шьют золотом по красному и зелёному сафьяну, или тамбуром отделывают яркие сукна разноцветными шелками.
В каждой лавке хозяин — толстый, сонный, неподвижный… Вокруг мальчики и работники. Вот один поднялся, подал только что оконченную вышивку для туфель. Перс углубился в рассматривание и оценку золотого шитья, прикинул даже на собственную ногу, крючковатые пальцы которой едва прикрыты чувяками. Неожиданно послышался звонкий шлепок, и, получив затрещину, мальчик как ни в чём не бывало опять садится за работу… Вот мимо пробирается загорелый красавец-имеретин. Целая копна волос на голове едва сдерживается четырёхугольным куском сукна — папанахи, завязанным шнурками у горла. Костюм его неуловим. Это лохмотья на лохмотьях, ошмётки каких-то тряпок висят на нём бахромою, босые ноги одинаково бодро ступают и на песок, и на выступы камня. Как собака он подёргивает носом, проходя мимо жаровни, и с наслаждением внюхивается в запах боз-баша. Позади за спиною у него висит точно облежавшаяся в лепёшку подушка с верёвками на углах. Это муша — носильщик. Его увидишь зачастую на улице и невольно подивишься выносливости широкого хребта, силе и цепкости красивых и стройных ног. Вот он тащит наверх громадный шкаф; за ношею не видно человека, а ступни всё так же бодро и ровно идут себе по переулку, круто взбегающему на Мтацминду. Видно, что ему нипочём нести такую махину, под которою несомненно присел бы наш хвалёный костромич. Порою муша остановится, обопрётся на свою же ношу назад, глядит-глядит откинувшись в небо и вдруг запоёт визгливым фальцетом про розу, что выросла в саду у соседа. Пришёл злой человек, сорвал и бросил цветок, но и от обезлиствевшего венчика ещё разносится пышное благоухание. И опять, подымаясь, идёт он также размеренно и бодро в гору. Тут, внизу, в галереях армянского базара, он, по-видимому, ждёт, — не пошлют ли его купцы с товаром куда-нибудь, но, увы, купцы безучастно оглядывают мушу, мальчишки задирают его, — а в животе урчит: с утра ничего не было, и в кармане ни одного шаури нет. Медленно словно привидение идёт седобородый мулла. Белая чалма почти скрывает зоркие, несмотря на старость, глаза, и под её тенью ещё строже и резче и острее кажутся словно высохшие черты его сурового лица. А вот и продукт российской цивилизации: распластавшись посреди тротуара, спит себе солдатик. Рубаха навыпуск, сапоги лезут под ноги прохожим, на лицо кто-то швырнул огуречную корку, так она и залепила ему щеку. Должно быть, выпил в ближайшем духане молодого вина, растомила его жара, он и заснул себе здесь в лёгком воздухе и в прохладе под крытыми сводами базара. Рыжая бурка татарина мелькает где-то вдали, а там целые группы грузин, перетянутых в рюмочку с заломленными набекрень папахами и с улыбающимися чему-то лицами, на которых словно посторонние, чужие, не идущие к делу, совершенно уж неприлично выдаются вперёд громадные, но тонкие как лаваш, носы. Грузины пересмеиваются, перебрасываются остротами, бойко подбоченившись, и вообще шумят на весь базар. Видно, в их головах ещё не перебродилось только что выпитое за обедом кварели. Они не могут пропустить мимо случайно попавшего в эту толчею мирного горца:
— Ой, лезгин, — начинает один. — Зачем лают на тебя грузинские собаки?
— Должно быть, чуют голодного шакала, — таким же напевом отвечает другой.
Не обращая внимания на смех, лезгин проходит молча, только ещё сумрачнее становится выражение хмурого и без того лица, да рука бессознательно ищет у пояса чёрную рукоять длинного белоканского кинжала. Но весёлый грузин не задирает серьёзно. Шутка прозвучит, а на смену идёт уж другая, столь же безобидная. Вот они остановились у пекарни, где персияне, голые до пояса, обливаясь потом, вытаскивают из печи готовые чуреки и лаваши. Уличные весельчаки начинают потешаться и над ними, до тех пор, пока их внимание не отвлечено в сторону — любимою потехою Майдана и Армянского базара — кулачным боем оборванных мальчишек, партия на партию вышедших одна на другую. За ними, того и гляди, уцепятся взрослые, и до самого вмешательства полиции пойдёт невообразимая потеха.
Как всё это было не похоже на недавнее прошлое, мрачное, зловещее полуразорённого персами Тифлиса. Наслышавшийся разговоров об этом, Амед не узнавал города. Даже азиатская часть, — по преимуществу — Майдан поразил молодого елисуйца. Она начинается за воротами ботанического сада и огибает Армянский базар. Над нею высятся старинные крепостные стены, под ними целая масса, висящих над Курою, домов с балконами. Одни в развалинах, другие — уже воскресли из них и пёстрой, и весёлой облицовкой играют на солнце. Часто на кровлях возводятся другие дома, через узкие улицы из окон в окна противоположного жилья перекидываются доски. Ещё ниже — серые купола царских бань. Воронцов их только что восстановил из руин. Тут около — уже самый Майдан — толчок, рынок Тифлиса, своеобразный восточный Сити, где вся торговля, промысел и мастерство — на открытом воздухе, где по узким, заваленным всевозможными плодами, овощами и зеленью улицам, то тянутся длинною цепью верблюды, то топчутся ослы тулухчей[57] с бурдюками, то такие же манглисцев, доставляющих сюда уголь. Скрипят арбы, разукрашенные коврами, влекомые сильными буйволами. На площади Майдана расположились караваны вечно жующих что-то верблюдов, гарцуют на золотистых карабахских конях кахетинцы, стоят громадные, сбившиеся шерсть к шерсти стада осетинских овец и толпами неведомо чего ждут сошедшиеся здесь люди из разорённых горных аулов. Сюда же выходят и татарские рестораны. Чад выносится столбом оттуда. Из-под плиты багровыми языками стелется пламя, чуть не задевая бритого татарина, снующего от одной кастрюли к другой, здесь мешающего читриму, там опрокидывающего рис в решето, снимающего пенку с варенья из алычи, выхватывающего из самого пекла кебаб, чтобы его пышущим огнём подать таким же бритоголовым потребителям. А его помощник невозмутимо вертит шашлык над мангалами с угольями, красными пятнами пылающими в чаде этой открытой кухни. Хмурые горийские сапожники заняли линию клетушек-лавок, и оглушительно стучат молотками в металл медники…
Амед то и дело расспрашивал, как проехать ко дворцу наместника.
Ему показывали, с удивлением глядя на молодого елисуйца, который таким красавцем казался на чудесном скакуне. Лошадь, вовсе, не устала, точно и не было этих шестидесяти вёрст, которые она проехала сегодня. Только с отделанной серебром уздечки падала пена, да из-под седла тёмными пятнами сочился пот.
Какой-то офицер попался ему, — Амед и к нему обратился с тем же вопросом.
Тот удивлённо посмотрел на горца.
— А вам зачем наместник?
— Я послан к нему.
— Можно спросить, — кем?
— Комендантом Самурского укрепления.
— Брызгаловым! — воскликнул тот.
— Да.
— Вы сами оттуда? Вы были среди этих молодцов-мучеников? Впрочем, что же я вас спрашиваю… У вас солдатский Георгий на груди… И верно Брызгалов вас послал как одного из самых храбрых?.. Да?
Амед покраснел.
— Как мы вам здесь завидовали!..
— Чему?.. Нам было плохо… От майора до простого солдата.
— Какого майора?
— Брызгалова…
— Ну, он теперь уже не майор! Его Государь по докладу светлейшего произвёл через чин. У вас этого не знают?
— Нет.
— Постойте… А вы… не Амед, сын Курбана-Аги елисуйского?
— Я самый.
— Ну, поздравляю вас! Вы уже произведены в офицеры, за отличие… Наместник сделал это вследствие донесений дербентского коменданта. А тот получал сведения от лазутчиков. Сегодня вечером, когда вас главнокомандующий отпустит, — мы вспрыснем ваши эполеты… Я — князь Гагарин и состою при наместнике. Мы у него, верно, встретимся.
— Вы знаете ли, — продолжал он, немного погодя, — ведь, мы все здесь Богу молились за защитников Самурского укрепления. И сердце болело, — и завидно было… Кажется, будь крылья, перемахнули бы к вам!.. Ну, до свидания.
И молодой красавец крепко пожал руку Амеду.
Он пришпорил коня и понёсся по указанному ему направлению.
Когда Амед переехал на ту сторону, над Тифлисом уж горел яркий месяц. Лунный блеск словно дымился над развалинами крепости. На его серебристом фоне ещё величавее казались остатки древних башен.
Что может сравниться с чудною, почти фантастическою картиною Тифлиса лунною ночью! Вы видите тёмную глубь котловины, сверкающую тысячами огоньков. Все скаты гор кругом усеяны этими же огоньками. Они везде — и вверху на горах, и внизу, только тёмная полоса Куры чёрною лентою выделяется из этого моря огня. Да и по её окраинам отражения их дрожат в струях, то медлительной и ленивой, то неудержимо стремящейся вперёд реки… Шум замер. Но вот из тишины вырываются громкие звуки зурны. Закутивший грузин шатается от одного духана к другому. Лихо закинуты назад рукава его чухи, заломлена на самой темя барашковая шапка. Руки заложил он за пояс из золотого позумента с серебряными под чернью бляхами. Он, шатаясь, поёт себе весёлую, бесшабашную песню. Сами зурначи тоже под хмельком. Каждый тянет своё, мало думая об общей гармонии. Выбивают плясовую дробь парные барабанчики — «тибли-бито ногара». Совсем не в такт им слышится грустная, молящая о чём-то мелодия «джианури» — род трёхструнной гитары, визгливо заливаются на всю улицу «дудуки» — дудки, и глухо вторит им барабан — «талабанда», по которому и сверху, и снизу дубасит полупьяный музыкант. Зурна кажется особенно полною, если в ней участвуют «чангури» — род балалайки, на которой играют роговым когтем.
Когда Амед спустился в суматоху город, ему казалось, что он попал в сказочный мир, где в бесчисленных лавках горели тысячи фонарей и свеч, и толпа шумела кругом вовсю.
— Где дворец наместника? — остановил он какого-то солдата.
— Налево будет.
Только что отстроенное здание казалось грузинам того времени чудом архитектуры. В окнах было светло, оттуда слышалась сюда военная музыка. В воротах стояли часовые.
— Кого вам? — остановил его дежурный адъютант, когда, покинув коня во дворе наместничьего дворца, он вошёл в первую приёмную.
— Князя Воронцова.
Тот улыбнулся и смерил его с ног до головы, так что Амед растерялся и покраснел.
— А зачем вам надо наместника?
И он загородил ему вход в те комнаты, хотя Амед и не порывался туда.
— Об этом я сам доложу его светлости… Скажите, что я приехал с донесением от полковника Брызгалова, коменданта Самурского укрепления.
Тон и лицо адъютанта мгновенно изменились.
— Простите, голубчик… Я не знал… — и он горячо схватил и пожал руку Амеду. — А вас как звать?
— Амед Курбан-Ага елисуйский…
— О, Господи! Поцелуемся, молодчинище… Извините, что я вас так… Как обрадуется Михаил Семёнович!..
Офицеры у себя звали наместника по имени и отчеству. Это было в хороших старых правах боевой кавказской армии.
И адъютант, взяв у Амеда пакет, живо бросился во внутренние комнаты.
У наместника
У Амеда сильно билось сердце…
Он долго ждал в приёмной у наместника. Должно быть, адъютант князя Воронцова никому ещё не сообщил, что это за птица скромно приютилась в уголке громадной комнаты, потому что на него никто не обращал внимания. Мимо проходили, видимо, торопясь с какими-то поручениями, блестящие офицеры, седые строгие генералы с георгиевскими крестами — боевые орлы Ермоловской эпохи, редко достававшимися тогда и за действительные заслуги! Какие-то озабоченные чиновники мелькали с бумагами, всё это было занято, всё дорожило минутою, никому не было времени даже перемолвиться между собою. Работа шла вовсю, кипучая, неотложная, захватывавшая всего человека. То и дело, в те комнаты, расшитые в золото, блестя драгоценным оружием, в своих ярких и живописных костюмах, проходили местные князья — красавцы на подбор, с гордою осанкою средневековых феодалов, смягчённою только выражением восточной покорности к общепризнанной власти. Назад они возвращались сияющие, — должно быть, каждого из них наместник сумел и очаровать, и завоевать вполне. Этот удивительный устроитель Кавказа даже враждебных ему людей захватывал врасплох, будто околдовывал их сердцем, и, входя к нему с лукавым и коварным замыслом, с мыслью об измене, они оставляли Воронцова его верными и преданными на жизнь и на смерть слугами. Только теперь в молодом елисуйском горце сказалась усталость. Он тщетно старался совладать с собою. Блеск и мелькание десятков людей, тихий говор вдали, звуки музыки, тёплая атмосфера этой комнаты погружали его в какой-то одуряющий туман, где мало-помалу все предметы меняли очертания, тускнели, делались неопределённее и неопределённее. Контуры их расплывались и сливались в одно марево. Амед чувствовал, что ноги его как-то подкашиваются сами собою; тихая, сладкая истома оковывала его неодолимою ленью. Что-то убаюкивающее носилось кругом. Точно медлительные волны подхватывали его и ласково увлекали куда-то, — где нет ничего, кроме покоя, тишины, сна. Он делал усилия над собою, — широко открывал утомлённые глаза, пристально старался смотреть ими на свечи, на людей, на стены — и не различал ничего, и опять они смыкались и дыхание его становилось ровно. Он недолго стоял, прислонясь к стене. Сам не знал как, и должно быть не сразу, опустился на стул, — простой кожаный с точёными ручками красного дерева. В каких-то полупроблесках сознания он схватывался за грудь, и на одно мгновение просыпавшаяся память говорила ему, что здесь нет ничего, что привезённый им от Брызгалова пакет он давно отдал адъютанту, и верно наместник его читает теперь! Мысль о наместнике заставляла его делать последние попытки. Он вскидывал отяжелевшие веки, приподымался. В самом деле, это не просто генерал, это — полновластный правитель Кавказа, являвшийся для наивного горца в ореоле чего-то чудесного, сказочного, прекрасного… Но ещё несколько минут и, уронив голову на грудь, Амед заснул крепким сном утомлённого здорового юноши, так заснул, что быстро вышедший к нему адъютант остановился над ним, не решаясь его будить.
— Устал, бедняга… Пускай отдыхает.
Адъютант сел около, развернул какую-то книгу… Минуты шли за минутами… Амеду чудилось, что вдали мало-помалу замирает перестрелка, что в тумане, у самых гор, мелькают красные папахи джигитов и наибов… Он на стенах Самурского укрепления, и рядом с ним — вся бледная, но спокойная — Нина… Амеду снится, что он держит её за руку, и эта рука дрожит в его пальцах, и они уж не на стене, а под чинарою — среди двора залитой лунным светом крепости… Где-то за Самуром гудят горные дружины, тявкают наши собаки… Мечтательно и нежно с синих небес точно из бездны светящейся лазури глядят на дивный край грустные звёзды…
— Где этот молодой герой?
В дверях приёмной показался высокий, прямой генерал в наглухо застёгнутом длинном сюртуке, на котором только на шее белел Георгиевский крест. Седые волосы были зачёсаны висками вперёд, тонкие губы чуть-чуть улыбались на строгом лице, смягчая его кажущуюся сухость. Зорко и пристально смотрели серые глаза, никогда и ни перед чем не опускавшиеся…
— Где этот молодой герой?
Адъютант вытянулся.
— Ваша светлость… Я не осмелился разбудить его… Он казался таким усталым.
— И хорошо сделали… Какой красавец!.. И какие радостные известия привёз он… Пойдите, попросите сюда княгиню, она рядом…
Адъютант бросился туда. Воронцов стоял над спящим горцем.
«Открытое лицо… Верно, соколиные глаза… Много преданности, верность до гроба… Храбрость… Кто ж говорит о ней, здесь ею никого не удивишь. Спас крепость и отряд… Да я в долгу у этого юноши. Чему он улыбается во сне?.. Тому ли, что после всего пережитого остался цел или так, благополучие существования?.. В Петербурге он произведёт сильное впечатление. Как бы его не испортили. Буду просить Государя вернуть мне его сюда немедленно, — мне такие нужны. А там живо избалуют такого»…
Мысли эти мелькали в голове у наместника, когда он стоял над спящим Амедом, не будя его и любуясь утомлёнными, но благородными чертами сухого горского лица. Позади послышалось шуршание шёлка. Вся в чёрном, показалась княгиня.
— Полюбуйтесь на этого молодого горного Баяра.
Княгиня улыбнулась.
— Как красив!.. Неужели вы его хотите в Петербург послать?
— Да! Государю приятно будет видеть одного из защитников Самурского укрепления…
— Жаль…
— Ненадолго… Он вернётся назад тотчас же…
Воронцов тихо положил руку на плечо Амеду. Тот мгновенно открыл глаза, — усталости после этого короткого сна как не бывало. Горец быстро встал, оторопело взглянул на князя… Робко остановился на его жене и скромно опустил веки.
— Виноват… устал… — тихо заговорил он.
— Ничего, ничего… Рад вас видеть… Вы бек?
— Нет. Я — ага…
— Всё равно, вы — дворянин. Мы все в долгу у вас. Брызгалов пишет о вас как о сыне. Я полковника знаю. Он даром своей души никому не отдаст. Если бы даже передо мной не было рапорта о ваших подвигах, — довольно одной этой рекомендации. Вы пожалованы за подвиги в течение осады всеми четырьмя степенями знака военного ордена. Вам сейчас принесут их, и княгиня сама их на вас наденет. Первый уже на вас — за удачно исполненное поручение в Дербент, и три остальные — за отличие и храбрость в боях с Шамилем на Самуре. Вы — храбрый из храбрых. Я счастлив, что в горах есть такие рыцари, т. е., по-вашему, джигиты… Я поздравляю вас с высокою честью. Государю императору угодно было сделать вас русским офицером. Служите ему верою и правдой, постарайтесь оправдать его милости к вам как и ко всем его подданным.
Наместник говорил всё это тихо, но так, что его грудной голос, казалось, охватывал всё существование Амеда. Князь не снимал руки с плеча молодого горца и не отводил от его глаз пристального взгляда.
— Я рад, что вы оказались именно таким, каким я хотел вас видеть. Перед вами теперь лежит широкая и блестящая дорога отличий, чинов, значения. Но помните, — первым шагом вы обязаны Кавказу — и должны остаться верным его сыном. Мне такие как вы нужны! Я уверен, что в вас я найду способного и преданного исполнителя.
— Князь… Моя жизнь… душа… всё… что здесь есть… — дотронулся Амед до сердца и головы, — бери всё… Я буду счастлив, если умру за тебя!..
Воронцов ласково улыбнулся.
— Дитя! Лучше живи и служи мне! Умереть, мой друг, нехитро. Все мы умрём в своё время.
Он ещё нежнее сжал плечо Амеда.
— Говори со мною как с отцом, — не нужно чего-нибудь тебе?
— Мне… Мне…
Что-то прихлынуло к горлу Амеда и блеснуло в его глазах.
— Да. Мне большая милость нужна.
— Ты вперёд её заслужил…
— Я обещал Нине и Иссе обещал.
— Нина — это дочь Брызгалова?
Амеда точно обдало заревом. Воронцов переглянулся с княгинею и улыбнулся ещё ласковее.
— Ну?.. Смелее… На Шамиля ходил, с Хатхуа схватывался, тысячи подвигов за тобою, — а меня боишься!
— Я хочу… одну веру с нею… Я… я…
— Ты желаешь сделаться христианином?
Воронцов наклонился и быстро поцеловал его в лоб.
— Да… хочу… Я обещал.
— Радуюсь, душевно радуюсь… Хоть помни, — я никого не неволю. Русская власть всякой вере покровительствует одинаково.
— Я свободен… Я дал обещание… И ещё… Я хочу… Чтобы ваше сиятельство были…
— Твоим крёстным отцом?..
— Да…
— Ну, нет… У тебя, мой друг, будет крёстный отец и поважнее, и повыше меня. А княгиня не откажется заочно быть твоей крёстной матерью…
Амед наклонился и поцеловал ей руку.
— Отдохни, послезавтра я посылаю тебя к царю — в Петербург.
Молодой елисуец даже зашатался.
Точно в сказке осуществлялись его мечты.
— Мне?.. К царю?.. Простому горцу?.. Страшно…
— Не бойся… Тебя и там хорошо примут. До отъезда ты мой гость. Тебе отведена комната у меня во дворце. Милости просим завтракать и обедать у меня. Кстати, ты расскажешь об этой беспримерной осаде. Капитан, — оглянулся он на адъютанта, — тебе укажет, куда идти… Если будешь писать Брызгалову, — сообщи ему, что я сам летом приеду к нему в гости!
Счастливый и смущённый Амед неловко пошёл в другие комнаты, и по дороге на него с недоумением и завистью смотрели десятки важных и блестящих офицеров и чиновников, приглашённых князем на этот вечер.
Пленные
Каким-то сказочным сном остался позади Амеда казавшийся ему безграничным простор чудной, до сих пор ещё неведомой ему, наивному дагестанскому горцу, России… Обласканный наместником, спрятав на груди пакет на имя Государя императора, молодой офицер оставил Тифлис в розово-золотистое утро, когда гребни гор кругом утопали в огнистом зареве, а внизу, в котловине восточного города, ещё лежал прохладный сумрак… Вместе с Амедом был отправлен в Петербург и князь Гагарин, с которым храбрый елисуец случайно познакомился на армянском базаре и тесно сблизился уже во дворце у Воронцова. Они ехали в лёгком фаэтоне, который бойкие, постоянно сменявшиеся кони быстро уносили на далёкий, таинственный север. Не встало ещё солнце над высями отгоревших гор, ещё прохлада не сменилась зноем карталинского дня, как наши путешественники поднялись уже на первые плоскогорья кавказского хребта. В каком-то голубом царстве по сторонам чуть-чуть выступали окутанные в зелёное марево алычи, чинар, обвитые в виноградные сети грузинские деревни. У могучих скал, заслонившись от всего мира шелковицами и гранатами — загадочными могилами казались их серые землянки. Строгие силуэты древних монастырей, взобравшихся на выси в чистый простор безоблачного неба, благословляли оттуда этот тихий, мирный и идиллический уголок воинственного и сурового Кавказа… Зелёные скаты, крутые и мрачные, обступили их под Мцхетом. Далеко вверху на самых гребнях поднебесных утёсов чернели пасти глубоких пещер, являющих следы пребывания человека в те ещё времена, когда одетый в звериные шкуры, с кремневым дротиком в руках, он вступал здесь в единоборство с медведями и кабанами. Но не одним троглодитам нужны были эти мрачные гроты, в их таинственный сумрак ещё вчера прятался грузин от набега горных кланов Дагестана и свирепых персидских орд. Сюда загонялись его стада, собиралось всё что поценнее. Дрожа от ужаса, несчастная семья его ожидала целые недели и месяцы, чтобы враг оставил счастливые ещё недавно, залитые солнцем долины, напоив их кровью, испепелив убогие сакли и уведя за собою в полон всё, что не успело спастись в недоступные пещеры… Во Мцхете надо было ждать до завтра. Только к утру должна явиться запоздавшая оказия, с которой нашим путникам предстояло углубиться в горы. Без неё нельзя было и думать проникнуть даже в мирные поднебесья Хевсуров и Пшавов, потому что только на днях заволновавшиеся осетины уже наводнили всю эту страну своими мелкими разбойничьими партиями. По двое и по трое они подстерегали русских и грузин, осмеливавшихся без конвоя заглянуть в чудные долины и синие ущелья Военно-Грузинской дороги. Будь князь Гагарин и Амед простыми путешественниками — они бы, смеясь, пустились в опасные, но заманчивые приключения той богатой сильными ощущениями и нежданными встречами эпохи. Но Амед был послан к государю, а князь Гагарин ехал к военному министру графу Чернышёву — убедить его прислать на левый и правый фланги этого края новые войска. Волна горского наводнения, отброшенного назад в Салтах и на Самуре, могла тысячами ущелий перекатиться в другие слабо защищённые места и снести с них только что основанные русские станицы, крепости и посёлки.
Амед, беседуя с Гагариным, не заметил, как сумерки окутали древний Мцхет. Над рекою повисло белое облако… Несколько крупных звёзд сверкнуло над чёрными силуэтами. Запах цветов стал ещё слышнее. В кустах заблистали голубоватые искры светляков… Вон целый дождь таких бриллиантов засиял и рассыпался… Скоро всё притаилось; за одною из вершин посветлело… Чуть наметился её резкий, иззубренный зловещий гребень… Желтоватый лунный блеск всё сильнее и сильнее. То белая скала, то громадный тополь, то синее ущелье выдвигаются из мрака… Огоньки в окнах потускли… Розами так запахло, точно к самому лицу поднесли букет этих цветов… На лёгких крыльях проснувшегося ветра тонкое дыхание горных растений доплыло и нежною-нежною лаской овеяло сидевших на балконе путников. Плеск и шум реки позади. Глухо ворчит она под тяжёлыми аркадами моста. И сам помнящий ещё римские легионы Цезарей мост под высоко уж поднявшимся месяцем — точно серебряный, перекинулся на ту прятавшуюся в тень сторону…
— Откуда это?.. — насторожился князь Гагарин.
Амед прислушался…
Далеко-далеко… Но точно какая-то лавина с гор ползёт сюда… Сплошное что-то… Только изредка нет-нет да и вырвется какой-нибудь резкий и пронзительный звук и тотчас же замрёт… И шум Куры пропал, и меланхолический свист ветра в невидимых ущельях замер, и шелеста встревоженной листвы не слышно, — точно она припала к ветвям и притаилась… Амед вышел на кровлю дома и стал вглядываться… Вон с запада, чуть заметная, надвигается какая-то тучка… Только привычному горцу удалось различить в этой туче блеск луны на чём-то. На чём он и сообразить не мог… Точно стальную реку под месяцем чуть тронул лёгкий ветерок, и она на мгновение заблистала тысячами искр… И опять всё потускло… А шум сильнее и сильнее… Лавина с гор надвигается на спавший город, и он уже начинает просыпаться. Под луною Амед различает, что на плоские кровли выходят белые фигуры, в этом призрачном освещении кажущиеся привидениями… Их всё больше и больше… Скоро крыши полны ими. Все смотрят оттуда в даль… Уж не новая ли персидская орда показалась… Или горцы спустились со своих высот и медленно, в сознании своей несокрушимой силы, идут на древний город?.. Вот вдали что-то отделилось от сумерек ночи каким-то клубком… Быстро отделилось и ещё быстрее несётся сюда по пустынной ещё дороге. Через старый мост промелькнуло. Амед различил казака с пикою и говорит об этот князю. Тот силится разглядеть, но ничего не видит.
— Вам, горцам, позавидуешь. Вы как орлы видите издали.
— Мы привыкли… С детства…
Князь с завистью посмотрел на него.
Вдруг он засмотрелся перед собою.
— Казак и есть! Эй, служивый!
Казак в лунном свете заметил двух офицеров и придержал коня. Взмыленный кабардинец тяжело дышал, храпел, кусал удила и нетерпеливо бил передними копытами в землю.
— Откуда ты?
— С гор, васкобродие!
— Что там за воинство у вас?.. Оказия возвращается, что ли?..
— Никак нет… Пленных ведём.
— Как пленных?
— Салтинцев, к наместнику приказано…
— Много их?
— Много, васкобродие… И наибы Шамилевы есть.
— Куда ж ты вперёд поскакал?
— Послал войсковой старшина, два дома под полон надо. Потому там и женщины ихние.
— Это ещё откуда!?
— Увязались за мужьями. Ну, генерал, что Салты уничтожил, — смиловался. «Пущай же, — говорит, — всей семьёй едут»…
— Ты сам был в Салтах?
— Точно так, васкобродие!
— Поди, мало аула осталось?
— Чистое место, — например. Плешина. Долго будут помнить. Генерал всё приказал спалить. И селиться на этом месте заказано, — пущай на другие вышки идут, кому охота. Да и салтинцев осталось немного, потому, народ животрепящей, храбрый народ. «Аману» не просит, — так под штык и лезет. Старики — и те… Даже женщины под приклады совались. Татарва бесстрашная.
— Ну, спасибо…
— Рад стараться.
И казак ударил кабардинца нагайкой. Тот взвился и точно сослепу кинулся вперёд в пустынную улицу утонувшего в синем мраке Мцхета. Скоро перебой его копыт послышался за чёрным силуэтом собора, а лавина громадного полона подкатывала всё ближе и ближе. Теперь уже легко можно различить в его сплошном шуме скрип аробных колёс, топот коней, крики погонщиков — визгливые дагестанские крики — едва-едва пробиравшие медлительных и невозмутимых волов, голоса команды, плач ребёнка, торжественный голос муллы, совершавшего и здесь призыв к обычному намазу, точно это была не жалкая горсть разбитых наголову салтинцев, приближавшаяся к грузинскому городу, — а весь недавний аул, грозный и богатый, спокойно дремлющий под тенью старой мечети. Щёлканье нагаек и возгласы: «Не напирай, чёрт», слышались вперемежку с гортанною бранью, по которой можно было догадаться, что арбы брались в аулах по дороге, и что владельцы этих подвод вовсе не были обрадованы честью везти куда-то вниз со своих гор ненавистных им лезгинских женщин. Уже издали долетали отдельные слова, и Амеду ясно было, что дагестанские рыцари перекликаются между собою с одного конца лавины на другой… Елисуец вспомнил, как ещё недавно каменное гнездо русской крепости, охваченное железным кольцом горных кланов, было обречено на смерть беспощадным Шамилем, — и нигде, и ни в чём не видело спасения. И ему вдруг стало жаль вчерашних врагов. Может быть, между ними он найдёт многих, кого ещё несколько дней назад он встречал в бою лицом к лицу, отражал их удары и наносил им свои. Его потянуло в этот полон, и он оживлённо обратился к князю Гагарину:
— А мы к ним не пойдём?
— Я об этом именно и думал. Мы можем нижнее помещение уступить им. Разумеется, напоим, угостим их чаем и шашлыком. Хорошо бы встретить кого-нибудь из них, кто поближе к Шамилю…
Лавина уже вступала в тихие улицы Мцхета.
Теперь со всех кровель громко и весело раздавался говор грузинских женщин, высматривавших в охваченной казаками и пехотинцами толпе пленных — ещё недавно страшных, пугавших их трусливое воображение джигитов великого Имама Чечни и Дагестана. «Наибы-наибы! — кричали они с кровли на кровлю, различив в тёмном мареве полона красные папахи. — Наибы-наибы!» И с острым любопытством в сухих и недвижных чертах гордых пленников они спешили рассмотреть что-то, робко теснясь на кровлях и прижавшись друг к другу даже и от обессиленного врага. Так дети жмутся к матери, видя за железною решёткой могучего льва, равнодушно обдающего их огнём своих жёлтых глаз. «Наибы, наибы!» — и действительно, это были наибы, и они, не поддаваясь никакому смятению или не обнаруживая его, так же спокойно ехали на конях, как будто бы их не вёл к страшному наместнику Кавказа сильный русский конвой, а сами они в челе своих дружин направлялись к какой-нибудь кровавой победе. «Наибы, наибы!» И гордо сдвинутые на лоб над грозными, соколиными глазами папахи кидали мрачную тень на их лица. Спокойно сильные руки правили уздечками коней, и ни искры любопытства не обнаруживали дагестанские паладины, въезжая в древнюю столицу грузинских царей, в эту святыню народа, с которым и они, и их отцы, и деды вели долго неустанную, беспощадную, непримиримую войну. За ними медленно, но громко скрипя, двигались завешанные ободранными коврами арбы, громадные колёса их едва-едва вертелись в пыли, поднятой ими, серые белоканцы и хевсуры в овчинных шапках то забегали перед быками, то останавливались и направляли их палками, хрипло крича на них. Изредка приподнимался ковёр арбы, из-под него смотрела на кровли с залитыми лунным светом христианскими женщинами закутанная в белое голова лезгинки, но на ней ничего нельзя было различить, кроме больших, тёмных глаз.
— Позвольте представиться! — подошёл князь к начальнику конвоя и назвал себя. — А это мой товарищ, прапорщик Амед Курбан-Ага елисуйский.
— Войсковой старшина Куроедов.
— У нас внизу целый этаж дома свободен, — могу предложить его вашим пленным. Кто поинтереснее, разумеется.
— Тогда я к вам возьму вместе с собою трёх наибов: князя Хатхуа, из Кабарды, и из Салтов — Джансеида и Селима с жёнами и отцом одной из них, если позволите, князь?
— И отлично… У нас самовар готов. Вино есть, шашлык мигом изжарят.
— Князь Хатхуа! — воскликнул Амед. — Он здесь?
— Да, его перехватили наши казаки. Отчаянная башка! Отбивался как чёрт, пятерых уложил, — наконец, одолели его.
— Это мой дядя!
Войсковой старшина недоверчиво покосился на него, но, различив четыре солдатских Георгия на груди у молодого офицера, успокоился.
— Ну, я вам скажу… Ваш дядя! Он нам стоил! Кабы не генерал, — ухлопали бы его. Хотел взять живьём красного зверя!
— Наместник, — тихо заговорил князь Гагарин, — будет очень доволен.
— Чему это?
— А вот именно тому, что князь Хатхуа у нас в руках.
— Его, пожалуй, в Мцхет запрут, а потом в Россию вышлют, если чего хуже не сделают. Ведь он раз уже был в плену и ушёл… Я, признаться, хотел ему руки скрутить, да вспомнил, — всё-таки князь… Жаль стало, — слово взял с него, что не убежит пока… до Тифлиса.
— Слово дал, — значит, не уйдёт.
Нижний этаж грузинского дома осветили. Когда Амед, немного погодя, вошёл сюда, на тахте уже сидел князь Хатхуа, суровый и задумчивый. Он так был погружён в печальные мысли о судьбе, постигшей горный набег, что даже не заметил племянника, почтительно остановившегося около. Шашка, кинжал и пистолеты были отняты у любимого Шамилева наиба. Он побледнел и осунулся и долго не подымал головы. Амед шелохнулся, Хатхуа рассеянно посмотрел на него и не узнал было… Как младший Амед, хотя уже русский офицер, не смел заговорить сам и ждал, соблюдая горный обычай. Хатхуа взглянул на него ещё раз и, вспыхнув, точно не веря глазам, поднялся с тахты… Подошёл к племяннику и молча остановился, разглядывая его.
— Ты… Амед?.. — спросил Хатхуа по-лезгински.
Совершенно непривычная ласка послышалась в голосе молодого наиба.
— Я, князь…
— Рад тебя встретить. Хотя я теперь в плену… А ты, как я вижу, вверх пошёл?
— Да… Наместник меня встретил как сына…
— И эполеты у тебя? Я рад за сына сестры моей… — он положил руку на плечо Амеду. — Рад за тебя… Сестра, верно, счастлива будет, увидев тебя таким. Что ж, ты — храбрый джигит!.. Хоть и жаль, что ты с врагом, а не с нами… Но — Аллах невидимыми путями ведёт нас. Если он дал русским победу, значит, мы ему неугодны стали. Это за Самур всё?.. — кивнул он на кресты.
— Да… князь…
Хатхуа потупился… Несколько секунд длилось молчание, наконец, точно одолевая себя, он тихо проговорил:
— Называй меня дядей… Я не прав был… Кланяйся матери и скажи, что я её помню… как… сестру… И отцу своему передай, что у меня нет на него зла. Что было, — то забыто. Если встретимся, — друзья будем.
Амед взял его руку и коснулся её губами.
— Многое переменилось теперь… Может быть, скоро я стану гордиться тобою… Русские хоть и враги наши, но они справедливы и не делают разницы между храбрыми, к какой бы вере те ни принадлежали. Ты теперь на широком пути. Я горжусь тобою, — всё же наша кровь… кабардинская!.. Зачем ты здесь?
— Я послан наместником.
— Куда?
— Далеко… К царю…
— К царю? В Петербург?
И князь Хатхуа отступил от Амеда, уже радостно глядя на него.
— Да!
— Зачем?
— Рассказать ему обо всём, что случилось в Самурском укреплении.
— Слава Аллаху! Я думаю, если бы мы из наших гор также могли послать ему выборных, — и войне пришёл бы конец. Но ему не услышать нас, и мы его не увидим. Разве мы не могли бы мирно жить рядом? Пусть он оставит нам наши горы и уведёт из долин своих солдат…
— Этого не будет никогда! Что раз взяли русские кровью, то они уж не отдадут никому.
— Ну, значит, нам в наших горных гнёздах осталось одно — славная смерть. Лучше умереть орлами на вершинах, чем жиреть внизу как волы под присмотром. Из горного волка не сделаешь дворовой собаки. Сегодня Аллах дал победу русским, завтра он, быть может, смилуется над своим народом и пошлёт её нам… Шамиль лежит в Чечне больной. Но дух его светел и мысли ясны. Русским недолго придётся праздновать.
— Что ты думаешь делать?
— Я?.. Я свою участь знаю. Меня оставят в Тифлисе в почётном плену до тех пор, пока я не соглашусь принести присягу… Я не Хаджи-Мурат, чтобы лживо клясться на Коране и потом обмануть и наместника, и Аллаха. Я не оскверню душу неправдой. Может быть, меня вышлют в Россию, — что делать! Пророк и там меня не оставит… И пока грудь моя дышит, и очи видят, — сердце у меня не перестанет биться для свободы. Куда бы меня ни увезли, я всюду почую, когда до меня долетит вольный ветер наших гор. И горе тому, кто станет между ними и мною. Может, ещё не раз встретимся с тобою в ратной потехе. Только помни: никогда моя рука не подымется на тебя.
— Покорись, дядя… Русские сильны.
— Князья Хатхуа ещё никогда не подчинялись силе.
— Русские справедливы.
— Тогда пусть они оставят наши горы и уйдут к себе. Мы их не звали!
— Они по праву завоевания и пролитой крови владеют ими.
— Кровь зовёт кровь, — ты знаешь. На политой ею земле всегда растут мстители. И где бы я ни был, я всюду услышу их зов.
— Нашим народам не одолеть могущественных врагов.
— Если нет надежды на победу, — есть уверенность в смерти!.. Смерть одна никогда не обманывает человека! Мы все здесь, в этом мире — гости. Раньше или позже уйти домой, — не всё ли равно? Лишь бы память оставить по себе такую, чтобы племя твоё гордилось тобой! Такую, чтобы, когда крикнуть твоё имя, трусы делались бы храбрыми, нерешительные — отчаянными, и кровь заливала бы бледные щёки! Хатхуа рано умирают. Смерть в бою лучше подлого мира, выпрошенного у победителя как милостыня нищим. Когда горцы это забудут, они сделаются свиньями в русских хлевах…
Джансеид, Селтанет, Аслан-Коз и Селим со стариком Гассаном заняли другую комнату. Как ни тяжело было сознавать себя в плену, но молодые салтинки чувствовали себя бесконечно счастливыми, видя мужей целыми: что бы ни ждало впереди, они понимали, — во всяком случае не разлука грозит им… Из близких им людей никто не погиб, и впервые за всё это время ощущение покоя и тихой радости, назло плену, наполнило их сердца. Амед, встретив Джаисеида и Селима, разговорился с ними. Они узнали в нём джигита, с которым столько раз мерились у мутных вод Самура, и под стенами, и на стенах русской крепости. Боевые враги вне сражения встречаются друзьями, и горцы приветливо отвечали ему на его вопросы.
— Что вы думаете делать?
— Салтов — нет, а мы — салтинцы. Будем ждать! Теперь мы в русских руках.
— Согласны ли вы подчиниться наместнику?
— Да. Аллах посылает победу не даром… У нас жёны. Мы не одни… Нам и не за что стоять. От родного аула осталась только куча щебня да обгорелые головни. Когда нас уводили оттуда, русские и их сакли, — кивнули они в те комнаты, где были женщины, — приказали снести. Теперь даже птице негде спрятаться от дождя на наших горах.
— Вас, верно, оставят в Тифлисе…
— Воля Аллаха!
— А если ваши опять подымятся в горах?
— Раз мы дадим клятву на Коране, — мы будем спокойны. Только, чтобы нас не заставляли драться со своими!..
Когда солнце встало за монастырём над Мцхетом, Амед, уже готовый в путь, постучался к Хатхуа.
— Я пришёл проститься с тобою.
— Ты хорошо сделал… Ещё раз я повторяю, что рад увидеть сестру… Что прошло, то забыто. Несчастья помирили меня с нею! Скажи ей об этом.
И, поднявшись, он гордо проговорил, кладя руки на плечи Амеду:
— Старый, знаменитый, никогда не обесчестивший себя трусостью или изменой, чистый как вода горного ключа род кабардинских узденей и князей Хатхуа, владельцев гор и долин, аулов, лесов и пастбищ, в моём лице — в лице его главы отныне и навсегда признаёт весь род Курбана-Аги елисуйского, нисходящий от него и от его жены — сестры моей, — равным себе перед Аллахом и перед людьми. И горе тому, кто оскорбит одного из них. Князья Хатхуа жестоко отомстят за обиду, нанесённую детям Курбана-Аги елисуйского и они — эти дети — до седьмого колена должны платить кровью за несправедливость, оказанную князьям Хатхуа. За всякое добро и помощь, оказанную твоему роду, — сторицей заплатит мой по вечным заветам нашего горского братства! А теперь, поезжай далеко, — туда, откуда как саранча целыми роями прилетают к нам русские, и когда увидишь могущественного повелителя их, — расскажи ему о нас всё, что ты видел, чтобы сердце его обрадовалось и разогрелось, узнав в нас достойных врагов… А достойный враг, по нашей кабардинской пословице, лучше подлого друга!.. Прощай, кровь моего рода, и да возвысит и сохранит тебя Аллах на всех правых путях твоих!..
Глубоко потрясённый уезжал Амед отсюда…
Сегодня ему с оказией, ожидавшей его внизу, надо было проехать до Гудаура.
Джансеид и Селим вышли проводить недавнего врага. Из-за окон, прячась от взоров, смотрели Аслан-Коз и Селтанет.
В Петербурге
Точно сон представлялся потом молодому елисуйскому горцу весь этот путь от Мцхета до Петербурга. Военно-Грузинская дорога, смело одолевавшая перевалы и ущелья Кавказского хребта, почти двое суток приковывала внимание путников к своим чудным картинам. Оказия двигалась медленно, осетины начали волноваться, и старый хохол штабс-капитан Спириденко осторожно вёл её, высылая вперёд и по сторонам казачьи разъезды. Князь Гагарин попробовал было подтрунить над ним, но как будто нарочно в эту самую минуту из-за гребня Гудаура грянуло несколько выстрелов, всколыхнувших застоявшийся воздух молчаливой горной пустыни. Стреляли издали, и потому никого не задело. Казаки, кинувшиеся туда, уж никого не нашли, только за одним совсем красным утёсом чернело на земле несколько угольков, да трава кругом была потоптана… Бездны направо и налево, синие ущелья, со дна которых курился сизый пар, леса и рощи, сползавшие по рёбрам откосов в бездонные глубины. Изредка, на высоте воздушной брошенный в самое небо и весь так и вырезавшийся на его тёмной синеве, воинственный аул, — где каждая сакля была и башнею, где зачастую мерещились стены, сложенные Бог весть в какую незапамятную старь!.. Зато солнца тут было вволю. Оно щедро раскаляло голые вершины горячими лучами, и в их блеске то золотыми, то серебряными казались каймы далёких ледников, обливавшиеся по зорям рубиновыми и яхонтовыми струями. Скоро за Гудауром бешеный Терек зашумел и забился в грозных теснинах. Ещё несколько часов, и за Владикавказом в неоглядную северную даль легла перед ними казавшаяся бесконечною равнина… Горец с тоскою оглядывался назад. Эта гладь щемила ему сердце. Годные горы манили его назад. Назло расстоянию, ему из-за них слышался милый голос любимой девушки, точно через эти бесчисленные вершины она кидала ему свой клич: «Вернись скорее!» И небо было бледнее, и солнце уже не так согревало землю, и все её чудные краски как будто полиняли, точно их кто-то смыл с утомлённого лица природы, — и оно, бледное, плоское, бессильно смотрело в недосягаемую высь холодевшего неба. И всё под ним тоже холодело, по мере того, как за Ставрополем, сменив «оказию» на перекладных лошадей, князь Гагарин с Амедом стали уже быстро нестись в самое сердце, — незнакомого и чуждого затосковавшему горцу края, казавшегося ему таким неприветным, негостеприимным. Они миновали много больших городов, с их непонятною ему суетою, с невиданными типами, со странным складом жизни, пока, наконец, в ясное, но бледное утро вдали не сверкнули, за красными стенами Донского монастыря, сорок-сороков колоколен, куполов и башен московских церквей. По мере того, как они ближе и ближе подъезжали сюда, князь делался радостнее, а Амед — молчаливее и молчаливее. Ему точно хотелось посторониться от нового и казавшегося ему таким холодным мира. Посторониться, чтобы или тот пронёсся мимо, не задев его, или самому обойти, не утонув в кипучих волнах непонятной ему жизни… Светлым проблеском явился, окутанный зеленью сада, где-то на Патриарших Прудах, дом князя Гагарина, с большими и строгими комнатами, с красавицами-сёстрами, голоса которых Амеду напомнили бы Нину, если бы он хотя на мгновение мог её забыть. Горца встретили как родного, а когда молодой кавказский офицер рассказал им о подвигах елисуйского аги, — на нём уже с восторгом останавливались взгляды всех, кто с ним встречался здесь. Вечером пели, играли, танцевали. Амед жался к стене и большими глазами пристально всматривался во всё это, с печалью соображая, что ведь и Нина выросла при такой обстановке, которую он, бедный горец, никогда не поймёт; что она захочет, может быть, создать её вокруг себя, и чем же он, — полудикарь, — поможет ей в этом. Он мысленно давал себе слово, — ни одного дня более не терять, учиться, работать, чтобы стать рано или поздно ровнею девушке, казавшейся ему ещё милее и ближе, тем милее и ближе, чем больше ширилось и росло расстояние между ними. За Москвою его окутали сизые туманы холодного севера. Он плотнее завернулся в бурку. Но вместе с тем глубокое волнение всё сильнее и сильнее охватывало юношу. Теперь ещё четыре-пять дней, — и он увидит императора, от одной мысли и слова которого зависит вся его жизнь… В этих северных, всё более и более сгущавшихся туманах — в мистически величавый образ выросла фигура русского царя, которого все они — там, далеко, на Кавказе знали только понаслышке. Он одним движением руки посылал туда на геройские подвиги, на беспримерные походы и на смерть десятки тысяч солдат; эти солдаты благоговейно говорили о нём наивным горцам, и тем он представлялся чем-то, ничего общего не имевшим с обыкновенными людьми, далеко превосходившим даже сказочных великанов и богатырей их горного эпоса… Как Амед, простой елисуйский ага, будет говорить с ним? Всё, что он задумывал в Тифлисе, и ранее в казавшемся отсюда такою жалкою незаметною точкою Самурском укреплении, вдруг показалось ему так незначительно, неясно и бледно… Нужно было что-то другое, а что, — это ему не давалось, совсем не давалось. Он мысленно вызывал чудный образ Нины, молил её в мечтах: «Научи меня, ты знаешь всё», шептал детски-наивную молитву Иссе… И вдруг успокоился под самым Петербургом и не только успокоился, но и повеселел… «Исса всё знает, всему наставит, всему поможет! Недаром Он уже сколько раз оказывал ему явно Свою чудную силу. С Иссой — ничего не страшно, с верою в Него он готовился умереть тогда, с такою же верою он теперь хочет жить!»
Он уж улыбался, предъявляя документы на Петербургской заставе.
Узнав, что прапорщик Амед, Курбан-Ага елисуйский следует по приказанию наместника кавказского к Государю, офицеры всполошились, и один из них сел вместе с Амедом, чтобы доставить горца прямо в Зимний дворец…
Было холодно.
Туман стоял на невиданно широких, обставленных громадными домами улицах.
Серый туман, — в этом сером тумане всё казалось нарисованным карандашом, — других красок не было. Лицом к лицу с бесцветною действительностью блеск и жизнь юга казались сплошною неправдою, сумасшедшею горячечною выдумкою!.. По одной из улиц, с музыкою впереди, шёл гвардейский полк. Рослые саженные солдаты, — таких доселе и не видел Амед! Земля глухо стонала под мерными ударами ног этих гигантов. Вдали в серой мгле, казалось, в самую бесконечность уходили бесчисленные ряды таких же серых солдат, и вдруг молодой елисуец сам себе показался таким жалким, таким маленьким, ничтожным, точно он — пылинка, затерявшаяся в этом тумане, плывущая в его волнах куда-то… Жалким и таким маленьким! И этому несчастному, крохотному и бессильному существу, теперь, может быть, сейчас, сию минуту надо предстать перед повелителем миллионов народа, и не народа, а народов — всей этой бесконечной страны, от полюса до сожжённой солнцем Персии, повелителем, по одному слову которого эти серые гиганты пойдут и умрут — без колебаний, без рассуждений, — куда бы он ни послал их… Но тут же сейчас наивная мысль точно на ладони приподняла его к самому небу. Он, Амед, — ничтожен, жалок, да! Но ведь все подданные называют этого царя отцом, значит, и Амед ему сын тоже! Притом царь так велик, что в его глазах и Амед должен казаться одинаковым, наряду с самыми сильными людьми… И он тихо проговорил про себя: «Я тебе верю, Исса, — помоги мне». И странное спокойствие охватило его разом, точно из бесконечной дали, ласково и ободряюще улыбнулась ему Нина!..
— Это Невский! — объяснил ему следовавший с ним офицер.
Амед с недоумением посмотрел на него. Ему решительно всё равно было, — он ведь не знал ни улиц, ни площадей громадного и неведомого ему города.
Но, когда он оглянулся назад и вперёд, ему показалось, что этот Невский во все стороны ложится в бесконечность! Туман поредел, и горца поразила суматоха, кипевшая кругом.
— Это всё генералы? — спросил он у проводника.
Тот незаметно улыбнулся.
— Есть и генералы!
Амед стал было считать генералов и счёт потерял им…
— Много! — тихо проговорил он. — И всё большие генералы?
— И большие, и маленькие.
— Нет, всё большие! — упорно не соглашался он, отдавая честь направо и налево.
Опять полк, вероятно, из манежа шёл, перегородив дорогу. Солдаты казались ещё более рослыми и сурово смотрели перед собою, отбивая шаг. Музыка впереди, грозно били барабаны. Что-то кровожадное, зловещее слышалось в их переборе. Эта дробь точно заглушала последние инстинкты жизни и жалости в душе. Мерно колыхались чёрные султаны на касках. Красиво сидели на конях офицеры.
— Много солдат здесь? — спросил опять Амед.
— Да, немало.
Он подумал-подумал.
— Миллион будет?
Офицер засмеялся.
— Всё-таки поменьше миллиона.
— И всё большие?
— Да, это — гвардия… Проедем скорее, — издали кавалергарды подвигаются.
Амед оглянулся туда. С Малой Садовой уж выехал на Невский первый ряд всадников, сверкавших золотом нагрудников, касок и флагов… Они подвигались какою-то сплошною массой, которая, казалась, всё должна была растоптать и уничтожить перед собою…
— У нас, — оживился Амед, — только в сказках рассказывают про таких. Это всё — Рустемы?
— Какие Рустемы?
— Богатыри?
— Вы лучше, прапорщик, подумайте, как вы станете Государю представляться.
— Зачем думать?
— Разве вы не боитесь его?
— Царя?.. Нет… Не боюсь… — Амед подумал и закончил. — Не боюсь… Зачем бояться… Я присягал ему и служу… Он — отец, мы — дети… Так в горах говорили нам. И в дербентской школе, где я учился, — тоже. А разве меня сейчас же примут?
— Может быть, и сейчас!
Что-то ёкнуло в сердце Амеда, но он тотчас же, с восточною покорностью судьбе, успокоился и ждал того, что должно было случиться…
В конце Невский точно раздвинулся. Громадная площадь шла во все стороны, в поредевшем тумане блеснул адмиралтейский шпиц, направо выдвинулись массы величавого дворца и Главного штаба.
— Это что, минарет?
— Нет, — засмеялся офицер, — это Александровская колонна.
— Зачем?.. Сверху кричат что-нибудь?
Тот ему объяснил. Амед почтительно снял папаху, проезжая мимо.
— К Государю императору от кавказского наместника! — тихо передал Амеда какому-то офицеру его провожатый.
— Пожалуйте! — и тоненький, бледный офицер с закрученными усами указал горцу на колоссальную лестницу.
— Разве сейчас? — робко спросил он.
— Не знаю… Если будет угодно его величеству!
Амед сбросил бурку.
Заметив четыре солдатских Георгия у него на груди, офицер сделался любезнее.
— Вы не теряйтесь… Оправьтесь. Государь очень приветлив.
Тот даже не расслышал. У него в ушах стучало… Он почувствовал тяжесть в ногах. Казалось, что они прирастают к широким ступеням лестницы. Теперь Амед уже ничего не соображал и не видел. Ни колоссальных часовых стоявших у дверей то там, то сям, ни громадности и роскоши всего его окружавшего; ни зашитых в золото и увешанных неведомыми ему орденами важных лиц, спускавшихся вниз точно с неба, куда и его на минуту возносило что-то чудесное. Какая-то красавица мимоходом внимательно взглянула на него и, встретив восхищённый взгляд Амеда, улыбнулась.
— Князь! — остановила она офицера. — Кто это?
— Не знаю… От кавказского наместника к Государю.
— Совсем Аммалат-Бек!
А Аммалат-Бека всё больше и больше охватывало смятение. Ему казалось, что белая зала, вся в позолоте, расширяется и расширяется по мере того, как он идёт по ней. Право, ему никогда не добраться до тех вон больших дверей с часовыми. Двери отодвигаются от него. Как странно и гулко и резко звучат шаги. Какие колоссальные окна, — любое бы воротами в стенах горного аула могло быть…
Офицер подошёл к дверям…
Часовой сделал честь…
Провожатый оглядел в последний раз Амеда.
— Не бойтесь же… Приведите себя в порядок.
Тот мельком скользнул по лицу говорившего недоумелым взглядом.
— Что такое?
Но объяснять было некогда: дверь открылась. Они вошли в небольшую комнатку. Два кавалергарда как изваянные с палашами наголо стояли у следующих дверей. Здесь было тихо… Странно тихо. Высокий, седой генерал с жёлтым недовольным лицом, стоял у окна и смотрел на площадь. С середины комнаты, как-то преувеличенно без шума скользя по полу, быстро подошёл к ним молодцеватый флигель-адъютант. Пошептавшись с провожатыми, он с любопытством остановил глаза на лице горца.
— Прапорщик, пожалуйте мне ваши бумаги.
Амед, расстегнув черкеску, вынул пакет.
Флигель-адъютант с лёгким поклоном принял. Провожатый исчез куда-то. Флигель-адъютант перед следующими дверями приостановился на секунду, озабоченно обдёрнулся, подождал ещё… и потом приотворил дверь…
У императора
Через несколько минут флигель-адъютант вышел оттуда так же бесшумно, как и вошёл. Он внимательно взглянул на Амеда. Тот было двинулся к нему, приняв это за безмолвное приглашение, но вовремя остановился, заметив сделанный ему жест.
— Погодите!..
Сумрачный генерал у окна обернулся к молодому горцу и, казалось, только сейчас его заметил.
Амед различил на его шее георгиевский крест и на груди такую же звезду. Нахмурясь, тот подозвал к себе флигель-адъютанта и о чём-то спросил его шёпотом. Молодой офицер начал объяснять также вполголоса. Очевидно, дело касалось елисуйца, потому что они оба на него посматривали, как вдруг в другой комнате послышались шаги. И флигель-адъютант, и генерал замерли… Точно прирос к земле и Амед. Шаги дошли до дверей и остановились. Потом повторились, но уже глуше и глуше… У окна опять заговорили так, что ни одно слово не достигло до Амеда. Ему мало-помалу делалось страшно. Вся эта обстановка кругом, тишина, точно вылитые из бронзы и дышавшие как-то незаметно часовые, суровые взгляды желтолицего генерала, даже глухой и мерный стук маятника, серый и тусклый день, глядевший неприветливо и хмуро, и громадное окно — охватывали горца какими-то зловещими предчувствиями. Он сначала пробовал бороться с ними, думал, что он сейчас, может быть, сию минуту должен будет говорить с Государем, мечтал, что теперь делает Нина, молится ли за него и знает ли, где находится её избранник… Потом Амеду представилось, как ярко в эту пору дня солнце светит на Самурскую долину. Как блещут серебряные вершины Шахдага, и за ним в какую голубую даль уходят снеговые великаны Дагестана… Как тихо-тихо струится река у стен крепости, и вздрагивает всею своею листвою чинара на площади… Да, ещё в крепости ли Брызгалов с дочерью? Может быть, они уже в Тифлисе? Картина за картиною, воспоминание за воспоминанием теснились в его голове и менялись со страшною быстротою. Он не понимал потом, как в такое короткое время успел столько передумать… Да Нина, может быть, в Тифлисе — у наместника, там её теперь ласкают, балуют, и вдруг сердце его сжалось от нежданно-негаданно родившейся мысли: балуют, ласкают. Ещё бы, её — героиню да не ласкать; ведь все окружавшие М. С. Воронцова с такою жадностью расспрашивали Амеда о ней, запоминая каждую подробность, каждую мелочь этой осады и той роли, какую в страшные дни её играла милая девушка. Теперь все эти блестящие офицеры, перед которыми терялся Амед, окружают её, ухаживают за нею… Ведь у русских это позволено. По вечерам на балах танцуют с нею, смотрят ей прямо в глаза, говорят ей любезности. Он и при наместнике как будто стушёвывался перед ними, что же будет без него, не потускнет ли память о нём в её сердце, не перестанет ли она думать о жалком далёком горце, не затронет ли кто-нибудь из этих знатных и богатых молодых людей её воображение, её душу? Ведь и по воспитанию своему они ей ближе, чем он. Они могут долго и много говорить с нею, у них всё общее… Нет, Амед чувствует, что каждый лишний день здесь, в этом холодном, туманном Петербурге будет для него полон сомнений и муки. Скорее бы туда, назад, — в солнечное царство голубых вершин, в яркую, горячую действительность родного края… Он, думая, так уходил всем своим существом в это, что даже и не заметил, как подошёл к нему желтолицый и хмурый генерал.
— Вы из Самурского укрепления?.. Вы были там всё время осады?
Амед растерялся и в первую минуту даже не понял, о чём его расспрашивают.
— Вы говорите по-русски, прапорщик?
— Точно так-с.
— Вы из мирных?
— Наш род никогда не воевал с Россией… Мы всегда стояли за русских.
Генерал презрительно улыбнулся и посмотрел прямо в глаза молодому офицеру — «Очень-де одолжили Россию!» Амед почувствовал себя оскорблённым, выдержал пренебрежительный взгляд и так сверкнул глазами в ответ, что генерал отошёл прочь, кинув флигель-адъютанту:
— И что за охота Михаилу Степановичу выдвигать этих дикарей! Неужели он не мог прислать кого-нибудь из наших? Ведь, при нём немало молодёжи из лучших фамилий…
Амед вспыхнул. Он едва сдержался, хотя сам не понимал, что может сказать жёлчному генералу.
Флигель-адъютант что-то принялся шёпотом объяснять, и опять ответ генерала долетел до Амеда.
— Ну, положим, герой. Я ничего не имею против. Навесил на него крест, произвёл его, оказал ему справедливость… И оставь… И без этого у нас уж очень мирволят всяким варварам.
И он с тою же скучною миной загляделся в окно.
Отходя назад, флигель-адъютант насмешливо улыбнулся и ободряюще взглянул на Амеда: «Ты-де не очень волнуйся этим, здесь на всякое чиханье не наздравствуешься!» Амед это так и понял и благодарно посмотрел на него.
Опять тишина. Ещё неподвижнее часовые… Сколько времени прошло? Может быть, целые годы, а может быть — минуты. Ожидание убивало последние искры сознательного отношения к действительности. Амед стал вспоминать всё, что ему о Государе говорил Воронцов, как вдруг в той комнате, у дверей которой замерли кавалергарды, послышался какой-то сухой звук, точно кто-то ударил в ладоши. Флигель-адъютант быстро прошёл туда и, выйдя, тотчас и уже сухо официально кинул Амеду:
— Пожалуйте!
Амед остановился в дверях… Ему вдруг показалось невозможным переступить через порог… Дверь эта перед ним вдруг отворилась.
— Что же вы?..
Кто-то, должно быть, тот же флигель-адъютант, слегка, чуть слышно, толкнул его. Он невольно шагнул и услышал, как дверь за ним затворилась…
Три громадных окна… Большой стол… И стол этот точно дрожит… И окна ходуном ходят… Горец ничего не видит. Решительно ничего… Будто Амед попал в густой туман, в котором ни зги не различишь. Только чьи-то глаза в этом тумане смотрят на него. И не на него только, но и в его душу, и ему чудится, что эти глаза видят в ней всё-всё, что ему не о чем говорить, — что тот уж всё знает без расспроса… Прошло несколько секунд. Амед уже хорошо рассмотрел теперь сидящего к нему лицом за этим большим столом Государя… И всякий раз, когда он, просматривая бумаги, подымал глаза на горца, этому казалось, что он — елисуйский ага — делался всё ничтожнее, меньше, точно к земле никнул… Теперь у него уж ни одной мысли в голове. Он отвёл было взгляд от Государя, но ничего не различил в этой большой и холодной комнате… Казалось, всю её наполнял собою царь, — всё выраставший и выраставший перед ним…
— Амед?.. Сын Курбана-Аги елисуйского?
Как глубоко этот голос, грудной и сильный, прошёл в душу молодого офицера.
Он даже не понял, сам ли он, или кто-нибудь за него ответил:
— Точно так, ваше императорское величество.
— Спасибо за верную и честную службу. Я счастлив, что у меня на Кавказе есть такие орлы!
Точно что-то подняло Амеда на такую высоту, что у него голову закружило.
Он хотел было по форме ответить: «Рад стараться, ваше императорское величество», но, вместо этого, у него вырвалось:
— Всякий из нас, из елисуйцев, рад умереть за тебя, Государь!
Ласковая улыбка осветила лицо царя.
Он поднялся с бумагами, подошёл к окну и стал их дочитывать там. Временами он отрывал глаза от них и взглядывал на Амеда, повторяя:
— Молодец!.. — видимо читал о нём. — Какие герои!.. Брызгалов, — помню… Ермоловский ещё… Спасибо, спасибо!..
И каждый раз Амед поднимался ещё выше и выше. Ему уже стало казаться, что его сердце расширилось, наполнило всё кругом, и с болью раздвигается ещё и ещё…
Государь дочитал, положил бумагу на стол и, не сводя с молодого горца величавого и ласкового взгляда, подошёл к нему. И по мере того, как он подходил, Амеду чудилось опять, что он, Амед, делается вновь всё меньше и меньше, ничтожнее и ничтожнее, до такой степени, что ему странно даже: неужели его заметят, увидят.
— Я ничего другого и не ожидал от моих кавказцев. Честь им и слава! Помни, что служба за мною даром не пропадает.
Рука Государя легла на плечо Амеду.
— В твоём лице, я всем моим горцам говорю: верьте мне и верьте России. Ни одна капля крови, пролитой за нас, не останется невознаграждённой, ни один подвиг незамеченным! Слышишь? Я щедрый должник и хорошо плачу верным слугам… И врагам тоже!.. Брызгалов уже произведён в полковники, — но он заслужил Георгия на шею и получит его. Дочь его — я беру к Государыне в фрейлины. Ему самому… — впрочем, об этом он услышит ещё… Воронцов мне пишет, что у тебя есть личная ко мне просьба. Я знаю, что ничего дурного ты пожелать не можешь! Она вперёд исполнена… Чего ты хочешь?
Амед вдруг почувствовал, будто что-то сковало ему язык. Сколько он времени думал об этой именно минуте, мечтал о ней, и вдруг, когда она пришла наконец, — ему нечего сказать. В голове ничего, только сердце бьётся больно, да взгляд не может оторваться от тех проницательных и твёрдых, в самую душу ему заглядывавших глаз.
— Ну?.. — улыбнулся Государь. — Не бойся… Говори, чего ты хочешь?
Амед сделал над собою усилие.
— Много хочу! — наивно вырвалось у горца.
— Авось я буду в состоянии дать тебе это.
— Нину хочу!..
— Что?
— Нину хочу… ваше величество… Или умру.
— Какую Нину?
— Дочь Брызгалова…
Государь отступил от него на шаг.
— Я не могу, друг мой, заставить её выйти замуж.
— Заставлять не надо… Она сама хочет…
Николай Павлович засмеялся.
— Но ведь ты мусульманин.
— Нет, ваше величество… Исса помог мне, — я верю Иссе… Бог Нины — будет моим Богом… Я ему молился, и Он услышал меня… В том пороховом погребе — я как и Нина целовал крест…
— Ну, мой мальчик, я сначала буду крёстным отцом, а потом обещаю быть твоим сватом… Думаю, что такому свату — генерал… — и он подчеркнул слово генерал, — генерал Брызгалов не решится отказать. Хочешь служить здесь, в Петербурге, — при мне?
— Нет, Государь… — откровенно ответил горец… — Я лучше там у себя буду драться за тебя… Я обещал князю Воронцову…
— Да, он писал мне…
Государь отошёл к столу и сел.
— Подойди сюда… Ты лично видел Шамиля и его наибов?..
— Да ваше величество.
— Почему некоторые крепости ему удалось взять?
— Войск не было… Везде гарнизоны сняли и отвели назад.
Николай нахмурился.
— Знаю… Между близкими людьми у Шамиля у тебя нет родных?
— Дядя мой — князь Хатхуа.
— Это его любимый наиб?
— Точно так.
— Отчего они не хотят покориться? На что они рассчитывают?
— Они клялись газавату.
— Но они побеждены, им ничего не осталось…
— Кроме смерти, ваше величество.
— Жаль убивать таких воинов! Им лучше служить мне…
Государь задумался…
— Странные люди!.. Точно средневековые рыцари. И неужели всё это должно погибнуть?!. В их лице легенда уходит из мира… Расскажи мне о последних минутах осады. Брызгалов хотел взорвать Самурское укрепление?
Амед сначала робко и неловко начал, но потом мало-помалу воспоминания прошлого охватывали его всеми недавно пережитыми ощущениями, безнадёжностью, ожиданием гибели, преданностью воле небес, внезапным счастьем нежданного спасения!.. Он уж громко и смело передавал Государю минуту за минутою весь этот страшный сначала и такой радостный потом день. Лицо его разгоралось, и он не раз замечал останавливавшийся на нём полный благоволения взгляд.
— Что у вас много таких как ты?
— Весь Елисуй, ваше величество.
— Атаки горцев на Самурское укрепление были действительно так неудержимы? Что сплотило их вокруг Шамиля?
Горец начал передавать всё ему известное, час за часом — всю осаду.
— Тебе обязаны спасением? Это ты дал знать в Дербент о прибытии Шамиля?
Амед и в этом случае остался верным сыном гор. О себе он молчал или только скромно замечал: «Меня послали, я исполнил» — и избегал всяких подробностей.
Он долго ещё оставался здесь. Государь спрашивал его о быте горных племён, о Чечне, Дагестане, о наибах Шамиля, о дорогах через Кавказ. Амед хотя и неправильным языком, но точно и кратко отвечал ему на всё. Николай Павлович несколько раз подымал на него глаза, отмечая у себя в памяти ум и знания этого юноши, выросшего в горах и не видавшего до сих пор почти ничего.
— Я не забуду тебя. Ты ещё не раз будешь мне нужен… Явись к Чернышёву, — я ему скажу, что я хочу с тобою сделать… Завтра мы увидимся на балу во дворце, и я покажу тебя Государыне. В Петербурге ты — мой гость, — о тебе позаботятся. Помни же, я — твой крёстный отец и сват. Я хотел дочь Брызгалова взять сюда, но она сама устроила свою судьбу. Мы у неё в долгу ещё… Что она делала во время осады?
Откуда взялись слова и краски у Амеда! Любовь сделала его смелым и красноречивым. Он не забыл ничего и с таким благоговением рассказывал о самоотвержении этой девушки, что Государь несколько раз останавливал его, спрашивая его о новых и новых подробностях…
— Ну, завтра сам расскажешь об этом императрице. Это её дело отблагодарить твою невесту. Брызгалов знает?
— Он меня несколько раз называл сыном.
— До свидания!.. Ещё раз спасибо за верную службу. Я никогда тебя не забуду!
Амед в розовом тумане вышел отсюда. У него было такое счастливое лицо, столько радости светилось в его глазах, что все бывшие здесь, — а комната во время его представления Государю наполнилась важными генералами и вельможами, — бросились к нему, стараясь обласкать «дикаря», которому Государь оказал столько внимания. Даже желтолицый и жёлчный генерал вдруг стал таким приветливым и мягким, что Амед подумал, — не приснилось ли ему всё, что ещё случилось здесь час тому назад.
— Я рад буду вас видеть у себя, молодой человек…
Флигель-адъютант насмешливо улыбался, отмечая у себя в памяти эту перемену.
— Я рад буду вас видеть у себя!
И все рады были видеть его у себя, все решительно. Растерянный и смущённый, Амед только повёртывался во все стороны, не зная, что ему делать, кого благодарить, как отвечать на все эти сладкие слова и приветствия. Мир вдруг оказался таким прекрасным, таким чудным, и люди в нём такими добрыми, великодушными.
Флигель-адъютант подошёл к нему как и все…
— Позволите познакомиться, прапорщик, с вами? Вас я уже знаю, — я князь Каменский. Вы не удивляйтесь этой перемене. Поживёте здесь, — сами поймёте, как всё у нас меняется быстро. Вот что, у вас есть родные или друзья в Петербурге?
— Нет, никого.
— Ну, так я сменюсь через два часа. Моя квартира и я сам — к вашим услугам. Я сейчас прикажу вас отвезти ко мне. Пожалуйста, не отказывайтесь. Поеду на Кавказ, — вы меня также примете! Не в гостинице же вам останавливаться.
Они горячо пожали руки друг другу.
Амед, выходя, чувствовал, что его несут какие-то крылья.
Сны, старые, казавшиеся такими несбыточными, — исполнялись.
И такой яркой, ясной, и светлой была вся жизнь впереди…
А туман на петербургских улицах делался ещё гуще, тяжелее. И всё кругом уходило в неприветливые, серые и холодные потёмки.
Наивный горец, обо всём судивший по наружности, за этим блистательным показом, за пышною декорацией силы и власти, не мог, разумеется, разглядеть страшных недугов, которыми была поражена приниженная, крепостная, безмолвствовавшая Россия. Не ему, сыну полурабского Востока, было ужасаться язв, покрывавших её громадное тело, разгадать её невыносимые страдания. Севастополь и освободительная эпоха Александра II оказывались ещё далеки.
Дома
Весна в долине Самура была очаровательна.
От ужасов прошлых лета и осени не оставалось следов. Природа точно спешила заткать зеленью раны, нанесённые ей человеком, покрыть цветами вырытые им могилы. Тысячи трупов, безмолвных свидетелей недавнего мученичества, вражды, истребления, отчаяния, бешенства и страха, жажды победы и подлого хищничества, великодушия и зверства, давно зарыты. Самур медлительно и нежно катит теперь серебряные воды, раскидываясь на десятки рукавов, ласкаясь к угрюмым стенам грозного укрепления и унося к далёкому, голубому морю свои печальные саги о синих ущельях, по которым пробежали его чистые струи… Так же в поднебесьях тонули снеговые вершины дагестанских великанов, под самое солнце на темя гордых утёсов взбирались орлиными гнёздами лезгинские аулы. По утрам и вечерам кутали их туманы; румяные зори как и прежде бросали на них золотисто-розовые отсветы… В лунные ночи по-прежнему мечтательным сновидением казался этот задумчивый край легенд. Тишина стояла кругом. Разбитые кланы ещё не решались подыматься, и меланхолическое «слу-ш-шай!» русских часовых одно нарушало мистическое безмолвие горной пустыни…
В апреле здесь было так хорошо, что ехавшие из Тифлиса в Самурское укрепление путники не могли надышаться и насмотреться. На лёгких крылах ветерка каждое мелькавшее мимо ущелье посылало им навстречу благоуханный привет. Тысячи неведомых цветов раскрылись только что, чтобы сейчас же и умереть, кинув им ароматное: «здравствуй!» С листвы деревьев, с откосов гор — отовсюду веяло свежею и таинственною прелестью чудно просыпавшейся природы. Она обволакивала их прохладным воздухом, возбуждала жажду жизни и счастья лучами, проникавшими во все потёмки души нежным шелестом, журчанием, шёпотом — так радостно настраивавшими и мысли, и чувства. Сердце сладко-сладко билось в ответ, и даже старик Брызгалов почувствовал себя вновь молодым и весёлым как некогда в юные и счастливые дни далеко отошедших лет.
Он ехал не один.
С ним в коляске была его дочь и молодой поручик, смотревший на Нину счастливыми глазами.
— Ну что, дети? Помните эти места?
— Да, батюшка… Ведь вы тогда здесь проехали сквозь лезгинские лагери? — обратилась она к сидевшему напротив.
— Нет, Нина, дальше… — ответил ей офицер.
— Как я тогда, Николай, боялась за вас. И… молилась…
Николай, в котором читатели, верно, узнали уже Амеда, незаметно пожал ей руку.
— Правду сказать, я тогда не мог себе и представить всего, что случилось потом, — тихо проговорил Брызгалов.
Дочь слегка прислонилась к нему, не отводя больших, лучившихся тихою радостью глаз от Амеда.
Ехавшие позади казаки привстали на стременах…
— Ваше превосходительство! — подъехал один из них к коляске.
— Что тебе?
— Самурское укрепление видно…
Брызгалов приподнялся.
Нина и офицер тоже.
За поворотом дороги, посреди долины, из-за зелёных и нежных облаков алычи, чинар и тутов угрюмо выдвинулись низенькие башни и стены крепости.
У Нины сильно забилось сердце. Она и сама не заметила, как её рука очутилась у Николая…
— Да… Сколько было пережито!.. — тихо проговорил Степан Фёдорович, не отводя глаз от каменного гнезда. — Сколько было пережито… И так много ушло из мира. Рогового нет… Левченко тоже… В мои годы тяжело прощаться с теми, к кому привык… Что это?
Яркий блеск с одной из башен, и, секунду спустя, гулкий перекатный удар орудия… Ущелье за ущельем повторяют его…
— Это нас заметили… Да, да… Вон и они — наши!
Вдали по дороге показалось облачко пыли… За ним точно подымалась серая туча.
Ещё один выстрел, и, казалось, всё кругом проснулось и отозвалось ему. Загрохотало в ущельях, ахнули и глухо простонали каменные груди утёсов, едва-едва слышно, но торжественно отозвались бездонные пропасти, точно и из их глубины нечто таинственное вздохнуло медленно и тихо…
— Это наши едут навстречу…
Облачко всё ближе… Надвигается за ними и туча поднятой пыли… В ней уже различаются смутно и слитно тёмные фигуры. Из облачка выдвинулись два всадника.
— Кнаус… И опять в черкеске!
Ехавшие не выдержали и выскочили из коляски.
Николай бросился вперёд.
При виде их, из тучи раздался целый залп весёлых выстрелов, и полусотня казаков, привстав на стременах, карьером понеслась навстречу.
— Ваше превосходительство! Степан Фёдорович! — орал радостно и возбуждённо Кнаус.
— Николай!.. Голубчик…
— Нина Степановна… Ангел наш…
И Незамай-Козёл спрыгнул с седла и кинулся к ней.
— Здоровы, братцы! — крикнул Брызгалов казакам, обнявшись со старыми боевыми товарищами. — Спасибо вам за службу. Это ваш Георгий я ношу на шее… Государь благодарит вас и шлёт вам привет.
— Рады стараться, ваше превосходительство!
Брызгалов пристально вглядывался в эти лица: всё друзья, с которыми сроднили его общее несчастье и горе. Вон седой урядник. Степан Фёдорович видит в его глазах слёзы, и сам едва удерживается от них.
— Слезай с седла, Свириденко! Обнимемся.
Тот подошёл.
— Ну, здравствуй, товарищ.
Они поцеловались.
Казак наклонился к Нине, хотел было руку ей поцеловать, — она подставила ему щеку.
Умилённо смотрели на неё другие казаки…
— Молитвенница наша, святая!.. — шептали из-под нависших усов они.
— Вот, ребята, прошу любить и жаловать, жених моей дочери, Николай Николаевич Курбанов-Елисуйский! Вы его все знаете. Вместе мучились и дрались здесь.
Амед обнялся с офицерами, перецеловался со знакомыми казаками…
— Сам Государь его крёстный отец и сватал за него Нину!
— Мы знаем всё… Мехтулин, уезжая, просил за него обнять тебя! — тихо наклонился Кнаус к Амеду.
— Как же, и он писал мне.
— Он в Елисуе теперь?
— Да. Мы после свадьбы туда… На новую свадьбу.
— Он на твоей сестре женится?
Амед молча ответил ему счастливою улыбкой.
Весь гарнизон Самурского укрепления был на стенах.
«Ура!» гремело оттуда навстречу дорогим гостям, гремело как и год назад. Но тогда оно неслось грозно и бешено в самые недра бесчисленных полчищ Шамиля, — теперь звучало радостно и весело.
— Я рад, что у вас, братцы, такой комендант теперь! — улыбался Брызгалов, кладя на плечо Незамай-Козла руку. — От души рад. С ним старая слава Самурского укрепления не пропадёт…
А «ура» всё громче и громче могучими раскатами наполняло долину Самура. Целыми роями вскидывались и слетали с густых вершин зацветавших деревьев бесчисленные птицы. Спокойно дремавшие в заречных зарослях кабаны неумело подымались из притоптанных логов и кидались точно сослепу прочь, и только орлы по-прежнему спокойно чернели в голубой бездне, да так же неподвижно и молчаливо стояли на темени утёсов белые аулы поднебесного Дагестана…
Медленно и тяжело затворились за гостями ворота Самурской крепости.
Степан Фёдорович, Нина и Амед решили заранее быть свадьбе в убогой и простенькой церкви Самурского укрепления. Они знали, что этот счастливый день будет праздником для всех их боевых товарищей, и как ни удерживал их наместник в Тифлисе, они выехали в первых числах апреля в любимую долину — свидетельницу их первой любви, их мук и их наивного молодого счастья… Войдя в крепость, Брызгалов ещё раз поздравил Незамай-Козла, назначенного несколько месяцев назад её комендантом, и тотчас же отправился со всеми своими к братской могиле Рогового, Левченко и всех павших на стенах этого каменного гнезда в славные памятные дни сказочной осады. Тот же священник в старенькой ризе, что год назад, напутствовал всех предстоящих на смерть, — явился теперь на панихиду, и когда его дрожавший, весь проникнутый внутренним волнением голос тихо провозгласил: «Упокой, Господи, души раб Твоих!» — вместе с ним плакали все… Нина припала на коленях к кресту поручика Рогового и жарко молилась. Поодаль стояли солдаты, — только часовые были на стенах и гласисах. Тихий шелест крестного знамения наполнял благоговейную тишину, — и «со святыми упокой» из сотен грудей страстным порывом, пламенною мольбою взвилось в бездонные выси неба… Вдруг всем здесь до поразительности ясно стало, что те, о которых нёсся к неведомому престолу Бога этот полный веры и умиления вздох, — бесконечно счастливы и молятся вместе с ними…
На другой день в Самурском укреплении была отпразднована свадьба…
Через несколько дней Брызгалов с новобрачными оставляли уже навсегда Самурское укрепление…
Когда конвой был готов, генерал приказал отворить пороховой погреб.
Они пошли туда, и все разом, точно повинуясь одной и той же мысли, опустились на колени.
Здесь, в этих потёмках, они готовились к смерти.
Через десять лет после того уже полковник Курбанов-Елисуйский был ранен при первом приступе на Ведень. Он остался до конца верен рыцарским преданиям юности. Ни одна из больших экспедиций в сумрачные горы Кавказа не обходилась без него. От нежных поцелуев красавицы-жены он отрывался, скрепя сердце, и ласково на её упрёки отвечал ей:
— Я в неоплатном долгу у Государя!..
— А если тебя убьют?
— Всё равно, — умирать надо когда-нибудь! Ты подымешь наших детей. При такой матери — не надо отца… И Степан Фёдорович, слава Богу, ещё крепок и здоров.
И весёлый он возвращался назад целым и невредимым… Должно быть, Нина хорошо молилась за него, потому что он не жалел себя. Когда кипел бой, — его видели впереди. Он схватывался с лучшими наибами Шамиля. Сам великий имам Чечни и Дагестана говорил, что за его голову он заплатил бы десятью такими же, только отлитыми из золота.
Дети у них росли здоровые, сильные…
Когда Шамиль сдался, Николай Николаевич вышел в отставку и поселился с женою в Елисуе. Он уже думал скоротать жизнь среди счастливых, чуть не молившихся на него родных. Тут же пребывал и Мехтулин, женатый на его сестре, сюда же перебрались со своими семьями Джансеид и Селим, оставшиеся бесприютными по уничтожении гордого аула Салты… Но вдруг разразилась над мирными горами новая гроза… Если не над ними, то всё равно её раскаты донеслись сюда. Началась последняя турецкая война. Живший на покое генерал Курбанов-Елисуйский подал рапорт о зачислении на действительную службу и в лагерь под Карсом явился с четырьмя красавцами-сыновьями.
Увы!.. Назад к Нине явилось из них только трое!
Николай, он же Амед Курбан-Ага Елисуйский, со старшим сыном были убиты при штурме Араб-Конака. Они первые ворвались в турецкое укрепление и сложили там головы.
Нина — ещё красивая женщина — не снимала уже траура.
Она не считала себя несчастной. Ей осталось трое детей, — она живёт их жизнью. Сверх того, у неё в прошлом было столько радостей, что они как солнцем до сих пор согревают её жизнь.
Степан Фёдорович давно лежит под каменною плитою на Тифлисском кладбище… Память о нём угасла. Новое время выдвинуло и новых людей! И только высокие тополя грустно шумят над его могилой, точно рассказывая друг другу сказочные были об этом богатыре, что успокоился теперь глубоко в земле у их узловатых корней…
В яркое солнечное утро я отправился в Стамбул, из Европейской части Константинополя. Мне хотелось осмотреть мечеть Сулеймании, высокие и тонкие минареты которой на голубом, безоблачном небе древней Византии так дразнили моё воображение. Уложенный мраморами двор, арки, чудные, восточные арки кругом — веяли на меня преданиями далёкого прошлого, когда героические были мусульманства казались не поэтическою сказкою, а живою и яркою действительностью. Я заговорил со своими спутниками по-русски.
— Не знаю ещё, пустят ли нас. Здесь ведь надо особенное позволение…
— Если вы пойдёте со мною, то пустят!
Я оглянулся.
Рослый, седой красавец, тонкий и широкоплечий, в черкеске султанского конвоя, со знаками Османие на шее, очевидно, один из ближайших к Абдул-Гамиду сановников умирающей Турции, улыбаясь, ждал моего согласия.
— Я вам бесконечно благодарен. Но вы говорите по-русски?..
— Да, я вырос в России, на Кавказе…
Он показал нам мечеть. Муллы и софты почтительно встречали его. Под высоким и изящным куполом, в золотистом свете, заливавшем внутренность джамии, величаво звучали молитвы улемов. Мраморная облицовка, — причудливая и очаровывавшая нас, — тонула в каком-то радужном сумраке, из которого ярко и царственно вырезывались изречения из Корана, переданные дивною арабской вязью…
Старый красавец, говоря со мною, заинтересовался, откуда я.
— Я тоже родился и вырос на Кавказе.
Он радостно вспыхнул.
— Когда? Где?
Я сказал ему.
— И вы детство провели в Дербенте?
— Да.
Он схватил меня за руку.
— Как вас зовут?
Я назвал себя.
— Я знал вашего отца… Встречался с ним лицом к лицу… Мы были врагами. Я — наиб Шамиля!..
— Ваше имя?
— Кабардинский уздень — князь Хатхуа…
Мы долго говорили о Кавказе. Я ему передавал свои недавние впечатления. Я только что вернулся оттуда. Мы уж вышли из мечети и сели на её ограду, откуда весь в яркой роскоши несравненных красок, в блеске южного солнца, с бесчисленными башнями, дворцами, минаретами, куполами, с бирюзовою поэмою Золотого Рога, с аметистовою далью Босфора — расстилается внизу царственная Византия.
Князь Хатхуа не смотрел туда.
Он слушал меня, закрывши глаза. Сквозь его плотно сжатые веки проступали слёзы. Я понимал его. Он в эти минуты видел белые вершины Кавказских гор, родные аулы, гордо осевшие на темя их утёсов, быстрые реки, бегущие по голубому сумраку ущелий, тихие долины, где под защитою первозданных твердынь, под вечною ласкою солнца развёртывались истинным чудом Божьим красоты несравненной природы…
— От ваших слов на меня повеяло прохладным воздухом родной страны!
Он тихо встал, и мы стали сходить к джамии султанши Валиде.
— Я не прощаюсь с вами.
Мы, действительно, не раз ещё виделись.
Когда я уезжал из Константинополя назад в Россию, он пришёл проводить меня.
— Увезите с собой сыновний привет князя Хатхуа нашим вольным горам… Я, может быть, вернусь туда — сложить голову в их тени… Жить можно, где хочешь, — умирать следует на родине!..
Четыре года назад я странствовал по Кавказу.
Была весна, радостная, воскресная весна юга, — чудный праздник светло и блаженно улыбающейся природы…
Из Дербента я выехал на Самур.
В голубом царстве возносились причудливые вершины Дагестана, одни за другими, то блистая коронами снегов, то желтея мягко и нежно голыми скатами, под ласковым взором солнца… Чуть намечивались ущелья, пропадавшие где-то далеко… Тихо шептала мне старые были медлительная река… В сером тумане мерещились матовые, воздушные скалы… Веяло отовсюду свежестью и прохладой, — утро вставало в блеске и ароматах. Ветерок касался лица чуть заметным приветом только что распускавшихся цветов.
Вон за чащей алычи и гранат — серые груды…
Я узнал Самурское укрепление…
Оно лежало в руинах, безлюдное, безжизненное, как могила, к которой давно заросла последняя тропа, куда уж никто не приходит ни плакать, ни молиться… Я въехал под каменную арку ворот. Какой-то старый инвалид-сторож вышел навстречу… Вон крепостной двор, — дряхлая чинара, безмолвное кладбище. Кресты покосились, плиты раскололись, зелень могучими порослями прорывается сквозь их трещины.
Но как сине небо, как величавы горы кругом!..
«Забытая» крепость, действительно, была хорошо забыта!..
Примечания
[1] Урус — русский.
[2] Арьян — простокваша.
[3] Чахлан — куртка.
[4] Душаб — питьё, составленное из мёду с лепестками различных цветов.
[5] Газават — священная война с неверными.
[6] Хапулипхер — собачья — лай-трава.
[7] Это, по мнению суеверных лезгин значит наводить порчу на ту сторону, куда летит зола.
[8] Ля-илляхи-иль-Алла!.. Магомет-рассуль-Алла!.. — Нет Бога, кроме Бога, и Магомет пророк Бога!..
[9] Так они называли наших государей.
[10] Такими вымыслами турецкие послы всегда называли горные набеги на наши границы.
[11] Казикумухцы — лаки.
[12] Эшак — осёл.
[13] Абаз — 20 коп.
[14] Хинкал — галушки.
[15] Муршид — наставник тариката.
[16] Мурид — ученик, одержимый джазме — увлечением к божеству.
[17] Каримат — сновидение.
[18] Намазлык — коврик.
[19] Шампур — вертел.
[20] Замок над Курою в Тифлисе, где в сороковых годах содержали временно важнейших из горских пленников.
[21] Кысмет! — Так суждено!
[22] Аманат — заложник. Таких брали из влиятельных семей, чтобы народ не подымался против владычества русских.
[23] фр.
[24] Марушка — жена.
[25] Баранчук — ребёнок.
[26] фр.
[27] Алла, Алла! Бэла урус гёрмадым. — Господь великий! Таких русских я ещё и не видел.
[28] Князь Аргутинский.
[29] Лазареву.
[30] Кысмет — судьба.
[31] Знак отличия военного ордена Мухамеданам; его давали не с изображением Георгия Победоносца посередине, а с орлом.
[32] Ля-рагбаниати-фи-ль-ислам — Нет монашества в исламе.
[33] Т. е. угрозу отнять и то, и другое, если ему не будет оказана помощь.
[34] Байгуш — оборванец, нищий, жалкий человек.
[35] укр.
[36] Феварис — кавалерия.
[37] Межщит — пехота.
[38] Альф — тысяча.
[39] Хамса-миа — пятьсот.
[40] Миа — сотня.
[41] Действительное событие.
[42] Буль-буль — соловей.
[43] У русских водка отличная, у лезгин айран и буза тоже очень хороши.
[44] Гекоко — поэт.
[45] Тоже, что и гекоко — певец и импровизатор.
[46] укр.
[47] Исса — Иисус Христос.
[48] Суд и правила по Корану.
[49] То же по народному обычаю.
[50] фр.
[51] укр.
[52] укр.
[53] укр.
[54] укр.
[55] Ешак — осёл.
[56] Пешкешь — дар.
[57] Тулухча — водовоз.

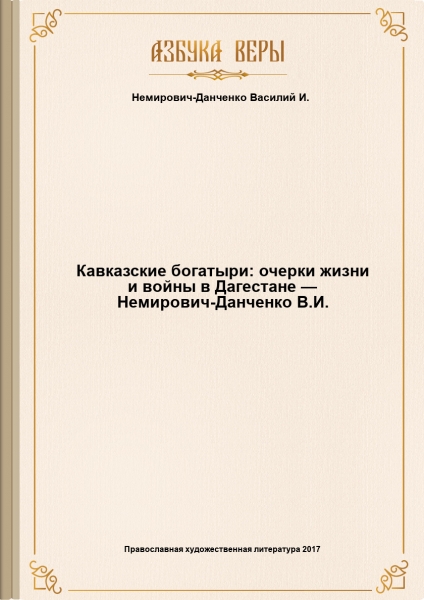

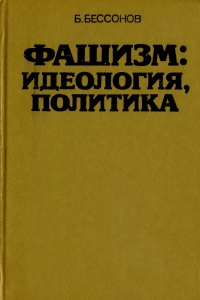
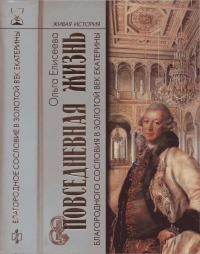
Комментарии к книге «Кавказские богатыри: очерки жизни и войны в Дагестане», Василий Иванович Немирович-Данченко
Всего 0 комментариев