Александр Бальхаус Любовь и SEX в Средние века
Между страхом и страстью
С. 9. Альдобрандино из Сиены. Средневековое руководство по сексу «Режим тела» (фрагмент миниатюры, 1285).
С. 10. Анонимный художник. Влюбленная пара (1484). Темпера.
Следы магии
Таинственная эпоха, это Средневековье! Его начало датируется временем глубочайшего упадка — заката Римской империи, — а конец обычно относят к приходу Реформации.
Что происходит в это тысячелетие, между 500 и 1500 годами, между Античностью и нашим временем? В любом случае Средневековье — эпоха вопиющих контрастов и противоречий: расцвету придворной пышности сопутствует повседневная привычная нищета, за блеском императорской династии Гогенштауфенов, повлекшим за собой расцвет общества и культуры, следует обрушение в политический и социальный хаос. Рыцари в своих крепостях и замках еще задают тон во всем, но в городах уверенные в себе богатые бюргеры уже начинают опережать благородных господ по положению.
В той же мере, в какой всю эпоху пронизывает ожесточенный конфликт между папой и императором за первенство в христианской Западной Европе — где явный, где скрытый и протекающий с переменным успехом, — дуализм церкви и секулярного мира оставляет отпечаток на всем средневековом ощущении жизни. Это напряжение между двумя полюсами воздействует на человека, проникая в сокровенные глубины его личности и в его тайные мысли. Он знает о церковных заповедях и об опасности вечного проклятия — и тем не менее с легкостью отметает их в сторону. Чопорность и вакханалия идут рука об руку точно так же, как страх адских мук и уверенность в спасении. Человек Средневековья привык к повседневному соседству с ужасом и даже забавлялся, присутствуя на пытках и казнях, словно на спектакле. В Средние века «к запаху роз примешивался запах крови», — пишет Йохан Хёйзинга[1].
Тщетно было бы искать однозначные и обязательные оценки той эпохи. Просвещение говорило о «мрачном Средневековье» с пренебрежением, подразумевая его якобы культурную и цивилизаторскую отсталость; в англоязычной литературе и до сих пор еще в ходу понятие Dark Ages[2]. Романтизм же, напротив, на переломе XVIII и XIX веков прославлял Средние века как «истинную эпоху».
И действительно, Средние века, настолько же многогранные, насколько и противоречивые, могут что-то предложить на любой вкус. Средневековье — больше, чем любая другая эпоха, — есть миф, повесть, полная заблуждений, напряжения и тоски. Нехватка достоверных исторических преданий усиливает очарование таинственности, способствует созданию мифов. Дошедшие до нас документы, артефакты, свидетельства из-за своей неполноты дают повод к спекуляциям, и все попытки реконструировать эпоху вновь и вновь терпят поражение — составить адекватное представление о средневековой реальности не получается. Все сводится к поиску исторической правды, погоне за обрывочными сведениями или попытке утолить ощутимую и поныне тоску по Средневековью, по временам императоров, темниц и монастырских тайн.
Что это — тоска по простому мироустройству, жизненной безыскусности, по кажущейся подлинности, по романтике крепостей и круглых оконных стекол? По какой причине мы так неодолимо стремимся погрузиться в глубину истории? Вряд ли потому, что нас интересует суровая, необустроенная эпоха, заряженная внутренними противоречиями, не знавшая ни электричества, ни мусороуборочных машин, ни нижнего белья, ни прочих удобств цивилизации.
Когда на стыке XVIII и XIX веков романтизм заново открывал для себя времена рыцарей, миннезингеров и обитающих в замках принцесс, рисуя лучезарные картины прошлого и делая их фоном для собственных идеалов, это стало по существу культурной революцией, критическим ренессансом. Но в наши дни тоска по Средневековью выражается в постановочных зрелищах, рыцарских турнирах, музейных выставках и разного рода фольклоре. Сказки и произведения в стиле фэнтези, колдовство и ворожба, Круглый стол короля Артура, поиск чаши Грааля и, не в последнюю очередь, героический эпос из Голливуда — вот та смесь, из которой в головах и сердцах наших современников составлено Средневековье. Оно кажется нам фантастическим спектаклем, нескончаемым красочным турниром, и в нем побеждают те образы, которые ярче всего поражают наше воображение, нечто среднее между кичем и коммерцией. В результате эпоха сводится к инсценировке, которую ждет публика.
Не туманы острова Авалон, а туманы полузнания лежат над Средневековьем, скрывая, насколько оно чуждо нам сегодня, насколько мы не ведаем, что делать с его невероятными противоречиями, с его безусловным стремлением к спасению души, а также с его суеверием, этой «верой без всяких суе», этой старой как мир, темной стороной религии.
Несмотря на все это — а может, как раз благодаря этому, — сегодня вновь наблюдается романтическое обращение к той эпохе. Современного человека к Средневековью влечет не только тоска по возвышенным чувствам и храбрым героям — переживает ренессанс и вера в демонов и духов, магия, мечта о спасении души и страх преисподней. Людей современного раздвоенного мира влечет опыт, включавший в себя и теневую сторону человеческого существования.
Йоганн Вольфганг фон Гёте называл суеверие поэзией жизни, и этот аспект имеет неоценимое значение для исследования менталитета Средневековья, поскольку в нем проявляются подлинная ментальная диспозиция средневекового человека, его неистовая готовность к вере и пресловутое озорство, его раздвоенность и размах, не знающие повторения в истории.
Жить и любить
Как же на самом деле живут люди в Средние века? И прежде всего — как они любят, если у них вообще есть любовь в современном ее понимании? Осознания индивидуальности еще не состоялось; мало у кого есть зеркало, и в портретной живописи главное вовсе не в том, чтобы набросать изображение, соответствующее действительности. Временами кажется, что тогдашняя жизнь очень трудна, пронизана чувством вины, отмечена тоской и жаждой искупления, опутана паутиной страхов и суевериями. Каковы же они в действительности, эта жизнь и эта любовь, — в неведомой стране, затерявшейся где-то между небесами и преисподней?
Может, средневековый человек действительно ближе к жизни, как писал сто лет назад историк Якоб Буркхардт: «Наша жизнь — коммерческое дело, а тогдашняя — бытие». В любом случае было бы досадно ретушировать картину той эпохи, а то и вовсе покрывать ее позолотой, ибо для идеализации жизни в Средние века существует очень мало оснований.
Правда, по-прежнему достойна восхищения невероятная сила, проявлявшаяся во всех формах. По крайней мере люди сопротивлялись всем катастрофам, войнам, болезням. Культура Античности, царства фараонов, классическая Греция — все они, в конце концов, погибли, а вот средневековая Европа до сих пор волнует и тревожит нас.
Цивилизаторская сила придает Средневековью почти непобедимую энергию, — сила, которая приводит в движение христианство в той же мере, в какой использует его. Христианское представление о «достоинстве» и о неповторимости индивидуума перед Богом подорвало язычество по меньшей мере идейно — и обуздало его.
Цена за это, правда, бесконечно высока: осуждение всего природного и свойственного живым существам, укрощение эроса, моральная дискредитация любви. «Человек сотворен из семени, вызывающего омерзение, — вдалбливает в голову своим согражданам в 1200 году папа Иннокентий III, — он зачат в похоти, в жаре сладострастия».
В Средние века невозможно было бы написать любовную историю, которую не восприняли бы как происки сатаны. Эротические чувства и сексуальное влечение стонут от удушающей хватки. Средневековье — пространство как для необузданных страстей, находящих выражение в грубом сексе и естественном их утолении, так и для беспощадной, исполненной ненависти борьбы против всех потребностей живого человека. Средневековая теология объявляет тело вместилищем греха, и это вместилище полагается «истязать» и «закабалять» до полного изгнания из него нечистой силы.
Истязать, пока не изгонишь бесов. «Смерть стоит на пороге похоти», — говорит Бенедикт Нурсийский, основатель ордена, названного его именем. Следствием было очищение, которое сегодня может вызывать у нас лишь улыбку, а тогда исполнялось столь же ревностно, сколь и непрерывно. Очищение и преодоление — вот проявления аскезы, которая не знала удержу.
То обстоятельство, что из осознания своей телесности и подавления этого чувства может возникнуть подобие сентиментальности, а то и любви, граничит с чудом. Предпосылка для этого — постепенная, осторожная «переоценка» женщины, которая перед этим считалась воплощением грехопадения, то есть была не выше, чем «грязь», «потаскуха», «порченое яблоко» и постоянно «открытые врата ада». Правда, перемена взглядов долгое время оставалась уделом ограниченного круга.
Средневековое мироощущение — словно меандр между страхом преисподней и любовной страстью, между суровым раскаянием и не поддающимся обузданию сексуальным наслаждением. В этой центральной эпохе западноевропейской истории отношение христианства к телесному и эротическому немного смягчается, но по-прежнему остается негативным.
В разладе чувств
Поверхностного наблюдателя пугает свойственный началу Средневековья масштаб отрицания мира земного и надежды на мир загробный. Корни этого явления надо искать в наследии Античности. Средневековье пытается возродить связь человека с областью сверхъестественного — из-за неукротимой чувственности позднего Рима о ней на долгое время забыли. С тем же пылом, который до той поры касался всего телесного, теперь обращаются именно к душе.
Из этого интереса прорастает пугающая зацикленность на потустороннем. Из гибнущей римской культуры нужно было вытеснить чувственность и импульсивность и сообщить новый духовный идеал. Небеса раннего христианства теперь открыты лишь тому, кто научился укрощать свою плоть и оставаться глухим к зову земных радостей. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим»[3] — это выражение из Евангелия становится единственным актуальным требованием. Из этой любви к Богу, который сам представляет совершенство любви и чистоты, люди самым положительным образом меняют отношение ко многим проявлениям жизни. Так, с воцарением христианства, провозглашающим принципиальное равенство людей перед Богом, римские рабы единым махом получают гражданские права и тем самым обретают человеческое достоинство. Однако христианство связывает данный постулат с безусловным требованием абсолютной чистоты. На этих принципах церковь все настойчивей основывает свое притязание на положение первой и высшей власти в Западной Европе.
Впрочем, поначалу триумфальное шествие христианства в послеантичном, раннесредневековом мире воспринималось как великое освобождение, ибо новое учение благоприятствовало началу самоопределения в обществе — конечно, в рамках, установленных верой. Для античного образа мыслей само собой разумеется, что люди низведены до состояния вещей. Римское право определяет раба именно так: он не человек, как свободные граждане, а вещь, животное, а потому его эксплуатации не установлено никаких преград.
В общественном устройстве Средневековья, которое базируется на феодальных отношениях, невольник хоть и должен работать на господина, отдавая десятину и отрабатывая повинность, но полномочия господина — по крайней мере, теоретически — не безграничны, ибо мера платежей и отработок твердо прописана.
При таком преобразовании общества христианство становится мощной движущей силой. Оно апеллирует, в первую очередь, к бедным и старается пробудить в них новое жизнеощущение. Тем самым начинается борьба за достоинство, борьба низших слоев за звание человека. И хотя Средневековье не доводит этот процесс до конца, оно все-таки выполняет в мировой истории определенную подготовительную работу.
Составить представление об огромной революционной силе новой морали можно, если иметь в виду, насколько опасную мощь увидели в ней рабовладельцы Римской империи — им пришлось преследовать первых христиан, чтобы сохранить собственную власть. Исходя из этой ситуации, из крайней деградации и распущенности старого Рима, христианство связывает свою революцию с призывом воспротивиться плотской похоти и распутству. Глашатаи новой морали прибегают к резким формулировкам и работающему на их популярность заострению конфликта, не осторожничая, не взвешивая силу своих нападок на извращения античной сексуальности. Атака идет сразу на все в целом, христианство взывает к духу и душе в противостоянии телу, ведет борьбу против похоти. Делая из раба, который прежде был вещью, человека, оно требует от него преодоления всего плотского. Не только над путами рабства может он торжествовать победу — душа его тоже должна восторжествовать над телом. Средство на пути к этой победе называется целомудрием.
При этом непорочность не следует понимать только как телесную неприкосновенность — христианство с самого начала резко меняет устоявшиеся определения целомудрия и распутства. Даже неверная жена, даже проститутка может — если осознает свою греховность и раскается в ней — выйти на путь целомудрия. В конце концов, Христос учил великому прощению, а к телу не может пристать грязь, которую нельзя смыть покаянием.
Но самое значительное новшество христианской морали в том, что она сплавляет в нерасторжимое целое сексуальность и брак, которые так долго существовали порознь. Если в Античности господствовал чувственный идеал красоты, то христианство проповедует этический идеал чистоты. Чистота достойна любви — более того, чистота заслуживает почитания. «Христиане, — пишет Климент Александрийский[4], — хотят, чтобы женщины привлекали чистотой своих нравов, а не красотой; они также не желают, чтобы мужчины видели в женах объект вожделения, ибо природа дала нам брак как пропитание, разрешив употреблять его, но не злоупотреблять им».
Женщина перестает казаться «добычей чувственности» и объектом. «Деловые» любовные отношения Античности превращаются в отношения человеческие — по крайней мере, в теории. Элемент господства над партнером по браку должен исчезнуть, уступив место новому, общему для обоих идеалу. В этом состоит также принципиальное различие между языческим и христианским браками: в первом случае важнее чувственное наслаждение, во втором — исполнение божественного долга. Впредь считается грехом искать в браке лишь удовольствие. Так идея чистоты оказывает дисциплинирующее воздействие и создает новый идеал любви, который принципиально отличается от античного идеала.
Средневековье характеризуют новые теологические и моральные идеалы, а также сопротивление этому новоиспеченному духу времени. Конфликт между чувственным и духовным, между вакханалией и аскезой, между страстью и страхом вездесущ и, в конечном счете, неустраним. Христианство вновь и вновь ищет способ утвердиться в этой борьбе против чародейства, суеверий, язычества и не в последнюю очередь — против сексуальных традиций античного мира.
Закрытое общество
Церковь налагает отпечаток на всю средневековую жизнь и пронизывает ее насквозь: все исходит из нее, все имеет к ней отношение. Она — видимое проявление божественного миропорядка и универсального плана исцеления, который реализуется в истории человечества. У людей нет другого выбора, кроме как подчиниться церкви или хотя бы договориться с ней, ибо она возвысилась над всяким сомнением и недоумением. Убежденность в том, что вне церкви не обретешь никакого блага, для средневекового человека так же естественна, как дыхание.
Первая и важнейшая цель человека — спасение души, и путь к нему поневоле ведет через церковь. С колыбели до похоронного звона люди чувствуют зависимость от совета и помощи церкви, ибо только она наделяет божественной благодатью. Чудеса святых таинств делают ее конкретной и неотъемлемой частью жизни каждого, окружают и освящают с первого до последнего вздоха.
Однако церковь не только открывает жаждущим путь к блаженству — в гораздо большей степени она представляет собой зримое Царство Божье на земле. Она — основание мировой структуры, устремленной прямо к Богу; эта грандиозная структура указывает каждому его место внутри строгой иерархии, охватывающей все ступени жизни, — от простейших существ до трона величайшего владыки. Особое место в этой иерархии занимает монашество в своем многообразии, ибо в целом оно воплощает привилегированную форму последователей Христа и находится ближе к лику Господа, чем миряне, ориентированные на земное.
Правда, такая система оставляет простор и для светского — при условии, что оно признает священный порядок и свои обязанности перед христианской общиной и послушно причисляет себя к церкви. Светские владыки, да и сам римский император, в случае неповиновения такому порядку попадают в опалу и подвергаются отлучению. В целом предпочтение отдается благочестию, окрашенному скептическим отношением к миру, а это означает, что важную роль играет аскеза.
Церковь пытается навязать человеку главную и весьма честолюбивую цель: абсолютное насыщение мира духовностью. Убежденная в своих полномочиях, данных Богом, она пытается подчинить себе все сущее на земле; ее претензия на мировое господство и задача воспитания человека идут рука об руку.
Этот мировоззренческий дуализм созвучен средневековой культуре. Он узаконивает претензию церкви на власть и право и достигает своего промежуточного пика на пути развития христианства от бедного еврейского проповедника из Назарета до сиятельного римского папства Средних веков. Из маленькой, затерянной общины первохристиан вырос гигантский аппарат церковной власти с детально проработанной судебно-правовой системой. Церковь являет собой превосходно организованную систему господства и располагает дипломатией столь же гибкой, сколь и несгибаемой.
В ногу с беспримерным ростом могущества идет окостенение того, что прежде было живым и подвижным. Внутреннее общение христиан с Богом становится вероисповеданием, обычай обращается в церемониал, а вера — в догму. Государство Бога, священная, всеохватывающая католическая церковь удерживается двумя факторами: послушанием и принуждением. По отношению к человеку средневековая церковь становится некоим societas perfecta, закрытым обществом, она есть дух и власть, невидимая общность и видимая империя.
Противоречил и напряженность
В своем подавляющем всесилии церковь пытается опутать человечество и поставить его на колени. Несмотря на это, ее претензия на значимость никогда не осуществлялась полностью — даже во времена расцвета ей снова и снова приходилось соперничать с императором, в такой же мере проникнутым Божьей благодатью. Да и внутрицерковные распри между разными течениями и направлениями вели к расколу, нанося папскому авторитету как минимум временный урон. Христианская мечта о единстве так и остается идеалом, и цель однородного мироустройства по-прежнему не достигнута.
Итак, власть и внешнее великолепие не способны ввести в заблуждение: в церковном организме есть уязвимые места, он страдает от ран. Церковь разрывают острые противоречия, она ведет напряженную борьбу с человеческими страстями, почти не поддающимися обузданию. Ей не удается полностью преодолеть расхождение между «природным человеком» и «заповедью христианского совершенствования». Вместо этого она облегчает совесть отдельного человека при помощи отработанной системы покаяний и священной благодати.
Моменты напряженности в средневековой культуре обусловлены небрежностью духовенства и светского общества, их безразличием к общественным противоречиям, наконец, их предрассудками и очерствелостью. История церкви Средних веков написана кровью. Деловые и государственные интересы, стремление к власти, сословная зависть, своекорыстие, недоверие, обман и ненависть оказывают влияние на повседневную жизнь церкви.
Христианский дух постоянно сопровождают разнонаправленные потоки. Безмятежная радость существования вступает в резкое противоречие с морально-этическими требованиями церкви к человеку. При этом сексуальное наслаждение снова и снова находит выражение в народных обычаях, песнях, поговорках и рассказах.
Моменты напряженности в жизни средневекового человека, конфликт между идеалом одухотворенного аскетизма и радостью чувственной жизни находят разрядку, например, в распространенном мотиве дикарей, укореняющемся в карнавальных обычаях и обретающем все больше популярности в искусстве. На средневековых шпалерах изображают людей, которые вдали от общественных принуждений и обычаев доверяют своей телесности и живут с ней в гармонии. Тем не менее стремление к моральной чистоте оказывает воздействие на все области жизни и прежде всего на эротику. Идея целомудрия, которая поначалу сводится к физической нетронутости, расширяется до идеала полной, охватывающей всего человека духовной чистоты.
Мистика в конце концов становится религиозным ярлыком эпохи не только в философских умозрениях Майстера Экхарта[5], но и в самых филигранных формах благочестивого смирения. Она связывает мир трансцендентного с земной жизнью. В потустороннем мире жизнь преображается. Ведь по сути мистика — не что иное, как тончайшая и вместе с тем восторженная эротика.
Несмотря на все предостережения христианской церкви, вопреки проклятиям, запретам и наказаниям не удается окончательно обуздать желания человека и отправить его чувственность во внутреннее изгнание. Позже это пыталась осуществить так называемая буржуазная эпоха. Средневековье свободнее в своих нравах и в большей степени исполнено фантазии. Особенно ослабевает общественный контроль в позднем Средневековье — не в последнюю очередь за счет эмансипации городской буржуазии. Некогда твердый сословный порядок расшатывается, жизнь становится более вольной, более чувственной, а личность приобретает особое значение. Штурмующая небо готика находит воплощение в человеческой душе.
В целом Средневековье отмечено резким антагонизмом между аскезой и похотью, между отрицанием мира и любовью к нему. Это влечет за собой поляризацию: одни настаивают на борьбе с любым проявлением плоти, а другие взывают к образу сотворенного Богом космоса, в котором все хорошо само по себе и где сексуальность занимает свое богоугодное место.
Внутри церкви за периодами ориентации на земное, признанием права наслаждаться жизнью вновь и вновь следуют времена аскезы и ухода от мира. Человеку Средневековья постоянно приходится выбирать между небом и землей. Например, XIV век — время перелома и неопределенности. В этот период жизнь непрерывно подвергается опасности из-за войн, междоусобиц, разбойничьих набегов, волнений, голода, нужды и эпидемий. Все это не позволяет человеку обрести внутреннее равновесие. От покаянного бичевания до шутовского колпака, от кладбища до увеселения зачастую действительно всего один шаг. В иной день не хватает рук, чтобы схоронить всех мертвецов, а на следующее утро перед дверью церкви теснятся брачующиеся пары.
Вместе с тем именно для менталитета позднего Средневековья характерна бьющая через край жажда красоты и буйного веселья. Это одна из причин, почему закат бургундской культуры окрашен такими пьянящими красками. Уверенная в себе и в Боге церковь и шумная свита аллегорической «госпожи жизни» принимают участие во взрыве безудержной страсти, внезапном разгуле чувственности и жажды бытия. Нарастающее значение мирской культуры, поначалу в рыцарстве, позднее среди горожан, снова меняет общее настроение, и мир эроса приобретает — пусть неуверенно и робко — новые черты.
Рыцарское общество
С. 27. Мир придворной любви (фрагмент). Французская книжная живопись, XV в.
С. 28. Изображение шестой заповеди: «Не прелюбодействуй» (фрагмент). Данциг, XV в.
Завоеватели, рыцари-разбойники, крестоносцы
Казалось бы, для возникновения романтической любви просто не существовало менее благоприятного времени, чем вторая половина XI века. Мелкое дворянство, несмотря на вассальные связи и верность сюзерену, погрязло в междоусобных войнах ради захвата земель. Главными интересами сильного пола оставались битвы, поединки и охота. Со временем сражения стали уступать место турнирам, но и те были делом кровавым и жестоким. Меньше всего мужчины претендуют на возвышенные чувства и драматические страдания.
Поведение за столом едва ли отличается утонченностью: едят по-прежнему руками (вилки еще не изобретены), нож вытирают о хлеб, а пальцы — о скатерть. Поскольку столовая посуда отсутствует, мясо поедают с толстых ломтей хлеба. Крепости представляют собой холодные и лишенные удобств жилища, которые не имеют ничего общего с хваленой рыцарской романтикой.
Дух рыцарства еще не утвердился. Франки считают своих жен полезным имуществом и соответствующим образом защищают их. За убийство жены назначается не слишком строгое наказание. Духовенство, сочиняющее церковные законы, еще долгое время позволяет мужьям бить своих жен, а светское законодательство во многом следует каноническому церковному. Раннее Средневековье — невообразимо суровое время; оно не столь порочное, как поздний Рим, но еще более грубое. Знатные люди полагают своим естественным правом изнасиловать всякую женщину, попавшуюся им в безлюдном месте, и поступают так, не задумываясь и не встречая никаких затруднений. Стоит упомянуть, что устав города Вильфранш в Гаскони даже в XIII веке разрешает каждому мужчине бить свою жену «при условии, что она не умрет от побоев». В суде женщина бесправна — она не может защищать себя сама, а все имущество, имевшееся у нее на момент заключения брака, переходит к мужу. Этот обычай продержится еще несколько столетий. Проституция стала настолько обычным делом, что многие большие и малые города Европы легализуют ее под контролем городских властей. Право первой ночи как минимум теоретически позволяет господину лишить девственности невесту своего вассала. Духовенство полагает брак драгоценным таинством и защищает его всеми силами, однако среди клира господствует определение Иеронима: «Кто любит свою жену слишком пылко, совершает прелюбодеяние».
Яркие представители «незавершенного» рыцарства — норманны, обосновавшиеся на окраинах Западной Европы. Поначалу они наводили ужас постоянными набегами, но в 911 году, получив в ленное владение побережье Северной Франции, похоже, присмирели. Впрочем, их активность все еще не утолена. Норманнские наемники в Нижней Италии с благословения папы разгромили остатки армии Византийской империи, а позднее изгнали из Сицилии сарацин. Они оказались не только бесстрашными воинами, но и умелыми основателями государства: норманнское королевство в Италии стало образцовым для своего времени — в нем мирно уживались различные культуры и царила веротерпимость.
На полстолетия попадает под контроль норманнов и Англия, но их жажда приключений и страсть к завоеваниям этим не ограничиваются. В конце X века у них появилась заманчивая цель: завоевание святого Гроба Господня. Они конечно же откликаются на призыв папы к крестовому походу, однако руководит ими все же не христианский образ мыслей, а тяга к завоеваниям. Война за веру — не для них.
Норманны становятся героями крестовых походов и усматривают в этом благоприятную возможность для расширения своей власти. Уже Боэмунд Тарентский, самый знаменитый норманн Первого крестового похода, предпочитает обустроиться в своем новом княжестве — Антиохии, предоставив другим тяжкий труд освобождения Иерусалима. Славные деяния ради будущих поколений — достойное времяпрепровождение. Тем не менее норманнское государство крестоносцев просуществовало почти два века.
Норманнские рыцари действуют с проворством многовековой привычки. Христианский образ мысли не особенно отягощает их. Давно приняв христианство, внутренне они остаются им не затронуты. Пути норманнов отмечены следами их дел, но это проявление не христианской любви к ближнему, а скорее беззаботного нрава господ.
Сотрясаемая кризисами Западная Европа смотрит на норманнов со смешанным чувством страха и восхищения. Однако вскоре привычки и этих рыцарей приобрели некоторую утонченность. Их монастыри становятся центрами образования, а церкви и кафедральные соборы на столетия вперед определяют архитектуру, влияние которой заметно в Шартре и Реймсе, в Париже и Амьене. Кроме того, норманны оказываются — в первую очередь в своем королевстве Сицилия — покровителями культуры и науки. Салерно становится первостепенным центром медицины. Куртуазность трубадуров пробивает себе дорогу в северофранцузские и итальянские королевские дворы.
Усовершенствование культуры
С XII столетия в Европе начинается общий духовный и материальный подъем. Чужие влияния поблекли или были впитаны и освоены, строгий римский стиль окончательно устранился, уступив место более мягким готическим обычаям. Закрепившееся разделение на три класса — духовенство, аристократию и крестьянство — разрушается с развитием городов и ростом их населения, которое, в свою очередь, дифференцируется на горожан, занимающихся земледелием, торговцев и ремесленников. Образование перестает быть привилегией духовенства. Кругозор расширяется, увеличивается радиус активности населения, закрепляется новый уклад, рождаются новые потребности. Возрастают и взаимные культурные влияния. С Запада приходит не только культура виноделия и выращивания фруктов, но и всевозможные утонченные привычки повседневной жизни, равно как элементы духовного образования и художественного творчества. И в качестве носителя нового образа жизни выступает рыцарство.
Бесконечные междоусобицы и разбойничьи набеги постепенно уходят в прошлое, общественное одобрение получают придворные формы поведения. Настоящему рыцарю наряду с войнами и турнирами теперь приличествуют и любовные приключения. Так же как он силой или хитростью одолевает врага, рыцарь должен — более деликатным образом, разумеется, — побеждать женщину, которая привлекла его внимание. Покорение — все равно кого, врага или женщины, — вот что становится жизненной задачей рыцаря, именно это приносит ему славу.
Рыцарь полон жизни: его крепкое тело натренировано, а пища, почти исключительно состоящая из остро приправленного мяса, и хмельные напитки, волнуют его кровь. Его сильные стороны — не ум и ученость, а хитрость и стратегия. Совесть не играет большой роли, и ее легко успокоить, если она вдруг пробудится.
Насилие, жестокость, разбой и вымогательство по-прежнему остаются частью рыцарского ремесла и определяют поведение мужчины, но со временем его представление о себе меняется. Формируются добродетели, которые теперь называются «рыцарскими».
В течение нескольких лет происходит смена менталитета: мужчины упражняются в искусстве пения, танца и композиции, чтобы заслужить благосклонность придворных дам. Они носят более изящную одежду, обзаводятся носовыми платками, осознают необходимость и пользу мытья. А еще оттачивают мастерство остроумных бесед.
Так неужели любви суждено было расцвести на помойной куче из мужского господства, религиозной аскезы и феодального варварства? Как можно объяснить подобный феномен? Социально-экономическими факторами? Или растущим благосостоянием аристократии, дававшем больше свободного времени для постижения дополнительных — игровых — сторон любовных отношений? А может быть, у младших отпрысков знати появляется возможность праздной жизни при больших дворах, где они неизбежно испытывают влечение к женщинам, на которых им никогда не удастся жениться? Почему все-таки любовь вдруг приобрела философскую и литературную ценность?
Объяснить это явление одним только культом Девы Марии не получится. Пречистая Богоматерь кажется педанткой по сравнению с грешной Евой, однако трубадуры зачастую обращаются к своим дамам, титулуя их «мадоннами» и водружая на алтарь своего сердца. При всем сходстве превознесения Марии и отношения к куртуазной любви нельзя не заметить, что культ Богородицы достиг своей кульминации уже после того, как придворная культура расцвела пышным цветом. Тем не менее многообразные связи и взаимовлияние между почитанием женщин и поклонением Деве Марии несомненно существуют.
Так или иначе, нам остается лишь отметить, что любовь начинает расцветать там, где устанавливается феодальный порядок, который обеспечивает праздность и достаточное материальное состояние, а уж они благоприятствуют новой игре, идеально соответствующей новой задаче общества — привить мужественности утонченность и культуру. И, наконец, ритуализированное почитание женщин удовлетворяет неутоленную потребность мужчины в чувстве симпатии — результат системы брака, которая совсем не заботилась о любви.
Прелюбодей с ограниченной ответственностью
Впрочем, при дворе случалась не только платоническая, идеализированная любовь. Встречается там и вполне незамысловатый подход к делу. Любовному вожделению рыцаря на руку обычай, что жена владельца замка провожает гостя в спальню. Рыцарям иной раз даже не было нужды попусту тратить время на искусство соблазнения. Странствуя, они находят достаточно женщин, которые сами идут им навстречу. Любовная игра далека от наивности, тут действует вожделение. Правда, не стоит доверять литературе того времени. Порой она груба, порой поэтична, но всегда сочинена мужчинами. Сильный пол зачастую изображен в этих произведениях более робким, чем слабый: якобы женщины в деликатных ситуациях могли действовать вполне непринужденно. Впрочем, нельзя сказать, что все дамы тотчас следуют за поманившим их рыцарем. Как правило, они хотят, чтобы их о том попросили, да не по-крестьянски, а по-рыцарски, согласно придворному обычаю.
Если женщина после этого заплатит «дань любви», интерес рыцаря нередко обрывается. Прекрасный трофей добыт, охота позади. Сатирик Генрих из Мелька изображает (ок. 1160 г.), как беседы рыцарей постоянно крутятся вокруг женщин. Это настоящее состязание, в котором побеждает тот, кто сможет похвастаться наибольшим числом соблазненных.
Неужели рыцари — «прелюбодеи с ограниченной ответственностью»? Разве самая важная заповедь рыцарского кодекса чести гласит: «Прелюбодействуй»? Разве основной мотив, красной нитью проходящий сквозь поэтические и фривольные песни, равно как и через мощные эпосы рыцарских времен, — это прелюбодеяние? В возвышенной песне любви, которую создает Готфрид Страсбургский[6], женский идеал девственного целомудрия и супружеской верности ставится под сомнение и даже чуть ли не высмеивается. Женщины на распутье. Что выбрать — сохранение верности, которой требует супруг, или пламенную готовность отдаться, какой вожделеет рыцарь? Оказавшись перед таким выбором, дамы часто не знают, какому обычаю следовать — старому или новому.
Служение любви — обязанность для рыцарей, даже в том случае, если они женаты. В понимании старого времени идеальная любовь и брак не совпадают, поэтому можно ставить себя выше всех условностей. Петь о чистой любви и втайне совершать супружескую измену — это вовсе не противоречие. Для удовлетворения насущных сексуальных потребностей рыцарь обращается либо к супруге, либо к любовнице. Содержанки в обществе, живущем беззаботно, ни в коем случае не подвергаются презрению, тем более содержанки высоких господ — ведь благодаря пышному культу почитания и уважения, который строится вокруг них, они пользуются славой. До той поры, пока — по окончании связи — снова не окажутся в прежнем ничтожестве.
Характерна для эротического климата того времени следующая история Дитриха из Глезе. Одна женщина, славившаяся красотой, продала свою благосклонность за коня, ястреба, собак и усыпанный драгоценными камнями пояс. Рыцарь Конрад, ее супруг, в наказание покинул жену. Она последовала за ним, переодевшись рыцарем, и нашла его при дворе герцога. Животные, добытые ее неверностью, и пояс были способны творить чудеса. Рыцарь Конрад, не узнавший свою жену, позавидовал тому, что она обладает волшебными предметами, и пообещал, приняв ее за мужчину, перейти к ней в услужение, если получит в дар желанные объекты. Женщина снимает маску и поднимает супруга на смех. В конце концов, пара примиряется.
«Кто дал тебе, любовь, такую власть?» — восклицает Вальтер фон дер Фогельвейде[7]. И в самом деле нежное чувство сводит с ума всех — рыцаря, который увлечен поклонением и соблазнением, ухаживая за молодой красивой супругой аристократа, и самого аристократа, в свою очередь, преследующего жену другого. Такой власти никто не в силах противостоять, тем более — по велению духа времени — те, кто принадлежит к слабому полу.
Дама должна уступать, поскольку любовь создана Богом. Приберегать ее несправедливо и, более того, — грешно. А кто же захочет быть грешным? Поэтому Вальтер фон дер Фогельвейде учит: женщина должна отвечать на чувство чувством, ибо что за любовь без ответной любви, и всякая любовь должна быть вознаграждена. Добиться этой награды — истинная задача неутомимого рыцаря. Он требует расплаты, как нетерпеливый кредитор.
В песнях миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде женщина внимает возлюбленному на воле. Птичка на ветке — более безопасный свидетель, чем служанка, наемный или добровольный охранник. Женщина, делающая восковые отпечатки ключей, чтобы впустить возлюбленного, и рыцарь, который эти ключи использует, отнюдь не мучаются угрызениями совести. Они считают свою любовь чистой, благородной и совершенной. Поэтому не удивительно, что всякая дама стремится к такой «чистоте», использует весь свой ум, чтобы ее добиться, и идет на всяческие ухищрения, дабы избежать последствий обнаружения измены — неволи и наказания. А если ей не хватает хитрости, чтобы выбраться из ловушки, она прибегает к последнему средству доказательства невиновности — к Божьему суду.
Для такого доказательства необходимы решительные меры — например, испытание раскаленным железом или огнем. Они и по сей день живут в таких немецких идиомах, как «держать за это руку над огнем» или «пойти за кого-нибудь в огонь». Об императрице Рихардис рассказывают, что она надела рубашку, пропитанную воском, и подожгла ее с четырех сторон. Во время испытания холодной водой обвиняемого связывают по рукам и ногам и бросают в реку: если он останется на поверхности, то виноват, если же его примет вода, это докажет его невиновность. Другие ордалии в брачных спорах не применялись.
В литературе есть свидетельства и о проверке на непорочность — например, в саге о короле Артуре. Здесь во всех женщинах предполагается бесстыдство, ибо ни одна из дам при дворе Артура не выдерживает испытания. Генрих фон дем Тюрлин[8] рассказывает в одном из своих эпосов, что морской царь Приур пересылает королю Артуру кубок, из которого в состоянии напиться лишь тот, кто никогда не был уличен в неверности. Кроме рыцарей, из кубка обливаются и все дамы, в том числе Гвиневра и прекрасная Бланшфлер. Характерно для этого рассказа, что лишь один человек, Артур, выдерживает это сомнительное испытание.
Средневековая новеллистика и литература шванка проливают яркий свет на господствующую мораль. Теория суха, поэтому в Средневековье никто не следовал высокоморальным постулатам, к тому же тогдашний климат постоянно подпитывал людское недоверие.
Нравственность в человеке углубляется, но на интуитивном уровне всем ясно, что страстные обеты и самоотречения — лишь проявления «тщеславной роскоши». За сильными чувствами и страстями, как уверяют критики, стоят не истинные герои добродетели и героини нравственности, а коллективная неполноценность, стимулирующая упомянутую атмосферу недоверия.
Поскольку мужчины не доверяют ни своим собратьям, ни представительницам противоположного пола, они прибегают к суровым средствам защиты. Самое грубое выражение превентивного недоверия — пояс целомудрия, указывающий, что самая высокая, а то и единственная ценность приписывается физической неприкосновенности, только ей одной и можно верить. Не исключено, что это варварское изобретение обязано своим появлением крестовым походам, ибо железный пояс должен был давать рыцарю, вынужденному подолгу отсутствовать, а позднее купцу, находящемуся в разъездах, гарантию нерушимой супружеской верности его жены.
Сей жестокий инструмент, который использовали отнюдь не повсеместно, в большинстве случаев обшивали красным бархатом. От железного пояса, состоящего из трех частей шириной приблизительно в один сантиметр каждая, спереди и сзади вниз отходят узкие изогнутые железные пластины. Дуги соединяются с поясом шарнирами и заостряются книзу. В промежности они соединяются еще одним шарниром. Сзади и спереди по маленькому отверстию, причем продольная щель усажена тонкими зубьями. На поясе нередко встречаются украшения и причудливые изображения, иллюстрирующие его назначение.
Историки не пришли к единому мнению, на самом деле ли пояс целомудрия был предметом обихода или же рассматривался лишь как угроза наказания. Из Франции и Италии до нас дошли описания Брантома, Рабле, Морлини[9]. Но независимо от того, применялся ли пояс верности в действительности, он — доказательство насилия над сексуальным влечением и чувствами женщины, свидетельство зависимости жены от мужских и экономических интересов. Стыд и позор женщине, которая позволит себе проявить и утолить сексуальное вожделение вне брака.
Однако существует хитрый выход. «На женщину, которая не хочет уберечься, тщетно надевать пояс целомудрия». Женщина просто заказывает у того же торговца, который продал ее супругу пояс целомудрия, за такую же немалую цену копию ключа к искусному замку.
Здесь тоже не обходится без противоречий: с одной стороны, рыцарь всеми средствами пытается обеспечить супружескую верность жены, с другой — случается так, что он предлагает свою супругу гостю, причем пренебречь этим предложением значит нанести обиду гостеприимному хозяину. Готовность ради удовольствия гостя или друга привести женщину со стороны (тут больше общего со сводничеством, чем с домашней проституцией) считалась совершенно обыденной любезностью. В рыцарском обществе жена владельца замка любезна настолько, что для развлечения гостя предоставит ему одну или несколько своих служанок, если уж не саму себя.
Такая вольность нравов не могла не привлечь церковь. Последняя усматривает в эротическом культе элемент открытого бунта. Христианский рыцарь должен молиться, сражаться и укреплять свою веру в крестовых походах, а не поклоняться любви. Однако «служение женщине» — именно то, что способствует превращению из беспощадного вояки в благородного рыцаря. Словечко amoureux[10], определяющее все, что связано с любовью, становится равнозначным таким понятиями, как «рыцарский» и «добродетельный». Стремление служить даме сердца и отличиться перед ней будит в рыцаре не только чувственность, но и нравственность.
Из рыцарей в певцы
Если кто и заслуживает титул основателя придворной любви, так это Вильгельм IX, герцог Аквитанский и граф Пуатье, родившийся в 1071 году. Он изобрел новый стиль любовной лирики и утонченные манеры, которые позднее распространились за пределы Южной Франции и завоевали всю Европу. Вильгельм — не какой-нибудь хрупкий узкогрудый рифмоплет, он могучий феодал, власть которого в конце концов распространилась почти на треть Франции. Он искусно правит своими землями, его воинская мощь испытана в Первом крестовом походе. Он умеет настоять на своем в спорах с могущественными церковниками и в своих владениях защищает от них альбигойцев. Вильгельма подвергают отлучению за бескомпромиссный образ мыслей, и он упорно не желает покориться церковным властям.
Несмотря на гордость, несгибаемость и боевой задор, Вильгельм Аквитанский во многих отношениях — образец придворной любви, пример для всех, кто пришел после него. О его обаянии и способности покорять женщин ходят легенды, он слывет великим соблазнителем и храбрым рыцарем, пережившим бесчисленные любовные приключения, а также хорошим певцом и поэтом. Именно он ввел в моду обычай чествовать даму сердца нежными строфами и поклоняться ей, и эта мода быстро распространилась в рыцарских замках и при дворах Южной Франции. Хотя средневековая литература дошла до нас лишь в отрывках, нам известны имена почти пятисот певцов любви и две тысячи пятьсот сочиненных ими песен. Среди них встречаются не только мелкие дворяне, но и несколько королей, в том числе Ричард Львиное Сердце, праправнук Вильгельма IX.
Впрочем, поначалу придворная любовь — это всего лишь мужская игра. Трубадуры распространяются о высоких чувствах, однако женщина как личность не попадает в их поле зрения. Не важно, абсолютно ли недоступна дама сердца или к ней можно приблизиться лишь до известной границы — в любом случае придворная любовь остается в первую очередь чистым поклонением духовному — и лишь в ограниченном смысле телесному — объекту. «Гранд-дама» — это икона, и в ранних провансальских песнях вы не найдете упоминания о том, что она, со своей стороны, говорит, чувствует или делает. Ее образ упрощен — она лишь предмет любви. Кто надеется на пикантное приключение или страстную любовную связь, поначалу будет разочарован. Поначалу — ибо чем дальше любовная игра продвигается в Северную Францию, тем в большей степени рыцарство заражается эротическим чувством. Любовник в доспехах впредь не довольствуется лишь выражением своего поклонения в поэтических строках, исполненных самоуничижения и эмоциональной откровенности, — теперь он действует, он занят служением, угодным его даме.
Отныне женщина и сама вступает в игру. Она, что называется, сходит с пьедестала, с алтаря поклонения и становится партнершей в эротической игре. В придворной любви начинают появляться элементы взаимности — из мужчины, испытывающего влечение, и женщины, которая чувствует себя желанной, складывается пара.
Изобретение любви
С. 45. Влюбленный и Дама Веселье. Иллюстрация к «Роману о Розе», конец XV в.
С. 46. Влюбленная пара на фоне идеализированного пейзажа: так называемое «Подношение сердца» (1430). Гобелен из Арраса.
Куртуазная любовь
Придворная — куртуазная, учтивая — любовь или «служение женщине» — без сомнения, самое оригинальное изобретение Средневековья. К концу XI века несколько аристократов и поэтов из Южной Франции выдумывают набор любовных чувств, который в западной цивилизации создает совершенно новые отношения между мужчиной и женщиной.
Поначалу все это не более чем игра, литературное понятие, однако со временем из простого времяпрепровождения вырастает общественная философия с очевидным воздействием на всю эротическую сферу жизни. Увлечение комплиментами становится поначалу привилегией феодальной аристократии, а затем идеалом буржуазного общества, вселенной эротических идей, которая чудесным образом соединяет в себе все противоречия и устраняет их: одинаковую ценность обретают прелюбодеяние и целомудрие, уступчивость и самообладание, хитрость и верность, страдание и вожделение. Эта совокупность и формирует сферу эротических отношений, которая — в основных чертах — и есть куртуазная любовь, поныне популярная у мужчин и женщин западного мира.
Непоследовательность и амбивалентность нового идеала провоцирует насмешки и презрение, воспламеняет сердца и приводит в волнение тела, получает самые разные оценки и отзывы. Что же на самом деле представляет собой куртуазная любовь? Всего лишь мимолетную игру? Отравляющую общество этику, из-за которой оказались навеки изуродованы брак и мораль? Странную, хотя и не самую важную главу в истории общества? Источник романтической любви, с которой межчеловеческие отношения поднялись на совершенно иной уровень?
Игра ухаживания
Если мы хотим составить представление о придворной любви, понять ее, нам следует по достоинству оценить театральность новой игры, радость, которую она несет. Да, поначалу это все лишь игра, спектакль: рыцарь сознательно избирает в качестве дамы сердца принцессу, стоящую выше него по общественному положению и, естественно, уже замужнюю. Он появляется у нее при дворе как паж и взращивает свои эротические чувства. Он держит свое обожание в тайне, старается скрыть дрожь и румянец, вызванные ее присутствием. Заметив, как рука возлюбленной коснулась лепестков цветка, который он поставил так, чтобы дама непременно увидела его, рыцарь почти теряет сознание. Мужчина взвинчивает себя до такой степени, что взгляд женщины сводит его с ума, и он втайне клянется посвятить себя служению Даме. Это решение наполняет его меланхолией и болезненной жаждой — счастьем, которым он умеет наслаждаться.
Рыцарь, исходя лихорадочной самоотверженностью, путешествует по стране, сражается во множестве турниров и одерживает столько побед, что их можно приписать лишь любви, которая переполняет все его существо и придает силу. В конце концов рыцарь совершает настолько впечатляющие деяния, что чувствует себя достойным открыться даме сердца. Не напрямую, разумеется, — он уговаривает служанку, чтобы та поведала о нем возлюбленной, и сообщила по секрету о его страстном желании стать преданным, робким, почтительным слугой дамы.
Об этом или о чем-то похожем повествовали истории, впервые представленные миннезингером Ульрихом фон Лихтенштейном. Однако игра зашла бы в тупик, если бы за ней следовал счастливый конец. Но не тут-то было — дама оказывается неприступной. Она считает поклонение рыцаря, его деяния, его песни смешными и самонадеянными. Чтобы усилить его страдания, она дает ему понять, что он не имеет права почитать ее даже издали, не говоря уже о том, чтобы рассчитывать на какой-нибудь знак благорасположения и симпатии. Однако рыцаря такой отказ не обескураживает, его готовность к выдающимся подвигам и свершениям лишь усиливается. Он видит смысл жизни в том, чтобы стать тайным рыцарем своей дамы, любить ее и сражаться за нее. Со временем возлюбленная принимает его служение, пусть даже на самых унизительных условиях, которые ни в коем случае не подразумевают благосклонности к рыцарю и даже не обещают ее в будущем. Он не получает ни обещания, ни объятия, ни поцелуя, ни даже ленточки или знака расположения, который мог бы носить при себе. Несмотря на это, миннезингер без конца сочиняет песни любви, передает своей возлюбленной послания, полные пылких заверений в преданности, и те слишком часто натыкаются лишь на холод, высокомерие и критику. Но всякий новый отказ лишь разжигает страсть рыцаря. Утонченную боль, вызванную таким отношением, рыцарь почитает за счастье. Дама, любви которой он хочет добиться, становится смыслом его жизни.
При этом вполне может оказаться, что занемогший от любви рыцарь уже давно женат и спит со своей женой, когда ему захочется. Возможно, у него даже есть дети, семья, в которой он отнюдь не чувствует себя одиноким. Однако брак в то время — не более чем результат феодального хозяйственного уклада, в котором любви отводится весьма скромное место. Речь идет скорее об объединении земельных угодий и владений, о цементировании союзнических связей, о производстве потомства, которое обеспечит благополучное продолжение рода. А что общего может иметь всепоглощающая любовь к идеализированной женщине с сельским хозяйством и скотом, с домом и двором, с семьей и челядью? Ничего. На этом основании рыцарь или миннезингер может без малейших угрызений совести гордиться своими деяниями, совершаемыми вовсе не ради жены, и при этом верить, что супруга тоже гордилась бы им, узнай она об этих подвигах. Ибо куртуазная любовь делает мужчину благороднее, тоньше и привлекательнее.
Если возлюбленная остается непоколебимой и не поддается на комплименты, подарки и прочие доказательства любви, может статься, что рыцарь после многих лет преданности, выражаемой в разных формах, прекратит «служение», напишет серию печальных песен о своей даме и женщинах вообще и оставит историю своей любви и ее крах на растерзание придворных сплетников. Затем рыцарь пускается на поиски другой совершенной дамы, которая, возможно, отнесется к нему благосклоннее, оценит его усилия и поощрит его дух. Ибо любовь, он это знает, самое лучшее в жизни — это чувство делает из него истинного мужчину и образцового рыцаря.
В таких обстоятельствах даме с положением нетрудно стать гранд-дамой. Она больше не привязана к мужчине хозяйственными обязанностями, она — существо высшего порядка, источник любовных радостей, которые могут излиться на него в качестве награды за подвиги и лишения и — в широком смысле — подтвердить его ценность как рыцаря. Дама становится высшим судьей его тщеславия — многие не заставляют себя упрашивать и, упоенные лютнями трубадуров, задают своим рыцарям смехотворные испытания, которые те должны выдержать и о которых так блестяще рассказывает Кодекс Манессе[11].
Влюбленным мужчинам приходится нелегко на долгом пути ухаживания — от стадии претендента на любовь до стадий просителя, признанного почитателя и, наконец, официального возлюбленного. Однако даже на заключительной ступени дело совсем необязательно доходит до полного исполнения желаний — часто рыцарь и его дама лежат в постели обнаженные, но лишь развлекаются затяжной любовной игрой. Историк искусства Габриеле Бартц высказывает предположение, что придворная любовь, если судить по тому, как она описана в литературе, совсем не ставит себе целью «подвигнуть возлюбленную к физической близости, это лишь изысканная игра. При этом в ней используются средства, которые обычно пускают в ход мужчины. Женщина-сюзерен противостоит мужчине-вассалу, который может добиться ее благосклонности ухаживанием по закрепленным в обществе правилам. Отказ от влечения при этом не становится обязательным условием, но все же образует некую константу. Поскольку физического соединения, как правило, не происходит, получает развитие эротика созерцания, беседы и легких прикосновений».
Довольно трудное дело, как нам может показаться сегодня, однако в те времена целью был сам путь, а не его окончание. Он, в сущности, и есть игра: «Кто хочет полностью обладать дамой, тот плохо знаком или вообще не имеет представления о куртуазной любви», — полагает трубадур Дауде де Прадас и выражает тем самым общий скепсис по отношению к низменному желанию. Ему представляется, что поцелуи, прикосновения, ласки и одно лишь пребывание любящих вместе — это и есть «истинная», «чистая», «правильная любовь».
Даже если это представление чисто литературно или лишь отчасти реально, отношения между влюбленными мужчинами и их дамами ни в коем случае не следует сводить исключительно к прелюбодеянию. В песнях миннезингеров содержатся комплименты телу любимой, экзальтированные дифирамбы объятиям и прикосновениям, но нет даже намека на сексуальное возбуждение, утоление страсти или удовлетворенное изнеможение. Придворное любовное приключение остается, несмотря на всю его откровенность, незавершенным ритуалом. Главное влюбиться, а не обладать. Трубадуры поют о вожделении, бесконечной тоске и неутолимой страсти. Пусть в этом присутствует некое преувеличение, однако слова Бернара де Вентадура[12]: «Мужчина без любви не стоит ничего» — в любом случае справедливы.
Любовь становится высокой ценностью, чем-то великим, священным, она придает воздержанию особую святость, недостижимую в супружеской жизни. И поскольку желание и любовь не могут быть реализованы в отношении одной и той же женщины, то брак служит для удовлетворения плоти, но не дает чистой любви.
Время миннезанга
То, что начинают провансальские трубадуры и продолжают северофранцузские труверы отражается в средневерхненемецкой любовной лирике, которая испытывает воздействие французских образцов, а также лирики вагантов и сопровождает возникновение придворно-рыцарской культуры в эпоху Гогенштауфенов. Миннезанг, он же поэтическое выражение куртуазного служения женщине, отражает пору, когда смелые рыцари и певцы, полные страсти и нежных чувств, ухаживают за недосягаемой дамой: эта тысячекратно скопированная история уже вряд ли несет на себе следы действительности. Время миннезанга длится приблизительно с 1150-го по 1400-й год. Как трубадуры и труверы во Франции, немецкие герои подвергают себя испытаниям, выдуманным дамами сердца, пускаются в эротические игры, в которых женщины всячески противодействуют своим поклонникам, затрудняя продвижение к цели. Женщины рыцарских дворов не желают сражаться сами, как валькирии или амазонки, но хотят, чтобы их завоевали. Они толкают мужчин на авантюры и, в конце концов, пустив в действие свои эротические способности, действительно получают власть над ними. Они могут завести игру на удивление далеко, но никогда не потеряют контроль над положением дел настолько, чтобы их поклонники утратили охоту к продолжению.
Расцвет миннезанга недолог — с конца XII века до начала XIII. От Генриха фон Вельдеке и Дитмара фон Айста — до Вальтера фон дер Фогельвейде. Его последние песни могли быть написаны около 1228 года, поскольку Ульрих фон Лихтенштейн, рожденный в 1199 году, уже подражает миннезингерам. Используя преувеличения и сатиру, он описывает невероятные приключения рыцарей, их безумные идеи и еще более безумные героические подвиги — разумеется, любовные.
Литература эпохи миннезанга играла особую роль в очищении рыцарства и прославлении его любовных приключений. В экзальтированных поэтических строфах повествуется о «блаженной любви». Язык очищается от умеренности и искусственности сложно сконструированного латинского синтаксиса. Поэты открывают для себя немецкий язык, видят в нем инструмент со множеством регистров — от восторженного подъема до будоражащей боли. В экзальтации они превозносят Бога и его творения, а среди последних прежде всего прекраснейшее — женщину.
Интересно, что, несмотря на сознательное и недвусмысленное оскорбление святости брака, любовь считается адекватным средством сближения с Богом, а потому практически богоугодным делом. Поэтому в придворном эпосе мы вновь и вновь находим указания на веру в религиозное возвышение посредством любви.
Вальтера фон дер Фогельвейде тепло принимают при дворе Бабенбергов Венских, где он, как гласит предание, прикасается к своим струнам и поет со всей полнотой чувств: «Прекрасны, словно цветы, невинные женщины. Нет ничего прелестней ни в сферах, ни на земле, ни в зеленых долинах речных. В сравнении с этой красотой лилии и розы, расцветающие в росистой майской траве, тусклы, а птицы — безголосы. Здоровый лишится разума, а недужный — исцелится в одно мгновение, когда узрит нежные смеющиеся губы или сияющие глаза, что мечут стрелы в мужское сердце».
Придворное общество находит все больше удовольствия в изощренной языковой манере и подобном стиле жизни — женщины и девушки становятся недостижимой грезой. Соответственно, облагораживаясь, меняются и формы обхождения, развиваются новые правила стиля и приличий. Каждый хочет быть «изысканным», безупречным в одежде и манерах, никто не желает слыть тупой и бестолковой «деревенщиной».
А потому рыцарь мечет стрелы Амура с любовными посланиями, пламенное чувство прокрадывается в сердце девушки, и нет недостатка в сладостных признаниях и взаимном расположении. Влюбленные обмениваются письмами или «пригоршнями шелковых нитей» в виде широкой ленты или фаты — традиция, о которой до сих пор напоминает выражение «узы дружбы». Поцелуй становится традицией и общественным долгом. Гостя непременно встречает «приветственный поцелуй алых губ», а если эти губы еще молоды, то они «не о дворцовом этикете с его устами говорят»[13], — как это чувствует рыцарь Гаван из «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха, когда в стране Аскалун он заезжает к молодой царице Антиконии.
Скоро придворные беседы наполняются эротическими изъявлениями в форме стихов, песен и баллад. Песни того времени — бесчисленные вариации на одни и те же темы. Они звучат не только под гулкими сводами княжеских замков, но и на императорских сеймах, а также находят восторженных слушателей в городах. Деяния рыцарей приукрашиваются с большой фантазией и изобретательностью, причем правдоподобие не имеет никакого значения — как, например, в легендах о короле Артуре или Парцифале. Важнее то, что рыцарский образ поведения не кажется ни предосудительным, ни смешным, ни странным.
Любовь к даме сердца как эротическая религия
За два недолгих столетия миннезанга жизнь в Германии приобретает лоск во всех областях, а резкое расхождение между религией и чувственностью становится слабее. Аристократическая замужняя дама — «фруве», как ранее гранд-дама французского двора, становится притягательным, роскошным созданием, которое обещает радости любви, непостоянным существом — то чопорным, то непосредственным.
Придворную любовь можно рассматривать как попытку усовершенствовать эротическую жизнерадостность при помощи рыцарского культурного и общественного идеала. Романтическая стилизация смягчает то, что едва ли в состоянии обуздать церковь. Правда, как аскеза, так и служение любви — дело лишь узкого круга. Среди большей части аристократов, горожан и крестьян в отношениях полов правит естественная чувственность, там женщины принимают участие в увеселениях и проказах, то есть ведут себя отнюдь не как блюстительницы приличий и нравственных норм.
С другой стороны, центром религиозного поклонения трубадуров и миннезингеров становится Дева Мария: она превращается для них в обычную женщину, «внушающую любовь». Такое изменение, находящееся в причинно-следственной связи с сублимацией женского начала, с его идеализацией и отказом от сексуального удовлетворения, происходит в то время, когда представители церкви с кислыми минами проповедуют отказ от плотских желаний, а вокруг по-прежнему господствуют дикие, жестокие нравы. Деве Марии посвящаются бесчисленные песни, «божественная любовь» служит путеводной звездой добродетельного рыцаря. В середине XII века во французском Лионе к большому неудовольствию церкви трубадуры отмечают праздник Непорочного зачатия Марии. Даже беременность Божьей Матери дает повод для религиозно-рыцарского вожделения. Беременная женщина приравнивается к образу Богоматери, и заметное округление живота считается отныне признаком женской красоты.
Само собой разумеется, что служение придворной любви — это бунт против нарастающего давления церкви, ибо страх перед неконтролируемой сексуальностью, который нагнетают церковники, омрачает средневековое мироощущение. Плещущее через край желание жизни, выраженное как сексуально, так и религиозно, противоречиво лишь на первый взгляд. В радостях, которые приподносит «госпожа жизнь», человека подстерегают демоны, соблазняя сладострастием и беспрепятственным удовлетворением вожделения. Греховной считается не только похотливая сексуальность, но и желание, даже если оно не находит удовлетворения. Некоторые отцы церкви договорились до того, что чрезмерная любовь к собственной жене стала более тяжелым грехом, чем прелюбодеяние. Бесчисленные пособия и руководства к покаянию детально исследуют вопросы сексуальной морали и называют распутством все, что, вопреки порядку, разыгрывается вне супружеского ложа, а иногда и то, что случается на нем.
Ожесточенная борьба против инстинктов наталкивается не в последнюю очередь на сопротивление трубадуров и миннезингеров. Созерцание красоты возлюбленной в рамках «чистой любви» переходит в объединение душ и сердец — а зачастую и в нечто большее. Как бы то ни было, здесь имеет место эротическое искусство, которое очень далеко от аскетических требований церковной морали. Любовные песни со всей откровенностью формулируют чувства, ненавистные церкви, поскольку они ускользают из-под ее контроля. Это касается и тех случаев, когда рыцарь или певец однажды снисходит до «низменной любви». Ведь тогда он находит совсем другие, естественные оттенки, передающие непринужденную чувственность и счастье любовного свидания.
Любовь при дворе Пуатье
Регион Аквитании играет особую роль в истории любви. В 1122 году, когда Вильгельм достигает среднего возраста, а провансальская аристократия уже сильно воодушевлена его идеями, появляется на свет его знаменитая внучка Алиенора Аквитанская, ставшая одной из самых могущественных женщин Средневековья. Она популяризирует придворную любовь при дворах во Франции и Англии, способствуя превращению литературной игры в образ жизни.
В пятнадцать лет, глубоко проникшись идеями и взглядами трубадуров, Алиенора становится графиней Пуатье и герцогиней Аквитанской и — самой завидной невестой Западной Европы. Когда через две недели после ее свадьбы с наследником французского трона умирает ее свекор, Алиенора в свои неполные двадцать лет становится королевой Франции. Начинается ее необыкновенная, полная тревог жизнь. Алиенора пытается перенести в мрачный парижский дворец и привить там хоть что-нибудь из поэзии и очарования той атмосферы, которая царила при дворе ее отца, но ее рассудительный и глубоко религиозный муж не интересуется такими вещами. Позднее она обнаруживает, что выходила замуж за короля, а получила в мужья монаха. Когда Людовик VII в 1147 году решается лично возглавить Второй крестовый поход, заскучавшая молодая королева решает сопровождать его в этой долгой тяжелой экспедиции, стремясь увидеть что-то новое и сбежать от надоевшего парижского этикета. Чувственная Алиенора втягивается то в одни любовные отношения, то в другие и после множества приключений и тягот возвращается в Париж, обогащенная жизненным опытом. В 1152 году супруг готов отпустить королеву, поскольку она не родила ему наследника. Алиенора получает назад свои титулы и земли и превращается из неверной жены в верную подданную. Она начинает в полной мере наслаждаться свободой и вести жизнь, о какой давно мечтала. Если судить по портретами, даже в среднем возрасте Алиенора Аквитанская — женщина сильнейшего физического обаяния, с грациозной фигурой, прямым тонким носом, овальным лицом и полными губами.
При обновленном дворе Пуатье частыми гостями становятся философы, поэты, молодые рыцари и юные придворные дамы, приезжающие научиться искусству остроумной беседы, грации и куртуазным манерам. Здесь из утонченных нравов и привычек, игр и музыки, рыцарства и искусства любви, галантности и философии складывается совершенно неповторимый стиль жизни. И здесь же возникает и развивается особый вид формальной театральной игры, получившей название любовный суд: в рамках псевдоюридической процедуры влюбленный или его дама могут выдвинуть обвинение или получить защиту в спорном вопросе. Женщины и мужчины, проявляя взаимное уважение, обсуждают формы обхождения, этику и эстетику любовных отношений.
Многочисленные вымышленные и поэтические изображения придворной любви (равно как и достоверные случаи) документируются в трактате De arte amatoria et reprobation amoris («О любви и средстве против таковой»), вышедшем из-под пера придворного священника Андре ле Капелена (Андреаса Капеллануса). В этом поучительном и разоблачительном литературном памятнике любовь изображена как добродетельная и важная тренировка души, а притворная страсть представляется немыслимой. Капелланус видит в женщине не добычу, а охотницу, а в мужчине — не завоевателя, а покоренного. Но во всем прочем этот трактат — не что иное, как превосходное краткое руководство по придворной любви, в котором найдется все: непоколебимая верность рыцаря своей возлюбленной; акцент на приятные манеры и правила придворного поведения; покорность мужчины женщине на стадии ухаживания; нежность и понимание, необходимые в любовной игре; духовный идеал влюбленности.
Любовный суд
Весьма интересен небольшой отрывок из этого трактата, касающийся любовного суда (том II, глава VII). Дамы занимают места присяжных в церемониальном зале замка Пуатье, придворные рассаживаются на каменных скамьях вдоль стен. Представители анонимного истца и ответчика приводят свои аргументы, затем дамы обсуждают обстоятельства дела и выносят решение. Автор цитирует двадцать одно заседание, по-видимому, выбрав из тех, на которых он лично присутствовал. В небольших извлечениях он с удивительной отчетливостью отразил сложную мораль придворной любви. Вот, например, одна приведенная им история.
Некий рыцарь несказанно любил одну женщину и обладал ею во всех отношениях. Однако женщина не отвечала ему той же любовью. И вот рыцарь захотел с ней проститься. Однако женщина не дала согласия, она хотела, чтобы он принадлежал ей как прежде. На этом заседании графиня (имеется в виду графиня Мария) вынесла такое решение: «Желание женщины — дурное и постыдное. Она требует для себя большой любви, но сама не хочет платить за нее столь же сильным чувством. Безрассудно и несправедливо желать от других людей то, чего ты сам отказываешься дать».
Другой случай. Один рыцарь вожделеет любви женщины, но та не желает отвечать на это чувство и выслушивать его мольбы. Рыцарь преподносит ей роскошные украшения, и женщина принимает их — со свойственной ей алчностью. Но и после этого не хочет дарить мужчине свою любовь. Рыцарь свидетельствует: приняв подарки, она дала ему надежду на любовь, а теперь снова хочет отнять ее, хоть он ничем не провинился. Королева Алиенора выносит в этом случае следующее решение: женщине не следует принимать подарки и украшения от влюбленного, а если уж она сделала это, ей придется вознаградить рыцаря ответными любовью и благосклонностью. В противном случае она ничем не отличается от продажной девки.
Еще на одном заседании по делу, рассмотренному 1 мая 1174 года, Мария Шампанская однозначно и без всякого сомнения решает вопрос, возможна ли настоящая любовь между супругами.
Мы ясно заявляем, что любовь супружеской пары не способна обнаружить всю свою силу, ибо любящие совершают все добровольно и не находятся под принуждением, тогда как состоящие в браке обязаны исполнять желания друг друга и ни в чем друг другу не отказывать. И как может супруг повысить свой общественный авторитет путем любовного служения своей собственной жене, будто она его возлюбленная, если невозможно внутренне совершенствоваться и добиваться большего признания за счет того, чем обладаешь изначально? Это подкрепляется также и тем обстоятельством, что правила любви не позволяют ни одной замужней даме принять от возлюбленного награды и отличия, пока она, как это и полагается, не примкнет к военному походу любви вне брака. Следующее правило любви учит, что никто не может любить сразу двоих, и поэтому любовь между супругами не имеет правового статуса. Есть и еще одна причина, отрицающая супружескую любовь: между мужем и женой не существует истинной ревности. Но без ревности не бывает истинной любви, о чем свидетельствует другое правило: «Кто не испытывает ревности, тот не любит». Это принятое нами после долгого совещания и с одобрения многих других дам и оглашаемое теперь решение является непреложно истинным, и его полагается исполнять.
Новый идеал любви
Кодекс любви Андреаса Капеллануса может считаться литературным памятником историко-культурного значения. Изложенное в нем двадцать одно правило придворной любви образует правовую основу при рассмотрении дел любовным судом. Например: «Любовь, о которой стало известно, продержится недолго». Или: «Легко завоеванная любовь в большинстве случаев мало ценится, но любовь, завоеванная с трудом, возвышается». Или: «Получение чего-то от любящего против его воли никогда не приводит к добру». Или: «Кто любит по-настоящему, тот хочет обладать только своей любимой». Или: «Любовь ни в чем не может отказать любви».
Основной закон «брак — не препятствие для любви» не так безобиден, как кажется. Он объявляет войну важнейшему принципу общественной жизни, дискредитирует и отрицает брак. Ни к какому другому закону дамы, заседавшие в суде, не обращались так часто. Они настолько серьезно используют его в качестве охранной грамоты против равнодушия и сердечной небрежности супругов, что каждый женатый мужчина должен рассматривать его как личную угрозу. Как супруг, он теряет привилегию верности, поскольку закон любви признает ее лишь за любящими.
Обсуждаемые в суде вопросы — не поэтического свойства, они регулируют деликатные отношения между полами. Историк Анри Мартен считает, что любовные дворы Средневековья были устроены уникальным образом: «Любовь, которую приравнивали к науке и религии, получила свой кодекс законов, свое, так сказать, каноническое право, и женские трибуналы пытались применить это право так же, как церковь применяла свое».
На любовном суде рассматриваются забавы, испытания и проблемы, возможно, порой незрелые или надуманные, однако таинственность и прелюбодеяние, составляющие привлекательный фон придворной любви, дают почву для новых ценностей, применимых также к вполне законным отношениям. Во время игровых процессов дамы и придворные пытаются определить верность и ответственность. Они выступают за любовь, состоящую не только из развлечений и приятного времяпрепровождения, — отметая разочарования и заблуждения, участники суда придают этому чувству более высокую ценность: теперь желания любимого или любимой следует уважать так же, как свои собственные.
Тем не менее нельзя забывать, что это всего лишь игра с особыми правилами и обычаями. Наверняка молодые аристократы не всегда принимали ее всерьез, а чаще лишь изображали чувства, которых вовсе не испытывали. Наверняка и дамы при дворе могли только мечтать об идеалах, которые в те времена были еще неосуществимы. Но при этом все они выступали за новый образ жизни, разрушавший феодальную систему, которая отличалась жестокостью по отношению к женщинам. В этом смысле трактат Капеллануса — не только руководство к сложной игре, но и манифест эмоциональной революции.
Радостная и изысканная жизнь при дворе Пуатье длится всего четыре года, а потом ей приходит внезапный конец. Алиенора, и раньше охотно участвовавшая в политике, попадает в пучину интриг и измен, и ей приходится принять на себя регентство в Англии, поскольку ее сын Ричард Львиное Сердце в это время находится в крестовом походе. Однако куртуазная любовь на этом не заканчивается. Напротив, когда замирает придворная жизнь в Пуатье, Мария Шампанская, дочь Алиеноры, при своем собственном дворе в Труа учреждает похожее общество, а кроме того, выступает покровительницей поэтов, тем самым содействуя распространению придворной любви. Большинство приговоров любовного суда и самые смелые прецеденты дошли до нас именно от Марии. Ее двор велик — временами на суде заседают до шестидесяти дам.
Именно графине принадлежит идея превратить кодекс придворной любви в романтическое произведение, которое затем приобретает огромную популярность и на которое ориентируются все последующие романы о рыцарях, добивающихся благосклонности дам. Автор этого произведения — Кретьен де Труа, придворный Марии и самый знаменитый поэт средневековой Франции. Его книга «Кавалер телеги» — версия истории о Ланселоте и Гвиневре, одно из первых крупных сочинений на французском языке, использующих полюбившуюся многим сагу о короле Артуре.
Успех книги так велик, что французские поэты долгое время используют лишь один стиль — романтическое повествование. Эти произведения вытесняют лирику трубадуров и служат средством выражения идеала и жизнеощущения господствующего класса. Мария поручает Кретьену написать любовный роман, подробно указав, как именно нужно изобразить куртуазное чувство. В тысячах и тысяч строк описывается, как Ланселот и Гвиневра страдают, пребывают в смятении, преодолевают трудности, совершают благородные поступки, наслаждаются свиданиями, обводят общество вокруг пальца и, в конце концов, празднуют победу над всеми земными преградами, которые вставали на пути их запретной любви.
Роман становится основой всех рыцарских историй о служении во имя любви. В нем изобретено все то, на что рыцари западного мира — в первую очередь Ульрих фон Лихтенштейн — ориентировались в реальной жизни. Снова и снова сочинители историй и певцы пересказывают легенду о короле Артуре, притягательная сила которой неодолима. Похожие легенды рассказываются на протяжении веков, приобретая все новые формы и редакции. Они занимают Джеффри Чосера, преследуют сэра Томаса Мэлори и Эдмунда Спенсера[14], они связываются с пылкой религиозностью легенды о Граале, всплывают в различных образах у Данте Алигьери («Божественная Комедия»), Жан-Жака Руссо («Новая Элоиза») и Рихарда Вагнера («Тангейзер», «Парцифаль»). Вильгельм IX, герцог Аквитанский, его внучка Алиенора и правнучка Мария внесли в культуру изменения, повлекшие за собой непредвиденные последствия.
От возвышения к упадку
Песни и стихи трубадуров и миннезингеров не в последнюю очередь противоречат аскезе, доминировавшей в культуре того времени. Миф о Тангейзере отчетливее всего говорит о мужчине, который разрывается между страстной физической любовью и благочестивым целомудрием. Исторически достоверный миннезингер Тангейзер жил в Тюрингии с 1228 по 1265 год. Окутанная тайной легенда о нем — должно быть, из-за полнокровной эротики в творчестве Тангейзера, — повествует о жизни поэта в гроте мифической Венериной горы (гора Герзельберг близ Эйзенаха). Тангейзер воспевает богиню любви Венеру, и она принимает его в своем подземном дворце, населенном фавнами и вакханками. Там миннезингер упивается любовью в объятиях богини. Однако праздная жизнь ему надоедает, и он жаждет вернуться в мир людей. Венера пытается удержать певца, но он сопротивляется и развеивает ее чары. Достаточно было воззвать к Марии, и царство Венеры погрузилось в пучину, а Тангейзер снова оказался в долине перед замком Вартбург. Отсюда певец возвращается к ландграфу и своим друзьям.
Елизавета, племянница ландграфа Германа Тюрингского, владельца Вартбурга, тайно влюблена в миннезингера. Она надеется, что в состязании певцов, девиз которого «подлинная любовь», он выиграет приз — ее руку. Елизавета признается Тангейзеру в любви, однако о том, кто он такой на самом деле, женщина узнает лишь во время состязания. Вольфрам фон Эшенбах, Вальтер фон дер Фогельвейде и другие певцы прославляют чистую любовь, добродетельное и высокое придворное чувство, однако Тангейзер видит истинную суть любви в плотском наслаждении. Участники состязания возмущены кощунством, и Тангейзер теряет самообладание. Он признается, что был в гроте Венериной горы и заводит свою оду богине любви. Елизавета защищает его от гнева других певцов, однако ландграф настаивает на том, чтобы Тангейзер отправился в паломничество в Рим просить у папы отпущения грехов. Папа отказывает миннезингеру, говоря, что скорее его посох пустит свежие побеги, чем Тангейзер обретет спасение души.
Лишь смерть способна искупить преступление Тангейзера. Поэтому Елизавета просит Богоматерь принять ее жизнь в расплату за святотатство певца, чтобы тот получил прощение на небесах, и эта молитва услышана. Тангейзер возвращается из паломничества обессиленный. Полный ненависти к миру, изможденный, он страстно желает одну лишь Венеру, призывает ее, и богиня появляется. Однако он называет имя Елизаветы, и чары разрушаются. Венера исчезает навсегда. В этот момент к нему приближается похоронное шествие, Тангейзер замертво падает на гроб Елизаветы, а из Рима возвращаются пилигримы с вестью о том, что у папы расцвел посох и душа певца спасена.
Вот содержание романтической оперы Рихарда Вагнера, сочетающей в себе различные варианты легенды о Тангейзере. Но во всех мифах речь идет о жестоком конфликте между религией и эротикой. Тангейзер узнает о непримиримости чувственной и духовной любви, о несовместимости Венеры и Елизаветы. У него нет выхода. Дионисийская суть гонит его к разврату, опьянению и экстазу. Он блуждает между сферами «высокой» и «низменной» любви, между Герзельбергом и Вартбургом. Тангейзер — мятежник, но мятежник неприкаянный. Он покинул Елизавету, чтобы найти идеал свободной любви, однако, пресытившись ее безумной чувственностью, тут же затосковал по человеческому миру с его болью и страданием. Рыцарский идеал любви, рыцарский кодекс, которые он нарушает, перестают влиять на него. Только Елизавета, самоотверженно любящая женщина, способна избавить Тангейзера от раздвоения и в конце концов спасти певца.
В «Тристане» Готфрида Страсбургского рыцарство решительно отказывается от христианства и обретает истинную наглядность. Это произведение — гимн средневековой придворной любви. «Тристан» с его блистательной свободой возвышается над всеми религиозными барьерами и таким образом свидетельствует о зарождении новой этики, полностью ориентированной на служение любви. Для Готфрида Страсбургского куртуазная любовь обладает неограниченной властью и воздвигает собственную империю. Влюбленные Тристан и Изольда принадлежат друг другу, несмотря на все запреты. Автор отвергает низменную любовь, но еще больше ему ненавистен трусливый компромисс, возможность довольствоваться томлением и тоской.
Главное для Готфрида — тотальность любви; она целиком захватывает человека, преодолевает все препятствия и предполагает верность до самой смерти. Такое чувство достигает апогея в полном слиянии любящих. А поскольку Готфрид знает, что это несовместимо с церковным учением о спасении, он принимает сторону мирского. Единение между религией и любовью заканчивается, ибо любовь сама становится богиней, владычицей империи чувств. Наступает блистательный апофеоз божественного эроса.
Когда эпоха миннезанга клонится к закату, рыцари продолжают странствовать и зарабатывают хорошее вознаграждение, сражаясь в честь многочисленных дам. Служение любви становится лишь турнирной забавой, превращается в фарс. Между тем экономически сословие рыцарей уступает развивающейся буржуазии, и потому богатых торговцев допускают к придворным спорам о любви. Ученые разговоры доминируют при «любовных дворах», появившихся чуть позже, в них участвует вся высшая европейская знать. Здесь еще обсуждается содержание прежних произведений о любви, однако все большую популярность приобретают сатирические сочинения, высмеивающие новые формы этого чувства. Их авторов из интереса поддерживают крупные аристократы.
Хороший пример нарастающей путаницы — знаменитый «Роман о Розе» (ок. 1237), дебют поэта Гильома де Лорриса. Произведение замышлялось как дань придворной любви, однако автор умирает, написав всего лишь 4266 строк. Спустя сорок лет роман завершает поэт Жан де Мен (Жан Клопинель), который добавил еще 18 000 строк — исполненных, однако, цинизма, шуток и сатиры.
«Роман о Розе» считается манифестом искусства любви: с большим пристрастием к парадоксам и сюрпризам в этом многослойном произведении повествуется обо всех видах поведения, которые возможны в любви. В центре сочинения — сон юноши, влюбленного в молодую женщину. Она воплощена в образе Розы, символе любви. После первого поцелуя молодой человек отвергнут, и ему приходится приложить немалые усилия и преодолеть множество преград, прежде чем он — вслед за Амуром — завоюет Розу и сможет заключить ее в объятия. Стрела любви, которую Амур запустил ему в глаз, пробудила все особенности этого чувства: юноше становится ясно, что страсть порождается созерцанием любимой. Роман заканчивается победой бога любви, но здесь, автор кривит душой. Слишком очевидно, что Жан с презрением относится к женщинам и романтике, и сочинение, начинавшееся романтической поэзией, заканчивается цинично и легкомысленно.
Подобная погоня за эффектом показывает, что придворная любовь празднует свой триумф, а средневековое общество раскалывается и симптомы его амбивалентности по отношению к сексуальности и любви проявляются все отчетливее. В принципе в Средние века выбирать можно лишь из двух вариантов: либо придворная любовь с мучительным и часто незавершенным сексуальным выражением либо лишенный эмоций половой акт в скуке супружеской постели или в преступной греховности. Чем больше люди пытаются связать любовь с высокими моральными качествами, тем шире становится пропасть между двумя путями этого чувства и тем более неопределенным кажется само понятие любви.
Революция и ее последствия
Придворная любовь зарождается между 1100 и 1400 годами как образец эротического чувства. Поток баллад, песен, стихов, духовных сочинений и философских трактатов способствует бесконечному торжеству любви. Она оказывает влияние даже на своих противников, критиков, насмешников — их немало, и они ясно дают понять, сколь угрожающими считают новые идеи, их популярность и притягательность. Так, в XIV веке рыцарь Жоффруа де ля Тур Ландри пишет в Анжере примечательную книгу, и цель он себе ставит недвусмысленную: «научить дочерей традициям любви». В действительности работа содержит ряд предостережений, чтобы дочери не уклонялись от тропы добродетели. Рыцарь описывает все опасности (например, искушение любовного шепота, поцелуев и тому подобного) так дотошно, что становится совершенно ясно, какой мощью обладает придворная любовь и насколько сильно переживает из-за этого консервативный отец.
Однако в опасности оказывается не только целомудрие юных дев — идеал придворной любви таит в себе крамолу. Порой даже кажется, что он высмеивает религию и систему брака, во всяком случае ослабляет власть, которую они имеют над обществом. Дамы, участвовавшие в любовном суде при дворе Пуатье, решительно отвергали брак и прославляли прелюбодеяние. Трубадуры, называвшие своих дам мадоннами, оказались слишком близки к богохульству. А у Кретьена де Труа мы находим довольно дерзкую сцену, в которой Ланселот приходит в комнату к Гвиневре, проводит с нею в постели несколько часов «приятной и сладкой игры», а на прощание кланяется и опускается на колени, словно перед алтарем или святыми мощами. Сам по себе кодекс придворной любви далек от богохульства, но он отождествляет любовь с женщиной — а этого отцы церкви боятся, как черт ладана. Фома Аквинский заходит дальше других, категорически заявляя, что целовать женщину или прикасаться к ней с вожделением, даже если соития при этом не происходит, — смертный грех.
Придворная любовь начинается как игра, а заканчивается как образ жизни. И все же о «конце» куртуазной любви говорить неправильно: начиная с XI века, она определяет понятие любви в западном мире. Придворная любовь не теряет своего влияния — временами она становится слабее, но затем снова набирает силу. Дени де Ружмон[15] в своей книге «Любовь и Западный мир» (1939) утверждает, что придворная любовь с самого начала была ошибкой и, развиваясь, становилась только опасней. Она оказывала пагубное воздействие на общество, поскольку убеждала мужчину в том, что он беззаветно влюблен, что им владеют роковые чувства. Из-за этого он становится немощным, несчастным и меланхоличным. Для де Ружмона такая любовь есть не что иное, как «угнетенная тоска по смерти». Закрепившись благодаря Элоизе и Абеляру, Тристану и Изольде, она стала вечным проклятием, возбуждая жажду испытать страсть и погибнуть. Ведь все любовные истории заканчиваются роковым финалом.
Впрочем, мы не должны идти на поводу у подобных оценок. Вначале в такой любви присутствуют нежность и мягкость, порой преувеличенные и абсурдные в своем выражении, но все же исполненные значения. Да, подобная любовь может привести к прелюбодеянию — но она как ничто иное подчеркивает верность в отношениях между женщиной и мужчиной. В них особую роль играют взаимное внимание и восхищение. Придворная любовь связывает эротические ощущения с нравственным прогрессом.
Дени де Ружмон усматривает в романтическом идеале неизбежный ущерб, наносимый институту семьи, но упускает из виду, что средневековый брак — не союз преданных друг другу влюбленных, не результат взаимного вожделения, а всего лишь отношения между господином и служанкой, между владельцем и его собственностью. Такое понимание брака не будет соответствовать нашим чувствам до тех пор, пока статус женщины в обществе коренным образом не изменится. И как раз придворная любовь — при всех ее недостатках, со всеми присущими ей эротическими и невротическими составляющими — приблизила это изменение.
На исходе Средневековья, к концу XIV века, женщина вторглась в сознание мужчины феодальной эпохи и стала завоевывать новый статус — статус принципиального равноправия с ним. Теперь она необходима не только для продолжения рода, не только как объект вожделения и утоления мужских прихотей. Флирт и греховное очарование повысил статус средневековой женщины, что в конечном счете привело к преображению брака. Однако этот процесс идет медленно, шаг за шагом, ибо церковь постоянно нашептывает мужчине: а кто такая женщина на самом деле — небесная Мадонна или ведьма на службе у сатаны? А может быть что-то третье?
Власть Мадонны
С. 77. Епископ возлежит с женщиной, а обманутый муж — под кроватью (фрагмент).
С. 78. Дитмар фон Айст, переодетый торговцем, добивается расположения дамы при помощи своих товаров. Манесский песенник, ок. 1300 г.
Образ женщины и понимание брака
В Средние века отношение к женщине двойственно. Церковь причисляет ее, как и мужчину, к «мистическому телу Христову», допускает ко всем таинствам и благословениям (исключив возможность получить сан священника) и почитает святых женского пола, а Марию считает посредницей между Богом и человеком. Необыкновенные женщины — как, например, Хильдегарда Бингенская, прославленная современница Бернара Клервоского и Фридриха Барбароссы[16], — становятся уважаемыми, если они публично возвысили свой голос и поставили на место как церковных, так и мирских князей, даже пап. Восхищаются и теми женщинами, которые обладают научной или литературной одаренностью. Особой защитой со стороны светского и церковного права пользуются монахини.
Тем не менее женский пол по сравнению с мужским считается неполноценным. Это неудивительно во времена, когда высшая честь — сан священника и слава, добытая оружием. Рыцарское общество ценит «нежных, невинных женщин», однако между поэзией и реальностью жизни наблюдается несомненное противоречие. «Достойная любви» женщина, которой рыцарь поклоняется с религиозной страстью, лишь в редких случаях становится его женой или подругой для развлечений на сеновале. Благородные девицы и дамы высокого положения, служащие украшением празднеств и турниров, остаются в постоянном подчинении у главы дома — сперва отца, а потом мужа. Их ревностно охраняют, нередко с ними плохо обращаются и подвергают насилию.
За рамками стилизованного ритуала придворной любви пол и все, что касается пола, рассматривается преимущественно как греховное и омерзительное. Женщины испытывают сексуальный голод и ненавидят его; в моменты наслаждения они чувствуют себя виноватыми. Только в браке прихоти тела могут утоляться на законной основе, хотя даже в этих условиях плотское желание считается греховным. И несмотря на божественную заповедь плодиться и размножаться, брак возвышает лишь тех, кто готов соблюдать множество болезненных ограничений в рамках супружеских отношений.
Такое положение, кстати говоря, касается только женщин. Точка зрения, что и мужчина должен жить моногамно, редко реализуется на практике. Как правило, моральные представления в этом отношении не отличаются строгостью, и потому велико число внебрачных детей, зачатых с девушками из низших слоев общества. Как жена, женщина из аристократической или буржуазной среды получила защиту лишь на исходе Средневековья, когда Тридентский собор определил, что действующий брак должен заключаться священником и в присутствии свидетелей.
Не требуется много фантазии, чтобы представить, что женщинам едва ли удавалось разрешить свою дилемму, но именно усиливающееся давление на них способствует появлению нового, романтического понятия любви.
Согласно христианской морали женщина небездушна, однако ей надлежит проявлять пассивность и покорность в мире мужчин, если она хочет, чтобы ее ценили. Ей также следует смиряться с телесными наказаниями. Когда Абеляр приходит в дом дяди Элоизы, чтобы стать учителем своей будущей возлюбленной, ему предоставляют право наказывать семнадцатилетнюю девушку. Насилие здесь проявляется не в половом акте, а в демонстрации презрения, столь характерного для XII века: если женщина недостаточно быстро и ревностно осваивает мужской образ мышления (а Абеляр был философ и богослов), ее ждет телесное наказание.
Отцы церкви — женоненавистники
Итак, церковь с презрением относится к женщинам из-за того, что они якобы духовно и нравственно неполноценны. Она признает за мужчиной право на телесные наказания, принуждающие женщину к послушанию, подчинению и терпеливому отношению к несправедливости. Однако почему теологи вообще рассуждают о женщинах, эротике и браке? Может, у церковников — из-за того, что они всю жизнь проводят в благонравном целомудрии, — искаженные представления о сексуальности? Или речь идет о представителях духовенства, которые, несмотря на свои обеты, часто и охотно вступают в связь с женщинами и, несмотря на это или именно в силу этого обстоятельства, женщин презирают? Так или иначе, их рассуждения подобны разговору слепых о цвете или возне в нечистотах собственной фантазии. Они охаивают женщин, чтобы облегчить молодым клирикам отказ от брака («виноград-то зелен!»). Бесчисленные религиозные сочинения изображают женщину слабой, склонной к грехопадению, таящей опасность для мужчины, олицетворяющей соблазн.
Многие женщины ищут защиты от мужского господства и насилия со стороны общества мужчин, укрываясь за стенами монастырей или во дворах религиозной секты бегинок[17], чтобы не связывать себя обетами. Начиная с VIII века, знатные дамы часто становятся основательницами монастырей. Кроме того, появляются «служанки Бога», «женщины под покрывалом» и «посвященные Богу», не вступающие в брак и не покидающие свои родовые замки. До возраста «старой девы», который начинается на двадцать пятом году жизни, женщине не дозволяется давать нерушимые обеты и отрекаться от мира. Но если этот шаг все же сделан, женщина вдруг приобретает большой почет: церковь, упорно принижающая статус мирской женщины и называющая ее «сосудом греха», парадоксальным образом признает за ней такое же право на уединенную жизнь, как и за мужчиной. К тому же в монастырях и бегинских общинах представительницы прекрасного пола приобретают несопоставимо больше прав и свободы, чем их мирские сестры, так что их положение зачастую намного лучше, чем положение замужних женщин.
Скепсис по отношению к слабому полу, выпавший на долю мирской женщины Средневековья, формулируется богословами уже на самых ранних этапах существования церкви. Могущественные святые отцы столетиями учили, что женщина есть существо неполноценное, неудачный вариант мужчины. Впрочем, основной тон, который подхватило христианство, был задан еще Аристотелем, писавшим, что похоть высасывает у человека разум. Блаженный Августин согласен с отвержением плоти, с проекциями собственной испорченной и не поддающейся укрощению сексуальности на теологию. В его труде «О благе брака» проводится черта между невинным супружеским актом, необходимым для зачатия, и непростительным, служащим утолению чувственности. «Прелюбодеяние и распутство несут в себе смертные грехи. А посему воздержание от всякой половой жизни ценится определенно выше, чем даже супружеский, служащий зачатию, акт любви». Фома Аквинский решительно заключает, что в браке мужчина несет лишь потери. Супружество якобы можно оправдать лишь известной пользой, которая его сопровождает. За подобными утверждениями следует безоговорочное церковное проклятие, вульгаризирующее сексуальность в целом. Вместо того чтобы дать эросу приют на небесах, его вытесняют в ад.
Фома считает даже, что мужчина в вожделении подобен животному, а во время совокупления — зверю, и вину за это возлагает, разумеется, на женщину. Мужчина отделяет сексуальное желание от себя и проецирует его на женщину: это она соблазняет его, толкая к греху, к сексуальности, к плотской похоти. Постель — место, где мужчина подвергается опасности дьявольского искушения. Вожделение, которое, согласно Фоме, всегда сопровождает супружеский акт, есть мерзость. Женщина может быть полезна только в домашнем хозяйстве и для заботы о детях. Сваливая на женщину дьявольские инстинкты, которые терзают его самого, мужчина получает возможность не обращать на них внимания.
Адское пренебрежение к телу
Отсюда рождается необходимость в психологическом и теологическом обосновании постоянной борьбы главных богословов и философов Средневековья за целомудрие и святую чистоту. Их теоретические построения запрещают мужчине видеть в реальных женщинах душу, а не только плотскую оболочку, по-настоящему признавать их, а не воспринимать исключительно как искушение ко греху, отказ от аскезы или средство размножения. Душа мужчины, который прикасается к женщине, низвергается с высот благородства и чистоты, утверждают эти богословы. Его тело попадает во власть женщины, а это есть рабство более тяжкое, чем любое другое. Простонародью, правда, можно забавляться любовью, но оно навсегда остается отлученным от «чистого блаженства» целомудрия.
Учение августинцев о первородном грехе держит теологов в силках детских представлений о мире и в течение полутора тысячелетий чинит препятствия экзистенциальной этике, основанной на чувстве ответственности перед самим собой. Вызывающее ужас представление о первородном грехе, на который обречены все люди за небольшим исключением, было неведомо до IV века. Но с тех пор им постоянно подпитывали страх перед адскими муками. Фантазии о преисподней, просуществовавшие тысячу лет Средневековья, объясняют техническое совершенство сегодняшних пыток. В широко известном видении Тундала, которое дошло до нас из преданий ирландских монахов XII века[18], ад представляется темной котловиной, наполненной горящими углями и закрытой огромной железной крышкой, под которой поджариваются бесчисленные грешники. Жидкость, исторгнутая из них жаром, капает на раскаленные угли, испаряется, и в зное этих испарений грешные души возрождаются для новых мучений.
В начале XIV века Данте Алигьери изображает в своей «Божественной комедии» город-ад Дит, который населяют тысячи чертей. Он сияет на темном фоне адской ночи в ярко-красном зареве огня, в котором изнывают еретики, — ни дать ни взять ранний Освенцим. Дит похож на беспрерывно работающий крематорий.
Это пробуждение и подстегивание фантазии, подпитка воображения садистскими картинами создает на протяжении веков преисподнюю особого рода: ад презрения к человеку, к женщине, к телу. Страх перед сатаной и вера в преисподнюю придавали христианству и церкви невротическую окраску и не раз ввергали общество в коллективную паранойю.
Чем настойчивее умалялось значение тела и чувства, сексуальности и желания, тем сильнее выступали на первый план душа, потусторонний мир и вечное блаженство. Когда страх смерти и проклятия вытесняет опасение прожить свою жизнь не в полную силу, возникает противоречивая ситуация. Фридрих Ницше противопоставляет церковному memento mori предостережение, чтобы перед лицом смерти не забывать и жизнь: memento vivere[19].
Немецкий философ Петер Слотердайк в своей «Критике цинического разума» рассказывает средневековую историю, центральное место в которой занимают земные интересы. Влюбленный добивается расположения красивой молодой женщины, однако, беспокоясь о своих душе и целомудрии, она вновь и вновь ему отказывает. Ее противодействие поддерживает местный священник, постоянно напоминающий ей о необходимости сохранять добродетель. В один прекрасный день священнику пришлось уехать в Венецию, и он велит женщине поклясться, что в его отсутствие она не уступит слабости. Дама обещала быть твердой, но при условии, что священник привезет ей зеркало — в то время Венеция славилась зеркалами. Женщина действительно устояла против всех соблазнов во время отсутствия священника, однако после его возвращения спросила у святого отца о зеркале. В ответ священник извлек из складок своей сутаны череп и цинично поднес его к лицу молодой женщины: тщеславная баба, вот он, твой истинный облик! Подумай, ведь тебе придется умереть, а перед Богом ты — ничто. Женщина содрогнулась от ужаса и в ту же ночь отдалась своему возлюбленному. С тех пор она наслаждалась его обществом, предаваясь радостям любви.
Как Мария становится Мадонной
Ощутимее всего положение средневековой христианки выражается в культе Марии, который в те времена достиг полного расцвета. При этом почитание Богородицы получает множество ложных толкований и поначалу это всего-навсего вариант служения прекрасной даме, перенесенный в потусторонний мир. Томное ухаживание за высокопоставленной дамой, пылающие краски тайных радостей, секрет, окутывающий женщину, и трепет, связанный с ее чувственностью, относятся теперь к Марии.
Изображения и рассказы зафиксировали, как Мария становится Мадонной, как из суровой Матери Божьей превращается в «нашу любимую», стоящую к человеку едва ли не ближе самого Бога. Она утрачивает старые языческие черты и больше не считается богиней, она превращается в христианскую икону. Из «благословенной в женах» она становится «несравненной среди женщин».
Католическая Мадонна, предмет народного поклонения, имеет мало общего с юной девушкой из Назарета, о которой повествуют Евангелия, однако и отдельная каноническая мариология не оставляет в сознании верующих почти никаких следов. Средневековые певцы или мистические писательницы — такие, как Мехтильда Магдебургская[20], — обращаются к ней как к богине («Фрове, благодатная богиня»[21] — называет ее Мехтильда в своих откровениях). Пусть в догматическом смысле такое обозначение проблематично, оно точно характеризует значение Мадонны в католической духовности.
Стили и настроения художественных изображений Девы Марии документально свидетельствуют о развитии и изменениях, происходивших не только в Средневековье с его чудесами и видениями, но и в течение двух тысячелетий всей истории христианства. Мария все больше становилась Мадонной. Попытки облагородить ее чувственность и тем самым сексуальность людей вообще потерпели поражение. Фантазии верующих и молящихся мечтателей и художников всегда сильнее, чем логика.
Все изображения Девы Марии наполнены телесной выразительностью, подчеркнутой округлостью. На всех — от самых ранних, что найдены в катакомбах Присциллы[22], до тысяч романских и готических картин — Мадонна, как строгая, так и ласковая, разительно отличается от других женщин. Художники стремились изобразить исторически достоверную женщину, предназначение которой уникально — она избрана для того, чтобы родить Бога. Поэтому на многих средневековых картинах Дева Мария представлена в одеянии страстного синего цвета.
Плод ее чрева дает человечеству возможность возродиться заново, Мария становится новой Евой. В готике постепенно исчезает аура мифического — до «нашей бесподобной» остается лишь один небольшой шажок.
Поскольку образ женщины как символ церкви претерпевает в ходе веков многочисленные изменения, некоторые изображения Марии может объяснить лишь духовно-исторический фон. С конца III века святые отцы ссылаются в своих писаниях на «матерь-церковь». Это восходит к понятию альма-матер, кормящей матери, уже служившему прозвищем римских богинь, в частности Геры. Кроме церкви, это почетное обозначение получает также университет. Поначалу церковь отмахивается от идентификации с матерью. Однако в раннем Средневековье этот образ вовсе не связывается с любовью, становясь символом господства духовенства. Таким образом, власть даровать благодать возложена исключительно на мужчин, женщины от нее отлучены.
Параллельно преображается и облик Девы Марии. Из иконы Богоматери, родительницы Бога, она постепенно становится идеальным образом женщины — Мадонной. Одновременно с этим нарастает и презрение по отношению к женщине — придуманное и теоретически подкрепленное мужчинами.
Дева Мария и мужчины
Дева Мария и мужчины — щекотливая тема как минимум со времен всехристианского Средневековья, которое в Европе становится эпохой общественной, политической и церковной нестабильности. В мире и в душах людей царит атмосфера непрекращающейся тревоги. В XI и XII веках все отчетливее формируется образ Великой матери, начинается движение, связанное с культом Девы Марии, а теневую его сторону можно увидеть в отношении к ведьмам. Оба феномена — Дева Мария и ведьмы — имеют общий источник в образе Великой матери, который в эту пору оказывает устрашающее воздействие на сознание запуганных и встревоженных женщин.
Мужчины издавна испытывают двойственность женского начала. Искусство порой изображает лоно женщины как устрашающие врата ада — vagina dentate[23], как Хель[24], хозяйку царства мертвых, заглатывающую свои жертвы, а иногда — в виде сияющего венца, который окружает дароносицу. В мужских фантазиях отражаются первобытные страхи и надежды. Они, словно родовая травма, — женщина исторгает дитя из своего лона во враждебный внешний мир, и это равносильно окончанию материнской любви. С другой стороны, женщина существо дающее, защищающее, кормящее и согревающее. Она выступает как добрая и злая мать, как богиня жизни и смерти.
Совокупность представлений о Деве Марии в Средневековье — арена борьбы мужских фантазий, желаний и страхов. Инстинктивно мужчины понимают исконную силу первобытной, неукротимой женщины и ассоциируют ее с Марией. Зачатие происходит с помощью обезличенной силы, например, посредством контакта с животными типа змеи, птицы, быка, посредством поедания плодов, при помощи ветра, луны, Бога. Именно таким образом следует интерпретировать изображения Марии с голубем или единорогом на коленях.
Картины оказывают мощное воздействие на душу средневекового мужчины. Мария есть igne sacro inflammata — воспламеняющаяся от святого огня. Мужчины творят из этого богоподобного существа заступницу на небесах, а то и второй образ Спасителя. В качестве побочного психологического воздействия экзальтированный культ Марии позволяет монахам, давшим обет безбрачия, страшащимся секса и погрязшим в комплексах, воздвигнуть на алтарь собственную мать в образе Марии, а других женщин, как существа сексуальные, оправить в преисподнюю.
Так Дева Мария обретает место в душах европейских мужчин. Еще в прошлом веке в марианских конгрегациях ордена иезуитов мужчин призывали к целомудрию и сдержанности по отношению к женщинам. Это, возможно, не повредило бы им, если одновременно с целомудрием послушание матери-церкви не было бы вознесено до уровня сверхдобродетели.
В результате Мадонна становится символом клерикальной власти. Она побеждает змея-искусителя, дьявола, еретиков, протестантов и евреев. Господство Мадонны касается всего — от внутрицерковных дел до отношений между полами. Мария одерживает победу над приходящим в упадок миром — над мятежниками, отступниками, вольнодумцами, мечтателями. Она Maria Immaculata, воплощенное непорочное зачатие, свободное от всех страстей. Воля церкви — это ее воля, и Мадонна должна всегда поддерживать святых отцов.
Для мужчин победа Мадонны — своеобразная отдушина, помогающая переживать страхи, предрассудки и тягу к власти. Политический и эротический марианизм неотделимы друг от друга: Дева Мария побеждает не только дьявольское сексуальное влечение, она торжествует и над всеми врагами единственно благой католической церкви — над исламом, Лютером, светской наукой, высокомерием интеллектуалов, — то есть над самим дьяволом во всех его проявлениях. Императоры и короли, папы и епископы называют именем не знающей поражений небесной богини храмы, корабли и даже целые города, народы и нации. Мадонна должна царствовать надо всем, что восстает из глубин человеческих душ, из народного и исторического подполья.
Только у Марии
Культ Девы Марии не только укрепляет господство церкви, временами он сдерживает — хотя и не намеренно — притязания на власть и господство, свойственные исключительно мужскому характеру. В расцвет Средневековья католическая церковь, торжествующая победу, чувствует себя вполне уютно. В папской курии доминируют знатоки канонического и церковного права. Где же бедной душе найти защиту и убежище, к кому взывать, кого просить о помощи в нужде и притеснении? «Только у Марии», — таков основной мотив бесчисленных проповедей, такова тенденция популярной духовной литературы. Позднее Средневековье с его беспокойным течением времени почитает Марию в Покрове, который оберегает все человечество. Наибеднейший крестьянин, самый скромный священник найдут под Покровом «нашей бесподобной» убежище и защиту.
Мадонна становится единственной заступницей человека на суде перед Богом, а также в миру. Она с мольбой падает на грудь самому Христу, она усмиряет гнев Бога и Его святых наместников и на картинах позднего Средневековья, жалуясь, указывает Богу-отцу на свою грудь: не я ли вскормила Твоего сына? На небесах Мария в бесконечной любви и великом сострадании к человеку прибегает к своей материнской власти, чтобы все ее дети, все люди, избежали суровости Божьего суда. Мария на небесах и на земле одолевает ад в споре за душу против смерти и сатаны. Небеса изображаются на тысячах картин, в мистической розе готических кафедральных соборов и на алтарях Марии во всех церквях. Эти марианские небеса для многих верующих — единственно мыслимый христианский рай. Они вызывают доверие и утешают, изгоняют страхи и будят надежды — в католицизме они незаменимы.
Правда, такая точка зрения была бы справедлива для Марии, если бы она была лишена пола. Надежда церкви на вытеснение эротизма не оправдалась. Культ Марии слишком разрастается, а формы ее почитания становятся все пышнее. Начиная с первой половины XI века в Англии отмечают Праздник непорочного зачатия, а в конце того же века наряду с «Отче наш» читают «Аве Мария». Доминиканцы вводят четки для повторения молитв; возникают общины, посвященные исключительно Деве Марии. Религиозные ордены провозглашают ее своей покровительницей, рыцари бросаются в битву с ее именем на устах.
Не исключено, что фанатичная одержимость Богородицей порой приносит церкви больше вреда, чем пользы. Долгое время Деву Марию было трудно отличить от языческой богини-матери. Народная вера превращает ее в богиню плодородия, и эта характерная черта поклонения Марии продержалась во многих местностях вплоть до недавнего времени. Алтари Марии часто возводятся на месте прежних языческих капищ, и некоторые иконы считаются магическим средством для восстановления сексуальной силы.
Догматически строгая церковь вряд ли может относиться с одобрением ко многим чудесам Мадонны. Так, своим молоком Мария залечивает раны или помогает настоятельнице монастыря безболезненно разродиться и даже замять грозящий скандал. Очень смело высказался святой Альфонс Лигурийский: якобы Дева покрывает ночные прелюбодеяния своих сестер по полу, занимая их места в супружеских постелях. Показательный образец женской солидарности.
Когда в эпоху Возрождения средневековое чувство вины, связанное с эротизмом, блекнет, любовь к Марии тоже должна была бы ослабеть. Пожалуй, так бы и случилось, если бы Деву Марию почитали только как внеэротический образ смирения. Однако почитание Богородицы скорее нарастает: ей посвящают многие храмы и кафедральные соборы, праздников в честь Марии становится больше, и народ с ликованием приветствует появление каждого нового ее изображения. Мария не только Приснодева, но и царица, мать, заступница, спасительница наряду с Иисусом, богоподобный женский образ в небесах, где во всем прочем господствуют мужчины. Особенно она воспламеняет фантазию как невеста; в этой роли ее сравнивают с Суламифью — и не только в мистических интерпретациях Песни Песней.
Поклонение Марии находит место и в литературе. В «Божественной Комедии», шедевре средневековой литературы, законченном в 1321 году, Данте Алигьери объединяет высший христианский идеал с прославлением реальной женщины — Беатриче.
Данте предан Деве Марии, но одновременно дарит свою любовь прекрасной смертной женщине. На его взгляд, Беатриче соединяет в себе божественность и человечность, и его поклонение настолько велико, что строки, посвященные возлюбленной, не отличишь от гимнов деве и невесте Марии. В главе «Рай» Беатриче выведена наконец полностью одухотворенной — как символ божественной мудрости и благодати.
Чувственные радости омрачили бы любовь Данте к Беатриче, его эротической мадонне. В нем очень силен отпечаток христианской этики, он — слишком утонченный моралист и слишком сострадательная душа. Однако Святая Дева для Данте определенно не замена возлюбленной — его «донной» была и остается Беатриче, теплокровная женщина, которую он знает и любит на земле. В небесах же восседает Мария — как ее зеркальное отражение, как религиозное исполнение всех его томительных мечтаний, которым не суждено исполниться наяву.
Литературовед и социолог Марина Уорнер пишет: «Беатриче, сколь бы возвышенна она ни была, все же смертна. Святая Дева преображает человечество, просветляя его посредством самых неисполнимых и самых безнадежных мечтаний». Дева Мария в Средние века — это рождение и триумф мифа, приговор половому инстинкту, но в то же время просветление достойного поклонения эротического начала.
Эротическая мистика
Лирика странствующих певцов способствует раскрепощению в том, что касается интимных чувств. Она высвобождает даже самые сокровенные пласты религиозных переживаний. Теперь о любви распространяются крупные мыслители Средневековья, в том числе Бернар Клервоский с его волнующими намеками на Песнь Песней, Гийом де Сен-Тьерри, Гуго де Сен-Виктор[25], Пьер Абеляр. Они посвящают эротике бесчисленные трактаты и статьи, словно стремясь наверстать упущенные столетия. Песнь Песней становится вдохновляющим источником для религиозно-эротического образа мысли и чувствований.
Тоска человека по Богу подталкивает к волнующему и мучительному поиску новых возможностей приблизиться к Нему и даже объединиться с Ним. Начиная с XII века бесчисленные свидетельства мистических писательниц — в первую очередь Мехтильды Магдебургской, Хадевейх, Терезы Авильской[26] — фиксируют яркие, сильные, даже интимные переживания и отношения с Христом. Эмоциональность любви ко Христу находит разрядку в эротических картинах, нарисованных томящейся и почти гибнущей от любви душой, которая начинает тяжкое восхождение к Богу, вожделеет Его и в конце концов сгорает.
Созерцательная медитация, экстатические видения направлены на поиски и обретение любящего Иисуса, на желанное мистическое соитие — любовное переживание, эротическое постижение. Любовь становится центральной темой, которую мистическая писательница обсуждает, воспевает, но в первую очередь — проживает. Женщина превращается в возлюбленную, Бог — в возлюбленного. Мы наблюдаем процесс взаимного проникновения мирского и религиозного менталитетов, которые открывают новый мир высокого эмоционального наполнения.
Примечательно, что трубадуры и миннезингеры были современниками христианских мистиков и мистических писательниц. Однако объекты любви странствующих певцов и, например, Бернара Клервоского принципиально различаются, так что было бы опрометчиво делать заключение о прямой зависимости мистических монахов-цистерцианцев от придворной любовной лирики. Разнится и природа их любви, несмотря на бесспорные аналогии в речевом выражении. Характерная противоположность между эротической культурой и мистикой состоит в ереси одних и ортодоксии других, как вывел Дени де Ружмон, однако полагать придворную любовь чисто чувственной, а мистическую лишь символической было бы несправедливо по отношению к обеим эмоциям. Они близки друг к другу и в метафорике: эротический язык трубадуров выражает не только раскрепощенную страсть, а картины мистики — не только религиозное чувство.
Учение и страсти еретиков
С. 99. Иероним Босх. Сад радостей земных (1503). Деталь средней части триптиха.
С. 100. Антон Айзенхойт. Ересь (1589). Гравюра на меди. Отклонение от вероучения часто изображалось аллегорически, при помощи эротических и вовсе не отталкивающих образов.
Час еретиков
На рубеже тысячелетий в Западной Европе распространяется недовольство. Первое тысячелетие христианства подошло к концу, а ничего революционного так и не свершилось. Народ не дождался избавления и спасения. Слишком долго люди ждали, надеялись, терпели лишения и верили в пророчества. Все оказалось напрасным, в том числе и великий страх перед обещанным концом света. Мировая история идет себе дальше, как повелось с незапамятных времен, сильный господствует над слабым, а похоть искупается страданием. Нищета и смерть по-прежнему размахивают бичом над стонущим человечеством. Не видно даже намека на прекрасное будущее.
Жестокое разочарование сопровождается всеобщим сомнением в том, во что благодаря церкви до сих пор верили как в божественное откровение. Множество людей охвачены невероятным ужасом перед пустотой, мраком и бессмысленностью существования. Целое тысячелетие их угнетали, заставив отречься от языческой веры праотцев и последовать за христианским Богом, который обещал спасение и избавление — в частности, бедным и угнетенным. За Богом, что поведет людей в Царство небесное, ожидающее их в конце времен. Согласно бесчисленным расчетам ждать нужно было тысячу лет. И вот время истекло, а долгожданного конца света нет как нет.
Ничего не происходит. Пророки солгали или обманулись. Мир не погиб, небеса не разверзлись, а Бог не спас отверженных. Обманутые верующие припомнили и многое другое, чего давно уже не было в христианстве. Вспомнили речи бедного проповедника из Назарета, которые в свое время так сильно воспламеняли его последователей, — в них говорилось о братстве и справедливости, о добровольном отказе от богатства и власти в пользу бедных и отринутых. Стоило лишь задуматься о скромной жизни первых христианских общин, и на ум сразу приходили роскошь, жестокость и насилие якобы богоданных властей.
Наступило время еретических движений.
В XII веке начинают формироваться различные религиозные течения, отклонявшиеся от магистрального учения официальной церкви. Они называют себя манихеями, альбигойцами, вальденсами, однако церковь скоро закрепила за ними осуждающее обозначение «еретики», которое в нашем сознании неотделимо от ужасов инквизиции и связано с пылающими кострами.
Между отдельными группами существуют заметные различия, однако есть нечто общее для всех: они формулируют альтернативу христианству своего времени, морально и догматически закосневшему, в том числе и во взглядах на сексуальность.
Бытовая порочность и распутство вряд ли когда-нибудь были так распространены, как в христианское Средневековье. Аристократия и духовенство обладают неограниченной властью и огромными богатствами, они распоряжаются судьбами бедняков, крепостных крестьян и невежественных обывателей. Аристократический абсолютизм создает идеальные условия для разнузданности и порока, которые расцветают тем пышнее, чем больше разрыв между господами и подневольными. Подданные становятся жертвами и к тому же еще снабжают господ средствами для развратной жизни. Княжеские дворы, замки, дворцы и монастыри закрыты для всякого контроля со стороны внешнего мира и позволяют — посредством денег, хитрости и насилия — утолять любые, в том числе и запретные, порочные желания.
Хотя порок — особенно сладострастие — в догматическом смысле остается грехом, который должен вызывать отвращение, на практике его таковым не считают. Сексуальные действия можно расценивать не только как разрешенное, но едва ли не богоугодное дело. Кроме того, вина смывается раскаянием и исповедью в согласии с принципом, что раскаявшийся грешник угоднее Господу, чем тысяча праведников[27].
В виде реакции на это положение некоторые вероотступники вспоминают о старых, покинутых ради новой веры богах, власть которых, несмотря на все поношения и преследования, сохранилась. Впервые их сравнивают с христианским Богом, и старые божества неплохо выдерживают это сравнение. Ни фантастических посулов, ни сомнительных откровений о близком спасении люди от них не получали, однако эти божества давали то, чего человек из Назарета, судя по всему, дать не мог: глубокую сопричастность тайнам и желаниям тела, природе и инстинктам. Старые боги не проклинают тело, а наоборот — прославляют его, ибо видят в вакхическом культе истинное богослужение.
Языческие боги не обитают в полном бездействии в воображаемом потустороннем мире. Они не отравляют нравственными, враждебными телу запретами и без того убогое существование простых людей, а проявляют себя в земном мире как жизнерадостные существа, благословляя телесные наслаждения, даруя радости и желания и, кроме того, наделяя человека редкими и бесценными способностями. А еще они не проповедуют сомнительную любовь к ближнему — это сильные и могучие боги, ведущие человека в глубь действительности, а не проводящие мимо нее.
Некоторые люди, в свою очередь, пытаются оживить учение первых христианских общин и с невиданным радикализмом проповедуют Идеи, близкие нынешним анархистам и коммунистам, призывают к простоте и непритязательности в истинной бедности, не пускаясь при этом в изощренные теологические рассуждения. Христос видится им не пылким провозвестником грядущего Царства небесного, а скорее освободителем, который всех людей ставит на одну ступень.
Свет и тьма
Откуда они берутся, эти изменники, отступившие от официальной церкви? На какие учения они опираются? Евангелие от Иоанна проводит отчетливое различие между словом, то есть рациональным, и телесным, равно как и между светом и тенью: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. (…) В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. (…) И Слово стало плотню, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца»[28].
Пролог первой главы звучит безобиднее, чем он есть на самом деле. Текст фиксирует религиозные представления, которые господствовали сто лет спустя после Рождества Христова в Палестине и не только там. Эти идеи дуалистичны и гностичны, хотя одно нельзя приравнивать к другому. В течение первых трех веков после Рождества Христова возникают различные гностические движения, которые на протяжении следующей тысячи лет представляют собой постоянную опасность для господства Римской церкви, против которой они временами ожесточенно борются.
Гностицизм проводит границу между Богом и миром, между светом и тьмой, между телом и душой, между добром и злом, между жизнью и смертью. Бог стоит настолько далеко от мира, что мы ничего не можем знать о нем. Поэтому гностик называет его «чужим» или «неведомым Богом» — «и мир его не знает». Он не участвует в сотворении мира; за это отвечает «демиург», создатель, которого идентифицируют с Яхве или сатаной. Бог есть свет, дух, жизнь, попросту благо. Мир, материя, тело — это, напротив, тьма и смерть. Однако искра божественного света проникла в каждое тело. Она тлеет здесь, в своей темнице, в жгучей тоске по воссоединению с божественным светом, чтобы быть у Бога, а то и стать Богом. Для того чтобы показать множеству божественных искр путь к Себе, Бог послал к нам на землю Своего единородного сына как часть Себя.
Свет и дух не могут быть поглощены тьмой, побеждены плотью — «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Тьма жизни не может погасить божественную искру духа, но она способна держать ее взаперти и препятствовать ее воссоединению с божественным светом. Если люди понимают учение Христа в интерпретации гностиков и следуют ему, то свет духа может преодолеть тьму и освободиться от тела и его оков. Таково учение. Однако реальность пока выглядит иначе.
Между аскезой и распутством
Гностические теории дают понять, что все связанное с размножением, — дурно. В первую очередь — сексуальность и желание, но и всякая другая чувственная радость тела. К избавлению следует стремиться двумя способами: через самопознание и путем освобождения от плоти.
Центральная группа гностиков следует этим принципам. Они называют себя «достойными», «чистыми», «совершенными», «избранными» и считают, что владеют истинным познанием.
Однако в этом они резко отличаются от общей массы гностиков. Низы так и подмывает делать все то, что запрещает Римская церковь. Результат подчас называют «гностической неумеренностью». Так что спектр гностиков поистине широк.
Группа, не проявляющая интереса к телу, придерживается точки зрения, что пропасть между Богом и божественной искрой в человеке, с одной стороны, и всем телесным, с другой стороны, настолько велика, что тело вообще не может иметь влияния на божественный свет духа. Что уж там делает тело, в конечном счете не имеет значения — за исключением размножения. Посему эти гностики ничего не имеют против сексуальных отношений, которые служат исключительно утолению желания, а также против гомосексуальности и других нетрадиционных форм половых сношений. Они, как и апостол Павел, скорее придерживаются точки зрения, что лучше утолить плотское желание, чем изнемогать от жгучей похоти.
«Радикальные» гностики считают всякое чувственное желание и действие даже полезным и придерживаются следующей теории: поскольку сокровенный Бог не имеет ничего общего с миром, Ему нет дела до законов и правил. Все земное — создание не Его, а творца мира, от чьих моральных законов следует освобождаться, преступая их. Если не сможешь достичь этого при жизни, значит, после смерти вернешься на землю в новом обличьи, чтобы наверстать упущенное.
Итак, кредо этой группы — давать волю страстям. Поэтому вскоре еретические тайные собрания, секты и мистические объединения попадут под подозрение как «рассадники похоти». И действительно, в IV веке секта сарабаитов завершала свои религиозные празднества безумными сексуальными оргиями, грубо и наглядно описанными Кассианом[29]. Гностик Карпократ[30] также требует неограниченного коллективизма как метода обретения Царства Божия. Он учит, что похоть — единственная цель человеческой жизни, и его сторонники применяют это учение на практике.
Некоторые группы и впрямь замечательно проводят этот принцип в жизнь. Возникшая в VII веке секта павлинистов следует гностической трации, согласно которой Христос есть существо в духе, а на земле он обладал телом лишь для видимости. Следовательно, его смерть ненастоящая, и крест — вовсе не знак избавления, а знак проклятия. Павлинисты пренебрегают крестом и оплевывают его. Они также не считают нужным отказываться от райского «запретного плода», а сексуальные забавы считаются у них актом освобождения от тиранического господства сатаны и, следовательно, действием, угодным Богу.
Эротическая свобода и поощрение «противоестественного» быстро перерастает в серьезную проблему для церкви. Многие прегрешения гностиков против библейского закона укрепляют церковников в убеждении, что ересь и безнравственность неразрывно связаны друг с другом. Это подозрение не так уж и ошибочно. С позиций римской духовной власти, гностики действительно придерживаются «еретической точки зрения». Однако самое существенное различие между церковью и гностиками состоит в строгом разделении тела и духа, которое проповедуют последние. Церковь же всегда была монистической и натуралистической, что отчетливо проявляется в вероучении о смерти и воскресении. Без тела воскресение для церкви немыслимо, ибо мертвые спят до той поры, пока не воскреснут во всей своей телесности на Страшном суде. В соответствии с этим в Средние века всякое привидение состоит из плоти и костей и никогда не бывает воздушным, бесплотным, полупрозрачным созданием.
Возмутители спокойствия
Раннехристианские секты проходят долгий путь. Они меняются, распадаются, исчезают, а затем оформляются заново — их легко узнать в обновленческих движениях рубежа тысячелетий, которые ставят под сомнение вероучение официальной церкви. С такой же смелостью заявляют о себе и борцы-одиночки.
Франциск Ассизский[31] выбирает мягкий путь, собственной жизнью подавая пример возврата к бедности и раскаянию. Арнольд Брешианский[32] с пламенным красноречием заявляет господствующей системе об общинной бедности. Сам он заканчивает путь в 1155 году на костре, но его идеи пробивают себе дорогу, их признают и пытаются осуществить на практике целые общины. На горизонте появляются первые признаки Реформации, правда, еще в окраске раннего Средневековья. Идет борьба против социального неравенства, разоблачаются привилегии, корыстолюбие и высокомерие аристократии и духовенства, раздаются голоса против культа святых, иконопочитания и, в конце концов, против римско-ортодоксального толкования христианской традиции. Это движение осознает себя как буржуазно-демократическая оппозиция деспотизму Римской церкви. Его главная цель — священники из мирян и мирская Библия, а также усиление нравственной и общественной независимости от церкви.
В то же время на обочинах церковной жизни процветают ересь и тайные союзы. Манихеи проникают в Западную Европу через Далмацию, Болгарию и Италию и оседают в Южной Франции. Это движение еще содержит элементы восточного язычества и даже сохраняет древние культовые ритуалы и колдовские практики. Во Франции оно вызывает особенный резонанс, поскольку здесь на пороге нового тысячелетия еще можно встретить живые воспоминания о языческом прошлом. В некоторых церквях стоят изображения идолов дохристианских времен, кое-где сохраняются мистерии древних друидов. Это возможно благодаря отдаленности от Рима, а также экономической и политической независимости этой страны.
Несмотря на многочисленные исследования, сегодня уже не представляется возможным в точности реконструировать учения еретиков. Их культы осуществлялись в основном тайно, и, кроме того, количество сект было очень велико, так что, несмотря на их кажущуюся сплоченность, вряд ли можно вести речь о едином учении.
Тем не менее все вместе они опровергают воззрения Римской церкви. Христианский Бог понимается как враждебная жизни власть, преграждающая доступ к истинному блаженству. Из-за узости церковной морали Бог видится скорее основателем ущербного мира, полного предрассудков и запретов. Поэтому «чистые» отрекаются от Него и ищут спасение души в новых путях. Неподатливая враждебность христианства по отношению к телу получает жесткий отпор: еретики хотят жить в соответствии с новыми идеалами и по-другому переживать инстинкты, которые до сих пор спали в душе. Возникла потребность в новых богах, которые, не откладывая осуществление надежд на потом, сразу исполняют все желания.
Антицерковь катаров
Особенно сильное влияние приобретают еретики в Южной Франции, где они называют себя альбигойцами — по имени города Альби, одного из их центров, — или катарами, то есть «чистыми». С XI по XIII век они властвуют почти по всей Южной Франции; за ними стоит не только простой люд, но и привилегированные горожане и, что еще важнее, почти вся аристократия. Они — политическая сила, выбирающая своих епископов и священников, создающая собственный обрядовый церемониал. Вскоре катары становятся мощной, независимой в общественно-экономическом и духовном плане, уверенной в себе и влиятельной организацией — «антицерковью».
Катары не верят ни в ад, ни в чистилище. Они не доверяют Ветхому Завету; для них самая священная часть Писания — Евангелие от Иоанна, особенно пролог. Их учение очень чувствительно к спорным вопросам. Как и гностики, они постулируют вышестоящего и нижестоящего богов. Смерть Христа для них — лишь иллюзия, крест — позорный столб. Они отрицают свободу воли и рассматривают земное существование как экзамен, после которого каждый человек — если он выдержал испытание на земле — возвращается в подлинный, более высокий мир. Даже их злейший противник Бернар Клервоский хвалит последовательно аскетическую жизнь элиты катаров — «избранных» и «совершенных».
Однако точно так же, как их раннехристианские предшественники, далеко не все катары убеждены в благословенности аскезы. Их зачастую обвиняют даже в вакхических практиках. Впрочем, справедливо ли такое обвинение — вопрос спорный или, скорее, выходящий за рамки нашей компетенции. Бесспорной же остается основа для сексуальной свободы и доступности, ибо катаризм стремится освободить подавленные инстинкты человека и заменить нетерпимое христианское вероучение с его ограничительной концепцией.
Старые боги из языческого прошлого, неутратившие связи с природой и сексуальностью, празднуют теперь свое возрождение. Как в архаические времена, люди перемещаются в глушь, чтобы в лесах и пещерах служить богам похоти, которых так долго презирали. Так называемые ведуньи, наследницы жречества друидов, снова применяют чудодейственные силы лесных и степных трав и варят зелья всех видов. Религиозный экстаз, сексуальное возбуждение и наркотический дурман сливаются воедино. Очнувшиеся демоны открывают доступ в бездонные пропасти души, к ночной стороне бытия. Они взбаламучивают темный, таинственный осадок сознания и влекут хмельное человечество в подземное царство, где бог и зверь, судя по всему, еще представляют собой единое целое.
Катарские общины славятся тем, что владеют колдовскими чарами, располагают тайными средствами для лечения болезней, умеют унимать боль, предвидеть будущее и читать по звездам. Возрожденное язычество празднует свое освобождение из теснины христианства, которому оно вскоре начнет составлять серьезную конкуренцию, — тем более что катары, в отличие от тамплиеров, не ограничиваются статусом тайной организации, занятой внутренней деятельностью, а стремятся к экспансии и разворачивают мощную пропаганду. Таким образом им удается завоевать обширные области, которые формально находятся под господством римской церкви.
Посвящение в сексуальные мистерии
То, что нам известно о тайных еретических союзах Средневековья, кое в чем сопоставимо с эротическими культами античного мира, поскольку еретики простодушно исходят из эротического предназначения божества. Аппарат церкви они отвергают прежде всего потому, что в нем эти идеи осуществить не удается. Три главных таинства — крещение, причастие и брак — подвергаются критике как лишенные смысла. Катары отвергают крещение водой. У них молодой человек проходит духовное и огненное крещение, под которым подразумевается догматически замаскированная сексуальная мистерия. Катарская элита настаивает на необходимости аскезы, но эта позиция не противоречит мистерии, поскольку воздержание в повседневной жизни и сексуальный избыток в культе вполне сочетаются.
Катары, еще не прошедшие крещения, называются верующими (credentes), а принявшие — совершенными, посвященными (perfecti). Но поскольку требования к посвященным настолько высоки, что многие не уверены, смогут ли их выполнить, некоторые принимают огненное крещение лишь на смертном одре, заключая еще при вступлении в тайный союз соглашение, гарантирующее им «добрый конец». Это ведет к тому, что многие верующие совершенно бесконтрольно утоляют вожделение, сохраняя при этом уверенность, что в конце жизни смогут в один день искупить свои грехи. Из-за распущенных собратьев по вере посвященные тоже попадают под подозрение, что в своей сексуальной распущенности служат дьяволу и приносят ему жертву.
Причастие хлебом, водой и вином катары полагают пустой аллегорией. Их форма причастия существенно сильнее и конкретней. Таинство брака также подвергается пересмотру. Все три обряда становятся сексуальными мистериями. Если крещение — это «посвящение в мистерию порока», то причастие — «обряд соития», а брак соответствует мистическому сексуальному акту.
Вскоре известия о кровавой сексуальной магии религиозных движений Южной Франции дошли до Рима. Вначале церковь довольствуется проклятиями в адрес новых учений. Но поскольку ей самой не удается творчески освоить актуальные тенденции времени и противопоставить языческой конкуренции что-то свое, иерархи в конце концов решают жестоко расправиться с «рассадником ереси».
Папа Иннокентий III призывает к крестовому походу против альбигойских сект. Он обещает высшие духовные и материальные блага наемному войску, которое в 1209 году вторгается в Южную Францию и с беспримерной жестокостью сеет смерть. Каждый, кто попадается в руки кровожадных орд, будь то еретик или христианин, может быть изувечен, опозорен, забит до смерти или сожжен. Мужчины, женщины и дети, всего свыше ста тысяч человек, пали жертвами этого осененного крестом похода. Цветущие города и богатые селения в течение двадцати лет подвергались разграблению и опустошались. Когда грабить стало нечего, а убивать — некого, войско разбрелось кто куда.
Следствием этой войны стал инквизиционный суд в Тулузе, который мечом, пытками и костром грозил каждому, кто навлекал на себя подозрение в ереси. С 1229 года ересь официально считается самым страшным преступлением. Борьбой с ней можно оправдать самые свирепые насильственные действия. Костры инквизиции горят по всей стране, однако «великая ересь» оказывается неискоренимой. Она вырастает из господствующего духа времени, воплощает инакость, посягательство на власть церкви и остается вечным бельмом на глазу у этой власти.
Тамплиеры и Грааль
Тайные союзы и рыцарские ордены, по своим основным воззрениям не так уж сильно отличавшиеся от еретиков, тоже становятся предметом самых причудливых слухов. Несмотря на осторожное отношение к источникам и сообщениям того времени, из них все-таки следует, что и в этом случае речь идет о культе с эротическими чертами.
Центральную роль играет знаменитое сказание о Граале, ибо и его можно посчитать окутанным тайной повествованием о некоем христианском эротическом ритуале. Смесь архаичных жертвенных церемоний, магической фантастики и сексуальной экзальтации — мистерия чудодейственного Грааля одновременно и действительность, и легенда. «Грааль» буквально означает «сосуд», так называлась жертвенная чаша друидов. В христианском контексте Грааль становится сосудом для крови принесенного в жертву Христа.
Сказание о Граале привлекает наше внимание к печально известному ордену тамплиеров, который французские рыцари учредили в начале XII века для защиты паломников в Палестину. Однако вскоре орден все-таки связывают с окутанным тайной Граалем, что, в конечном счете, дает повод для его разгрома. Поначалу числящий своим прибежищем Храмовую гору в Иерусалиме, орден переносит резиденцию в Париж, где тамплиеры входят в контакт с катарами.
Близость тамплиеров к гностическому образу мыслей бросается в глаза. Они рассматривают мир, его законы, заповеди, учения, воззрения, а особенно христианскую догматику и мораль как творение низшего демиурга, противовес идеальному миру. Следовательно, то, что запрещено христианством или условностями, не только разрешено тамплиеру, но становится его непременным долгом.
Все дошедшие до нас ритуалы и символы тамплиеров имеют недвусмысленное эротическое значение. Во время церемонии приема в орден важную роль играли, по некоторым сведениям, поцелуи в интимные части тела магистра или его заместителя. Есть также сообщения об идоле, Бафомете, изображение которого почиталось на богослужении. Этот образ двуполый. Сопряженные с ним символы — змеи и буква «Т» — фаллические символы.
Мы не знаем, достоверны ли дошедшие до нас сведения, ясно одно: тамплиеры послужили образцом для бесчисленных орденов «посвященных Богу рыцарей», без которых немыслима общая картина Средневековья. Они — синтез всех средневековых еретических движений и одновременно — большое исключение. Тамплиеры выделяются своим аристократическим происхождением и неистощимостью финансовых средств.
Однако влиятельному ордену приходит ужасный конец. В 1307 году французский король Филипп IV велит арестовать всех французских тамплиеров и учинить над ними судебный процесс. Большинство гибнет на костре[33]. В качестве причины судебного преследования называлось подозрение в ереси и сомнительных ритуалах. Впрочем, по всей вероятности, король просто хотел разделаться с могущественным орденом и присвоить его несметные богатства.
Радости и горести брака
С. 119. Муж притворяется спящим, в то время как жена отдается любовнику. Фрагмент эротической иллюстрации к шванку, XV в.
С. 120. Свадебная церемония (фрагмент). Миниатюра из еврейской рукописи. Милан, 1436 г.
Лучше попробовать, чем, рассуждать
Если говорить о сексуальной стороне супружества, то мужчина — если он осознает собственное превосходство — в случае необходимости всегда сможет подкрепить свой авторитет телесным наказанием. Но это вовсе не значит, что женщины против такой мужественной грубости, и странные методы любовных ухаживаний вполне могут им понравится. Однако, несмотря на всю сладость запретного плода, несмотря на соблазн тайно провести ночь в объятиях возлюбленного, он не в силах заменить брачный союз. Правда, брак, подобный долгому и спокойному течению реки, не в состоянии ни регламентировать, ни направлять сексуальное желание. К тому же двойная сексуальная мораль позаботилась о том, чтобы долг супружеской верности — как в правовом, так и в нравственном отношении, — за редким исключением связывал только супругу, но не супруга. «Тристан и Изольда», грандиозный гимн средневековой любви, одновременно возвышает прелюбодеяние. Для рыцаря особая прелесть заключается именно в таинственности и опасности — они словно бросают вызов его мужественности и находчивости. Они куда притягательней, чем возможность быстро завоевать симпатию наивной девушки или наспех воспользоваться любовью молодой крестьянки, для которой этот быстрый физический контакт не будет иметь особого значения.
Доходит дело до близости и в деревне, если предстоит свадьба. Обычно невеста заранее хочет убедиться, что будущий муж в состоянии исполнять «супружеский долг» и физически.
Таким образом, еще до свадьбы невесты проводят ночи (поначалу более, а потом все менее воздержанные) в объятиях своих суженых. Этот обычай носит разные названия и обозначения: в Швейцарии он называется «сходить погулять», в Швабии — «заделать шов», в Баварии — «пооконничать», во Франконии — «посудачить». Об этих «пробных ночах» или «шутовских свадьбах» свидетельствуют поэты XII и XIII веков — такие, как Рейнмар фон Хагенау и Гартман фон Ауэ[34].
Этот обычай, называемый «гостевой ночью», не означает, что деревенская красавица расточает ласки и доказательства своей благосклонности налево и направо. Возлюбленному придется нелегко, ведь двери дома для него по-прежнему закрыты. Он должен залезть в чердачное окно, поскольку комната любимой — под крышей. Как он туда заберется, его дело. Чем опаснее и труднее путь, тем лучше — это лишь усиливает романтику и делает приключение интереснее, а для девушки служит доказательством силы и мужества ее суженого.
Это нелегкое предприятие поначалу не дает возлюбленному других преимуществ, кроме права побеседовать с девушкой, которая лежит в постели одетая и не выказывает никакого эротического интереса. Может быть, он рассказывает ей о будущем урожае и о том, как чувствует себя домашний скот. Он не станет, заикаясь, произносить любовные клятвы — это занятие не по нем. Девушка выслушивает занимательные сообщения жениха до тех пор, пока не заснет, что во время бесед такого рода, как правило, происходит очень быстро. Отважиться на проявление какой-либо настойчивости поначалу нельзя. Потому и называют эти первые посещения «гостевыми ночами» — жениху разрешается лишь проникнуть в комнату.
К тому же «гостевые ночи» возможны лишь в воскресные и праздничные ночи. В Швейцарии наутро после целомудренной ночи в компании возлюбленного мать девушки приносит дочери и гостю напиток в деревянной миске. Она садится на кровать и завтракает с молодыми. Мать будет оскорблена, если кто-нибудь усомнится в целомудрии ее дочери.
И только когда молодые достигают единодушия в своем желании стать парой, и взаимное доверие возрастает, «гостевые ночи» превращаются в «пробные ночи»: мало-помалу оживляются не только беседы — девушка шутя дает парню возможность проявить свою страсть. В конце концов, она позволяет ему застать себя врасплох в легком одеянии и, наконец, разрешает ему все, чем женщина может утолить чувственность мужчины.
Понятие «пробная ночь» говорит само за себя. Теперь пара ведет половую жизнь так, как будто они давно женаты, в то время как молодые, строго говоря, даже не обручены. «Пробные ночи» длятся до тех пор, пока оба не убедятся во взаимной физической пригодности для брака или пока девушка не забеременеет, после чего обычно сразу же следуют обручение и свадьба.
Правда, вполне вероятен и другой исход. Речь здесь ни в коем случае не идет о чем-то предосудительном, а тем более безнравственном. «Пробные ночи» — вполне разумный обычай, уберегающий от покупки «кота в мешке», следовательно, честь девушки не страдает, если после нескольких «проб» она дает возлюбленному отставку.
Нередко случается так, что после первой или второй «пробной ночи» молодые расстаются. Девушке не нужно опасаться, что о ней пойдет дурная слава. Правда, если «пробные ночи» становятся для нее обычным делом, окружающие начинают подозревать в ней скрытое «несовершенство». У подобных ночных свиданий нет ограничения во времени, на самом деле это пробный брак, который либо когда-то прекратится, либо будет оформлен законным образом.
До нас дошло документальное свидетельство о «пробных ночах», датированное 1378 годом. Граф Иоганн IV Габсбургский более полугода пытается составить пару обрученной с ним Герцланде фон Раппольштайн. Но поскольку он неспособен к половой жизни, дама выставляет его за дверь, и это удостоверяется официально.
Известно также о «пробной ночи» императора Фридриха III и португальской принцессы Леоноры. Впрочем, родственники принцессы согласились на подобную процедуру только после того, как папа Пий II дал на то свое высочайшее благословение и написал, что эта церемония обычна для всех немецких князей.
По германским законам, отказавшийся от невесты должен дать клятву под присягой, что устроил ей испытание не из каких-либо подозрений и не потому, что «обнаружил в ней некий изъян». Впоследствии, однако, пробным браком начали злоупотреблять. Например, аристократы под прикрытием пробного брака часто пытались утолить свое влечение к простым девушкам. В результате церковь со всей строгостью пресекла этот обычай.
Выкуп невесты и утренний дар
В более ранние времена брак был не чем иным, как семейным договором, заключенным в интересах обоих полов, охранительно-оборонный союз двух семей или кланов для взаимного усиления мощи, увеличения престижа и состояния. Как в любом другом коммерческом деле, здесь все определяют материальные вопросы, поэтому справедливо будет вести речь о браке как о сделке купли-продажи. И хотя жена из-за уплаченной за нее суммы не становится рабыней, она подчинена мужу как «господину в доме».
Поскольку в деле замешаны деньги, уместно упомянуть и о «браке-похищении». Насильственное похищение девушки — с ее согласия или без него, но в любом случае против воли семьи — представляется одной из возможностей раздобыть себе жену. Исторические источники подтверждают как случаи похищения женщины с ее согласия, так и прямую кражу. Гамбургский городской устав 1270 года с психологической чуткостью определяет, что похититель остается безнаказанным, если его жертва — неодетая девушка старше шестнадцати лет — дала на это свое согласие. Однако для того, кто похитит более юную девушку, пусть и с ее разрешения, или девушку постарше, но против ее воли, предусмотрена смертная казнь.
Со временем обычаи становятся изящнее. Невесте, которую прежде покупали, теперь преподносят богатые подарки — правда, это скорее «косметическая операция», чем коренная перемена. Теперь перед свадьбой женщина получает дар невесты, а наутро после брачной ночи — утренний дар. Правда, и то, и другое обговорено заранее, поэтому возникает впечатление, что нововведение остается выражением прежних взглядов, согласно которым жена приобретается как собственность. Однако на сей раз речь идет скорее об установившемся обычае, чем о законе, обязательном для исполнения, поскольку факт брака не может быть оспорен, если жених окажется обманутым в том, что касается размера состояния невесты и не получит обещанного.
Возникновение и распространение этого обычая следует, скорее всего, толковать так, что родители не хотят выдавать дочь замуж «без украшений» и что она не должна быть отданной «в подарок». Если угодно, это «классический обмен»: отец получает что-то вроде «покупной цены», которую он, однако, не считает своей собственностью, а отдает дочери, вступающей в брак. Отсюда рукой подать до обычая, по которому жених тут же забирает свои дары.
Как бы то ни было, ясно одно: мужчина в любом случае дарит своей невесте или молодой жене подарок, подобающий его состоянию. Одно это уже доказывает, что для него женщина — не просто купленный предмет. Тем самым упразднение выкупа и замена его подарком невесте и обычаем утреннего дара содействовали тому, что партнерские отношения «укорененились в сознании людей».
Выход невесты и обручение
Кто бы ни выбирал невесту для желающего (или согласного) жениться, делает ли это сам жених или его отец, женитьба — событие, всегда вызывающее широкий интерес и связанное с особыми формальностями. То, что позднее станет обозначаться общепринятым в Европе понятием «обручение», Средневековье часто называет «выход невесты». Правда, точное значение слова неясно. Возможно, оно связано с торжественным шествием, где пара жениха и невесты демонстрирует свое единство. Во Фрисландии при этом впереди несут меч — символ того, что мужчина должен иметь власть и над жизнью своей жены. Вообще обручения и свадьбы всегда связаны с публичным представлением.
В Гессене девушки, которые полагают, что у них есть более ранние притязания на этого жениха, могут заявить в церкви протест против объявления о браке — правда, без слов. Девушка просто срывает чепец со своей хорошенькой головки и швыряет его в глубь церкви — в знак того, что она не хочет уступать «другой» то счастье, которое было обещано ей. Нам неизвестно, каждый ли раз в церквях Гессена во время венчания градом падали чепцы, но время от времени их наверняка бросали. И это не вызывало особого смущения, ибо обсуждать и улаживать «личные дела» (которые стали действительно «личными» только в Новое время) было совершенно естественно. Вот и обручения не празднуются в узком домашнем кругу, они проходят прилюдно и о них объявляют на площадях. Весьма вероятно, что несогласие (например, при помощи брошенного чепца) прежде демонстрировали на Mahal, месте судилища. Немецкие слова vermählen (заключить брак) или Gemahl и Gemahlin (супруг и супруга) происходят из древнего обычая объявлять о помолвке на Mahal.
От таких публичных церемоний берут свое начало многочисленные обычаи — например, сопровождать оглашение решения ударом молотка, который, будучи инструментом бога Тора, может обладать известной святостью. Молоток и поныне используется судьями. Как на аукционе, заключение союза на всю жизнь сопровождается ударом молотка. Во время обручения раздаются также удары башмака, отсюда пошло выражение «подкаблучник» — мужчина, попавший «под удар башмака». Невеста должна надеть башмак жениха. Пожалуй, это тоже символ — того, что она согласна быть покорной женой.
С башмаком невесты совершаются те же самые манипуляции, однако со временем символ подчинения становится подарком: жених вручает своей суженой пару новых башмаков, зачастую они представляют немалую ценность, украшены золотом и серебром. Этот обычай сопровождается суеверием: если невеста замешкается, надевая подаренные башмаки, то это указывает на непродолжительность брака.
Еще один обычай — «связывать» партнера шелковой ниткой, таким образом «приковывая» его к себе. Происхождение такого обычая неизвестно, а из литературных свидетельств становится ясно, что шелковые нити указывают не на брак, а скорее на любовное свидание. Впрочем, возможно, нить символизирует и то, и другое — как «привязывание» легкомысленными узами любви, так и крепкое обручение.
Кольцо изначально служит не «закреплением» помолвки, а подарком за свободную любовь, причем дар этот нередко получает осчастливленный мужчина. Лишь позднее кольцо (у которого нет конца) становится символом бесконечной любви и верности; оно символизирует полное единство пары, это звено цепи, означающее связь на все времена.
Свадьба с заместителем
«Счастливчик приведет домой невесту», — гласит немецкая народная мудрость, однако в Средневековье это не всегда так. Ведь порой появление невесты — испытание нравственной стойкости. Например, когда мужчина сопровождает в брачные покои не свою невесту, а чужую, но при этом обязан возлечь с ней на свадебное ложе. Если жених не может явиться на свадьбу сам, он посылает заместителя, который должен исполнить все обязанности молодого супруга. Но на самом деле не все — и это как раз самое трудное в обязанностях «свадебного заместителя» — его рвение не должно заходить так далеко, как ему хотелось бы, особенно если невеста молода, хороша собой и желанна, а между нею и заместителем жениха нет никакой преграды, кроме обнаженного меча, который, в конце концов, можно отложить в сторону.
Так, в 1477 году, когда эрцгерцог Максимилиан брал в жены Марию Бургундскую, пфальцграф Людвиг фон Фельденц выступил в качестве полномочного представителя жениха. Он был обвенчан вместо своего поручителя и провожал невесту на брачное ложе. Как недвусмысленно добавлено в одном документе того времени, он возлег на брачное ложе в сапогах со шпорами и положил между собой и невестой меч. Эту часть свадебного ритуала называют «восшествием на брачное ложе».
Здесь мы имеем дело скорее с фарсом, чем с обычаем, ибо то, что в таинстве венчания участвует заместитель, само по себе бессмысленно, поскольку венчаться может только тот, кто стоит под венцом. А замещение на брачном ложе — это и вовсе пошлость. Как правило, этот ритуал используется, когда невеста живет в чужой стране, и ее не могут отправить к суженому незамужней, а жених не в состоянии предпринять дальнее путешествие. Однако ночь, проведенная в одной постели, способна сблизить людей, что еще «опаснее», если заместитель жениха будет сопровождать молодую жену в долгом путешествии к мужу.
Этот ритуал особенно щекотлив для невесты. Если перед этим она никогда не видела своего супруга или и вовсе не была с ним знакома, трудно допустить, что она его любит всем сердцем. Заместитель жениха, как правило, личность, умеющая произвести впечатление, то есть мужчина весьма привлекательный. Вероятно, читатель может вообразить, как тяжело невесте не выказать чувств, выходящих за пределы допустимого.
В средневековой литературе достаточно историй об амурных связях молодой невесты и заместителя жениха, которые в конце концов превращают видимость венчания в реальный брак и сообща устраивают побег. Подобная ситуация может привести к серьезным конфликтам, особенно, если участники этих событий люди именитые и знатные.
О праве первой ночи
Правом первой ночи называют «привилегию феодала на участие в брачной ночи крепостного». Так написано в словаре-справочнике по истории немецкого права. Неужели речь идет о том, что феодал в силу варварского обычая мог лишить невинности чужую невесту? Мог ли феодал на свадьбах своих подневольных осуществлять первый половой акт с девственной невестой? Или у него было лишь «символическое» право ставить одну ногу на брачное ложе своих слуг?
До недавнего времени привилегия первой ночи с невестой подданного считалась исторически доказанным фактом. Такая точка зрения господствовала с XVI века, причем считалось, что обычай этот имеет шотландское происхождение. Аналогичного мнения придерживались французские энциклопедисты. Однако уже в XVIII веке некоторые ученые ставили под сомнение существование этого принципа. И в наши дни по-прежнему неясно, существовало ли вообще когда-либо право первой ночи, и если да, то осуществлялось ли оно традиционным способом? Серьезные источники сведений на этот счет не дают. Можно найти ответ лишь в художественных произведениях. Единственный документ, который действительно указывает на предполагаемое право первой ночи, это решение третейского суда короля Фердинанда II Католика[35] от 21 апреля 1486 года. В статье 9 этого решения среди прочего устраняется нарушение, состоявшее в том, что некоторые феодалы, когда их крестьяне вступали в брак, изъявляли желание в первую ночь спать с новобрачной.
Можно допустить, что такой «свадебный обычай» вполне соответствует средневековому духу, однако французский историк Ален Буро в своей книге «Право первой ночи» оспаривает его реальное бытование. Он полагает это странное право, о котором говорят, начиная с XIII века и до нашего времени, продуктом юридического и литературного вымысла, мифом, достоверность которого весьма сомнительна. «Безусловно, сексуальное содержание понятия “право первой ночи” способствовало его продолжительной жизни. Обычай очаровывает своей абсолютной инакостью, придавая фантому образ институционального, “юридического” соглашения. Формальный характер “права” подкупает радикальным ниспровержением наших ценностей. В языковой форме торжественная серьезность права соединяется с двусмысленной легкостью сексуального фольклора».
В соответствии с основами германского права восхождение на брачное ложе на глазах гостей свадебной церемонии было нормой. Этот обряд также вспоминают, доказывая существование права первой ночи, поскольку он упомянут в качестве обычая в документе 1507 года: «Если подданный или подданная деревни Друкат вступает в брак и устраивается свадебное празднество, то молодой супруг может провести со своей невестой первую ночь лишь в том случае, если на то есть разрешение вышеупомянутого господина или если вышеупомянутый господин уже спал с невестой». Но разве речь идет о праве господина на первую ночь? Этот пункт может быть истолкован и так, что разрешение не потребуется, если в брак вступает женщина, которая имела с феодалом недозволенную связь.
Однако существуют указания и на то, что мы имеем дело с символическим свадебным обычаем, и феодалы, которые, возможно, обладают этим правом де-юре, вовсе не пользуются им де-факто. Сегодня это понятие продолжает свое существование «виртуально» (выражение французского историка Алена Буро), напоминая об ужасе сексуального принуждения.
Свадебный обряд и свадебные безобразия
Восхождение на супружеское ложе перед свидетелями — свадебный обычай, сохранявшийся на протяжении всего Средневековья. Еще об одной традиции — передаче раздетой невесты жениху — напоминает дошедший до XIX века ритуал развязывания подвязки новобрачной: в знатных семьях, перед тем как отправиться в спальню, жених развязывает подвязку невесты, разрезает ее на кусочки и раздает гостям. Дольше всего подобные обычаи (разумеется, в символической форме) сохранялись при королевских и княжеских дворах. Один из шаферов провожает княжескую невесту в спальню. В присутствии княгини или графини ее укладывают на нарядное покрывало, а от жениха, пришедшего в сопровождении князя, требуют, чтобы он возлег с ней. Над новобрачными сдвигают полог, на некоторое время оставляя их одних, и перед закрытой дверью спальни поют песни — естественно, эротического содержания. Затем общество вновь входит в комнату и преподносит молодым супругам напиток. Когда оба снова встают с ложа, брачный союз считается заключенным.
То, что жених и невеста на глазах свидетелей ложатся в постель полностью одетыми, — уже более позднее завоевание. К тому же все больше властных функций берет на себя Римская церковь, которая скрепляет брак венчанием. Но и при этом очень долго сохраняются старые правовые представления о том, что заключение брака совершается посредством copulation carnalis[36]. Брак считается состоявшимся, когда молодые «прошли через постель» или «когда их накрыли одним одеялом». Немецкое выражение «быть с кем-то под одним одеялом», которое активно используют в современном языке, обязано своим происхождением этому старинному обычаю и означает, что в каком-то деле люди пришли к согласию и полностью доверяют друг другу.
В наши дни часто бывает, что новобрачные исчезают из-за свадебного стола, не попрощавшись, и больше не показываются до возвращения из свадебного путешествия. Это тоже дань традиции, которая защищает молодую чету от назойливых любопытных взглядов и более или менее завуалированных намеков.
В Средние века свадебные обряды, как и многое другое, совершаются не в частной или интимной обстановке, а на глазах у многих. Друзей и родственников часто принимают, лежа в брачной постели, и это не воспринимается как двусмысленность. Но не стоит думать, что жених ложится в постель при полном параде. Чопорности здесь не место, напротив: свежеиспеченным супругам, лежащим в постели обнаженными, подают напитки и еду, которые тут же употребляются; знакомые тоже являются сюда и бросают свои подарки на кровать. В качестве еды предпочтительнее всего жареная курица, которую называют «свадебной».
Празднование свадьбы длится (и в семьях горожан тоже) несколько дней, иногда целую неделю, и устраивается на широкую ногу. Подобная расточительность воспринимается властями как порок, в борьбе с которым издаются многочисленные указы. В старейшем уставе города Брауншвейг от 1232 года содержатся соответствующие ограничения — например, запрещается использование серебрянной посуды. Ободренные законодательством Фридриха II[37], который в 1231 году предоставил городам самостоятельность, другие города также выступают против «преувеличенных свадебных безобразий».
Количество снеди и напитков, съедаемых и выпиваемых многочисленными гостями на обильных и буйных свадебных празднествах, и впрямь кажется невероятным. Некоторые семьи расходуют на свадьбы больше, чем имеют; многие влезают в долги. Этим тоже объясняются судорожные попытки властей направить роскошь, так сказать, в «нормальное русло». Некоторые распоряжения содержат подробные перечни того, что можно делать брачующейся паре, а чего нельзя. Указывается продолжительность венчания и пиршества, запрещаются перемещения с места на место, ограничивается количество напитков (в деревне это четыре бочки пива), регламентируются проводы гостей. Марципан и «сласти» запрещаются под угрозой штрафа в тридцать талеров, разрешено подавать не более шести блюд (и никакого миндального торта), в знатных семьях — не более двенадцати. Домашнее венчание запрещено.
Церковь и брак
В Средние века церковь поначалу играет второстепенную роль в вопросах заключении брака, поскольку он регулируется договором между семьями и, как уже было сказано, скрепляется возлежанием на супружеском ложе. Венчание происходит потом и, строго говоря, служит лишь освящением уже состоявшегося брака. Эта церемония проводится не в самой церкви, а перед входом в нее, и только после венчания свадебное шествие направляется внутрь храма на мессу. Со временем церковь придает больше значения закреплению брака и его сути. Она объявляет брак таинством, тем самым делая его нерушимым и нерасторжимым, и берет в свои руки арбитраж в случае его нарушения.
На Тридентском церковном соборе в середине XVI века Римская церковь энергично берется за реформу брачного права. После долгих переговоров решено, что перед заключением брака священник оглашает намерение будущей супружеской пары в течение трех следующих друг за другом выходных или праздничных дней. Если при этом не выявится никаких препятствий (например, кровное родство между женихом и невестой, двоеженство или тайный брак, заключенный без участия церкви и свидетелей), то брачующиеся должны объявить свою волю перед священником и двумя свидетелями, а затем святой отец обвенчает их. Впредь только повенчанные могут считаться супругами.
Церковь пристально следит за супружеской парой. После того как право заключения брака полностью переходит к церкви, она с неумолимой последовательностью вершит также судебные дела, касающиеся супружества. Постепенно накапливаются жалобы на ее несправедливость и произвол. Посредством брачных предписаний, а также при помощи исповеди церковь обретает гигантскую власть, которой порой злоупотребляет.
Немецкий историк Матиас Шульц так пишет о подавлении сексуального желания в браке: «В XI веке духовенство объявило брак свидетельством божественной милости. А затем возвело брак в ранг таинства и добилось его нерасторжимости. То, что прежде было соглашением партнеров, стало неволей, тюрьмой, побег из которой невозможен. Затем священники ограничили рамками брака и половую связь. Во время менструаций, в четыре предрождественские недели поста, в неделю Троицы, в воскресные и праздничные дни, по средам, перед причастием и после причастия любовь была под запретом. В итоге в году насчитывалось 140 “скучных дней”».
Супружеские обязанности
Все, что происходит с супругами после заключения брака, в Средневековье также подчинено жестким обычаям. Так, при въезде молодой пары в новое жилище в очаге разводится огонь, ибо очаг с античных времен считается символом собственного дома. «Дом и очаг» и «свой очаг дороже золота» — издавна употребляемые немецкие выражения. Существует также обычай приносить в новое жилище хлеб и соль — они служат талисманами долгого благополучия. Как внешний знак нового статуса женщина получает ключ и тем самым хозяйственную власть — теперь у нее есть полномочия распоряжаться слугами и, если понадобится, выгонять нерадивых. Женская обязанность распоряжаться хозяйством, пришедшая из римского права, — это не признак покорности, а выражение привилегии.
После свадьбы молодая женщина меняет одежду и внешний вид. До брака ее волосы были непокрытыми и распущенными. Теперь она собирает их в узел и временами прячет под чепец. Изменение прически не столько демонстрация послушания и благопристойности, сколько практическая необходимость: длинные распущенные волосы мешают в работе по хозяйству. Не стоит забывать и другое: замужнюю женщину можно с первого взгляда отличить от юной девушки.
Средневековье не делает тайны из того, что главная цель брака — дети. «У кого нет детей, тот не знает смысла жизни», — утверждает немецкая пословица. Как уже было сказано, личные чувства — такие, как любовь и душевная привязанность, — еще во многом чужды средневековому браку. Однако без потомства супружество не имеет ценности. В каждом брачном договоре по умолчанию предполагается, что женщина детородна. Если жена выполняет этот долг перед супругом, семьей и обществом, она заслуживает ответного уважения, и ее авторитет растет.
А что происходит, если произвести потомство не в состоянии мужчина? В Средние века нашли ответ и на этот вопрос — если супруг неспособен зачать ребенка, в дело вступает так называемый «брачный помощник». Нет ничего предосудительного в том, что суррогатный муж, возможно, сам женат и, оказывая помощь, изменяет собственной жене. Юридически эта проблема также решается по-разному. Мужчина может потребовать развода, если его жена не рожает детей, а жена на это права не имеет — она лишь может прибегнуть к услугам «брачного помощника». Мужчина может уступить свою жену другому по целому ряду причин (из-за денег, ради удовольствия или по другим низменным соображениям), однако на практике разница почти неуловима, и перед судом может разыграться настоящая комедия. Обман, притворство, ложь — все бывает, как, например, в случае, когда супруг притворяется спящим и допускает измену жены в надежде на то, что захваченный с поличным преступник ему заплатит.
Сводничество со стороны супруга, как правило, подлежит суровому наказанию, однако в некоторых крестьянских правовых уложениях она разрешается, а в случае импотенции супруга — даже предписывается. При этом дело доходит до странных ритуалов. На мужчину, страдающего половым бессилием, возлагается обязанность перенести свою жену через девять заборов, после чего со всей осторожностью опустить ее, не причиняя побоев и не говоря дурного слова. Незадачливый супруг должен созвать соседей и попросить их помочь его жене, поскольку сам он это сделать не в силах. Он прямо-таки напрашивается на оскорбления, насмешки, презрение и становится вечной мишенью для злословия. Тем не менее он вынужден разыгрывать этот фарс, поскольку жена по собственной инициативе не может пойти к соседу — это была бы супружеская измена.
Соседа, правда, нельзя принуждать к выполнению этой просьбы. Ведь он может побаиваться собственной жены или испытывать отвращение к предлагаемой женщине — как бы то ни было, его отказ будет принят во внимание. В этом случае мужу остается послать жену на ближайшую ярмарку, нарядить ее получше и поручить ей там осмотреться. Здесь право собственности мужа на жену не только доводится до крайности, но и извращается. Если мужчина не может сам произвести потомство, женщина обязана воспользоваться заменой, противно ей это или нет, нравится ей суррогатный супруг или нет. Она должна лечь и позволить совершить над собой то, что необходимо для исполнения ее долга.
После такого полового сношения женщина ест жареную курицу, схожую со «свадебной», которой лакомятся новобрачные на супружеском ложе. Это блюдо должен подать муж, что, наверное, немного забавно, однако таким образом супруг подтверждает: половой акт выполнен с его согласия, а детей, зачатых таким образом, он готов считать своими.
Запретные плоды
Двое- или троебрачие в Средние века не настолько редки, как теперь, хотя в высших слоях общества встречаются лишь в единичных случаях. Они, само собой разумеется, запрещены и предполагают наказание. Например, в Нюрнберге тех, кто преступил этот закон, топили в мешках (для женщин подобное наказание вообще было в порядке вещей). Несмотря на судебную практику, вновь и вновь раздаются требования разрешить двоебрачие. В дискуссиях авторитетные правоведы на каждое доказательство отвечают встречным доводом, собирают из разных источников аргументы в пользу многобрачия: мол, сам Бог хотел полигамии и разрешил ее, в Библии об этом многократно упоминается, даже у пророков, и никто не был наказан за этот грех; мол, полигамия — лучшее средство «для утоления страсти и против распутства», к тому же она служит подлинной цели брака — рождению детей. Посредством полигамии стимулируется общинная жизнь, завязывается много знакомств, и некоторые женщины, которые иначе остались бы незамужними и терзались бы искушениями плоти, при помощи полигамии познают супружеские радости.
Внебрачные отношения считаются вполне обычным делом, несмотря на запреты и наказания. Однако оценка такого образа жизни совершенно несправедлива. Всякая женщина, вступающая в половую связь вне брака, считается шлюхой, а о девушке, которая не противится воле своего возлюбленного, говорят, что она «стала его девкой».
Если же мужчина приводит девушку «к падению» без обручения (тем самым делая ее «падшей»), ему это сходит с рук, зато девушка несет суровое наказание. Власти весьма изобретательны в поиске таких правонарушений. Впрочем, умеют они и на браке настоять: падшую девушку и ее соблазнителя держат в тюрьме до тех пор, пока те не согласятся на венчание. Если мужчина не соглашается на брак, за него это делает судебный исполнитель. Вот типичная история из хроники: «В понедельник 5 сентября 1579 года Матес Бехтольд из Нойштадта и Агнес, крестьянка из Кобурга, в церкви признавшие свое распутство и разврат и достойно и смиренно принявшие наказание, в темнице были соединены и по-супружески отданы друг другу, после чего у ней завелся дитятя, с рождением коего мать опамятовалась, и со бесчестьем было покончено».
В те времена знакомиться и искать друг друга трудно, ведь люди постоянно находились под строгим надзором, поэтому в руках у сводников — профессиональных или по случаю — все козыри. Иная соблазненная сама становится соблазнительницей, «сводницей», а проститутка заканчивает карьеру деятельностью свахи, навлекая на себя подозрения властей. Те всегда готовы применить привычные наказания — изгнание из города, позорный столб, порка или «порочный камень» на шею.
Работу сводников выполняют также сутенеры. Иоганн Гейлер фон Кайзерберг[38] пишет: «Когда у них кончаются деньги, они говорят своим девкам: иди и смотри у меня, чтобы деньги были; иди к такому-то и такому-то священнику, студенту или благородному и проси у него взаймы гульден, да без денег не возвращайся, смотри, где раздобыть или заработать, а то еще окажешься в дураках!»
Свести собственную жену с высокородным господином большим грехом не считается, а вот прелюбодеяние, напротив, по крайней мере теоретически, влечет за собой жестокое наказание. Свод законов герцога Морица Саксонского, датированный 1543 годом, определяет без обиняков, что супружеская измена — как мужа, так и жены — карается отсечением головы. Повсюду происходят казни — за супружескую измену, изнасилование, двоебрачие, кровосмешение. Другие виды распутства караются заточением в башню, позорным столбом, «порочным камнем», изгнанием.
Это создает атмосферу постоянного надзора, которого можно избежать лишь хитростью и коварством. Оставит, например, купец на долгое время свою жену одну, а она вдруг возьмет и понесет от кого-то, и тогда из беды помогает выпутаться лишь знахарка, сведущая в травах, или какой-нибудь иной ведун. Приходится прибегать и к самым сомнительным теориям. Например, в одной вюрцбургской грамоте 1437 года читаем: «Как семена растений не теряют своей способности прорастать даже через несколько лет, так и мужское семя может после долгого покоя вдруг вспомнить о своем предназначении и приступить к действию».
В Средневековье люди с удовольствием забавлялись историями о неверных женах и о том, как они обманывают своих мужей. В них со злорадством повествуется о происках и кознях, о мужьях, которым жены наставили рога. Запретный плод сладок — тяга к авантюрам действует возбуждающе.
Женщинам, как правило, везло меньше. Если в супружеской измене повинна жена, муж имеет право выгнать ее из дома, дав с собой четыре пфеннига и веретено — символ хозяйки дома. Требовать большего повинная жена не может, даже если ее приданное было очень богатым. Если муж застигнет прелюбодействующую жену на месте преступления, он может убить ее вместе с любовником — супруг имеет на это полное право. Остается только гадать, как часто это происходило на деле — сейчас речь идет о правосознании. Средневековому мышлению отнюдь не чужда мысль о том, что изменившую жену можно избить и обезобразить так, что никто больше не захочет водить с ней шашни.
Правда, муж, обладающий чувством справедливости, не вымещает свой гнев на безвинной жене, если ее преследует другой мужчина, а просто преподносит назойливому сопернику урок, избавляющий супругов от необходимости разводиться.
Причинами развода также могут послужить бесплодие женщины или импотенция мужчины. По этому поводу расторгалось бессчетное количество браков, поскольку истец зачастую просто лгал, стремясь расстаться с надоевшей половиной.
Католическая церковь допускает лишь прекращение супружеского сожительства, однако продолжает рассматривать разведенных как супругов. Поскольку брак имеет статус таинства, супружеская измена — прежде всего его нарушение, причем преступлением считается только законченный сексуальный акт. На любовные игры — даже очевидные — великодушно закрывают глаза.
Тем не менее беглый просмотр имевших хождение документов, романов, памфлетов, шванков, народных книг и песен показывает, что теория и практика, как это часто бывало в Средневековье, во многом расходятся. Мы ощущаем чувственность, скептическое отношение к браку, огромное удовольствие от проявлений эротики и распутства. Чем больше оскудевает мораль, тем жестче становятся законы, однако суровость не способна исправить нравы. Чем больше сами монахи и монахини, священники и папы предаются распутству, тем ревностнее они клеймят развращенные нравы и сетуют на то, что можно назвать вполне безобидным и естественным.
Любовное колдовство и магические ритуалы
С. 147. Сладострастие (фрагмент). Гравюра на меди Криспина де Пассе с работы Мартина де Фосса.
С. 148. Нижнерейнский мастер. Любовное колдовство. Картина на дереве, вторая половина XV в.
Средства для разжигания страсти
В Средневековье охотно говорили о любовном дурмане, о любви без памяти и любовном опьянении — то есть о любви как наркотике. И, конечно же, демонизировали это пьянящее зелье.
Поскольку любовь — дело двоих, один человек может рассчитывать только на то, что другой пойдет ему навстречу. Но что делать, если сердечный пламень одного не в состоянии разжечь другого? Тогда прибегают к волшебству и ведьмовству, помогающим в сердечных делах.
Больше всего востребованы любовные напитки, изготовленные опытными и всегда падкими до щедрой платы ведунами. Заказывают их сладострастники или отчаявшиеся влюбленные, а выпивают люди, ни о чем не подозревающие. Средство тайком подмешивается в их кубки в надежде облегчить задуманное соблазнение и возбудить возлюбленного или возлюбленную.
Сегодня мы с легкостью относим любовные напитки к миру сказок, однако в Средневековье, несмотря на свой сомнительный состав, некоторые зелья применялись довольно часто. Порой напитки оказывались крайне опасными и при неправильной дозировке могли привести к тяжелому отравлению, а то и к смерти. Любовный напиток немыслим без афродизиаков, известных еще с античных времен. Так, сильным действием на истощенного мужчину славится сок сельдерея с медом, если применить его правильно, в соответствии с инструкцией: «Смажь этим соком член и яйца, и тогда добьешься, что, кроме тебя, она никого никогда не полюбит».
Пьетро Андре Маттиоли[39], исследовавший афродизиаки в Средние века, весьма лаконично и убедительно писал: «Желтые корнеплоды привносят охоту в супружеские дела». Еще сильнее, чем корни, подогревают желание семена некоторых растений. Утверждается, что в этом смысле превосходно зарекомендовали себя петрушка и даже обыкновенная морковь. «Семена корнеплодов, принятые с териаком[40], — предупреждает Маттиоли, — пробуждают развратные желания». Это утверждение было воспринято с большим энтузиазмом.
То, что подмаренник слывет любовным средством, связано не столько с действующим веществом, но и с символизмом. Душистое зеленое растение расширяет сосуды, успокаивает, снимает напряжение и судороги, что весьма способствует любви. Тот факт, что употребление подмаренника ведет к повышенному потоотделению, никого не смущает — зачастую его также принимают за признак возбуждения. Но в первую очередь эта трава с незапамятных времен применяется для ароматизации вин и ликеров, из-за чего возбуждающий эффект алкоголя не долго думая приписали именно ей.
Однако свою подлинную силу, как обнаружила современная немецкая писательница Ева Гезина Баур, «эта трава приобретает благодаря символическому обстоятельству — ведь она расцветает в упоительном мае, который связан с пробуждением во всех смыслах слова. Майское дерево[41], как фаллический символ, демонстрирует это так же наглядно, как и многие по большей части забытые в наши дни обычаи и просторечные выражения. Королем древнегерманского майского праздника — праздника плодородия — избирался тот парень, который считался в деревне самым сильным по мужской части: ведь майскому королю полагалась временная возлюбленная, майская королева, с которой он должен был совокупляться, причем чем больше, тем лучше. Разумеется, в этом тоже был символизм — поскольку дело происходило на пашне, почва обретала плодородие. “Майскими кошками” в старину называли легкомысленных девушек, в первую очередь тех, что предлагали себя в мае, дабы забеременеть, — ведь они точно знали: шансы в этом месяце благоприятнее».
Особенно надежными гарантами любовных радостей в средневековой Европе считались гвоздика и мускатный орех. Так, в песенке о пряностях, которая с 1534 года получает распространение в многочисленных изданиях под названием «Источник юности» или «Ключ от сердца», воспевается действие обоих этих ингредиентов, которые на самом деле скорее отличаются интенсивным ароматом, чем возбуждающей силой.
В моем саду девичьем Дерев — наперечет. Растет там куст гвоздичный, Мускатник там растет. Орех мускатный сладок, Но жгуч гвоздичный цвет. То — милому подарок, Чтоб помнил много лет[42].К любовным зельям относят также кардамон и имбирь, которые еще «Камасутра» рекомендует смешивать с корицей, растирать в порошок и добавлять в вино. Так получают любовный напиток, раскрепощающий желания благодаря алкоголю и пряностям, обладающим свойствами афродизиаков.
Гвоздика ценится не только как афродизиак, но и как лекарство: она очищает кровь, унимает боль, способствует пищеварению и успокаивает. Своей славой в качестве любовного средства она обязана, пожалуй, свойству улучшать кровообращение, что может помочь при импотенции.
Так же высоко с античных времен ценится мускатный шалфей, служащий и лекарством, и «любовной пряностью»; его подмешивают в вино. Мускатный орех, то есть сердцевина плодов мускатного дерева, похожих на абрикосы, действует как противоядие, противовоспалительное и противоревматическое средство. Он также славится тем, что повышает сексуальное влечение. В больших дозах мускатный орех может даже вызывать галлюцинации. Эффективным любовным средством с незапамятных времен слывет и корица, которая, как утверждают, способствует эрекции у мужчин и повышает сексуальный аппетит женщин.
Стремясь добиться подобного эффекта, в старину употребляли даже опасные растения, например ядовитые ягоды омелы. В ложно приписываемой Альберту Великому[43] «Книге тайн» можно найти рецепт любовного порошка: «Возьми цветы и семена девясила, вербены и несколько ягод с куста омелы. Затем разотри высушенные в печи растения в мелкий порошок. Подсыпь его своему избраннику в вино. Скоро судьба повернется к тебе лицом».
Упомянем и «любовную водицу» — всем известный стимулятор желания. Легендарная чудо-вода, предназначенная для оживления души и тела перед любовью и для любви, — не что иное, как пряное вино: сюда входят корица, имбирь, мускатный орех, а еще тимьян, розмарин и калган. Пряности тонко размалывают и толкут, красное вино настаивают на них в течение недели, а затем процеживают через ткань.
Для приготовления пряных напитков издавна используют красное вино, собственные вкусовые нюансы которого очень гармонично сочетаются с интенсивными ароматами пряностей. Красное вино создает необходимую для любовной игры теплоту, более того — оно распаляет желание. Из-за чувственного рубиново-красного цвета оно считается особенно эротичным, его пламенный оттенок наводит на мысль о любовном огне.
Судя по всему, афродизиаки применяются не столько из-за своего воздействия, сколько из-за веры в их необыкновенную способность стимулировать любовные чувства. Неудивительно, что они быстро будят подозрения. Суровых блюстителей морали настораживает даже упоминание о растении, получившем славу «травы удовольствий». Ведь им сразу становится ясно, о каких удовольствиях идет речь. Однако чем больше отцы церкви и богомолки демонизируют любовные средства, раскрепощающие эротические фантазии и желания, тем активнее увеличивается спрос на них.
Любовный эликсир Изольды
Афродизиак, на весь мир прославившийся роковыми событиями, которые последовали за его употреблением, представлял собой напиток. Речь идет о любовном зелье Тристана и Изольды. Готфрид Страсбургский, немецкий средневековый поэт, с большим тщанием описал действие любовного напитка, отнимающего у людей рассудок.
Юная дочь ирландского короля Изольда должна выйти замуж за уже немолодого Марка, короля Корнуолла. Ее мать, судя по всему, догадывается, что из этого брака ничего не выйдет, если не прибегнуть к познаниям в области афродизиаков. Дело осложняется тем, что Марк — заклятый враг ирландцев, и бедную Изольду приносят в жертву политическому благоразумию. И вот приготовлен любовный напиток, которому в предстоящем браке надлежит разжечь необходимый огонь страсти. Невесту в морском путешествии сопровождают ее кузина и подруга Брангена и Тристан, сват от короля Марка.
Заботливая мать Изольды вручает любовный напиток Брангене, строго наказав ей ни в коем случае не передавать зелье в чужие руки. Готфрид Страсбургский сообщает нам также, почему мать рассчитывает на то, что Марк выпьет эликсир в нужный момент. В те времена после грубой и кровавой дефлорации — так сказать, «обязательной программы» — по обычаю полагалось выпить вина, чтобы было настроение перейти к «вольным упражнениям». И в это «постсовокупительное питье» как раз следовало добавить любовный эликсир, чтобы второй раунд прошел приятнее.
Однако на корабле по оплошности происходит путаница: эликсир принимают за обычное вино и потчуют им Тристана и Изольду. Когда на месте событий появляется Брангена, уже поздно. Она выбрасывает в море бутылку с остатками напитка, но делу уже не помочь. В результате Изольда и Тристан безнадежно влюбились друг в друга. Во дворце Марка, мучаясь сознанием своей вины и состраданием, Брангена в темноте спальных покоев берет на себя роль Изольды в первом соитии с королем. Но затем приходит ожидаемая пауза — и должен появиться традиционный напиток.
Король потребовал вина. Обычай строг, коль скоро он В далеком прошлом заведен, Нам не дано его менять. Уложишь девушку в кровать, Сорвешь цветок любви, — Что ж, виночерпия зови: Вослед утехам славным Вина испить как равным.Поскольку чудодейственного зелья больше нет, Тристан подает королю обычный перебродивший виноградный сок. Однако он тоже действует. Изольда, которая ложится к королю в постель в надежде, что его страсть уже ослабла, переживает сильное разочарование.
Он в раж вошел от бурных ласк И вновь приникнул к телу. А то ли тело? Эко дело! Во тьме все девы хороши[44]…Автор не допускает никаких сомнений в том, что Изольда все-таки должна отдаться воспылавшему Марку. Судя по всему, Тристан лишил Изольду девственности еще на корабле, в противном случае Марку снова пришлось бы иметь дело с девственной плевой — и тем самым с истиной. Как-никак, он и без любовного зелья полон сексуальной силы и активности.
Чародейство и магия трав
Запреты особенно усиливают эффект афродизиака. Они вызывают волнение, а остальное делает ритуал. Понимание этого эффекта веками помогало знахаркам, ибо не только вера, но и суеверие порой оказывает удивительное воздействие. Известный пример — пресловутый корень мандрагоры, в просторечии называемый «корнем-виселицей». Большинство людей верило в зловещие истории о том, что мандрагора вырастает там, где повешенный, умирая, уронил на землю свое семя. Это растение принадлежит к семейству пасленовых, к которому, наряду с привычными растениями (например, томатом и картофелем), причисляются также ядовитые травы — белена, красавка и дурман. Название мандрагора (по-немецки Alraune), происходящее от древневерхненемецкого runa, указывает, что мы имеем дело с чем-то мистическим или, по меньшей мере, таинственным, ибо слово это означает «тайна» или «сведущий в тайнах». Сами названия некоторых трав говорят о том, чего от них ждут и что им приписывают, будь то любисток (в простонародье его также называют «люби-трава») или живучка (в народе именуется также «девичья краса»). Коренья и травы — основные составляющие всякого колдовского зелья, причем, когда речь идет о колдуньях, имеются в виду женщины, чьи целительские знания опираются на многолетний опыт. Поставщиками их снадобий служат огород, лес и луг. Неслучайно и мужчины, и женщины со своими любовными печалями и сексуальными проблемами идут не к врачам, а к ведьмам и колдуньям. Они тайно обращаются к помощи ворожей, особенно когда дело касается интимных проблем, в решении которых ожидают настоящего чуда от корней с названием «любимчик» или «люби-трава». Недаром богиню Венеру, известную в Германии благодаря римлянам, в Средние века называют ведьмой-мужеубийцей. Основная задача госпожи Венеры и ее последовательниц, как говорят в народе, — наводить порчу на рыцарей, которые до этого были благовоспитанными, целомудренными и богобоязненными. Под любовными празднествами госпожи Венеры, мол, имеется в виду не что иное, как шабаш ведьм. Эта злонамеренная клевета действует: средства, получаемые от богини любви, вдруг объявляются дьявольскими зельями, а сведущие в них женщины тут же превращаются из почитаемых в преследуемых.
Среди всех растений, способствующих любви, больше всего демонизируется белена, ставшая символом чародейства. Это потрясающе красивое растение семейства пасленовых с фиолетово-желтыми цветами даже выглядит магически, и неудивительно, что оно вошло в легенды как растение, обладающее волшебной силой. Однако в обращении с беленой рекомендуется крайняя осторожность, поскольку эта трава обладает высокотоксичными свойствами. Ее листья и семена содержат сильнодействующий алкалоид гиосциамин, который применяют в фармакологии как спазмолитическое и болеутоляющее средство.
Двойственное действие белены было известно еще кельтским друидам, принимавшим ее для того, чтобы пережить волнующие видения будущего или вызвать эротические фантазии. Дурные люди злоупотребляли этим эффектом. Хозяева борделей вручали белену клиентам, а уж те ввергали девушек в желаемое состояние полубессознательной и безудержной сексуальной активности. Позднее белена становится роковой для ворожей, владевших искусством правильной дозировки: пыточных дел мастера давали им это средство в больших дозах, тем самым высвобождая сексуальные фантасмагории. Все, что женщины затем говорили о распутстве и оргиях, протоколировалось, принималось за действительно пережитое и использовалось как доказательство порочности ведьм.
С незапамятных времен рецепты зелий из белены ворожеи держали в секрете. Предшественницы средневековых ведьм, знаменитые своим знанием трав фессалийские волшебницы, изготовляли любовный напиток на основе белены. У кельтов это растение считалась священным. Они называли его belinuntia, по имени Бела, бога солнца, поскольку эта трава создает моменты просветления и внутреннего озарения. На древнегерманском белена называлась bil, то есть «видение», или «галлюцинация». Это же слово означает «мост на небо» — германцы были твердо убеждены, что под влиянием белены пробуждаются свойства ясновидения, открывающие путь к познанию небесных тайн.
Стоит заметить, что названия некоторых трав скорее вводят в заблуждение. Козлятник, который, по идее, должен был бы сделать всякого мужчину по-козлиному похотливым на деле всего лишь мочегонное средство. Правда, высушенные листья этого растения из-за его спазмолитического действия греки и римляне на дионисийских празднествах добавляли в нагретое вино, чтобы таким образом еще больше распалиться.
Колдовство и средства борьбы с ним
Любовь с ее таинственностью, чудесным действием и властью — в те времена, когда все непостижимое объяснялось волшебством, — должна была казаться порождением неведомой, сверхъестественной силы, с которой можно было справиться лишь сверхъестественными средствами. Этим объясняется готовность уверовать в средства, способные вызвать или укротить любовь.
Ритуал приворота преследует исключительно чувственные цели. Колдовство стремится добиться желаемого там, где обаяния и силы личности не хватает. Если дозволенные средства оказываются неэффективными, человек использует запретные методы.
Первейшее средство — «розовые улыбчивые губы» и поцелуй. Чтобы во время поцелуя действовать наверняка, рекомендуется спрятать во рту волшебную траву. Неотразимость подобного поцелуя гарантирована: «Возьми в рот валериану и целуй ту, от которой хочешь любви», — написано в одном трактате. Только вера, не замутненная никакими сомнениями, позволяет выдумать эти волшебные средства, считать их действенными и применять на практике. Тот или та, чью любовь надеются завоевать, получает волшебный напиток или волшебное кушание, отведав которые неизбежно привязывается нерасторжимыми узами к хозяину приворотного зелья.
Церковные своды наказаний, естественно, выносят строжайшие приговоры. Смерти подлежит женщина, которая утверждает, что может своими зельями нанести ущерб телу другого человека или готовит любовные снадобья из мужского семени и менструальной крови. Последняя играет большую роль в античной и средневековой народной медицине, а также в колдовских верованиях. Медицинскому применению этой крови научилась от врачей классической Античности настоятельница монастыря Рупертсберг Хильдегарда Бингенская. Ее рекомендации дожили до XVIII века, когда менструальная кровь еще считалась целебным народным средством. Излишне добавлять, что особенно сильное и благотворное действие приписывали крови девственницы.
Народная вера видит в девственности особое благо, нечто ценное, а в ее обладательницах — сверхъестественные свойства. Девственница якобы в состоянии проделать то, что другому человеку не под силу. Ее менструальную кровь алхимики называют «зенитом юности» и применяют в своих лабораториях. Эта кровь укрощает огонь, уверяет Хильдегарда Бингенская.
Только девственницы в состоянии приручить единорога. К ним чувствуют симпатию слоны, самые целомудренные животные в мире. Девственниц никогда не жалят пчелы. Рубашка, испачканная кровью девственницы, необходима для поиска кладов. Такая рубашка, если носить ее при себе, защитит от меча и копья. Предполагается, что с этой верой связан рыцарский обычай брать на битву что-нибудь из одежды возлюбленной.
Существует несколько руководств по «науке забав», и они подчас столь же невежественны, сколь и курьезны: если мужчины «хотят принудить бабенку поступать с ними по-хорошему», достаточно зашить утиный клюв под отворотом брючины. Другой способ добиться того же — незаметно угостить возлюбленную «языком молодого петуха». Если захочешь снова избавиться от нее, это легко сделать: даришь ей книгу, и «любовь запутается в страницах». Нож или ножницы в качестве дара «перережут» любовь. А если женщина станет тяготиться отношениями, ей достаточно дать мужчине вытереть руки о ее фартук, и тогда он ей опостылеет.
Ничто так не будит воображение, как уверенность, что на любовь можно повлиять. Олень и рябчик — «чудодейственная сила, питающая сладострастие; если обоих употребить вместе, это поможет в супружеских делах». Если съесть «член волка, поджаренный и мелко порезанный», то, «когда сил маловато», супружеские дела пойдут на лад. Если раздобыть волосы любимого человека, сжечь их, смешать пепел с вином и выпить, привороженный будет соответствовать эротическим желаниям.
Хильдегарда Бингенская рекомендует молодило в качестве растительного возбудителя полового влечения: «Если его съест мужчина, у которого в порядке половые части, то он загорится любовным желанием». Не только травники, но и поваренные книги дают немало подсказок и называют множество трав и пряностей, влияющих на оплодотворение: турецкий горох нут «умножает семя и желание», как и анис; репчатый лук, порей, фенхель и садовая мята укрепляют семя; французский чертополох способствует разврату; корнеплоды укрепляют мужчину, морковь его возбуждает; шафран и перец придают «желание развратничать».
Тайное знание способно непомерно укрепить мужскую силу, а также парализовать ее или уничтожить вовсе, сделать женщину бесплодной и даже убить ребенка в материнской утробе. Вера в колдовскую силу, злоба и мстительность не устают изобретать все новые средства губительного воздействовия на половую сферу. Этому может послужить, например, знаменитое искусство колдовских заговоров. На шнурке завязывают узлы, произнося при этом заклинание. Гилберт Ангеликус[45] описывает некоторые виды таких действий, вызывающих мужское бессилие: «Одни отнимают мужскую силу тем, что завязывают красный шнурок, другие тем, что замыкают висячий замок или запирают его на ключ. Некоторые поворачивают на себе пояс и говорят при этом волшебные слова. Иные бросают растения на дорогу, по которой кто-то должен подойти к двери, или берут землю с могилы убитого и бросают в постель или в комнату, через которую он должен пройти… Вбивают в землю кол, вырезанный из ветки дуба, трижды топнув по нему ногой, в том месте, куда кто-то помочился, и тот теряет мужскую силу».
Однако на каждый яд найдется противоядие, а на каждое колдовство — средство борьбы с ним. Если кого-то лишили мужской силы при помощи колдовства, этой беде можно помочь. «Если это сделано при помощи замка или злого воображения, возьми растение львиный зев, завари в стоячей воде и выпей. Если это произошло через красный шнурок, вытяни из забора кол, ляг на землю, свесь детородный орган в дыру, снова встань, снова вбей кол, не забудь помолиться. Если это сделано землей с могилы убитого, возьми дубовую дощечку от мертвого дерева, чтобы в дощечке был сучок, выбей сучок, помочись в дырку».
Впоследствии секреты знахарок, их похлебки и напитки становятся достоянием врачей и аптекарей. Симплициссимус[46] перед приключением в парижской Венериной горе съедает несколько маленьких колбасок, «которые, как мне почудилось, изрядно разили аптекой». Странствующие студенты издавна брали на себя труд «принудителей к любовной связи и любовных искусителей». Они убеждают удивленную публику, что «были в Венериной горе», и хвастались полученными там знаниями. Подобно студентам, медицинскими познаниями и некоторыми колдовскими трюками, например искусственным восстановлением нарушенной девственности, похвалялись странствующие музыканты, придворные шуты и сводники.
Языческое наследие
Без сомнения, христианская вера переняла и переработала некоторые магические понятия языческих времен. Таинства в католицизме воспринимают как посвящения в мистериях, а последнее причастие умирающим рассматривается как колдовство, обеспечивающее бессмертие. С тех пор как христианская церковь в IV веке наполовину убеждает, наполовину принуждает язычников к крещению, подобные идеи оказывают влияние и на теологию.
В Библии заложена вера в силу святых — людей и предметов. В ней рассказывается история Озы, который из благих намерений, желая удержать пошатнувшийся на колеснице ковчег, коснулся его и замертво упал на землю (2 Цар. 6, 6–9). У Плутарха есть аналогичный эпизод в истории об Иле, основателе Илиона (Трои), который спасает из горящего храма святыню — изображение Афины Паллады — и при этом слепнет. Магическая вера запрещает жрецам Яхве выходить в преддверие храма в храмовых одеждах, чтобы священная сила не перешла на народ и не причинила ему вреда. Это, в свою очередь, имеет сходство с церемонией очищения из Библии (Лев. 16, 20–21): грехи народа переносятся, подобно электрическому заряду, на козла отпущения, которого затем изгоняют в пустыню.
В Новом Завете примером влияния магического мышления становится эпизод, в котором Иисус чувствует, «что вышла из Него сила», когда истекающая кровью женщина коснулась его одежд (Мар. 5: 30; Лук. 8:46), а снятые с Павла платки и опоясания обладают целебным действием (Деян. 19:12).
Церковь назвала это virtus[47]; Фома Аквинский говорит о «vis[48], или virtus spiritualis[49], вложенных Богом в святыни». Рационалист Фома возражает против многого в христианстве, но не против ношения амулетов. Что именно под этим подразумевается, показывает сообщение Григория Турского[50] о могиле Петра в Риме. Там можно самостоятельно создать себе реликвию, бросив на могилу предмет, вес которого точно знаешь. Если молитвы и вера достаточно сильны, то предмет — после того, как ты снова заберешь его с могилы, — весит больше, потому что теперь в нем присутствует добродетель. Так что языческие взгляды по-прежнему непобедимы. Даже теперь случается, что священник во время паломничества подносит к реликвиям платки, которые ему передали верующие. В этом тоже проявляется желание верующего забрать с собой хотя бы часть таинственной силы.
Образные изображения фаллоса и вульвы и применение их в качестве амулетов известны и в христианстве. Молодая крестьянка и в XX веке прикрепляет восковую фигурку в форме матки перед образами, желая напомнить святым, что ее следует сделать детородной. Или прикасается к изображению полового органа во время магического религиозного обряда, чтобы таким образом достичь желаемого эффекта. Доказательства христианских чудес многочисленны. На уровне народной религии переход к христианству не меняет практически ничего. Церковь часто перенимает старое верование или лишь незначительно его модифицирует. Так, например, Сретенье Господне восходит к римской процессии с огнями, из летнего солнцеворота возникает праздник Иоанна Крестителя. Старый политеизм продолжает жить в почитании Марии и святых, число которых так быстро умножается, что уже в VIII веке звучат предостережения от «изобретения» новых святых. Временами образ старого культа сохраняется под новым названием — так, например, в городе Мец даже в XVIII веке почитают три галльских материнских божества как «Трех Марий».
Во Франконии в неурожайные годы виноградари наказывают изображение святого Урбана побоями. В других местах, если заступник не оправдал ожиданий, статуи святых топят в воде, ругают их или ставят в темное помещение, лишив фигуру пышных одеяний. Как еще крестьяне могут вызвать дождь? И хотя мы с трудом соглашаемся видеть черты христианства в наказании деревянных и каменных изображений, с точки зрения религии и психологии эта кара очень убедительна, и вряд ли стоит удивляться тому, что христианство и языческие боги уживаются вместе.
В известных условиях, когда новая вера не может помочь, старые божества снова обретают силу. Непринужденное обхождение простых людей со святыми находит отражение и в сексуальной жизни. Там, где господствует народная вера, присутствует, как правило, то, что Людвиг Тома[51] называет языческой сексуальностью «с едва заметной чувственностью». Писатель одобряет баварских крестьян и критично высказывается о «мечтателях», которые по недомыслию изображают деревенские добродетели так, «как того требует их убогий катехизис».
Народные обычаи и ритуалы
Проявление наивного суеверия — гадания, которые устраивали девушки, желающие выйти замуж, и влюбленные молодые люди. Это происходило в так называемые «приметные дни» — Иванов день (24 июня), Андреев день (30 ноября), ночь на Фому Неверующего (21 декабря), Сочельник, День святого Сильвестра (канун Нового года), а также пасхальное и троицыно утро.
Для удачного гадания, как правило, обязательна нагота. В обнаженном теле женщины кроется таинственная сила, вид ее умножает плодородие полей. Один из самых своеобразных и вместе с тем, казалось бы, очевидных обычаев — половой акт под открытым небом, у Бога на виду. В Англии мужчина и женщина в обнимку перекатываются по пашне, в Гринвиче, например, молодые пары — особенно на Пасху и Троицу — скатываются по склону холма. На Украине крестьяне в первые весенние дни ложатся по церковному благословению на поле, и семейные пары катаются туда-сюда по засеянной пашне. Молодые люди следуют их примеру. Так, якобы, «делал святой Георгий и потом снимал богатый урожай».
В окрестностях Хемница существует многовековой обычай — в ночь на Иванов день предаваться буйному веселью на луковой грядке, чтобы лучше рос лук. В районе Заальфельда, чтобы собрать большой урожай льна, девушки ночью пляшут, раздеваются догола и тоже катаются по полю. В горах Рёна люди ложатся в Сочельник на стручки гороха и выпавшие при этом горошины подмешивают в посевной материал, чтобы обеспечить хорошую всхожесть. В некоторых местностях Швабии еще в XIX веке был в ходу такой обычай: влюбленные, живущие в разных деревнях, в первый день после обручения шли навстречу друг другу по проселочной дороге, а на месте встречи совокуплялись. Здесь тоже не обошлось без оккультных представлений. Возможно, люди таким образом стремились задобрить божества местных полей, а может быть, искали защиты у силы, способной сохранить мир между деревнями.
Подобные обычаи вырастают из веры в то, что растения подобны человеку. Они живые и имеют пол — мужской или женский. В этих представлениях выражается религиозная связь с природой, которой сегодня уже не существует. Христианство не в состоянии поколебать уверенность, что растения одухотворены. Деревья — место жительства богов — символизируют жизнь, смерть и воскресение; они даруют жизнь, приносят смерть и, если с ними обращаться по-дружески, в свой черед превращают эту смерть в новую жизнь.
Еще один религиозно-эротический обычай восходит к глубокой древности — битье так называемыми прутьями жизни. Женщины и самки домашнего скота, в первую очередь коровы и кобылы, в определенное время года высекаются зелеными ветвями — прутьями жизни, способными повысить их плодовитость. Хлыст, палка, прут или копье — древние символы мужского достоинства, то есть зачатия. Прутья срезаются с деревьев или кустарников, которые в народных представлениях связаны с детородностью: с рябины, красные ягоды которой напоминают полное детей семейное гнездо; с деревьев, рано дающих свежие побеги, таких как бузина, береза и ива; с вечнозеленых, а потому обещающих вечную жизнь кустарников — самшита, падуба остролистного, можжевельника, розмарина. Удар прутом жизни, срезанным с яблони, улучшает здоровье и защищает от ран, поскольку яблоня наделена женским началом.
От обычая весной «наделять женщин детородностью» посредством ударов прутьями жизни неотделим другой обряд — стегать новобрачную пару. В Верхнем Пфальце невесту гнали к церкви березовым прутом. У католиков Вармии — области Польши, расположенной на южном побережье Балтийского моря, — невесту по пути к брачному ложу погоняли еловой веткой. Литовская хроника 1690 года сообщает, что невесту подгоняют в спальные покои хлыстом. А перед этим, когда она рука об руку с суженым переступает порог нового дома, ей моют ноги. Этой водой, которая обладала особой силой, если новобрачная сохранила девственность, опрыскивали всех присутствующих, всю домашнюю утварь, скот, а также постель. Затем невесте завязывали глаза и проводили мимо всех хозяйственных построек, причем она должна была коснуться ногой каждой двери. Потом ее осыпали всевозможными плодами. Когда же она наконец достигала своих покоев, гости набрасывались на нее и принимались хлестать, и только затем она добиралась до жениха, поджидавшего ее в постели. Эти «побои» тоже награждали ее плодовитостью.
Первого мая перед восходом солнца девушки очищают веткой розмарина сосуд, идут к уединенному источнику, молятся, произносят заклинание и, опустившись на колени, черпают воду. Как только на горизонте покажется солнце, девушка должна девять раз пробормотать слова: «Ами, реби, бели», — а еще до того, как оно полностью взойдет, взволновать воду и вглядеться в нее, чтобы увидеть своего суженого.
До нас дошло множество традиционных способов, позволяющих получить сведения о суженом, о счастье в браке и количестве детей. Эти обычаи магическим образом обеспечивают сексуальное благополучие в семье, делают женщину плодовитой или помогают легко разродиться.
Сексуальная магия
Христианизация Европы мало изменяет языческие сексуальные обряды — они прочно входят в новую веру. Ранние христианские общины как ни в чем не бывало сохраняют верность фаллическим символам античного мира. Например, на просфоре, помимо креста и чаши, изображают еще и сатира. Даже в VIII веке в Германии все еще приходится запрещать произнесение молитв перед fascinum, фаллосом, и наказывать за них строгим постом. Приходится напоминать о запрете вешать на детей фаллические амулеты. В IX веке церковный собор в Челмсфорде приходит к выводу о необходимости запретить почитание английских фаллических идолов, впрочем, решение это применялось без особого успеха. В тяжелые времена люди вспоминают о языческом огне, о символах соития и прочей сексуальной магии.
Уилл-Эрих Пойкерт[52] пишет в своей книге «Тайный культ», что священник Иоганн из Инверкайтинга заслужил порицание за то, что на Пасху собирал деревенских девушек, заставлял их водить хоровод в честь бога Либера (Диониса) и «при этом нести во главе шествия на толстом шесте искусно изображенные мужские члены, служащие для осеменения; распевая песни, они развратными жестами и словами разжигали в зрителях тягу к необузданному веселью».
Во Франции еще в XVIII веке святые Жиль Котентенский, Рене Анжуйский и Гиньоль изображаются с большими фаллосами. Бесплодные женщины отщипывают кусочки от их деревянных членов и настаивают на них вино. На праздник святого Гургона, который отмечается 9 сентября в Руане, люди носят на шее фаллические стеклянные амулеты.
В немецкоязычном пространстве святой Леонард как преемник бога плодородия считается покровителем скота. Поэтому паломники припадают к «гвоздям Леонарда» — большим колодам, до двух центнеров весом, которые служат фаллическими символами. Еще в XVIII веке в Верхней Баварии устраиваются шествия с «гвоздем Леонарда», который, в конце концов, обнимает и целует девушка.
Церкви, одобряющей только «брачное целомудрие», то есть узаконенное сожительство, приходится наряду с неофициальным культом фаллоса терпеть и соответствующие изображения внутри и снаружи храмов и соборов. В Белзене западный портал капеллы украшен фаллической фигурой, а в баварском Эметцхайме близ Вайсенбурга уцелел остаток римского храма — камень с изображением, на который садились бесплодные женщины в надежде исцелиться. Эти и многие другие образцы фаллических символов обнаружены в европейских странах, которые когда-то входили в состав Римской империи. Самые красивые образцы старого культа можно найти в Италии.
Женственность едва ли уступает по великолепию изображениям мужской мощи — иной раз даже превосходит по наглядности стыдливые намеки на фаллическое достоинство. Скульптура обнаженной распутницы Юлии стоит у дверей церкви и отгоняет демонов, показывая им вульву. В народной вере она помогает при родах. Сирена у портала шотландской церкви в Регенсбурге хоть и стоит в той же позе, но ее изображение немного стерлось и вряд ли еще может оказать волшебное действие.
Официальная церковь не столь открыто управляется с подробностями интимной жизни людей, но верующие и в сексуальной нужде взывают к Богоматери, а при бесплодии, в стремлении забеременеть и облегчить роды женщины просят помощи у многочисленных святых. Пояс святой Маргариты и флакончик Алоизия с осколком Гроба Господня помогают против осложнений при разрешении от бремени, так же как и обвязанная вокруг тела беременной лента, если ее длина равна высоте статуи Марии или — в Верхней Австрии — статуи святого Сикста. В Пинцгау (Австрийские Альпы) перед Рождеством принято торжественно носить от дома к дому изображение Марии, которая якобы ищет, где ей переночевать, а затем на одну ночь оставлять дома — она благословляет женщин плодовитостью. В церковь эта икона, изображающая Марию на сносях, возвращается только ко всенощной на Рождество. На горе Боген в Нижней Баварии у беременной Марии есть собственное место, куда приходят верующие. Ее статуя оснащена откидным оконцем, за которым видно младенца Иисуса, растущего в ее теле. Своеобразие этой фигуры породило множество копий. Средневековый мотив кормящей Богоматери с обнаженной грудью также варьируется. Например, из пышной груди Марии, словно из родника, бьет вода, обладающая целительной силой. Подобные источники — объекты постоянного паломничества.
От примитивной народной веры ведут свое происхождение и весенние шествия в Катании на Сицилии, во время которых народ несет вылепленные из воска груди святой Агаты. Поскольку мучители, согласно житиям, отсекли ей груди, а те снова отросли, Агата считается покровительницей этой части женского тела. Другие святые тоже имеют отношение к этой теме: Бландина помогает при нехватке молока, Гонория и Катарина устраняют недоразвитость молочных желез. К Либерате, почитаемой в некоторых местностях Италии, но не признанной официальной церковью, обращаются с такой мольбой: «Прошу тебя, пусть дитя выйдет наружу с той же легкостью, с какой некогда попало внутрь».
Нездоровые настроения, иссушающие грудь Марии и подавляющие культ Либераты, враждебны простоте, с которой святой подчас ставится на службу жизни, а тем самым и сексуальности. Однако даже духовенство не свободно от суеверия, связанного с эротической магией. Посредством «крещения портретов» священник усиливает волшебство, которое связано с именем крестимого, — вместе с человеком он освящает изображение святого. К исполнению такого крещения священника побуждают деньги и прочие формы благодарности. Во время службы церковники кладут на или под алтарный покров кольца, восковые изваяния, металлические бляхи, гербы и вывески — и готовы окрестить хоть жабу.
Все эти примеры чародейства, связанного с любовью и деторождением, показывают, что магические элементы народной веры влекут за собой не только разлад. Скорее, они служат некоим мотивом, объединяющим сексуальность и религию и носящим отпечаток волшебства природы — столь же необъяснимого, сколь и притягательного.
Похоть в бане
С. 175. Средневековый бордель (фрагмент). Ксилография, XV в.
С. 176. Мастер герцога Антона Бургундского. Баня (фрагмент, ок. 1470).
Культ Венеры в ванне
Чрезвычайно наглядный пример образа жизни и двоякости моральных установок дает средневековая история купания.
Когда именно в средневековой Европе были сооружены первые публичные бани, установить не удается. Известно только, что они были весьма популярны у крестоносцев, возвращавшихся со своих священных и не очень священных походов. Они прекрасно усвоили, какое это благо — публичные бани. Правда, нам известно, что и Карл Великий посещал целительные источники Аахена и что этим временем датируется основание купальной традиции. Конечно, бани были еще у римлян, и те ввели их в обиход в своих провинциях — однако они не были общественными.
В Средние века женщины и мужчины мылись вместе — по крайней мере, поначалу, и в подобном поведении не усматривалось ничего безнравственного. Это видно и по старинному обычаю весеннего купания, которое, по преданию, исцеляло все болезни и надежно защищало от будущих недугов. Стоило мартовскому солнцу растопить лед и разбудить к новой жизни источники, как наступала пора спасительного весеннего купания — оно должно было заново вдохнуть жизнь и в мужчин, и в женщин. Такое купание совершалось представителями обоих полов совместно и с большим удовольствием.
Однако невинные радости купания все больше и больше приобретают эротический оттенок. Это видно, например, по играм, которые развиваются из майских купаний — таких же праздников естества, как и первые весенние купания. Теперь эротика становится существенным элементом праздника. Девушки и женщины выбирают себе «майского любовника», которому они в этот день оказывают более чем дружескую благосклонность. Тут доходит и до дела, как мы можем видеть на живописных изображениях, несмотря на их аллегоричность. Гравюра на дереве XV века, изображающая планету Венеру, показывает ряд любовных сцен, которые не нуждаются в дополнительном разъяснении. В купальной бадье среди прочих — влюбленная пара, которая обнимается и целуется, указывая, что такие ванны служат скорее делу телесной любви, чем очищения. Перед купальной бадьей виден стол, уставленный закусками и напитками.
Если кто-то еще сомневается, что эта сцена купания изображает не только невинное удовольствие, то другие сюжеты гравюры с несомненностью предъявляют доказательства милостей Венеры. Изображая сцены любви, художник хотел указать на то, как именно прославляли имя богини.
На этих картинах не отыщешь даже стыдливого намека на одежду, и это очень важно, ибо на других картинках купальные рубашки, штаны и прочие предметы гардероба изображены настолько тщательно, что по ним можно изучать костюмы того времени. Приходится сделать вывод, что влюбленные пары действительно купались обнаженными и что главным для них было не купание, а эротическое наслаждение, для которого купание предоставляет самую удобную возможность.
Купальные церемонии дошли до нас из времен поздней рыцарской культуры — тогда гостей принимали «по высшему разряду». Хозяйка дома вместе с дочерьми провожает гостя к ванне, где его ожидают другие дамы и служанки. Например, миннезингер Якоб фон Варте, расположившись в ванне под липой, охотно пользуется услугами женщин: одна дама протягивает купающемуся венок, другая приносит вино, третья массирует его правую руку. Служанка с помощью воздуходувки разводит огонь под котлом с водой.
Королева Изольда готовит Тристану ванну и пользуется притираниями, которые «относятся к чудесам купания; она умащала и омывала его, и к Тристану полностью вернулись силы».
Рыцарь не терзается стыдливостью или целомудрием, не прислушивается он и к предостережениям, что ванны следует избегать, так как она действует размягчающее. «Рыцарское зеркало» повествует о закаленных воинах, избегающих воды, однако в крепостях и замках очищающая и освежающая ванна по большей части считается обязательной. Начинаются первые попытки жизни в комфорте и со вкусом, и в обычай входит приготовление ванны для гостя сразу же после его прибытия.
Обычай этот отражен и в литературе. Например, молодой Парцифаль после первой ночи в замке князя Гурнеманца обнаруживает ванну, усыпанную розами, и красивых девушек, которые приближаются к гостю, гладят его, надевают на него венок и подносят ему кубок. В замке Вартбург неподалеку от Айзенаха и поныне можно увидеть небольшую банную пристройку XIII века, снабженную галереей, с которой женщины осыпали купающегося гостя цветами и лепестками роз.
Иногда во время купания господа оказывают дамам рыцарские услуги. Мелеранц из одноименного романа эпического поэта XIII века, писавшего под псевдонимом Плайер, застает врасплох даму, которая как раз принимает ванну под липой. Ванна покрыта бархатным пологом, рядом с ней стоит великолепная кровать с резными спинками из слоновой кости, окруженная занавесом с вышивкой на сюжет о Парисе и Елене. Когда Мелеранц приближается, служанки разбегаются, однако сама она не так стыдлива. Дама приподнимает бархатный полог, подзывает к себе рыцаря и приказывает ему прислуживать вместо разбежавшихся служанок. Он должен принести ей купальную рубашку, халат и башмачки. Затем она вытирается и одевается, а он отступает в сторонку, но снова следует ее зову, когда дама ложится в кровать, и остается около нее до тех пор, пока она не задремала.
Такие купальни со временем все больше входят в моду не только в крепостях и замках, но и в монастырях и больших городских домах. Наряду с ними появляются и общественные бани, которые посещают люди не только низкого звания.
Общественная баня
С самого начала большинство таких бань играют важную роль в общественной жизни, наряду с трактирами, пекарнями, мясными и ремесленными лавками.
По субботам в ранние утренние часы ученики банщиков шли по улицам, производя шум и зазывая таким образом публику, причем баня в этот день поначалу считалась подготовкой к воскресной церковной службе. Что ж, вполне в русле столь любимых в Средние века аналогий: тело будет омыто, и душа должна быть очищена от всякой скверны, чтобы человек входил в Божий храм, словно «чистый Христос». Мы увидим, как религиозная мотивация все больше отступает на задний план.
Сигналом рога банщик дает знать, что все готово для купания. Горожане и горожанки раздеваются дома и голые или полуодетые идут по переулкам в баню. Лишь персоны более высокого положения приходят полностью одетыми и приносят с собой купальное белье, бедняки же получают его у банщика.
В парную или купальню входят нагими. Банщицы ведрами подносят воду из котлов и моют посетителям спины, ступни и руки. Они также обязаны обтереть посетителя и сделать ему массаж. Потом горожане ложатся отдохнуть в приготовленные кровати, и служанки охотно составляют им компанию. Дамы позволяют господам прислуживать. Тут возможно все — от мелких услуг до назойливого приставания и соблазнения.
Многие бани располагают лишь одним помещением для переодевания, им пользуются одновременно мужчины и женщины. Из многочисленных изображений следует, что двухместные ванны тоже часто одновременно используются разнополыми посетителями. Бургундские миниатюры изображают стоящие в ряд ванны, в которых мужчины и женщины сидят друг против друга. Доска с красивой скатертью, положенная поперек ванны, служит столом, на котором располагаются фрукты и напитки. Женщины сидят в головных уборах и ожерельях, но в остальном совершенно нагие; мужчины оборачивают одним платком голову, а другим — бедра.
Поскольку в бане никто не возражает против зрителей, художники могут без всяких церемоний рисовать с натуры. В Нюрнберге Альбрехт Дюрер пользовался возможностью изучать в этом заведении наготу одновременно обоих полов. Нередки и свадьбы в банях: жених и невеста перед брачной церемонией или после нее отправляются туда со всей своей свитой. В подарок от новобрачных гости получают банные колпаки и халаты. Зачастую это приводит к такому расточительству, что власти вынуждены выступать против подобной роскоши.
В Средневековье бани становятся основным местом общения и коллективных удовольствий. Своей чрезвычайной популярностью они все больше обязаны не заботе о гигиене и здоровье, а желанию людей приятно провести время, предаваясь эротическим удовольствиям. Одна средневековая поговорка гласит: «Хочешь радости на весь день? Иди в баню». Непринужденное общение с противоположным полом, пиршество и игра в кости — главные банные развлечения. Очень ценится и то обстоятельство, что по случаю праздников бани работают бесплатно.
Огромное значение подобные заведения приобретают там, где есть целебные источники, — туда, начиная с XIV века, люди приезжают охотно и часто. Бассейны для общественного купания считаются развлекательными центрами. На целом ряде рисунков зафиксированы сцены такого рода. В совместном купании допускается все, что служит развлечению и расслаблению: трубы, свирели и флейты обеспечивают музыкальное сопровождение, по заказу подаются закуски и напитки, приезжие щеголяют причудливыми нарядами. Собираясь в такие места, люди берут с собой побольше денег в надежде с толком потратить их на пикантные удовольствия. Еще по дороге в баню они поют и весело болтают, как будто у конечной цели их ждет полное блаженство. В ванне сидят, естественно, голыми, танцуют тоже без одежды.
Наибольшей популярностью пользуются поездки в места с целебными источниками, где, как гласит молва, царят свободные нравы. Находятся люди, готовые продать все нажитое, чтобы предпринять такое путешествие. В 1417 году Поджио, секретарь нескольких пап, подробно и детально изображает житье-бытье в Бадене близ Цюриха: «Над бассейном — галереи, на которых стоят мужчины, смотрят и беседуют. Можно пойти в какую угодно ванну и остаться там, болтать, шутить и веселиться, наблюдая за женщинами, входящими в воду или выходящими из воды. Никто не охраняет вход, никто не запирает дверь, никто не подозревает ничего неподобающего… Некоторые мужчины ходят туда ежедневно, окунаясь по три или четыре раза, и остаются там бо́льшую часть дня, распевая песни, попивая вино, танцуя в хороводе. Они поют даже сидя в ванне, при этом особенно приятно видеть поющих девушек на выданье — у них красивые веселые лица, а обликом они напоминают богинь; глядя, как такая девушка влечет за собой по воде плывущую одежду, можно принять ее за Венеру… Кому позволяет состояние, являются в нарядах, украшенных золотом, серебром и драгоценными камнями, так что можно подумать, будто дама собиралась на пышную свадьбу. Есть также девственницы-весталки, вернее, посвятившие себя богине Флоре. Аббаты, монахи, священники живут тут в куда большей свободе, чем их собратья, купаются временами вместе с женщинами и украшают их венками, отставив в сторону религию. Все едины в желании бежать от печали, стремиться к веселью, ни о чем не думать, жить радостно и наслаждаться приятным». Возможность для интимных контактов, по-видимому, и объясняла чрезвычайную популярность поездок на воды у знатных дам.
Стыд и срам
С конца XIV века бани постепенно приобретают дурную славу. Их персонал состоит теперь из «обученных мастеров» и женщин-профессионалок. Банщица и шлюха становятся синонимами: можно сказать одно, подразумевая другое, и тем не менее соблюсти приличие. «Растиральщицей» называют банную массажистку и девушку, оказывающую сексуальные услуги. Банщицы становятся проститутками, а банщики исполняют роль сводников: они организуют контакт посетителей с банщицами или разрешают мужчинам привести с собой девушку (женщины тоже могут прийти со своими любовниками). Нет сексуальной услуги, которую персонал бани не мог бы оказать или организовать.
В XV веке появляется много жалоб на то, что банный персонал состоит сплошь из сброда. Даже студенты порой становятся фокусниками, музыкантами или банщиками. Именно сравнение с фокусниками и музыкантами доказывает, с каким презрением смотрели на банщиков. И все-таки в бани по-прежнему ходят даже князья и император, и посетители творят там с банщицами все, что им вздумается. Эти заведения продолжают терпеть, хотя публично ими возмущаются.
Как и следовало ожидать, духовенство в этом отношении также демонстрирует двойную мораль. Церковные соборы и городские советы развязывают войну против публичных женщин, а те прекрасно знают, что благочестивые господа составляют их лучшую клиентуру. Доступные девушки специально стараются устроиться на службу в баню, чтобы иметь возможность встречаться с представителями духовенства.
В бане священнику прислуживает проститутка, затем он без зазрения совести берет ее к себе в покои, однако это не влечет за собой никаких неприятностей. «Что нравится, то и можно», — думают при этом. Тем более что священники почти никогда не посягают на непорочных девушек. Так или иначе, среди божьего обслуживающего персонала на земле царит неописуемая дерзость и бесцеремонность, которая вполне согласуется с вольностью местных законов по части банных удовольствий. Так, в источниках 1520 года можно прочитать, что в баню нельзя допускать священника, который хочет уединиться с девственницей, но ему полагается выделить комнату, если он приводит с собой «развратницу». Предполагается, что в последнем случае нет опасности возникновения любовной интрижки.
Тем не менее официальная линия выглядит — как всегда — совершенно иначе: теологи и церковные иерархи отнюдь не в восторге от бань и считают их делом греховным. Особенно ненавистны им горячие ванны, поскольку они размягчают тело и побуждают к разврату. Августин обрушивается на бани и в приступе высокоморальной ярости требует разрешать максимум одно посещение в месяц. Иероним идет дальше и допускает купание только для детей. То, что предписывают и требуют отцы церкви, направлено не против гигиены, а против «внутренней нечистоты».
Слишком рьяные монахи и монашки с ранних времен существования церкви поносят бесполезное пристрастие к купанью, выступая как против чувства удовольствия от мытья, так и против обнажения тела. Цистерцианцам разрешается купаться раз в месяц — и это уже слишком часто. Некоторые представители духовенства вообще никогда не купаются. От мытья отказываются не только отшельники и отшельницы — даже архиепископ Бруно Кёльнский и епископ Рейнхард фон Люттих принципиально не садятся в банный ушат. О Елизавете Тюрингской рассказывают, что она, после долгих уговоров решившись-таки помыться, омочила ступню в воде и сочла купание оконченным. Точно так же обстояло дело с императрицей Агнессой: она избегала теплых ванн, чтобы не разжигать плотские желания.
Потеря невинности
Несмотря ни на что, страсть к купанию остается настолько неукротимой, что даже власть средневековой церкви не в состоянии ни искоренить, ни ограничить ее. То, что церковная верхушка ополчается в первую очередь против совместного купания, не удивляет. Собор, созванный папой Бонифацием в 745 году, запрещает мужчинам купаться вместе с женщинами. Наставление по церковному покаянию, изданное в городе Мерзебурге, тоже упоминает этот обычай в перечне грехов, в которых следует каяться на исповеди.
Однако не стоит выплескивать вместе с помоями и ребенка, иначе можно потерять представление об истинном положении дел. Хотя бани никогда не отличались добродетелью, поначалу там все было в рамках приличий. Купальные удовольствия потеряли невинность, лишь когда бани прямо-таки наводнили «бродячие девки» да «распутные служанки», после чего единственной целью посещения этих заведений стало наслаждение эротического свойства.
Вопреки всем стараниям духовенства большинство общественных бань сохраняются до Нового времени. Ни в одном городе власти не отважились ликвидировать «рассадники порока». Причина тому — не только прибыльность банного дела: пассивность властей объясняется не одной лишь экономической выгодой. Дело в другом: всегда предпочтительно держать под контролем то, что невозможно изменить или вовсе ликвидировать. Если бы банное дело загнали в подполье, его невозможно было бы контролировать. Поэтому власти ограничиваются более или менее строгими предписаниями и пытаются удержать в определенных рамках все то, что происходит в общественных банях. Внешне там царит благопристойность (так это представляется для церкви), однако хозяин бани, посетители и полиция совершенно точно знают, что к услугам клиентов всегда имеются банщицы и что баня называется баней, а не борделем лишь для маскировки.
Даже Фрайбергское предписание, согласно которому женщин в банях могут обслуживать только женщины, оставляет недосказанным, кто же должен обслуживать мужчин и можно ли им развлекаться с банщицами или приведенными с собой девушками. Даже распоряжение о раздельных банях не достигает желаемого эффекта, как это показывает гравюра на дереве XVI века, созданная Гансом Себальдом Бехамом[53]. На ней изображены женская баня с обнаженными посетительницами и мужчина, который заглядывает внутрь через открытое окно. Это изображение явно не случайно — оно дает понять, что даже в раздельных банях близость мужчин рассматривается как нечто само собой разумеющееся.
Другая гравюра того же художника изображает целебный источник, выполненный по образу и подобию бани: в большом зале с колоннами находится бассейн, где забавляются нагие мужчины и женщины. На заднем плане видны лежаки, на которых одни посетители совершенно невинно отдыхают, другие же (в особенности одна пара) занимаются такой дерзкой любовной игрой на глазах у всех, что в этом читается нечто сатирическое, а вовсе не реалистичная картина «безобразий».
Надо сказать, что художники того времени оставили богатейший материал о вольностях в общественных банях. Из их творчества следует: где баня — там любовь. На гравюре «Весна», помещенной в издании «Четыре книги любовных элегий» Конрада Цельтиса[54] (Нюрнберг, 1502), молодой человек, сидящий в ванне, развлекает одетую в купальную рубашку возлюбленную игрой на струнном инструменте и пением. На многочисленных изображениях бань присутствуют музыканты, даже целые музыкальные капеллы. В «Саду радостей земных» Иеронима Босха дело также не обходится без бани.
От бани к борделю
Со временем проституцию уже нельзя отделить от бань — разница между банщиком и хозяином борделя стерлась. Единственное отличие в том, что хозяин борделя мог беспрепятственно вести дела, а банщик должен был действовать с оглядкой, чтобы не нарваться на наказание. И все же в конце концов баня становится притоном для полусвета, который обслуживают не только блудницы, но также хозяин заведения и банщики. Молодые служанки оказываются в полном распоряжении посетителей, банщики действуют как сводники или соблазнители. С предписаниями касательно одежды обходятся небрежно — на большинстве картин хозяин и его банщики одеты лишь в короткие купальные штаны с косо обрезанными штанинами, а банщицы носят длинные, до щиколоток, рубашки с глубоким вырезом на спине и без рукавов. На голове у них шапочка либо платок, повязанный тюрбаном. Если сами они не ублажают посетителей, то выполняют функции посредниц. Даже если не все посетители приходят только для того, чтобы получить эротическое наслаждение, эта сторона все же берет верх над прочими функциями, и баня, как поле деятельности проституток, становится весьма раздражающим фактором для суровых господ из городского совета. Причем считается, что посещение мужчиной «дома радостей», где он утоляет свое вожделение, представляет меньшую опасность для общественной нравственности, чем ситуация, при которой невинных людей соблазняют хитростью. Со временем девушки и женщины из приличных городских семей начинают все чаще посещать бани в поисках амурных приключений. Хозяева бань не чураются прозвища «сводник», готовы посредничать в любовных делах и устраивать эротические встречи. В банной каморке неверные жены встречаются с любовниками. Здесь они флиртуют, пируют и бражничают, пока супруг не заподозрит неладное и не смоет позор кровью. Так произошло в Констанце на Боденском озере, где купец, застав жену в чане с собственным приказчиком, задушил прелюбодея веревкой.
Вновь и вновь городские власти спохватываются, чувствуя, что пора найти убедительные средства и взять ситуацию под контроль — например, издать распоряжение о раздельных банях. Перечень грехов, требующих упоминания на исповеди, и положения о штрафах грозят драконовскими церковными наказаниями. В 1451 году каноник Феликс Хеммерлин из Цюриха напоминает о том, что замужние женщины и женатые мужчины, купающиеся вместе с людьми противоположного пола, должны лишаться состояния, попавшего к ним в виде невестиного приданого, а мужчина, силой вторгшийся в отдельную женскую баню, должен караться смертью. Власти швейцарского кантона Люцерн энергично взялись за пресечение разврата в банях еще в 1320 году, объявив среду женским банным днем. В этот день мужчинам вход был строго запрещен.
Однако бумага все стерпит. Законы и распоряжения пишутся, обнародуются и сдаются в архив. Следуя всем указаниям властей, хозяева бань неминуемо разорились бы. Городские хроники полны жалоб на «пособничество разврату», на то, что в банях «творится больше позора, чем в публичных домах» и что начальство беспрепятственно допускает такой блуд. Венскую баню один писатель-историк даже называет «домом обжорства, пьянства и срама».
Ближе к концу Средневековья с этими более или менее невинными радостями было покончено: банное дело реформируется, а тамошние эротические радости подавляют многочисленными наставлениями и ограничениями. Топливо для бань дорожает так сильно, что этот вид предпринимательства более не окупается, а для посетителей удовольствие становится прямо-таки разорительным. Сыграл свою роль и страх заразиться. Смертельный удар общественным баням наносит сифилис. Тотчас появляются предписания, запрещающие вход в бани жертвам «похотливой эпидемии». Если возникает подозрение, что посетитель подхватил болезнь в бане, заведение неминуемо закрывается. «Двадцать пять лет назад, — пишет Эразм Роттердамский в 1543 году, — в Брабанте не было ничего более привлекательного для публики, чем общественные бани; теперь все они стоят холодные. Новая болезнь научила нас отказываться от них».
Число бань сокращается, благосостояние их владельцев падает. Там, где еще несколько лет назад процветали десятки купальных заведений, теперь лишь одно или от силы два влачат жалкое существование. Когда сифилис удалось обуздать, люди вернулись в бани, однако с вольными усладами уже было покончено.
Публичные женщины и бродячие артисты
С. 193. Беспутная шутка на сцене (фрагмент, 1575).
С. 194. Анонимный мастер из Аугсбурга. В женском доме. Ксилография, XVI в.
Под защитой властей
Бордель можно было найти в любом средневековом городе: с 1273 года — в Аугсбурге, с 1278 года — в Вене, с 1292 года — в Гамбурге, с 1293 года — в Базеле, с 1300 года — в Эсслингене. В Штеттине в 1309 году была целая «женская улица», граничившая с городской стеной (возможно, само название «бордель» объясняется расположением на окраине, по-французски bord — «край»). В 1403 году Регенсбург называет свой бордель «свободным домом, получившим разрешение совета».
Бордели в те времена по большей части называют «женскими домами», менее употребительны обозначения «дом дочерей», «общий дом», «открытый дом», «дом распутниц». Проституток называют общими женами, общими бабами, бродячими дочками, продажными женщинами, развратницами, распутницами, свободными дочерьми или милашками.
Необходимость женских домов никем не оспаривается — ведь они служат не только для защиты благопристойных девушек и женщин, но и для надзора за «безнравственностью». Бордели не бывают частными заведениями, которые городская власть всего лишь терпит, — обычно это собственность города, князя, а то и церкви, ими управляют должностные лица или арендаторы. Объявлять девушек служащими — так сказать, специалистками по общественным связям — было бы слишком смело, тем не менее они находятся в ведении властей. Занятие подобным ремеслом на законных основаниях — красноречивый штрих городской жизни. Даже совсем незначительные по числу жителей города хотят иметь свой женский дом — скорее они откажутся от ратуши, чем от такого доходного дела. Успешная деятельность «женских» заведений обеспечивается особыми правилами. Промысел тщательно регулируется, о здоровье проституток заботятся, они находятся под защитой города, как и сами женские дома. Нарушение их покоя влечет за собой строгое наказание.
Женщины, зарабатывающие на жизнь таким образом, равно как и люди, руководящие заведениями по поручению властей, хоть и считаются грешными в глазах общественности, но признаются безусловно необходимыми, поскольку противодействуют распространению среди горожан «еще большего греха».
Разумеется, легализация проституции не способствует ее исчезновению. Напротив — отцы города и княжеские подданные вынуждены постоянно думать, как удержать эту бурную деятельность в определенных рамках. Чем больше людей посещает женские дома, тем больше от них прибыли. Арендаторы уплачивают изрядные пошлины казне, а порой даже епископам и духовным учреждениям. Тот факт, что духовное лицо владеет женским домом и получает прибыль от такого рода деятельности, отнюдь не считают возмутительным. Даже папская курия в Риме имеет доходы от женских домов, в XVI веке временами достигавшие двадцати тысяч дукатов в год. Имеются свидетельства, что епископ Страсбургский, в 1309 году разрешивший открыть женский дом, и архиепископ Майнцский получали ежегодные доходы от «свободных дочерей». Случалось, что заведение числилось собственностью правителя, как это видно из ленного договора 1395 года, в котором в качестве владельца «общего женского дома» в Вене упомянут герцог Альбрехт IV Австрийский.
Исторические исследования вскрыли многочисленные доказательства того, что городская казна пополнялась за счет прибыли от женских домов, и власти рассматривали их как общественные — в подлинном смысле слова — учреждения, на которые выдавали концессии. Пока женские дома подчиняются полицейским предписаниям, они, в отличие от «проституток из-за угла», занимающихся своим ремеслом тайно, пользуются защитой и покровительством городского совета, который временами даже сам осуществляет руководство этими заведениями. В других случаях функция управления возлагается на чиновников рангом пониже, а то и на городского палача.
Правила работы публичных домов
За все, что происходит в доме, перед городским советом отвечает хозяин (или хозяйка). В некоторых городах хозяев борделей даже приводят к присяге. В Вюрцбурге глава «свободных дочерей» дает магистрату клятву «быть верным городу и чистым перед ним». В Женеве избирается «королева девок», приносящая присягу городскому совету. В Ульме хозяин борделя дает обещание «содержать в порядке четырнадцать способных и умелых, чистых и здоровых женщин».
Как правило, ремесло блуда высылают на окраину, подальше от зон «основного городского движения». Зачастую женские дома оказываются у городской стены. Тем не менее притоны и окружающие их территории получают звучные, иногда даже поэтичные или не лишенные юмора имена: Женский переулок, Женский закоулок (Нюрнберг, Франкфурт-на-Майне), Женская слобода (Вена), Закоулок девственниц (Вена), Переулок роз (Берлин), Розовая изгородь (Хильдесхайм), Розовая долина (Лейпциг, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен), Сладкий уголок (Констанц), Веселый крестьянин (Магдебург). Некоторые места, называемые сегодня Херренгассе (Господский переулок), в Средние века носили название Хуренгассе (Распутный переулок). Во многих случаях доступ к зоне борделей осуществлялся через ворота, и время их работы регулировалось. «Вход к женскому дому отворять вечером в четыре и закрывать утром в девять», — гласило предписание во Франкфурте.
Как время открытия, так и часы работы женских домов повсюду регламентированы. Строго запрещена работа в первую половину дня и в кануны воскресений и праздников, а также в страстную пятницу и во время всех постов. Застигнутым в запретные дни в женском доме грозит строгое наказание, причем изгнание из города — самый мягкий приговор.
Однако в рабочие дни обстановка в женских домах описывается словами «пир горой и дым коромыслом». Городская управа Франкфурта в 1490 году вынуждена со всей серьезностью заявить молодым горожанам, «что ночами, когда они бывают у красивых женщин, им надлежит вести себя прилично и не безобразничать». Нам остается только догадываться, что могло твориться в заведениях, если постоянных посетителей приходилось призывать к порядку и «благопристойности» в женском доме. Зачастую это были настоящие разбойничьи притоны, и даже если что-то в дошедших до нас рассказах преувеличено, подозрения относительно порядков в борделях и слухи о том, как клиентов там обдирают до нитки, не лишены оснований. Хозяева и проститутки порой превосходят самих себя в искусстве выудить у посетителя последний грош. Настойчивое принуждение к выпивке (причем пиршество по возможности растягивается), воровство и раздувание цен — все это обычная практика. Если гость пытается противостоять жульничеству, разговор с ним может быть коротким — его наверняка изобьют и вышвырнут вон. На некоторых иллюстрациях того времени видно, как девушки, лаская гостя, коварно обчищают его карманы.
Такие эксцессы имеют место, несмотря на то, что доходы и траты девушек официально регламентированы. Так, в одном предписании, выпущенном властями города Баслер в 1384 году, говорится, что сводник может взять себе треть заработанного девушкой, причем для дневного и ночного посещений определен твердый тариф. В Нердлингене «деньги, заработанные днем, остаются девушке, а ночной заработок делится с хозяином в равных долях». Ульмскому хозяину борделя запрещено претендовать на подарки, особенно на покрывала и ювелирные украшения, преподнесенные клиентами и дающие публичным женщинам возможность хоть как-то украсить свою жизнь. Предусмотрена даже социальная помощь — например, в случае болезни и утраты трудоспособности.
Если женщина какое-то время не может принимать посетителей, хозяин приспосабливает ее для какой-нибудь другой работы — главное, чтобы она оставалась в доме. Горожане не любят, когда проститутки попадаются им на улице. Во Франкфурте-на-Майне женщинам из Розовой долины запрещено сидеть на пороге, стоять перед домом или даже выглядывать из окон. Гораздо терпимее жители Нюрнберга, где хозяину борделя даже предписано не держать своих подопечных взаперти и отпускать в церковь и на улицу.
Авиньонский монастырь
Особенный вариант женского дома существовал в Авиньоне на юге Франции. В 1347 году королева Иоанна основывает там так называемый «монастырь», поскольку не хочет, чтобы проституция распространилась по всему городу и стала бесконтрольной. С другой стороны, жители Авиньона, как значится в уставе города, имеют право на удовольствие. В этом монастыре все девушки, проявившие «слабость» и не желающие менять образ жизни, инструктируются специальным служителем. Отныне они должны носить определенную одежду и не могут впредь действовать по своему усмотрению — в случае нарушения этих правил им грозит прилюдная порка.
Иоанна распорядилась, чтобы двери монастыря оставались запертыми и ни один мужчина не имел туда доступа без ведома и разрешения настоятельницы. Такое разрешение дается, только если посетитель производит впечатление приличного человека. Кроме того, он должен быть строго предупрежден о необходимости вести себя тихо и — главное — не обижать девушек. При малейшем поводе для жалоб его могут схватить и посадить в башню, где преступников приводят в чувство скудной пищей и дурным обращением.
Но самое важное предписание гласит, что «монастырские барышни» каждую субботу должны проходить обследование у «настоятельницы» и врача, уполномоченного городской управой. При обнаружении венерического заболевания девушку переводят в отдельное помещение, куда не имеет доступа ни один посторонний. Это распоряжение тем удивительнее, что в середине XIV века гигиенические вопросы, мягко говоря, еще не попадают в центр общественного внимания. А уж сексуальные связи совсем не страдают из-за заботы о здоровье партнера.
Можно только восхититься дальновидностью королевы и признать, что она предприняла попытку упорядочить сексуальные радости не путем драконовских наказаний, а разумно и осмотрительно. Врачебное обследование было впервые введено в устав женского дома, хотя потребовалось еще много времени, чтобы и другие города переняли и усвоили порядки Авиньона.
Удивление вызывает и слово «монастырь» в применении к дому терпимости. Объяснение, однако, есть: этот дом находился под покровительством Ордена святой Магдалины. Проститутки, в большинстве своем бывшие бродяжки, хотели сменить бесправную и беззащитную жизнь на надежное убежище, но ни в коем случае не отрекаясь от греха, как это сделала раскаявшаяся Магдалина. Из факта существования таких домов неоднократно делался вывод, что в женских монастырях царила безнравственность. Звучали жалобы и от хозяев борделей — они видели в подобных заведениях досадную конкуренцию для собственного дела. Однако проникновение «порока» в настоящие монастыри — явление более позднего времени.
Одежда проституток
Страсть к предписаниям и регламенту не обошла стороной и одежду публичных женщин, причем в этом отношении власти бросались из одной крайности в другую. Сначала они настаивали на выделяющихся атрибутах, чтобы проституток сразу можно было узнать, потом выставляли девушек на посмешище, заставляя отрезать волосы. Распущенные локоны считались символом девственности — по этой причине проституткам предписывалось стричь волосы. Также известен обычай, согласно которому «падшие женщины» должны были покрывать голову накидкой — еще в античные времена она была атрибутом гетер: богиня Астарта зачастую носит (как проститутки на картинах Лукаса Кранаха) только пояс и прозрачную ткань на голове. Однако в Средние века этот головной убор служит символом преданности и готовности отдаться — в первую очередь это касается невесты и монахини, — и в этом случае накидке придается значение дополнительного атрибута утаивания и стыдливости, что явно противоречит ремеслу проститутки.
Даже имперское законодательство уделяет внимание одежде проституток. В так называемом Решении имперского сейма от 1530 года блудницам запрещается носить «изящные наряды или украшения», меховую оторочку или позолоченные пуговицы. «Власти следят за этим и не должны терпеть подобного». В документе категорически заявляется, что своими пышными и богатыми нарядами публичные женщины не должны совращать «благочестивых женщин и девушек» и отличаться в лучшую сторону от скромных горожанок. Правда, нет никаких указаний на то, что такие предписания хоть как-то мешали публичным женщинам модничать, и на них поступало много жалоб.
Нетрудно понять, почему в этом отношении власти постоянно лавировали. В предписаниях, касающихся одежды, отчетливо просматривается двойственность и нерешительность. То утверждается, что публичная женщина обязана сторониться всякой приметности, производить впечатление приличной и тем самым избегать общественного возмущения и осуждения, то указывается прямо противоположное — мол, проститутки должны отличаться от порядочных женщин какими-нибудь заметными аксессуарами в одежде и тем самым давать повод для всеобщего презрения. В постановлении городских властей Франкфурта 1488 года подчеркивалась необходимость «ясно обозначить, кто они есть». Иногда предписания в отношении одежды становятся уж очень строгими: в 1463 году городской совет Лейпцига приказывает «женщинам из свободных домов» надевать короткие желтые плащи с синими завязками, какие носят и в Дрездене. В Базеле плащи блудниц длиной должны доходить лишь до пояса. В первом Венском регламенте, касающемся одежды, написано, что всякая «общая женщина» должна иметь «явный знак»: желтый платочек на плече, шириной с ладонь и длиной в пядь. В Любеке распутницы повязывают на чепец черную ленту. Во Франкфурте одежду нужно было снабжать желтой оторочкой (желтый считается цветом продажной любви). В некоторых городах этот цвет, еще в античные времена означавший доступность, заменяется зеленым, ибо согласно народным верованиям черт-искуситель носит зеленую одежду.
Девушки легкого поведения и всеобщее благо
Позиция общественности по отношению к проституткам отличается то явной враждебностью, то снисходительностью. Так, в определенные времена «красотки» выступают в качестве затейниц на народных праздниках и больших торжествах. По прибытии князя городские власти посылают «свободных дочерей» с букетами цветов навстречу высоким гостям. Так происходит, когда в 1438 году Альбрехт II после коронации в Праге прибывает в Вену. В 1435 году городской совет Вены, принимая императора Сигизмунда, нарядил проституток двух женских домов в бархатные платья за счет городской казны. Судя по всему, в Вене на проституток были возложены представительские функции, поскольку публичных женщин высылают и навстречу венгерскому королю Ладиславу.
Также существовал обычай не взимать плату за посещение женского дома с князей и высоких господ, причем заведения перед их прибытием особенно тщательно прибирали и украшали. Предполагалось, что самое большое удовольствие доставит князю бесплатное посещение борделя. В 1434 году император Сигизмунд некоторое время жил в Ульме, и улицы города освещались всякий раз, когда император или его свита отправлялись в «дом общих дочерей». За двадцать лет до этого тот же император с восемью сотнями всадников прибыл в Берн и провел там несколько дней. Тут же городской совет издает приказ, чтобы девушки в публичных домах принимали всех господ королевского двора любезно и безвозмездно, а город сам заплатит проституткам за услуги. Надо отметить, что император публично поблагодарил магистрат Берна за то, что тот обеспечил королевской свите трехдневный бесплатный доступ в женские дома. Сигизмунд вообще прослыл властителем, который не делал секрета из своего пристрастия к девушкам легкого поведения.
Хорошенькие блудницы вполне официально принимают участие в разных событиях городской жизни. В Вене они участвуют в мероприятиях, связанных с ежегодными скачками, а на Иванов день образуют танцевальный коллектив и водят хороводы вокруг костра, при этом бургомистр и совет города угощают их лакомствами. Даже на свадьбах выступление проституток было обычным делом — они поздравляли молодых. В Вюртемберге это было заведено еще в 1400 году. В Лейпциге на фастнахт[55] проститутки устраивали шествие, во время которого, распевая песни, бросали соломенное чучело в реку Парте и тем самым «освобождали город от грехов». Когда здесь основали университет, большую и малую княжеские гимназии, а также философскую гимназию и гимназию Марии, женские дома, которые тогда располагались перед Галльскими воротами, стали в шутку называть «пятой гимназией».
До нас дошли многочисленные свидетельства официального признания публичных женщин. Например, в Нюрнберге «женщин, служащих городу», в знак благодарности за заслуги наделяют гражданскими правами и вносят в городскую книгу граждан. На праздниках им разрешено продавать или раздавать цветы. Предоставляя гражданские права прибывшим проституткам, власти, естественно, ожидают, что эти дамы посвятят себя общественному благу города.
К сожалению, так происходит далеко не всегда. В основном проститутке, которая не добилась гражданских прав, остается заниматься своим делом; она по-прежнему принадлежит не себе, а тем, кто ее использует по своему усмотрению. Девушек перепродают хозяева-сводники, знатные господа раздаривают их как скот или проигрывают в азартные игры. Тело проститутки — платежное средство, имеющее свою цену.
Правда, «свободная дочь» может беспрепятственно заниматься своим ремеслом и даже пользуется при этом защитой закона, который, как и в любой другой профессии, предполагает обязательные правила. Законы требуют определенности даже в столь безнравственном занятии. Либо ты «совершенно чистая», либо «совсем испорченная». Лавировать между добродетелью и грехом безнаказанно не получится, и кара обрушивается прежде всего на тех, кто хочет играть роль то честных горожанок, то распутных женщин.
Регистр наказаний содержит целый ряд драконовских мер: женщину могут приковать к позорному столбу, провести по улицам под барабанный бой, изгнать из города, высечь кнутом, остричь наголо и т. д. В Париже в 1373 году одну «беспутную женщину», признанную виновной в тяжком преступлении против знатной особы, раздели донага, провели по городу, предварительно написав у нее на лбу «клеветница», а затем на два часа выставили на обозрение черни.
Случались в Средневековье и повороты судьбы, напоминающие сюжет фильма «Красотка». Вернуться на путь добродетели проститутка могла лишь двумя способами — вступив в брак или удалившись в монастырь.
По каноническому праву брак с «падшей девушкой» считается богоугодным делом. С XIII века известны случаи, когда в завещаниях упоминались награды для мужчин, женившихся на девушках из «общего дома». Рассказывают, что вернуть «грешницу» на истинный путь удалось Бертольду Регенсбургскому[56]. Во время проповеди он спросил у своих слушателей, нет ли среди них человека, готового жениться на раскаявшейся. Откликнулся один мужчина, после чего Бертольд велел прихожанам собрать приданое. Набралась немалая сумма в десять марок, которые проповедник и передал мужчине.
Следует отметить, что городские власти старались облегчить женщине переход к честной жизни. В Госларе власти предлагали приданое для того, «кто возьмет в жены бедную грешницу из общего дома». В Галле существовал соответствующий фонд, а в Нюрнберге мужу за его великодушный поступок даровались гражданские права. Однако, если женщина принималась за старое, Мужчина попадал в трудное положение. Проститутку изгоняли, а ему оставались только развод и надежда, что город снова примет его в свое лоно.
Еще одной возможностью освободиться для раскаявшейся проститутки был монастырь. Разумеется, речь идет об особых монастырях, «домах покаяния», находившихся под опекой города. За свое пропитание женщины должны были работать, например ухаживать за больными. Впрочем, уважения они этим не добивались, напротив, им приписывали все худшее, что могло взбрести в голову, — сплетни и лицемерие, разврат и сводничество. Более того, некоторые дома для раскаявшихся, которых называли также «клариссами» (по принадлежности к монашескому францисканскому ордену святой Клары), становились местами утонченного порока, способными составить конкуренцию женским домам.
Блуднице следовало хорошенько подумать, прежде чем отправиться в дом покаяния, ибо законного пути назад не существовало. Проститутку, принимавшуюся за старое, вешали или бросали в реку.
Блудливое войско
Проституция цвела пышным цветом не только в городах — ни один военный поход не обходился без обоза с публичными женщинами.
Во времена Карла Великого проституция во Франкском королевстве уже распространена настолько широко, что воспринимается как досадное бремя. Поэтому основатель династии каролингов, которого уж никак не назовешь образцом добродетели, был вынужден включить в свои законы чрезвычайно строгий запрет на свободных женщин. Но закон не достиг желаемой цели, и это доказывает, что падение нравов уже вышло из-под контроля.
Только на первый взгляд может показаться, что войны, которые вел Карл, не способствовали распространению проституции. Наоборот, именно они благоприятствовали расцвету продажной любви. Когда в стране жизнь становилась опасной, проститутки примыкали к войску, и это временами создавало командованию продовольственные проблемы.
Карл Великий был первым властителем, который ввел строгий запрет на проституток, однако сам он не выказывает антипатии к этим женщинам. Его сын, унаследовавший трон короля, вошел в историю как Людовик Благочестивый. Придерживаясь значительно более строгих взглядов в отношении морали, он был, пожалуй, единственным правителем, который во время военных походов сторонился проституток. Однако и Людовик не принимает мер против борделей, поскольку придерживается повсеместно распространенной точки зрения, что контроль над проституцией лучше, чем запрет.
Другие властители и полководцы того времени и последующих веков не только допускают проституцию в своем войске, но и рассматривают женский обоз как своего рода гарем, предоставляющий лучших женщин для высших чинов и их свиты. Проститутки терпят лишения, связанные с походом, перемещаясь либо пешком, либо верхом. Нередко до двух тысяч «продажных баб» ездят в обозе армии, среди них несколько сотен передвигаются верхом — значит, были проститутки, которые могли позволить себе известную роскошь. Владетельные князья не скупились на деньги и украшения для своих военно-полевых метресс, несмотря на жалобы, что кое-кто из этих дам наряжается роскошней, чем оставшаяся дома супруга.
Толпы доступных женщин следуют за крестоносцами на Восток. Летопись монаха Бертольда сообщает, что еще в 1096 году к первому отряду молодых воинов примкнули женщины в мужской одежде, и считает поражение войска наказанием за распутство крестоносцев. Когда в 1097 году рыцари подошли к Антиохии, предводители принимают меры, чтобы одолеть набирающий силу разврат в собственных рядах. Хронист Альберт фон Айкс рассказывает: «Если кого заставали за развратом, то их — и мужчин, и женщин — раздевали догола, связывали им руки за спиной, затем как следует стегали розгами и прогоняли по всему войску, чтобы остальным при виде такого ужасного наказания было неповадно идти на это постыдное преступление».
Полководец строгой морали, император Фридрих I Барбаросса, с самого начала Третьего крестового похода (1189 год) велит изгнать из военного лагеря пятьсот проституток, воров и бродяг, а при походе на Милан в 1158 году запрещает воинам держать возле себя женщин. У тех, кто осмеливается нарушить этот запрет, отнимают доспехи и оружие, к ним относятся как к отлученным от церкви. И все же когда несколько недель спустя, при переходе через реку По, императору пришлось бросить часть обоза, в нем оказалось множество женщин.
Число солдатских проституток, которых называли также походными женщинами или маркитантками, неудержимо растет. Когда доля дам, дарующих радость, в конце концов, непомерно увеличивается по отношении к численности войска, наступает время принимать меры. В 1339 году в Швейцарии бернцы собрались освободить родной город, осажденный врагами из кантона Во, и, чтобы облегчить продвижение войска, военный совет был вынужден запретить женщинам следовать за ним.
В 1342 году итальянский кондотьер немецкого происхождения Вернер фон Урслинген тоже оказался в затруднительном положении: при численности его войска в три с половиной тысячи солдат количество проституток, мальчишек и разного рода мошенников достигало тысячи. Чтобы держать в страхе это «войско в войске», над ним поставили начальника с большими полномочиями, «фельдфебеля над шлюхами», которому подчинялись как проститутки, так и шайка обозных мальчишек. Такая организационная мера стала популярной, и положение «фельдфебеля над шлюхами» теряет престиж лишь к Тридцатилетней войне — в это время он становится обычным солдатом.
Чтобы хоть как-то оправдать присутствие женщин, в походе на них возлагаются различные обязанности, не имеющие ничего общего с основным ремеслом. Они стирают, готовят для солдат, торгуют разными товарами и ухаживают за ранеными. В результате проститутки ведут отнюдь не праздную жизнь, их даже привлекают к работам по строительству укреплений, они, как и мужчины, вынуждены передвигаться форсированным маршем, «нагруженные одеялами, плащами, тряпками, горшками, котлами, сковородами, метлами, обмундированием и всяческим прочим скарбом». Они шагают, подоткнув юбки, по пыли и грязи, иные даже босиком.
Но не только сомнительный сброд тащится с войском через пол-Европы, есть там и девушки авантюрного склада из лучших домов. «Садик Венеры», сборник текстов и песен XVII века, содержит рассказ двух солдат, живописующих — по всей видимости, с натуры — молодую знатную даму, которая сбежала с солдатом и стала «бродячей шлюхой» в знак протеста, потому что супруг бил ее «по морде».
Возлюбленный без определенного места жительства
Без сомнения, совесть бродячего авантюриста — возлюбленного без определенного места жительства — отличается от совести порядочного горожанина. Вероятно, бродяга слишком хорошо знает людей и не переносит жизни в традиционных границах общества, поскольку видит его лживость. У авантюриста возникает желание убежать от всех досадных ограничений, ускользнуть от мелкого злобного вранья, которое стало обязательным. Он рвется прочь из атмосферы всеобщего криводушия, растлевающей разум и притупляющей чувства. Он не одобряет эту культуру и время от времени ощущает непреодолимую потребность вырваться за рамки общества и отдохнуть от слишком сложного традиционного образа жизни.
Чтобы понять ультраромантического авантюриста, нужно знать его предысторию, почувствовать, как манит и чарует раскрепощенная, непринужденная жизнь, однажды испытав которую он уже не в силах измениться. Он счастлив своей свободой от общественного долга, от мелочных пут повседневного быта, от ничтожности, которая отравляет его жизнь в такой мере, что она становится ему уже не в радость, а в тягость. Превратившись в авантюриста, бродяга существует вне смехотворных ограничений и не особенно вникает в комедию условностей и приличий.
Романтическое любопытство зовет его в чужие страны, и только он еще умеет путешествовать. Дальние дали манят его, обещая блаженство; потребность изведать многообразие жизни гонит его с места на место. Чтобы утолить эту отчаянную жажду, он готов лгать, жульничать, мошенничать и — если надо — красть. Будь его натура глубже — чего нельзя и предположить, поскольку глубина требует покоя, — то на вопрос, чего он, собственно, ищет и ради чего ставит на кон свою жизнь, такой человек мог бы ответить только одно: «Я не знаю». Он гонится за счастьем, которого не бывает, которое нельзя отыскать. Авантюрист нигде не чувствует себя как дома, ему неведома тоска по родине. Жизнь его отнюдь не легка — ведь дороги полны опасностей. Повсюду творится страшное. Люди по ничтожному поводу хватаются за нож, и те, кто скитается по дорогам, странствуют с большим риском для жизни. По закону все трактиры должны закрываться засветло, но в результате драки просто переносятся на улицу.
Положение улучшилось только в XVI веке, с укреплением полицейской власти. Города постепенно перестают быть центрами притяжения и местом скопления всякого сброда. Теперь все темные личности стягиваются в деревни, где из-за отсутствия полиции можно беспрепятственно дурачить суеверных крестьян.
Впрочем, наш авантюрист не имеет ничего общего с грабителями и мошенниками. Разумеется, он подпадает под категорию «бродячего люда», и это уже повод для презрения. Средневековью свойственна оседлость, люди не стремятся познакомиться с чужим образом жизни, а потому имеют столь странное, смутное и фантастическое представление о других странах и народах. В эту эпоху свободным и заслуживающим уважения считается лишь тот, кто живет на собственной земле.
Беспокойный образ жизни, постоянные переезды пришлых людей внушают средневековому человеку обоснованное недоверие. И выражение «бродячий люд» — как, впрочем, и поныне — свидетельствует о чем угодно, но не об уважении. Эти люди стоят вне общества. Под «странствующим студентом» в Средневековье подразумевают разбойника, который кочует из города в город, под «странствующей барышней» — бродячую проститутку (ремесло последней распространилось одновременно с расцветом «блудливого войска»). Странствующая барышня стоит на низшей ступени социальной иерархии, ей приходится мириться с ругательными прозвищами, тогда как о городских публичных женщинах зачастую отзываются вполне благожелательно. Взаимосвязь между странствующей распутницей и преступным миром проявляется даже в том, что большинство народных обозначений проститутки происходит из воровского жаргона.
Странствующие барышни
На протяжении всего Средневековья множестве таких женщин переходят с места на место; их можно видеть при дворах и там, где происходят какие-либо торжества: свадьба, коронация, имперский сейм, турнир, ярмарка — иными словами, всюду, где можно ожидать спроса на их услуги. К Франкфуртскому сейму 1394 года в город пришло больше восьми сотен проституток; хроникеры первого сейма в Вормсе, который в 1521 году проводил Карл IV, упоминают, что улицы города запрудили толпы продажных женщин. Впечатляет их количество и в Констанце во время церковного собора начала XV века. Очевидцы называют разные цифры: один говорит о четырехста пятидесяти, Ульрих Рихентальский (гражданин Констанца) упоминает о семиста «тайных женщин», другие считают, что их было полторы тысячи. Так что и духовенство — солидный поставщик клиентуры для этих дам. По свидетельству, заработок одной публичной женщины из Вены за время этого собора достиг восьмисот золотых гульденов.
Поэт Освальд фон Волькенштейн из свиты императора Сигизмунда отмечает, что многие женщины, прельстившись высокими доходами, подались в «ласковые барышни». Главный квартирмейстер Эберхард Дахер получает от своего господина, герцога Рудольфа Саксонского, хорошее, но неблагодарное задание — установить число услужливых дам: «И вот мы скачем из одного дома, где содержатся такие женщины, в другой и находим в одном доме, например, тридцать девушек, в другом — больше, в третьем — меньше, не считая тех, что помещаются в конюшнях или в банях. Всего набралось до семисот общих женщин. Продолжать поиски у меня уже не было охоты».
Удовольствуемся и мы числом семьсот, поскольку его подтверждают другие хроникеры, хотя они, кажется, слегка преувеличивают число странствующих женщин, которые могли оказаться в одном и том же месте. К самым благоприятным мероприятиям для странствующих барышень причисляются ярмарки. Туда устремляются и проститутки-одиночки, и целые группы во главе с хозяйками, чтобы воспользоваться преимуществами так называемой «ярмарочной свободы», то есть беспошлинного занятия всеми торговыми ремеслами. На франкфуртской ярмарке торговля любовью цветет таким пышным цветом, что недельная арендная плата местного борделя удваивается — обычай, который, похоже, сохранился и поныне, судя по растущим ценам на проживание в гостиницах во время франкфуртских ярмарок. Приезжающие на ярмарку проститутки регистрируются и вносят определенную плату за пребывание в городе; эти деньги текут прямо в городскую казну.
Чем терпимее город относится к официальным женским домам, тем большую свободу действий он предоставляет странствующим барышням. Кое-где власти вовсе не чинят им препятствий. А вот в городах со строгими нравами с общими женщинами, напротив, обращаются весьма сурово. Различие в степени терпимости связано и с поведением самих девушек. В городах, где их не слишком тревожат, они чуют поживу, становятся все наглее и рано или поздно нарываются на запреты.
Тот факт, что вольные проститутки могут вести себя вызывающе и одеваться более броско, поневоле настраивает против них публичных женщин, занимающихся своим ремеслом организованно. Они чувствуют себя признанным в городе профессиональным сообществом и ревностно следят за тем, чтобы никто не составлял им конкуренцию. Вот что пишет Генрих Дайхслер в «Нюрнбергской хронике» 26 ноября 1500 года: «В тот же день к бургомистру Маркхарту Менделю пришли восемь женщин из общего женского дома и сказали, что в доме по соседству полно тайных шлюх: мол, хозяйка держит женатых мужчин в одной комнате, а холостяков в другой и позволяет им развратничать день и ночь. Посему они просят его, чтобы он дал им разрешение напасть на тот дом и разрушить его. Бургомистр дал им такое разрешение. И они напали на дом, вышибли дверь, побили оконные стекла, и каждая что-то унесла с собой. Птички вылетели на волю, а вот старую хозяйку женщины жестоко побили».
Официально разрешенные публичные дома ревностно сражаются за свои права. Они платят высокие налоги и поэтому чувствуют себя вправе требовать, чтобы власти защитили их от недобросовестной конкуренции. Когда свободная проституция грозит их доходам, они тотчас идут в ратушу и требуют вмешательства. Если им отказывают, они сами ополчаются на конкуренток, насильно врываются в «норы порока» и крушат все, что попадается под руку. Соперниц избивают до полусмерти, а то и до смерти, если кому-то не удалось своевременно спастись бегством. Власти смотрят на такие вещи, как правило, сквозь пальцы. А что им еще остается?
Против «продажных трактирщиков», как они названы в одном из полицейских предписаний Страсбурга, выступает в своей воскресной проповеди вестфальский августинский монах Готтшальк Холен. Он упрекает дельцов в том, что те впускают в свои трактиры и дома проституток, чтобы те могли грешить с посетителями и пьяницами. И хотя городские власти принимают против таких трактирщиков меры и строго предписывают им давать странствующей проститутке приют только на одну ночь, не позволяя творить разврат в своих домах, однако чаще всего случается, что предписания не помогают. В Эсслингене, например, хозяйка женского дома жалуется на конкурентов, которые предоставляют странствующим женщинам кров на целых пять недель.
Об одной такой гостинице повествует Эразм Роттердамский: «Вместо чистоты и уюта там были красивые девушки, которые составляли посетителям компанию, позволяли с собой шутить сколь угодно вольно и охотно служили мишенью всех шуток. Они проникали в спальни постояльцев. Вели они себя вызывающе, смеялись и кокетничали. Не дожидаясь просьб, они спрашивали, нет ли у нас грязного белья. Постирав, приносили нам чистое. Что можно к этому добавить? Мы и снаружи, на хозяйственном дворе, постоянно видели девушек и женщин, они и там приносили доход заведению. Прощаясь с отъезжающим, они обнимали его с таким участием, как будто он был им братом или близким родственником».
Но были и города, куда проституток прямо-таки заманивали. Там даже устраивали настоящие праздники шлюх — например, в Цурцахе, что в швейцарском кантоне Аргау, где дважды в год проводились ярмарки, на которые отовсюду съезжалось больше сотни женщин. В этом празднике принимал личное участие правитель земли Баден, окруженный трубачами и дудочниками, своими заместителями и многочисленными слугами. Он самолично открывал «танец шлюх» и дарил самой красивой девушке гульден. Поводом для этого праздника служило примечательное событие, тоже наводящее на мысли: в 1308 году император Альбрехт умер в объятиях проститутки.
Когда выборные представители от различных сословий Цурцаха в 1535 году захотели положить конец дурной традиции и подали соответствующее ходатайство, католические власти отклонили это еретическое требование. Не упразднили даже непристойные танцы во время ярмарки: если позволить парню танцевать с проституткой, объяснили ходатаям, это может удержать его от чего-нибудь еще более дурного.
Однако не стоит думать, что странствующие проститутки вели жизнь, полную веселья и радости. Многих в это ремесло загоняет нужда и, если женщине удается найти защиту у какого-нибудь мужчины, который поможет ей перебиться во время болезни или другой беды, можно считать, что ей повезло. Правда, такие отношения недолговечны. Когда проститутка стареет и теряет привлекательность, она часто вступает в разбойничьи банды и участвует в грабежах. Иногда странствующим барышням помогают дочери, перенявшие их ремесло. Обычно проституция, воровство и попрошайничество ходят рука об руку.
Нет ничего удивительного в том, что многие странствующие проститутки заканчивали свой путь на виселице. Часто они не видели ничего другого, кроме улицы, — например, если следовали по материнским стопам. Постоянное пополнение рядов этих несчастных обеспечивали также продажное правосудие и бездушие общества, которое запрещало множеству молодых женщин заниматься пристойными ремеслами.
Честь музыкантов и фокусников
Часто, хоть и не всегда, к представительницам этого цеха примыкали также жены и дочери бродячих музыкантов. Уже Хильдеберту I из династии Меровингов приходится в 554 году принимать меры против женщин, странствующих вместе с музыкантами. Они находятся вне общества, свободны и ничем не связаны — но вместе с тем презираемы всеми и всюду. Не исключено, что при этом им завидуют, поскольку их жизнь и поведение не ограничены жесткими рамками. Эти женщины могут не обращать внимания на порицание церкви, а когда поют и играют на музыкальных инструментах, они выставляют себя на всеобщее обозрение.
По средневековой Европе странствуют не только чисто мужские или смешанные группы музыкантов. На свой страх и риск, в одиночку или сбившись в труппу, бродят по дорогам и женщины — певицы, танцовщицы, музыкантши, облаченные в яркие, возбуждающие чувственность наряды. Они предлагают то, чего от них ждут глаза и уши зрителей, они искусительницы. На них любят смотреть, они незаменимы, и в то же время их избегают и презирают. Эти женщины странствуют, не зная родины. Сегодня они купаются в роскоши, а завтра не имеют ничего, кроме куска хлеба. Они лишены последнего утешения церкви. Для общества они — служанки дьявола, и даже покаяние в конце жизни не может примирить их с окружающими.
В XIII веке монах и проповедник Бертольд Регенсбургский с яростью обрушивается на странствующих музыкантов, скрипачей, барабанщиков: он отказывает им в вечном блаженстве и, ничтоже сумняшеся, отсылает этих людей к их товарищу — дьяволу, мятежному ангелу, отступившему от Царствия Небесного, — поскольку странствующий люд проводит жизнь во грехе и позоре, нимало не стыдясь этого. И говорят музыканты такое, что сам дьявол постеснялся бы сказать. В душах и сердцах этих бесправных людей нет места человеческому достоинству — они попали в настоящий порочный круг, ибо за презрение, которое швыряют им в лицо, они расплачиваются коварством и ненавистью к обществу, получающему удовольствие от их искусства, но отказывающему им в чести.
Странствующие музыканты образуют собственное общество со своими уставом и иерархией. Самое низшее место в этой иерархии занимают попрошайки, вверху оказываются музыканты и фокусники, спаянные в одно профессиональное товарищество. О них рассказывает старая книга — Liber Vagatorum («Книга бродяг»). Она повествует о занятных приключениях странствующих вагантов, которые «в большинстве своем родом с горы госпожи Венеры и знают толк в ужасном черном искусстве», и заслуживает прочтения уже тем, что описывает любопытные детали жизни странствующих артистов, насквозь лживых личностей, вовсю наживающихся на пресловутом, порой фантастическом милосердии Средневековья. Одни выдают себя за ограбленных купцов, разорившихся дворян, больных эпилепсией или еще какими-либо недугами, другие околпачивают порядочных граждан с помощью шулерства или фокусов. Женщины, чтобы вызвать сострадание, притворяются беременными или роженицами.
Бродячий люд воспринимается в Германии как настоящий бич Божий, особенно перед Тридцатилетней войной и после нее. Банды, насчитывающие временами сотни человек, нападают на целые деревни и грабят купцов, везущих свои товары. Тогда же внутри бродяжьего ремесла формируются различные узкие специальности, требующие особого мастерства, — домушники, взломщики, карманники, шулеры и тому подобное.
Одна группа постоянно стремится превзойти другую, возникает прямо-таки состязание талантов, появляется понятие «честь разбойника». Бандит кичится своей честью, но это вовсе не означает, что воровство становится благородным занятием. Речь идет о том, что честь не позволяет вору предать своего товарища по ремеслу.
Все средства и попытки положить конец ремеслу странствующих актеров оказались бессильны или действовали лишь временно. Предписания оставались неэффективными, их исполнения нельзя было добиться, ибо количество бродяг оказалось слишком велико. Если верить свидетельствам того времени или документам официальных органов, то почти все трактиры и постоялые дворы были сущими притонами, не сулившими ничего хорошего доверчивому путешественнику.
Театр, карнавал и танец
С. 225. Изображение шестой заповеди: «Не прелюбодействуй» (фрагмент). Данциг, XV в.
С. 226. Хоровод желания (фрагмент). Иллюстрация к «Роману о Розе». Фландрия, ок. 1490 г.
Фарс и мистерия
В глазах церковной верхушки театр греховен, как и многие другие средства выражения естественных чувств человека, его стремления к радости и наслаждению. По мнению духовных лиц, пьесы лишены целомудрия, равно как и все театральное действо, включая жесты и движения актеров, и «представление зачастую есть не что иное, как перенесенный на сцену акт проституции», — так было заявлено официально. Театр, считают священники, отчуждает людей от церковной морали. Изначальное противодействие церквников театру не удивительно. Оно, в частности, было протестом против безнравственности убогих останков некогда блестящего актерского искусства Античности. Несмотря на это, фарсы и озорные сценки публика смотрит охотно: как-никак своими грубыми, ловкими и комичными выступлениями актеры вносят разнообразие в скучную повседневную жизнь, регулируемую церковным календарем.
А между тем в ответ на привлекательность фарса церковь и сама создает новый вид театрального представления — мистерию. Духовные спектакли, которые в Средние века пользовались большой популярностью, происходят напрямую от церковных обрядов. Вдохновленная католической литургией, мистерия на своем языке реализует начальную духовную ступень драматической постановки. Из преобразования литургии в диалог возникает сценическое представление, частично даже с нелатинскими текстами, опирающимися на Евангелие. Позднее, по мере того, как сцены усложняются, следует решающий шаг к секуляризации, и театр, эта самая мирская, обращенная ко всем чувствам форма искусства, вскоре снова становится тем, чем была изначально, — средством увеселения народа. Религиозные материи превращаются в мирские, религиозное действо теряет свою функцию, верх одерживают чистое удовольствие от зрелища и радость грубого комизма. В благочестивую сцену поначалу просачиваются комические ноты, а в итоге побеждает эротический элемент.
Самое излюбленное средство эротизации религиозного материала — введение образа Марии Магдалины, которую изображают не после ее раскаяния и обращения, а в ее грешные дни. Пример пикантной сцены — монолог Марии Магдалины, обращенный к торговцу благовониями и притираниями: «Торговец, дай мне краску, чтоб нарумянила мои щеки, чтобы молодые мужчины возжелали любви… Любите, добродетельные мужчины, предавайтесь радостям любви! Любовь сделает вас смелыми и покажет в лучшем свете. Взгляните на меня, молодые люди, разве я вам не нравлюсь?»
Кстати сказать, это сцена из религиозного спектакля, а фривольный текст слетает с уст будущей святой. Позднее Средневековье, а еще больше раннее Возрождение ценят как раз такие наивно-натуралистические зрелища. Заслуживающий проклятия порок беззаботно соседствует со святым и великим, и случается, что для сцены страстей Христовых актера, изображающего Иисуса, привязывают к кресту совершенно нагим. Эротические мотивы включаются непосредственно в ход пьесы, как, например, в драмах Хросвиты Гандерсгеймской[57].
Мотив пляски смерти, включенный в многочисленные спектакли, тоже содержит эротический элемент. Так, Смерть[58] хватает за грудь юную девушку, которой пришла пора умирать, или позволяет себе еще более интимные ласки на глазах у изумленной публики. В изобразительном искусстве этот мотив тоже распространен. Одно полотно из Берна изображает такую пляску — грациозная монашенка идет рука об руку со Смертью, ведущей ее в танце, как полагается кавалеру, а вторую монашку, укутанную в покрывало, хватает за ноги скелет, пытаясь овладеть ею.
Представления для фастнахта
Со временем мирские и прежде всего эротические элементы становятся настолько важными в изначально духовных спектаклях, что религиозные корни мистерий скоро полностью отодвигаются на задний план. Зрители теперь предпочитают мирскую комедию с ее чувственностью и двусмысленностью.
Представления для фастнахта, как и мистерия, обязаны своим возникновением литургическим культам, только в данном случае речь идет не о христианских, а о германских народных обычаях. В их основе лежат прежде всего ритуалы, ставшие традиционными для праздника пробуждающейся весны. Правда, в Средние века их символический характер уже утрачен — осталось одно развлечение. Религиозная тематика и явно выраженный натурализм идеально дополняют друг друга, когда обыгрываются эротические ощущения, ввергающие публику в состояние возбуждения. Показ неприкрыто чувственных сцен становится важнейшей составной частью таких постановок. Аплодисменты постоянно следуют за прославлением фаллоса — и это публика, которая в повседневной жизни ведет себя скромно и пребывает в гармонии с нравственными требованиями церкви.
Две трети сохранившихся пьес, которые ставили накануне поста, имеют сексуальный характер, причем в большинстве случаев на этой теме построено все действие. Театр доставляет эротическое удовольствие: на досках грубо сколоченной сцены показывается то, о чем люди обычно не смеют говорить вслух. Для народа фастнахт — время бурного веселья, когда можно отпустить вожжи и дать волю всем желаниям, а затем, в строгие недели поста и покаяния, снова подчинить их господствующим религиозным правилам.
Зрелища для общественного увеселения призваны рассмешить людей. Как бы ни назывались эти постановки — «Про монастырь», «Про монахов», «Про монашек», «Про соседей» (тут дама и господин то и дело садятся друг другу на колени), «Крестьянин на ярмарке», «Влюбленные иезуиты» — все сцены в них сводятся к якобы нечаянной эротической близости. В спектакле «Поклонение испанскому кресту» мужчина и женщина «становятся на колени, соприкасаются спинами и, обернувшись, невзначай целуются». Спустя века поцелуи по-прежнему играют большую роль в представлениях, а во время игры в фанты — даже главную.
В шутках, разыгрываемых во время фастнахта, выплескивается чувственное желание, обычно тщательно подавляемое. Скрыв лицо под маской или покрывалом, и мужчины, и женщины со всей откровенностью могут сказать и сделать то, чего в обычных условиях никогда не позволят приличия. Эдуард Фукс в своей «Истории нравов» так описывает их поведение: «Мужчина мог без опаски повести себя как угодно дерзко, ибо это одобрено законом шутовской свободы. Любая дерзость прощалась, и женщина, тоскующая из-за привычной сдержанности, могла, подбодрив робкого избранника, воспользоваться благоприятной ситуацией». Фастнахт дарует небывалую эротическую свободу под защитой маски — шутовской праздник проникает даже в церквь.
Праздник шутов
Праздник шутов — причудливое церковное действо, которое происходит в течение двенадцати дней, отделяющих Рождество от Крещения. Двадцать шестого декабря монахи, младшее духовенство и дьяконы собираются для выборов шутовского папы или — в некоторых местах — мальчика-епископа. На него накидывают мантию, напоминающую папскую, и он царствует в рамках этой перевернутой иерархии, как Бобовый король во время римских сатурналий. Первого января, в день Януса или — по христианскому обычаю — праздник Обрезания Господня, шутовской папа устраивает победное вступление в собор и объявляет о начале безудержного пиршества. У парадного входа его встречает весь клир, переодетый в женщин и животных, равно как и миряне, наряженные монахами и монашками. Все пляшут и распевают беспутные песни. Посреди этой шумной толпы шутовской папа произносит проклятия и раздает комические благословения. Алтарь превращается в пиршеский стол, за которым сидят священники и миряне, поедающие жирные блюда, пьющие допьяна и играющие в кости.
Французский историк Жак Хеерс объясняет шутовское поведение в церкви следующим образом: «Кратковременный реванш для тех, кто в обычной жизни вынужден повиноваться, праздники шутов (возвышение молодежи, детей, торжество перевернутой иерархии, осмеяние священных ритуалов) дают на несколько часов или на несколько зимних богослужений возможность провозгласить в церкви новую, веселую власть — волю шутовского настоятеля, как правило, в лице молодого клирика и мальчика-папы, которых выбирают и с восторгом приветствуют все».
Шестого января, в День трех королей-волхвов, или Ослиный праздник, гульба достигает своей кульминации. К алтарю ведут осла под золотым балдахином в сопровождении распеваемых хором «аллилуйя» и «аминь». В конце концов, вся эта безумная компания пускается в пляс и разражается ослиным криком. Затем священников везут по переполненным улицам на увешанном фонарями шутовском корабле, и они обмениваются с толпой грубыми шутками и сочными ругательствами. Перед домами богатых процессия останавливается и требует подарков. Карнавальное шествие заканчивается перед церковью, где на импровизированной сцене демонстрируются непристойные фарсы.
Шутовской праздник осуждали богословы Парижского университета и не только они. В конце XII века папа Иннокентий III пытается положить конец богохульному представлению. Церковным иерархам не по нутру, что духовенство публично выставляет себя на посмешище. Кроме того, они боятся популярности старых языческих богов, которые как раз во время зимнего солнцеворота снова водворяются в сердца и мысли людей.
В архивах сохранились предостережения, осуждения, угрозы и предписания, которые исходили от церкви до XIX века включительно. Это были отчаянные попытки обуздать «безнравственное поведение» и оградить верующих от нежелательных влияний. Церковные власти вновь и вновь отговаривают прихожан от участия в языческих культовых ритуалах. Проповедники в пламенных речах риторически вопрошают, как могут мужчины бесстыдным образом переодеваться женщинами, оскверняя тем самым себя и свое мужское достоинство. Клеймят как «бесовщину» и пытаются запретить украшение домов зелеными ветками, приготовление особых блюд, танцы и пение, маски и переодевания. Грозят вечным пламенем преисподней тем, кто не отказался от обычая праздновать изгнание зимы, носить звериные маски и нарушать строгий пост. Мол, потребуются годы покаяния и молитвы, чтобы замолить эти грехи.
Однако внутри церкви есть не только те, кто ревностно издает запреты, но и священники, ратующие за праздники, полагая их здоровым явлением, поскольку они дают выход озорству, присущему людям от природы. Постепенно церковное начальство принимает эти доводы и пытается создать церковные версии языческих ритуалов, чтобы придать разгульному празднеству христианский вид. Поэтому многочисленные праздники новых святых посвящаются плодородию, пробуждению природы.
Карнавал и фастнахт
Языковеды спорят, откуда произошло слово «карнавал» — то ли от carrus navalis («шутовская телега»), то ли от carne vale — «прощание с мясом» и начало поста. В любом случае церковь в конце концов прониклась убеждением, что фастнахт принадлежит к ее собственным давним традициям.
Из года в год повторяется одна и та же картина: во время карнавала и фастнахта жизнеутверждающая радость бытия достигает своего апогея. Именно об этих днях безудержного удовольствия, которое легко переходит в разнузданность, сказал однажды Себастьян Франк[59]: «Безумство в специально отведенное время — большая мудрость». Без сомнения, карнавал — самое веселое время в году, когда радость плещет через край и находит выход в шутовских проделках дома и на улицах. Случается и рукоприкладство: «Если на ярмарках люди пьют по три-четыре дня подряд, то фастнахт затягивается для них и на пять-шесть дней. Поскольку ряженые нередко дерутся до крови, цирюльники недаром считают масленицу самым благословенным для себя временем» (Макс Бауэр).
В этом отношении и по сей день мало что изменилось. Старинные эротические ритуалы плодородия почти полностью исчезли из европейского обихода, однако карнавального короля избирают каждый год, и он по-прежнему получает свою королеву. В некоторых карнавальных зрелищах и уличном театре Нового времени еще можно узнать следы изначальной эротической распущенности, хотя их уже невозможно сравнить с непристойными фарсами средневекового фастнахта. Союз бюргерской морали и государственной власти, равно как и многовековое давление со стороны епископата и папы, обуздали дух природного сладострастия и свободу его проявления.
Языческие бесчинства не удавалось сдержать даже в самих папских владениях, в Риме. Тамошний карнавал, черты которого отчетливо определились в XV веке, самобытен и груб; в отличие от флорентийской подделки он — единственная в своем роде импровизированная комедия и народное увеселение, фарс и настоящее неотесанное шутовство. Именно папский Рим на неделю выделял пространство мероприятию, которое принадлежало к самым разнузданным праздникам. Все общественные предписания и установления упразднялись, что вело ко всеобщему неистовству и раскрепощению, к разного рода бесчинствам. Уличные битвы, акты мести, изнасилования и убийства — все это включалось в повестку дня. При этом — и здесь опять же проявляется одно из многочисленных противоречий — озорует не только народ, карнавальное настроение разделяют даже папа, курия и коллегия кардиналов.
Тем не менее вновь и вновь повторяются и попытки иерархов ограничить разнузданные бесчинства в помещении церкви. Многочисленные синоды, конвенты и церковные соборы неоднократно поднимают вопрос о запрете шутовских выходкою Уже в 1209 году собор в Авиньоне требует, «чтобы в канун святых праздников в церквях не учинялись фиглярские ужимки, непристойные пляски и хороводы; не следует также распевать любовные или неприличные уличные песенки».
В 1473 году церковный собор в Толедо с сожалением констатирует: «В праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа, в праздники святых Стефана и Иоанна, в День избиения младенцев, равно как и во время ярмарки первых плодов, в церквях наших провинций распространен обычай носить маски, переодеваться в демонов, устраивать театральные зрелища и фарсы, в большинстве своем бесстыдные, и развлекаться прочими выдумками. Люди безобразно кричат, читают бесстыдные стишки и издевательские проповеди, которые нарушают церковный обряд и лишают прихожан всякого благоговения».
Подобные жалобы звучат в 1565 году на соборе в Неаполе, осудившем тех, кто «устраивает в церкви бесстыдные пляски. Они поют не только низкопробные песни, но и нарушают церковные обряды, на которые приходят ради молитвенного благоговения жители наших городов и их окрестностей». Синод в Сицилии в 1584 году выпускает наконец решительное распоряжение: «Во время церковных обрядов в храме не дозволяются ни зрелища, ни танцы, ни хороводы, ни маски».
Народные проповедники и нравоучительные сказки
Жалобы на растущее бесстыдство звучат не только во время церковных соборов и иных совещаний духовенства. Угрозы и предостережения раздаются и с церковных кафедр, причем в довольно грубой форме, поскольку популярные в народе проповедники говорят на простом языке. Иоганн Гейлер фон Кайзерсберг (1445–1510) — без сомнения, самый знаменитый проповедник последних десятилетий Средневековья. В Страсбурге он пользуется таким уважением, что в его честь в местном соборе строят великолепную кафедру. Многие проповедники стараются не отстать от него, но ни один не способен говорить столь внятно, привлекательно, просто и сердечно. С нравоучительной целью Гейлер включает в свои проповеди многочисленные притчи.
Самыми знаменитыми и бесстрашными считаются проповеди Гейлера, основанные на «Корабле дураков» Себастьяна Бранта[60], которые он произносит в Страсбурге в 1498 году. Сатирическое произведение Бранта, впервые вышедшее в свет в 1494 году, стало идеальной иллюстрации для Гейлеровой критики, для его бурных тирад о всеобщем «падении морали». Так, в одной из своих проповедей красноречивый богослов со страстью говорит о грехе прелюбодеяния: «Тридцать третья кучка дураков — это дураки-супруги. Но не те, что живут в браке, а те, что брак разрушают и расшатывают». Поведение дураков-супругов Гейлер описывает с помощью так называемых «пощечин»: «Первая пощечина — это когда незамужние и неженатые творят прелюбодеяние с женой другого или с мужем другой. Насколько велика это грешная дурость, знает всякий, ведь люди ради мерзкой похоти, которая невечна, подвергают себя нужде и опасности. О ты, молодой парень, ты подвергаешь свое тело, душу и доброе имя временной и вечной опасности, каждый час и каждое мгновение тебе приходится опасаться, что тебя зарежут или сделают калекой, и не утешайся тем, что тебе уже сто раз удавалось благополучно ускользнуть, ведь настанет час, когда унести ноги не получится, и тогда подойдет к тебе пословица: ходил кувшин к колодцу, пока не разбился. Тогда забросают тебя прозвищами, и перед всяким тебе будет стыдно. К тому же не ты один к ней хаживал, неужели ты думаешь, что она принялась за дурное только ради тебя одного? Нет, воистину, многое за ней числится, и услуг ее ждет то один, то другой. Какой же трактирщик станет открывать заведение ради одного посетителя? Так же делает и она.
Другая пощечина — когда женатые и замужние прелюбодействуют с другими женатыми и замужними. Это самая страшная и ужасающая глупость и самый большой грех, какие только знает мир. Она строго запрещена Священным Писанием и всегда наказывались Богом, и не диво, ибо такое распутство противно природе, а также запрещено естественным законом: чего не хочешь, чтобы делали тебе, того не делай и другому. А ведь никто не хочет, чтобы с его женой развратничали и заигрывали, а некоторые даже считают, что лучше отдать себя на растерзание, чем испытать или увидеть такое. Воровством похищают у ближнего его добро и деньги, а прелюбодеянием — его благочестивую жену. Найдется ли такой, кто не предпочел бы (на то он и честный человек), чтобы у него похитили сто гульденов, чем изгадили его порядочную жену и сделали из нее шлюху? Недаром эта заповедь поставлена между убийством и воровством. Потому что смертельный удар лишь немногим больше, чем прелюбодеяние, а оно намного страшней воровства. Поэтому не диво, что Господь Бог жестоко наказывает распутство, ибо оно само по себе — ужасный и страшный, воистину смертный грех».
Четыре следующих «пощечины» Гейлер фон Кайзерсберг отвешивает явному многоженству, торговле собственной супругой из-за бедности или от безразличия. Он высказывается против «дураков-прелюбодеев», которые «любят и вожделеют чужих жен», а также против того, кто предается «мерзкому вожделению и похоти» с собственной женой: «Ибо есть некоторые, кто обращается со своей женой, как неразумные животные друг с другом. А именно, если им захотелось что сделать со своей женой, они сразу и делают это, как если бы утоляли свою похоть и непристойность с другой. Это едва ли не больше, чем прелюбодеяние. Таковы пощечины, которые учат узнавать дураков-прелюбодеев».
Если средневековый священник хочет завоевать моральный авторитет проповедью с кафедры, лучше всего ему использовать «проповедь-сагу». В нее встраивают рассказы, легенды или предания, которые должны послужить моральному воспитанию общины. Правда, само содержание проповедей уж никак не добродетельно, а некоторые из них отличаются откровенной непристойностью.
Так, например, один эльзасский проповедник упоминает священника, который на пути к своей любовнице упал в реку и чуть не утонул, но Богородица отнимает его у чертей, потому что он всегда исправно читал «Аве Марию». «Он был монах в монастыре, служил нашей Богоматери со всем прилежанием и имел привычку, становясь перед образом Девы Марии, приветствовать ее молитвой “Аве Мария” и несколькими поклонами. И вот человеческая слабость заставила его спать с женщиной, и хаживал он к ней ночью из монастыря. Собрался он однажды пойти к той женщине и последовал своей привычке — отдался под защиту Богородицы перед Ее образом, с чем и вышел из монастыря. Поскольку путь его лежал через реку, по мосткам, он упал в воду и утонул. Тут явились черти — ведь он был на пути греха — и взяли его душу и потащили ее в ад. Но пришла Наша Заступница, Небесная Правительница, и говорит чертям: “Как вы смеете одолевать того, кто шел под моей защитой!” И взяла у чертей его душу, снова вернула ее в тело и велела священнику идти в монастырь».
В средневековой проповеднической литературе можно найти множество подобных историй о соблазне, заблуждении и милости. Под прикрытием нравоучений зачастую произносятся грубые непристойности, которые, однако, могут соответствовать жизненным привычкам и образу мыслей грешных слушателей. Мастером подобных выступлений в конце XVII века становится красноречивый проповедник Авраам из Санта-Клары (Иоганн Ульрих Мегерле, 1644–1709), который не только заслужил глубокое уважение своих современников, но и нашел немало подражателей. До нас дошли многие его сочинения: он всегда оригинален, изобретателен, неутомим в изображении человеческих слабостей и искушений. Венский придворный проповедник не чурается никакой грубости и заводит речь даже о самых щекотливых вопросах.
Особую главу в истории народной проповеди, которая не чурается непристойностей, составляет так называемый пасхальный смех. Как только тяжкое время поста остается позади и приходит Пасха, пастор рассказывает с кафедры замечательные истории. Он говорит о святом Петре, который не заплатил подать, о том, как сатана покалечил Люцифера за то, что тому не удалось ввести в искушение Иисуса. Община вознаграждает пасхальные сказы громким смехом.
Богослов из Италии Мария Катерина Якобелли посвятила этой теме небольшую, но в высшей степени содержательную работу и указала, что этот обычай, продержавшийся несколько столетий, родился скорее из земных утех, чем из христианской радости, связанной с воскрешением. Якобелли детально доказывает, что пасхальный смех есть выражение гласа народа, и что проповедник попросту прибегает к средству, которое понятно простому люду — к непристойности. «И если эта истина не находит места в учении, она содержится в упомянутой практике». Имеется в виду забытая и вытесненная из сознания истина о том, что сексуальное желание может получить религиозное обоснование, что оно «есть нечто сакральное и предоставляет прекрасную возможность понять бесконечного Бога».
Пасхальный смех следует понимать как попытку взглянуть на отношения между религией и сексуальностью, не шарахаясь от плотского, как черт от ладана. Существенны три элемента: смех, вызванный гротеском, сексуальность и удовольствие слушателей. Базельский реформатор Иоганн Хаусшайд, как и многие другие, находит сей обычай отвратительным и негодует, что прихожане довольны, «когда подражают скоморохам и исторгают грязные слова, полные бесстыдства. Удовлетворены же они лишь тогда, когда проповедник, словно странствующий комедиант, большую часть времени посвящает изображению всякой мерзости, забывая при этом, к какому сословию принадлежит». Далее он говорит об «оскорблении чувства стыда» различными недвусмысленными действиями вплоть до обнажения половых органов.
Другой теолог Реформации Вольфганг Капито в письме 1518 года негодует по поводу проповедника, который не удовольствовался «шуточками, достойными кухарок» и «непристойными словами», а стал «изображать в церкви наглого скомороха, онанируя и творя у всех на глазах вещи, какие супруги имеют обыкновение совершать в более уместных условиях — в своей спальне и без свидетелей». Если исключить подобные извращения, Вольфганг Капито все же принадлежит к тем богословам, которые признают за пасхальным смехом право на существование и оправдывают его словами из псалма: «Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!»[61]
Праздничный экстаз
Праздник одурманивает, дает возможность преодолеть повседневность, очутиться в некоем беспамятстве. Здесь речь идет не только о «выходе за рамки приличий», но и о пьянящем постижении собственной природы. Упоение выражается по-разному — от приподнятого настроения до диких выходок. В цивилизованном обществе настоящий экстаз считается неприличным, и его приемлят лишь в ослабленной форме. Природные стимулы уступают прагматизму, а остаток чувственной энергии не так велик, чтобы искать ему особое применение. Цивилизованный мир не придает значения половой жизни, тогда как архаический видит подлинную высоту именно в природе, в животном и органичном; для него сексуальность — не пустая забава, а откровение. В сексуальном опьянении человек погружается в иные глубины чувств, а праздник к тому же тесно переплетен с религиозным экстазом.
Из-за скудости реальной жизни и мучительного расхождения мечты с действительностью, идеала — с его приземленным воплощением человек Средневековья ищет спасения в презрении к миру со всеми его земными благами и радостями. Он колеблется между безропотным смирением и надеждой на то, что за краткой земной ночью последует вечный райский день. Без сомнения, вера дает ему бесконечное утешение и жизненную силу, даже если она омрачена страхом не заслужить спасение. И все-таки широким массам религия отнюдь не помогает преодолеть жизненные невзгоды.
Впрочем, праздники обещают хотя бы забытье. Они прерывают унылое будничное однообразие. Средневековое праздничное настроение в принципе отличается от любого другого, например от нынешнего, когда каждый веселится по-своему. Средневековую радость праздника можно понимать скорее как уход от официальных церемониалов, как мятеж против упорядоченной торжественности, чопорности шествий и процессий, равно как и против попыток церкви обуздать грубую распущенность народа.
Люди изобретательны в поиске поводов для веселья. Проносят ли по округе мощи святого, едет ли князь по своим владениям, коронуют ли монарха или погребают его же, выступает ли на торговой площади проповедник, показывают ли свое искусство канатоходцы и фокусники — все превращается в праздник. Люди могут безудержно ликовать или рыдать, бросать в огонь украшения или игральные кости по требованию богослова, играть на свирели или плясать — все превращается в зрелище, турнир и процессию, вне зависимости от того, что отмечается — крещение отпрыска вельможи или казнь преступника.
Любовь к танцам
Песня и представление, праздник и танец — все это торжество чувственности. Народная песня далека от идеи возвышенной любви, которая преобразует возлюбленную в недостижимую звезду; народная песня не пригодна для этого. В ней речь идет, как правило, о тотальном слиянии и любовной истоме.
Еще интенсивнее потребность в физической близости выражается в танце. Всюду, где танец освобождается от традиционных форм, он превращается в подлинный вихрь чувственной радости. Восхищение вызывает тот танцор, который сможет впечатляющими смелыми движениями доказать девушке свою силу. Разумеется, танец — благоприятная возможность для обмена нежностями, причем поцелуи случаются не только в губы и руки, а но и в область груди.
Для девушек танец и всякое связанное с ним торжество — практически единственная возможность непринужденным образом сблизиться с возлюбленным и хотя бы немного насладиться сладким блаженством эротического экстаза. В песнях часто говорится о любви девушек к танцам, о плещущей через край радости, а больше всего воспеваются те, чьи юбки взлетают в кружении выше, чем у подруг.
Уже во времена салических императоров, которые правили в XI веке, упоминаются кадрили, медленные и фигурные танцы. Партнер «преследует» свою партнершу, словно сокол голубя. На картинке Генриха фон Штретелингена в Манесском песеннике изображена прелестная игра жестов в придворном фигурном танце: участники нежно берутся за руки и размеренным шагом в такт музыке следуют за ведущим; придворный танец — это чопорный ритуал, движения его лишены огня и страсти.
Все оживают, как только дело доходит до кругового танца — хоровода. Тут и самый большой зал оказывается слишком тесным, а свет от факелов и свечей — слишком тусклым. Ведь хороводу полагается солнечный свет и просторная площадь. Если грозит дождь, все общество удаляется под навес; как только небо опять проясняется, действие вновь перемещается на волю. Хоровод — народный танец, в котором то шагают, то подпрыгивают.
Покошен луг, сияет солнце, Все пляшут, смеха не тая. Давай-ка в хоровод вольемся, Любимая моя![62]Праздник немыслим без танцев. Радость необузданна, чувства пенятся, как сидр. Для крестьян, страдающих от подневольного труда, они — единственное удовольствие, которое у них не могут отнять господа. Все попытки властителей страны, местной знати и владельцев поместий регламентировать озорные народные танцы по образцу придворных потерпели неудачу, ибо вельможам чужда простонародная потребность в движении. Наоборот, знать сама перенимает необузданность крестьянской пляски, когда ей надоедает придворная скука.
Плясовой бес и опьянение танцем
Как и следовало ожидать, церковники не просто питают неприязнь к стремительно распространяющемуся увлечению танцами — они напрямик объявляют танец дьявольским изобретением. Разве можно вести себя, будто изображаешь «плясового беса», к тому же так нагло, что подолы у женщин и девок «взлетают до пояса, а то и выше головы»? Некоторые танцы, например «вемплинберген» или «пастух из нового города», и впрямь носят исключительно непристойный характер. Средневековая тяга к шутовской игре и нескромному танцу связана, пожалуй, с тайным импульсом, который У.Х. Оден[63] описал так: «Я не знаю ничего, кроме того, что знает всякий — если танцует сама благодать, я тоже танцую». Устоять невозможно!
Правда, танец, как выражение раскованности, временами вплотную приближается к сексуальному разгулу — упоение пляской может перейти в сексуальное упоение. Поскольку в Средневековье танец все больше служит целям сводничества, «плясовый бес» становится объектом нравоучительных проповедей и ограничительных распоряжений. Церковь и государство сотрудничают так тесно, что всякое порицание священника неминуемо влечет за собой какой-нибудь запрет или нелепое предписание, а, начиная с XIV века, указания касательно танцев текут бесконечным потоком. Впрочем, люди далеки от того, чтобы воздерживаться «от всех увеселений, праздников и танцев».
Скачут так, что душа вон. Названия танцев нередко столь же гротескны, как и движения: хоппальдай, тирлефай, фурлефанц, хоттостан, трипотай, фиргандрей, гимпель-гампель, римпфенрайе, кевенанц, фоляфранц, труальдай, дранаран, швингервурц — эти языковые шарады ставят в тупик лингвистов, пытающихся их расшифровать, ибо возникают они из бессмысленных звукосочетаний или случайным образом.
Как бы ни назывались эти танцы и откуда бы ни происходили их названия, есть в них нечто общее: прыжки танцующих пар. И на деревенской площади, и в доме городского ремесленника, и в зале замка — танцорам везде нужны выносливые ноги и крепкое сложение. Женщины и мужчины стараются превзойти друг друга. Вот как Освальд фон Волькенштейн восхищается плясуньей:
Чтоб показать красоту фурлефанца, Выше мужчин она прыгает в танце.Женщину кружат так, что оказываются «на виду ее голые ноги», негодует Себастиан Брант в своем «Корабле дураков». Из-за высокой скорости вращения ляжки танцующих девушек оголяются «до самого срама». Ясно, что при «высоких прыжках да при отсутствии добродетельной скромности» выскользнуть из рук партнера и упасть — желанная неизбежность. Только мужчина может уберечь партнершу от падения, но он-то как раз всю свою ловкость использует для того, чтобы после прыжка уронить ее на пол. «Самое привлекательное в танцах — возможность повалить партнершу», — иронически замечает Себастиан Брант.
Философ Корнелиус Генрих Агриппа фон Неттесхайм в 1526 году высказывается о танцах своего времени и добрых слов не находит: танцуют самым непристойным образом, с богомерзкими жестами и чудовищным топотом, да при любом удобном случае стараются поцеловать женщину, норовя обнажить то, что прикрыла скромность. Иоганн Гейлер фон Кайзерсберг тоже возмущается стремлением танцующих увидеть то, что должно быть сокрыто от глаз: «Находятся дубины неотесанные, которые танцуют до крайности непристойно — кружат женщин и девиц и подбрасывают их так, что у тех и сзади, и спереди все видно по самый пах и можно разглядеть их хорошенькие белые ножки… Есть и такие, что бахвалятся тем, как высоко могут подбросить женщину или девицу, иногда и самим девицам это нравится, они позволяют кружить себя, показывая все, что только можно».
Изображения танцевального ража — от средневековой пляски до вальса XIX века — свидетельствуют об одержимости танцующих. С подобным фанатизмом обычно исполняют священные ритуалы. В своем «Путевом дневнике философа» граф Герман Кейзерлинг описывает восточный вариант сакрального танца и не может нарадоваться его красоте и эмоциональной выразительности: «Много часов я наблюдал сегодня за храмовыми танцовщицами. Они танцевали в полутемном зале под музыку того странного оркестра, который играет на всех священных церемониях Индии, и чем дольше длился их танец, тем больше я попадал под его чары. Я потерял всякое представление о времени и был совершенно счастлив. Танец не предполагал широкого охвата пространства, не строился согласно строгой композиции, имевшей начало и конец. Жесты девушек напоминали мелкую рябь на гладкой поверхности воды, одни начинались и заканчивались легкими движениями кистей, другие как будто медленно стекали по размягченному телу. Если говорить о рисунке танца, то он расплывается и исчезает так быстро, что его едва успеваешь заметить, и не включает даже намека на устойчивые, напряженные позы. Блестящие одежды окутывают и приглушают игру мышц, любой резкий поворот мягко растворяется в золотых волнах, где отражаются сверкающие, словно звезды, камни браслетов и ожерелий. В танце нет резких ускорений, и наблюдать за этим искусством можно сколь угодно долго. Все быстрые движения, едва возникнув, снова тонут в глубинах спокойно текущего потока жизни, который вовлекает вас в себя, превращаясь в непосредственное чувственное переживание».
Сколь бы ни был далек индийский храмовый танец от экзальтированной плясовой одержимости старой Европы, он все-таки демонстрирует определенную форму религиозно-эротической драматургии. То, что здесь старательно маскируется, в танцевальной эпидемии Средневековья с восторгом вырывается наружу.
В первой половине XIV века, когда Западную Европу поразила чума, целые области обезлюдели и всюду царил страх смерти, странным спутником грозной болезни внезапно становится плясовая одержимость. То, что некогда было просто удовольствием, становится теперь инстинктивным влечением. Танец начинается с вожделения и заканчивается смертью. Людьми овладевает лихорадочный бред, самовнушение — в такое состояние приходили вакханки античной Греции, с безумным неистовством поклонявшиеся Дионису.
Феномен вакхической распущенности прежде всего наблюдался в Голландии и Рейнской области: люди, сцепив руки и образовав круг, пускаются в бешеный пляс, подпрыгивая и извиваясь. В конце концов они падают на землю с пеной у рта, а окружающие, нередко и сами вливающиеся в пляску, тешатся этим странным зрелищем. Звуки музыки и чувственные впечатления приводят к неконтролируемому прорыву демонических жестов.
Истерические пляски распространяются с невероятной скоростью, охватывают целые местности, но сильнее всего заражают простонародье. Городской совет Страсбурга, стремясь сдержать распространение этого извращения, в 1418 году прибегает к сильнодействующему средству — танцоров подвергают пыткам. Одержимость танцами продолжается и после того, как утихает эпидемия чумы, — теперь таким образом выражается наступившее облегчение. Наконец, просуществовав целых два столетия, истерические пляски, словно призрак, исчезают навсегда.
Подобный вид пляски не следует рассматривать как беззаботно-эйфорическое выражение неукротимой жажды жизни — за вакханалией и безумными хороводами скрывается скорее одержимость. Тесная связь пляски и экстаза делают танец сакральным, устрашающим, уводящим в царство богов и демонов. Поскольку все дохристианские боги имели более или менее выраженное сексуальное значение, которое можно постичь лишь в состоянии экстаза, танец с самого начала инстинктивно отождествляют с эротическим возбуждением и демоническим восторгом. Праздник и танец, эротика и одержимость снова погружают человека в природу, в архаичные формы существования, и в эти мгновения самоотречения на поверхность выходит его истинная суть.
Хотя истерические пляски докучают церкви, и духовенство снова и снова их осуждает, танцевальная горячка проникает и в их владения. Церкви и их внешние притворы становятся излюбленными танцевальными площадками. Церковный двор изначально представлял собой арену для одного из старейших немецких танцев — пляски святого Иоанна, которая тем не менее вызывает подозрение церковных властей. Этот ритуал посвящен языческому солнцевороту и включает в себя «дьявольское пение, танец и прыжки». Одновременно такие обряды соответствуют вкусу низшего духовенства, которое находит способы обойти официальные запреты и зачастую превращает саму церковь в площадку для грубых игрищ, где танцуют даже перед алтарем…
Книжка с картинками любви
С. 253. Позиция 69. Рельеф на нижней стороне откидного сиденья в хорах кафедрального собора в Асторгасе, XIII и XV вв.
С. 254. Джакомо Якьерьо. Источник вечной юности (ок. 1411–1416). Фрагмент фрески.
Новые тенденции
В то время как Средневековье клонится к закату, отношения между полами и взгляды на сексуальность меняются. Строгую духовность и аскетизм, которые господствовали в начале Средневековья, все заметнее вытесняет нежная эротика, тихая, трогательная и временами неуклюжая радость человеческих отношений.
Это сказывается и на убранстве церквей. Аллегорические статуи Синагоги и Церкви на портале Страсбургского кафедрального собора указывают на изменение эротических представлений. Синагога со всей грациозностью несет страдание своего проклятия, приняв при этом позу, которая в каждом мужчине пробуждает инстинкт защитника. Она воплощает совершенный тип возлюбленной, нуждающейся в защите, какую хотел бы видеть рядом с собой любой мужчина. Эта статуя выглядит гораздо теплее и человечнее, чем победоносная Церковь, которая при всем своем благообразии кажется слишком официальной и лишенной индивидуальности.
Когда мы разглядываем изящные, благородные фигуры на миниатюрах старых молитвенников и часословов или в иллюстрированных текстах Евангелий, нас часто поражает человечность, которую художник сумел соединить с сильным религиозным чувством. Это ясно проявляется в картине «Христос и прелюбодейка» из кёльнского Евангелия. Иисус, несмотря на сдержанное выражение лица и золотой нимб над головой, изображен обычным человеком. Художник стремился к реалистическому, земному изображению — это подтверждает искусная драпировка одежд, а также разнообразие выражений на лицах удивленных людей, собравшихся позади укутанной покрывалом прелюбодейки.
Искусство отчетливо показывает, как постепенно постигается красота человеческого тела, как уходит прежнее пренебрежение физической оболочкой. Теперь телесное изображается с серьезной сдержанностью и благородством.
При наличии мировоззрения, предполагающего глубокую веру в религиозные истины, а также в то, что все земное преходяще, само по себе напрашивается символическое выражение потустороннего бытия. В этой символике явственно отражено мышление позднего Средневековья, представляющего церковь как тело Христово, как образ невидимого Царства Божьего, небесного Иерусалима.
Но и церковь, выстроенная из камня, — готическое пространство кафедрального собора, возвышает душу, освобождает ее от земной тяжести. Она перегружается символами на всех этапах строительства — на стадии проекта, во время возведения и в ходе декорирования. Ее ориентация на восток указывает, откуда следует ожидать спасения. Алтарь и все предметы церковного обихода служат, наряду с их примитивными функциями, смыслообразующему толкованию священной истории. Потребность Средневековья в символах взывает к изобразительности и наглядности.
Иной портал и преддверие несет в себе целый комплекс, наполненный религиозным содержанием: Ветхий Завет и Новый Завет, грехопадение и спасение, Моисей и пророки, мудрые и неразумные девы[64], Мария и апостолы, патриархи и отцы церкви, короли и святые. Здесь — квинтэссенция всего, что церковь вкладывает в человека и чему его учит. История человечества и история церкви становятся единым целым. Кто имеет глаза, чтобы видеть, тому в этом космосе застывших образов откроется смысл мироздания.
Большая иллюстрированная книга, картинки из которой появляются на стенах соборов, кроме бесчисленных ангелов, святых и пророков вполне может содержать непристойности. Правда, они предстают перед зрителем не столь явно, как эротические изображения в индийских храмах, — их нужно искать в труднодоступных местах, в полутьме укромных уголков. Однако полностью исключить сексуальность невозможно даже здесь, в священных стенах.
Гротескные сцены в камне
Церковь определенно не в восторге от того, что в ее священные пределы прокрались странные, порой неприкрыто эротичные изображения, но ей не под силу полностью подавить фривольные намеки. Озорство и причуды нашли место внутри церквей — на колоннах, на хорах и чуть ли не на алтаре. Наряду с полными достоинства храмовыми зодчими в дело оформления кафедральных соборов, должно быть, вмешивались и шутники, дополнявшие готическое величие гротескными элементами. Нравственные недостатки — распространенный сатирический мотив средневековых церковных скульптур. Возможно, ваятели того времени позволяли себе такие шутки с благородным намерением сделать соплеменников лучше, но не исключено, что они просто-напросто демонстрировали собственную неуемную фантазию.
В камне воплощаются не только насмешливость и простодушная раскованность, но и темные, мучительные чувства. Поэтому порой диковинные образы из царства животных и людей населяют карнизы, парапеты, ниши и окна. Например, Реймский кафедральный собор противопоставляет окаменевшим святым — мученикам и отцам церкви — настоящий паноптикум жутких рож. Тут изображены сокрытый в человеке зверь, неистовство, непредсказуемость чувств. Смех оборачивается ужасом и отвращением, на лицах читается неутолимая страсть, и неземному миру спасенных противопоставляются тайная радость греха и строптивое согласие на вечные адские муки.
В отличие от фаллических и куннических символов из языческих времен неприличные изображения в церкви не служат магической цели. Они обязаны своим возникновением только тяге к сексуальности и определенному простодушию. Почему украшением для сточного желоба служит зад, а не вульва или пенис? Даже в самые чопорные времена зад на Фрайбургском соборе еще как-то терпели, а вот гениталии удалили. Торжеством подобного чистоплюйства особенно отличался XIX век. Именно тогда некоторые произведения искусства разрушают или, в лучшем случае, удаляют из публичных помещений, ссылая в музейные хранилища.
Но внимательный зритель по-прежнему сумеет обнаружить волнующее и необычное — свидетельства архаичной народной религиозности и сексуальности. В церкви Христа в Греглингене забавный человечек показывает свои гениталии. На капители церкви в Пуароне Адам совокупляется с Евой — для наглядной демонстрации грехопадения. В церкви Божоле козел оплодотворяет монахиню. На портале собора в Лиль-Адаме Фавн нагибается над лоном обнаженной нимфы, собираясь припасть к нему. Некоторые изображения отражают, по-видимому, самые благочестивые намерения. Например, в соборе Эрфурта монах подкрадывается к монахине, чтобы сделать с ней то, чего он не должен делать ни в коем случае. А в кафедральных соборах Страсбурга, Регенсбурга и Базеля монахиня и монах изображаются за сексуальными радостями, пожалуй, с единственной целью: поднести зеркало тому сословию, которое проповедует целомудрие, а само научилось без него обходиться.
Множество образцов средневековой сатиры, воплощенной в камне, направлено против духовных лиц, в первую очередь против безнравственной жизни монахов и монахинь. При этом довольно странно, что духовенство не предпринимало никаких попыток избавиться от ироничных нападок на его мораль. В церкви при монастыре Вецлара XIV века можно обнаружить несколько таких карикатур. Справа над входом расположена женская фигура, которую обнял рогатый мужчина. Легенда гласит, что карикатура изображает черта, поймавшего монахиню. От этого изображения, возможно, происходит поговорка: «А в Ветцларе на храмине черт едет на монахине».
В главной церкви Нердлингена можно увидеть «Страшный суд», написанный в 1503 году Йессе Херлином[65]. Картина показывает папу с кардиналами и монахами в аду, а рядом с ними женщину, которую насилует черт. Над западным входом собора в Вормсе каменная фигура вавилонской блудницы стоит напротив статуи христианского проповедника. Большой популярностью пользуются изображения чертей, скачущих в ад на красивых девушках. Старый епископский трон Бременского собора, например, украшает монах, который положил ладонь на голову монашки, опустившейся перед ним на колени. Позади них стоит черт, держащий листовку со словами Ego concupivi («Я тебя желаю»), что следует понимать как однозначное указание на вожделение монаха.
В мекленбургском городе Доберан хранятся различные церковные картины XIV–XV веков, среди которых сатирическое изображение монаха, скрывающего под своим одеянием красивую девушку. Черт, заметив это, говорит ему: Quid facis hic, frater, quid habes vic, vade mecum («Что ты здесь делаешь, брат, какому пороку предаешься, идем-ка со мной»). На высоких хорах Магдебургского собора есть резьба, изображающая монастырь, у ворот которого стоит ухмыляющийся черт и впускает монаха, несущего на руках монахиню.
Не все подобные изображения сохранились, ибо из источников явствует, что похожих скульптур и полотен было множество. Например, уничтожена скульптура из Эрфуртского собора, изображавшая совокупление монаха и монахини. На каменной наружной стене церкви Святого Себальда в Нюрнберге были высечены мужчина и женщина, сладострастно ощупывавшие друг друга. В кафедральном соборе Страсбурга прямо на лестнице к кафедре был изображен монах, лежащий на земле и заглядывающий под юбку монашке. Этот возмутительный барельеф, созданный во времена Иоганна Гейлера фон Кайзерсберга, сохранялся до 1764 года, пока его не приказал убрать герцог Лотарингский.
Тайна божественной беременности
До сегодняшнего дня в католических храмах имеются многочисленные изображения беременности. Больше всего популярен мотив визита Марии к Елизавете, о котором сообщил евангелист Лука. Некоторые художники ставят перед собой трудную задачу скрыть от любопытного зрителя телесное состояние обеих женщин. Фигуры обнимаются, при этом одна женщина повернулась к зрителю спиной и полностью закрыла тело другой. Но есть и художники, которые не стесняются показать истинное состояние женщины. Например, Альбрехт Дюрер в своей «Жизни Марии» изображает и Марию, и Елизавету с выпуклыми животами и ягодицами. Статуи Мадонн, которые носят во чреве младенца-Иисуса — его можно увидеть через оконце, — уже упоминались.
Еще более трогательно изображение Иисуса-эмбриона на сакральных картинах. Величайшее таинство, вочеловечение Сына Божьего, явлено нашему взору с особой отчетливостью. Богословы написали немало ученых трудов о том, как Дева Мария зачала, однако ни среди духовных лиц, ни среди мирян нет ни малейшего сомнения в том, что Иисус Христос в качестве эмбриона взрастал во чреве Девы Марии. Как и когда он попал в матку — это опять же другой вопрос.
Авторам некоторых раннехристианских произведений искусства, похоже, достаточно было поставить перед Девой на колени ангела Благовещения. Чтобы показать личное участие в этом чуде Бога Отца, Его лик часто изображают в верхней части картины, в просвете на небесном своде. Иногда под Его благословляющей дланью в образе белого голубя появляется Святой Дух. Для пущей наглядности Бог Отец посылает коленопреклоненной Марии золотые лучи или капли золотого дождя. Предположение, что художники тем самым изображают божественное семя, лежит на поверхности.
Экстремальную форму сакрального реализма представляют произведения, на которых Мария принимает сына Божия в качестве эмбриона. На одной картине маслом, созданной неизвестным кёльнским мастером около 1400 года, архангел стоит перед Марией на коленях. Она сидит перед раскрытым сундуком — здесь есть свой символизм! — и держит в руках молитвенник. Ее глаза устремлены на архангела. Сверху на Марию направлен пучок лучей, попадающий в нимб вокруг ее головы. В этом ореоле виден голубь, голова которого тоже окружена святым сиянием. Голубь клювом касается пробора в волосах Марии, а над птицей в лучах света виден эмбрион. Головой вперед он скользит к своей матери на лучах — сверхъестественный канал зачатия. У эмбриона есть крылья, а голова окружена сиянием. Он летит навстречу своей матери и в благословляющем жесте простирает левую руку.
Нечто похожее можно наблюдать на фреске XV века в крестовом ходе Бриксенского собора в Южном Тироле. Мы снова видим голубя, парящего над головой Марии. Бог Отец благосклонно взирает сверху из миндалевидного источника сияния и выпускает из ладоней маленькое продолговатое облако с эмбрионом. Крошечный нагой Христос снова парит вниз головой; ладони его воздеты как для молитвы.
В Епископальном музее Утрехта выставлена еще одна картина кёльнской школы, приблизительно датируемая 1400 годом. На ней в теле одетой Мадонны размещается эмбрион и тут же — эмбрион Иоанна в теле Елизаветы. У обеих женщин дети видны в вырезе одежды, напоминающем вульву. Эмбрион Христа воздел ладони для молитвы или благословения. Его уже в матке украшает нимб — словно для того, чтобы святость младенца не ускользнула от внимания зрителя. Иоанн, тоже с нимбом, стоит на коленях. Его ладони подняты в молитве — уже в материнской утробе он поклоняется Спасителю. Вероятно, зрители оценили трогательность этого наивного изображения.
Однако встречаются и более серьезные несуразности. Сохранилась картина на сюжет легенды о святом Бернаре Клервоском. Во сне ему является Дева Мария и дает ему для подкрепления сил свою грудь. И хотя художник не осмелился привести святого в непосредственное соприкосновение с Богородицей, Мария собственной рукой выдавливает из обнаженной груди молоко и направляет струю в рот Бернару.
Биологические врата жизни изображаются в завуалированной, но без труда узнаваемой форме — в небесных кругах, в мандорле, которая иногда изображается вокруг фигуры Христа как ореол из лучей. Мандорлу можно считать главным символом вульвы в христианском искусстве, хотя она редко интерпретируется таким образом. Неизвестный автор «Триумфа Венеры», творивший в первой половине XV века, ставит богиню в мандорлу, а коленопреклоненных мужчин, взоры которых устремлены на небесные круги (вульву) как центр вожделения, он наделяет внешностью Христа. Здесь речь идет, правда, не столько о христианском искусстве, сколько о пародии на него.
Смена времен
«Великолепный часослов герцога Беррийского», находящийся в музее Конде в Шантийи, причисляется к величайшим ценностям средневекового искусства. Этот шедевр, работа над которым началась в 1413 году, Поль фон Лимбург и его братья создали для герцога Жана Беррийского (1340–1416), одного из самых значительных меценатов своего времени. Часослов считается новым явлением, ибо пышно разодетые фигуры — стройные девушки в длинных, но тесно прилегающих и глубоко декольтированных платьях символизируют искушение и необычайный соблазн. Фигуры «земного рая» впервые в западноевропейском искусстве прославляют человеческое тело.
Это произведение знаменует эпохальный перелом: отныне все заметнее становится интерес художников к реальной жизни. Возьмем, например, «Освящение бракосочетания епископом». От такой картины уже недалеко до грубо-наглядного изображения сцен ревности. Анекдоты, шванк, сатира входят в изобразительное искусство, равно как и в литературу, словно войска в завоеванный город, и начинают понижать ранг высокодуховной игры. На первый план выступает интерес к повседневности, причем в довольно грубых формах.
Это превращение завершается с наступлением эпохи Возрождения. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги», — читаем мы в той главе книги Бытия, которая повествует о последствиях грехопадения. О восприятии человеческого тела в эпоху Возрождения мы можем сказать так: «И узнали они, что нагота их хороша».
Духовный переворот начинается в середине XIV века в Италии и приводит в конечном счете к основательному пересмотру картины мира. Изменения в торговом деле и финансовой системе, развитие меркантилизма, оттачивание ремесленных навыков, растущее дифференцирование общественной жизни — все это имело такие последствия, что городское население (в первую очередь купцы и ремесленники) приобретает все больший вес. Города расцветают — прежде всего в Италии, но также и в Германии, Франции и Голландии — и становятся важнейшими носителями культуры.
Развитие торговой сети, которая в конце концов охватывает весь мир, сопровождается расширением духовных горизонтов. Если доселе центральное место в картине мира занимал Бог, а мировоззрение в целом вырастало из догм католической теологии, то теперь человек начинает открывать собственную индивидуальность.
Вновь обретенное ощущение жизни, которое некогда было присуще Античности, порождает и новый интерес к миру земному. Утомившись от столетий средневековой аскезы, люди ломают все барьеры: центральным фактором общественной жизни и мерой всех вещей они делают человека. Искусство теперь призвано услаждать взоры, и бесчисленные вариации мифологических мотивов Античности прославляют великолепие человеческой наготы. Венера торжествует над мрачным и глухим безразличием аскезы.
Триумф красоты
Показательный пример такого развития — монументальная картина Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Из нежно-розовой раковины с пленительной грацией восстает белокожая богиня, гибкая шея немного вытянута, груди девически нежны. В раннем Возрождении особенно популярен именно ее девственный образ. В своем трактате об истинных правилах живописи Арменини[66] дает такие наставления: «Девушку пиши смиренной, скромной, умиротворенной, с ангельским выражением лица. Она должна быть цветущей, свежей, мягкой и нежной, с распущенными светлыми блестящими волнистыми волосами».
Во времена Высокого Возрождения художественный идеал прекрасного снова претерпевает изменения. Центральное место в изобразительном искусстве занимает уже не юная девушка, а женщина во всей полноте ее красоты. Красочные картины воспроизводят ее чары. Груди поначалу остаются совсем маленькими, они — как видится итальянскому художнику Бонифацио Бембо, жившему в XV веке, — «маленькие, круглые, крепкие и упругие, совсем как два круглых сладких яблока». В позднем Возрождении, напротив, груди изображаются прямо-таки гипертрофированными, чувственность тела усиливается.
Возрождение привносит в жизнь неслыханный культ красоты, оно преклоняется перед силами природы и поет гимн полноте и радости бытия, в котором человек вновь обрел себя и свой потерянный рай. Это апофеоз, который обесценил все религии, взыскующие счастья в потустороннем мире, триумф материи, которая в своей непревзойденной красоте сама становится божественным откровением.
Гравюра на дереве, впервые появившаяся в 20-х годах XV века, служит эротике и культу тела. Ее техника становится все совершеннее, и мастера учатся искусству моделирования человеческих фигур. Так, Петер Флётнер[67] вырезает целый алфавит в виде обнаженных тел, а Альбрехт Дюрер делает человека краеугольным камнем всего графического мастерства. Он ставит перед собой вопрос: как сделать искусством изображение человека? И отвечает на него, отводя телу особое место, наделяя его силой эроса. Он больше не использует шаблоны — в его работах появляется эротическое тело, и эту тенденцию подхватывают и совершенствуют Лукас Кранах, Ганс Себальд Вехам и Альбрехт Альтдорфер[68].
Эти перемены в живописи провозглашаются еще до Дюрера, например, картиной художника Мартина Опифекса, который работает в середине XV века при дворе императора Фридриха III.
Его изображение Медеи, охваченной любовной тоской, — произведение несравненной красоты. Историк искусства Габриеле Бартц пишет: «В помещении, лишенном мебели и украшенном лишь вделанной в стену полкой с сосудами и намеченным одним штрихом карнизом для парчового занавеса, мы видим женщину, которая повернулась к зрителю спиной. Ее ниспадающее на пол одеяние собрано в несколько подвижных складок, которые наряду с заплетенными, забранными наверх волосами написаны размыто, в остальном на картине господствуют жесткие линии. Мы не видим лица женщины и таким образом получаем свободу мыслей, ибо ее мимика не задает определенного тона для атмосферы полотна. Обращенная к нам спиной, она перенаправляет наш взгляд в смутную даль, в неопределенный, неизмеримый окружающий мир. Вечернее настроение неба наводит тоску и на нас. Подобное качество изображения с похожей силой воздействия впервые повторяется лишь в XIX веке в картине Каспара Давида Фридриха[69] “Женщина у окна”».
Флагелланты, ведьмы и инквизиторы
С. 269. История про молодого монаха и его наставника аббата. Иллюстрация к «Декамерону» Джованни Боккаччо, 1415–1419 гг.
С. 270. Ведьма, заколдовавшая молодого мужчину (ок. 1470). Гравюра на меди.
Норма и извращение в сексуальной сфере
Наши понятия о сути сексуальности запутываются все больше и больше благодаря тому комплексу навязанных идей, который мы называем моралью. Поскольку всякая мораль сводится к известному ограничению, она неотвратимо ведет к противлению природе. Утверждение, что сексуальность — грязь, не было изобретением христианства, но церковь с готовностью переняла эту идею и почти на два тысячелетия придала ей характер непреложной истины.
Впрочем, церковь не может оспорить необходимость интимных отношений для продолжения человеческого рода, а потому вынуждена проявлять мягкость, разрешать хотя бы некоторые виды секса и даже придавать им сакральную форму брака. Решающим критерием «благонадежности» секса становится его использование исключительно для продолжения рода. Следовательно, сексуальные действия, служащие только для удовольствия, отвергаются. Образуются прочные представления о том, что «правильно», то есть что соответствует норме. Все прочее оказывается, напротив, аномальным или неправильным и относится к патологии.
Однако попытки подавить половую жизнь зачастую оборачиваются бедой, обнаруживая все противоречия морали: в один поток сливаются сладострастие и ужас, блаженство и грязь, сексуальное и религиозное возбуждение, кровь, муки и смерть. Поэтому неслучайно и совсем неудивительно, что как раз во времена Средневековья появляется непомерное число святых и ведьм. Холодный разум удовлетворяет лишь на короткое время — пока влечение спит. Но как только оно просыпается, подавленная сексуальность нередко находит разрядку в безобразных извращениях.
Мы уже видели, что сексуальное извращение служит для католической церкви благовидным предлогом, чтобы избавиться от неудобных, нестандартно мыслящих людей — таких, например, как катары. Правда, существуют секты, вполне сознательно практикующие отклонение от нормы: таковы приверженцы адамитской секты тюрлюпинов, пользовавшейся популярностью в XIV веке в Савое, Дофине и Париже. Они официально практиковали внебрачное сожительство, ходили — в зависимости от местности и времени года — то одетыми, то нагими, однако, даже будучи одетыми, отказывались прикрывать половые органы. Они считали эти части тела особым даром Бога, а потому даже половой акт осуществляли прилюдно. Неудивительно, что инквизиция скоро вплотную занялась этой сектой.
Похожим образом вели себя представители секты пикардистов, основанной одним крестьянином из Пикардии. Он называл себя сыном Бога и заявлял, что послан в мир для того, чтобы возродить законы природы. Обоим полам предписывалась нагота, а также провозглашалась полная свобода интимных отношений. Почувствовав вожделение к определенной женщине, пикардист обращался к главе секты со словами: «На эту возгорелся мой дух». После чего тот давал ему разрешение на совокупление, напутствуя словами Ветхого Завета: «Плодитесь и размножайтесь».
Если официальная церковь объявляет что-то развратом или распутством, это означает, что с точки зрения христианской или общественной морали была преступлена граница, нарушена заповедь. При этом церковь, определяя границы сексуального поведения и налагая запреты, временами не в состоянии руководстваваться ими на практике.
Страх перед адом и самобичевание
Особым феноменом Средневековья стал флагеллантизм, форма аскетического раскаяния, в которой с особой очевидностью проявляется связь между религией и сексуальностью, ибо здесь речь идет об умерщвлении плоти. Люди все больше сомневаются, что могут получить прощение каким-либо иным способом, кроме самобичевания, то есть нападения на собственное тело. Таким образом они надеются умилостивить разгневанного Бога.
С XII до XV века по Италии, Каринтии, Штирии, Богемии и Моравии движутся целые процессии бичевателей; они доходят до Венгрии и Польши, до Фландрии и Пикардии. Объясняя свой обычай, флагелланты, братья и сестры секты хлыстов, ссылаются на стих из Послания к Галатам, 5:24: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Публичным бичеванием собственного тела они надеятся добиться отпущения грехов. Получив поначалу одобрение папы, епископов и отцов церкви, подстрекаемые безмерной волей к покаянию, они идут целыми толпами: мужчины и женщины всех сословий, во главе со священниками, несущими кресты и флаги. Даже в самую суровую зиму они обнажены до пояса, чтобы под стоны и вздохи беспрепятственно терзать себя до крови.
Предводитель этой зловещей пляски — Смерть. Шествия флагеллантов учащаются во время крупных эпидемий: садо-мазохистские зрелища — спутники грозной чумы, жертвой которой в середине XIV века пала треть европейского населения (по приблизительной оценке 25 миллионов человек). Черная Смерть «вызывает у хлыстов дикий энтузиазм покаяния, который должен смягчить гнев Господень и искупить грехи каждого кающегося», как пишет историк Малькольм Ламберт. Бич Божий, массовую смерть от чумы, эти люди хотят встретить бичом самоистязания, экстатическим массовым безумием. Оценки количества флагеллантов расходятся, однако во время эпидемии чумы в одной только. Франции их число измерялось сотнями тысяч. Рецидивы таких экстремальных способов покаяния регулярно возникают и после эпидемий, а значит — условия духовной дезориентации и политической нестабильности остаются благоприятными для их существования.
Поначалу шествия хлыстов наверняка задумывались как чисто религиозные. В больших и поначалу хорошо организованных процессиях они шествуют попарно, следуя при этом строгому ритуалу: молитвы, песни и бичевания сменяют друг друга. Проходя через деревни и города, люди поют покаянные гимны и стараются превзойти друг друга в самоистязании. И это зрелище возбуждает.
Самыми поразительными чертами этого феномена Малькольм Ламберт называет глубину душевного волнения участников покаянной процессии и необыкновенную дисциплину. «Кто хочет идти среди хлыстов, тот принимает на себя обет, что будет бичевать себя тридцать три с половиной дня — в память о том, что земная жизнь Христа длилась именно столько лет… Во время процессий он следует строгому ритуалу и слушается мастера. Он хлещет себя два раза в день у всех на виду и один раз ночью. По окончании паломничества он дает обещание всю ставшуюся жизнь бичевать себя каждую страстную пятницу».
Однако со временем это покаянный спектакль теряет свой изначальный смысл. Подобно тому, как идеализм крестовых походов в конце концов превратился в меркантильное предприятие, массовая демонстрация покаяния становится эротическим представлением, мотивированным подавленной, грозящей взрывом сексуальностью.
Подмостки флагеллантов
Тот факт, что флагелланты пополняли свои ряды не только мужчинами, но в первую очередь женщинами, жаждущими покаяния, мог существенно усиливать сексуальный характер шествия обнаженных или полуобнаженных людей, и со временем эти процессии приобретают дурную славу, связанную с проституцией и сводничеством. Вскоре образуются союзы флагеллантов, которые организуют тайные собрания, где бичевание — лишь зачин для последующей оргии.
Важнейший реквизит кровавых зрелищ — флагеллум, бич. В хронике Генриха фон Херфорда содержится следующее жуткое описание, которое трудно превзойти в наглядности: «Бич представлял собой палку с тремя плетьми, снабженными крупными узлами. Сквозь эти узлы насквозь проходили железные шипы, острые, как гвозди, длиной с пшеничное зерно или чуть больше. Такими плетками стегали себя по голому телу, так что оно распухало и синело. Кровь стекала вниз, и брызги ее покрывали стены церквей, где происходило бичевание. Железные шипы иногда так глубоко вонзались в плоть, что вытащить их можно было только со второй попытки».
Так грехи выводятся на открытую сцену и становятся представлением, включающим также ритуал. Бичевание становится пантомимным покаянием, наглядной исповедью, сексуальным театром. При этом причиной для телесных истязаний вряд ли служили действительные прегрешения участников спектакля. Речь идет о грехах воображаемых, о мечтах и желаниях — естественно, с преобладанием сильнейшего плотского вожделения.
Парадоксальным образом изначальная идея бичевания со временем полностью извращается. Антиэротический пыл умерщвления плоти постепенно становится эротическим. Под пытками сексуальные чувства не умирают, а празднуют радостное воскресение. Не случайно самобичевание производится не в укромном закутке, не в сокровенном диалоге со Спасителем, а на публике, которая с готовностью заражается сексуальным возбуждением.
Церковная реакция на это была соответствующей — иерархи отнеслись к перемене со вполне ожидаемой горячностью. Если поначалу они потворствовали массовому безумию, означавшему страстное стремление покаяться, то потом у них открылись глаза на то, что флагелланты игнорируют церковный порядок покаяния, заменив христианское таинство бичом. Отпущение грехов при этом происходит не через священника, а путем раскаяния в общине, что эквивалентно экспроприации церковной власти, поскольку духовенство теряет свою функцию посредника, хлопочущего за обретение небесного блаженства.
Так хлыстов объявляют еретиками. Церковное противодействие достигает своей кульминации под властью папы Климента IV, который в 1349 году своей буллой, адресованной немецким епископам, запрещает процессии хлыстов под страхом отлучения. Эта мера показывает, какую опасность для церкви представляли флагелломанские движения мирян, вышедших из-под духовного контроля.
Когда в 1399 году третий великий поход хлыстов направляется в сторону Рима, папа Бонифаций IX велит казнить его предводителя. Он видит в «белых» (как называли флагеллантов из-за их цвета их покаянных одежд) недооцененную опасность для церковной власти. После этого хлысты уходят в подполье. Теперь, когда чума отступила, они превратились в противников церковных властей и еретиков.
Флагелломания в монастыре
Папский запрет объявляет хлыстов еретиками, однако их способ покаяния усваивается церковью и становится составной частью церковной (и прежде всего монастырской) практики, где самобичевание продержится еще сотни лет. Отшельники, монахи и монашки угощают сами себя или друг друга кнутом и розгами в твердой уверенности, что тем самым изгоняют дьявола. Большинство монастырей применяют в качестве наказания для монаха, которого застали «одного за дружеской беседой с женщиной», на выбор двухдневный пост или двести плетей, а поскольку большинство монастырских братьев высоко ценят пищу и вино, они выбирают плети.
В раннюю эпоху христианства удары приходились по лопаткам, но потом укоренилось мнение, что наказуемый таким образом может получить серьезные травмы. Теперь бичевали нижние части тела, что существенно увеличило удовольствие как исполнителя наказания, так и наказуемого — особенно если жертвой была красивая молодая женщина, а карателем — сладострастный священник.
Биографии святых полны историй о том, как благочестивые мужчины подвергались натиску похотливых женщин (естественно, безрезультатно), — после чего красивых грешниц подвергали телесному наказанию. Такие сюжеты из «Деяний святых» занимают важное место в литературе. К примеру, святой Эдмунд, при жизни архиепископ Кентерберийский, в студенческие годы натерпелся от одной чрезвычайно красивой женщины, которая навязывала ему свои прелести. Не в силах устоять перед соблазном, он впускает ее в свою комнату, где раздевает донага и хлещет плеткой до тех пор, пока все ее тело не покрывается кровавыми полосами, — излюбленная сексуальная фантазия тогдашних священников.
Несмотря на призывы отказаться от телесных наказаний, бичевание не теряет популярности. Одна средневековая гравюра показывает настоятельницу монастыря, которая березовым прутом охаживает голый зад епископа, — судя по выражению их лиц, оба получают от этого изрядное удовольствие. Есть свидетельства, что Тереза Авильская в равной степени наслаждалась, мучая других и сама подвергаясь бичеванию.
Вера в нечистую силу и ведьмомания
Самое ужасное извращение в религиозно-сексуальных взглядах средневекового человека — это ведьмомания. Страх преисподней так велик, что унимать его приходится сильнодействующими средствами. Проявление этого страха — непоколебимая вера в дьявола. Почти все народы верят в злые силы, которые срывают планы, перечеркивают божественные устремления и соблазняют людей на преступления и грехи, — меняются только названия этих духов.
Средневековый черт демонстрирует качества древнегерманского бога Локи. Он — партнер-соперник Бога и с Божьего соизволения подвергает веру испытанию. В народном представлении он является в виде покрытого шерстью существа с рогами и копытами, чтобы реализовать какой-нибудь злой умысел. Черт располагает, по мнению богословов, такой же властью, как Бог, хочет подчинить себе человека и сбить его с пути истинного. Однако виноват при этом всегда одержимый, ибо черт никогда не входит в человека по своей воле, а только на основе обоюдного соглашения. Поскольку одержимый тем самым нарушает свой союз с Христовой церковью, заключенный при крещении, он — еретик и повинен смерти. Все просто!
Отлитое в догму, это сумасбродное учение быстро проникает в коллективное сознание народа, который доверяет авторитету церкви. Как всякая духовная эпидемия, это учение стремительно распространяется, и вскоре бредовые представления о любовной связи с дьяволом и ведьмомания завладевают умами даже тех людей, которые во всем остальном считаются рационально мыслящими. Если сам Лютер верит в возможность союза с дьяволом, как может устоять против этого необразованный человек? Воистину религиозное безумие во все времена образует причудливые метастазы.
Однако бесчеловечное варварство одним лишь слепым рвением не объяснить. Теологические и юридические рассуждения, корыстолюбие судей и палачей, стремление сохранить престиж, глупость и извращенные наклонности — все это играет роль в распространении мании бесовства, но главным остается все-таки сексуальный привкус «метода» борьбы с ним. Многие судьи испытывают садистское наслаждение, глядя, как обнаженные женщины — от старух-колдуний до девушек-подростков и зрелых красавиц — извиваются под жестокими ударами палачей. Возможность предать эти тела мучительным пыткам — вот что сулило изуверам остроту чувств, которая требовала все новых жертв. Наряду с ненавистью и жаждой мести (частых мотивов доноса) этот чувственный зуд становится важнейшей движущей силой процессов над ведьмами.
Вновь и вновь предпринимаются попытки переложить ответственность за эту мрачную главу истории на одну лишь католическую церковь. Однако эта оргия жестокости была бы невозможна, если бы не благодатная почва. Ведьмомания коренится в менталитете Средневековья, вину за который разделяет, разумеется, и церковь, поскольку она оставила человека один на один с тайнами зачатия и рождения, жизни и смерти, а также с силами старой природной веры, превращенными церковью в демонов тьмы.
В душе средневекового человека идет неравная борьба между вожделением и тоской по божественной цели. К этому добавляются, как уже говорилось, предельно отрицательное отношение церкви к сексуальности и женскому полу, который называют «вратами ада» и «путем в блуд».
Теперь суеверия и насильно вытесненная сексуальность требуют выхода в ведьмомании и порождают самые абсурдные виды наказания.
Правда, церковь поначалу высказывается против бредовых суеверий и болезненной жестокости. Например, на соборе в Падерборне: «Кто, ослепленный дьяволом, верит на манер язычников, будто такая-то женщина является ведьмой и поэтому ее сжигает, тот должен умереть». Но позднее та же церковь дает идеологический фундамент инквизиторской доктрине, и формируется фантастический комплекс безумных идей, где главную роль играет дьявол. Идеи эти однозначно коренятся в сексуальности.
Этой темы касаются несколько папских булл. Одна сообщает об омерзительных действиях адептов дьявола: в ходе их церемоний «со скульптуры, какая обычно стоит в таких собраниях, спускают черного кота размером с собаку средней величины, спускают задом вниз, с задранным хвостом. И новичок целует его в зад». Папа Иннокентий VIII в своем указе Summis desiderantes affectibus («С наибольшим рвением») негодует, что все больше мужчин и женщин, «забыв о своем собственном благе и отбившись от католической веры, предаются греху соития с чертями в мужском или женском обличии».
Поводов для жалоб хватает — сообщают о содомии, детоубийстве, ограблении церквей. Ведьмомания превращается в воронку, куда затягивает и тех, кто вступает в борьбу против вопиющей безнравственности. В конце концов под чары сексуального угара подпадают следователи и инквизиторы — в не меньшей степени, чем сами так называемые ведьмы.
Внешне притворяясь холодными, инквизиторы в душе охвачены пламенем безумия. Они смотрят на то, как тела их жертв терзают самыми изощренными пыточными орудиями, какие только можно измыслить. Они слушают стоны и крики несчастных, не отдавая себе отчета в том, что тьма преисподней, против которой они борются, уже овладела ими самими. Больной дух времени обезумел в своих требованиях к человеку и теперь вынужден наблюдать триумф греха.
Шабаш ведьм и инквизиция
Интерес к сексуальности не ослабевает. Любовная связь с дьяволом — вот главный упрек, который в течение веков бросают ведьмам. Учение о суккубах и инкубах[70] в уже упомянутой булле Summis desiderantes affectibus «научно» обосновывается и объявляется догмой в 1484 году. С точки зрения высших санов церкви главное преступление ведьм состоит в том, что они, вызывая половое бессилие у мужчин, препятствуют исполнению супружеского долга. То есть это чисто сексуальное преступление. Булла Иннокентия VIII стала первым выражением богословского мнения на эту тему; позднее церковь станет утверждать, что люди предаются блуду с демонами (суккубами и инкубами).
Упомянутая булла побуждает духовенство и впредь не упускать из виду проблему плотского соития человека с чертом. Теологи готовы поплатиться за свои речи головой, юристы пишут научные трактаты, а темой порнографически окрашенных диспутов становится выяснение, что испытывают люди при совокуплении с чертом и холодное или горячее семя изливает из себя сатана. Таковы лишь некоторые вопросы, продиктованные безумием и вуайеризмом.
Важнейшим праздником культа сатаны считается шабаш ведьм, на который те слетаются верхом на козле, свинье, кочерге или метле, причем летать они могут лишь после того как натрутся ведьминской мазью, приготовленной из жира некрещеных детей. Праздник длится с девяти вечера до двенадцати часов ночи и начинается с того, что все падают ниц перед сатаной, целуют ему левую стопу, гениталии и зад. После того как сатана отслужит мессу, начинается пир и пляски, при которых воплощенная нечистая сила обнимает мужчин как суккуб, а женщин как инкуб. Как суккуб сатана принимает семя от мужчин, которое передает дальше женщинам как инкуб. Поэтому зачинаются от таких соитий не черти, а ублюдки, уродцы. Поскольку соитие с Сатаной не обязательно ведет к дефлорации, девственницы тоже могут получить обвинение в этом преступлении.
Таковы мужские фантазии, отлитые в церковное учение. Желанный эффект догматизации возникает быстро, ибо к инквизиторам поступают многочисленные доносы. Один священник, творя ночью молитву под открытым небом, сообщает, что якобы видел развратные действия такого рода. Некий крестьянин хвастается тем, что наблюдал сексуальные акты шести тысяч чертей с таким же количеством ведьм. Не только лицезреть ночью подобную оргию, но еще умудриться пересчитать несколько тысяч совокупляющихся пар — это ли не свидетельство удивительного дара наблюдательности? Перечень таких «свидетельских показаний» подробно расписан в книге доминиканца Бартоломео Спина[71] «О ведьмах», которая служит наставлением для потенциальных доносчиков.
Некий Андреас Могуани из Бергамо рассказывает падкому на ведьм инквизитору Спина, как молодая девушка из его родного города ночью была обнаружена совершенно голой в постели своего венецианского родственника. Как было признано, рассказ Андреаса создает впечатление полной достоверности, ибо такие вещи случаются. Но теперь к этому факту привязывают примечательную историю: ведь голая девушка должна представить убедительное объяснение, которое хоть как-то спасет ее честь. И она сочиняет такой сюжет, от которого волосы встают дыбом. Дескать, она легла спать в Бергамо, а когда проснулась ночью, увидела, как ее мать натиралась мазью. Сразу после этого мать улетела верхом на палке. Дочери тоже захотелось натереться ведьминской мазью, чтобы полететь вслед за матерью. Девушка догнала ее и увидела, как та хотела убить ребенка, чтобы приготовить побольше мази. Тут дочь быстро произнесла имя Иисуса, а также призвала Деву Марию. Мать после этого якобы исчезла, а сама она очутилась в Венеции, в постели родственника.
Отменная история, замечательное объяснение присутствию в чужой постели. Но высокая папская инквизиция верит в эту чепуху и пытает мать дочери-фантазерки до тех пор, пока та, чтобы прекратить мучения, не делает «добровольного» признания, которое ведет ее на костер.
Вот так становятся ведьмами. Иоганн Шерр[72] в «Истории немецкой культуры и нравов» пишет, что попасть под подозрение в колдовстве можно было из-за чего угодно — из-за «необычной красоты и необычного уродства, из-за крайней глупости или выдающегося ума… Если застанешь женщину возле каких-либо костей, жабы или ящерицы или с пучком какой-нибудь необычной травы в руке, она, без сомнения, ведьма. Если девушка ведет неправильный образ жизни, она ведьма; если слишком примерная, она ведьма. Если женщина редко ходит в церковь, она ведьма. Если ходит туда слишком часто и ведет себя слишком благочестиво, это должно внушать подозрение. Если ее вызвали как свидетельницу, а она при этом выказывает робость, это очень подозрительно; точно так же, если она держится уверенно… Дочери, матери которых были обвинены в колдовстве, без всяких сомнений, тоже ведьмы. Если кто сомневается в колдовстве и справедливости процессов над ведьмами, хватать его, хватать его немедленно, ибо это, должно быть, архиеретик и архиведьмак! С другой стороны, если кто проявляет избыточное рвение в доносительстве, он тоже под подозрением, поскольку хочет скрыть свою вину и направить внимание на других. С таким учением о признаках колдовства у судей поистине не бывало простоя».
Здесь слишком очевидно давление, принуждающее людей к неприметности. Под подозрение может попасть каждая женщина, стоит ей хоть раз проявить характер. А если подозрение появилось в результате доноса, несчастная попадает в жернова упрощенного судопроизводства, при котором самые невинные слова могут быть истолкованы против нее. Не добившись признания вины, ее бросают в тюрьму, где мучают дни и ночи напролет (содержа в темноте, не позволяя спать, кормя пересоленной пищей и не давая при этом пить), пока она, чтобы прекратить эти муки, не признается во всем, что от нее потребуют.
Если же несчастная проявляет стойкость и упорствует в отрицании своей вины, инквизиторы переходят к пыткам, которые отличаются изощренной жестокостью, — создается впечатление, что орудия этих истязаний изобретены людьми с больной фантазией. Если и эти мучения не выжмут признания, женщине устраивают пресловутое испытание водой: нагую, со связанными руками и ногами, ее бросают в воду. Если она идет ко дну, скорее всего, погибнет, захлебнувшись, если же всплывет на поверхность, тем самым она предоставит судьям очевидное доказательство, что она ведьма, и ее отправят на костер. Даже если она уцелеет, пробыв некоторое время на дне, ее ни в коем случае не отпустят, а вернут в тюрьму и будут искать на теле дьявольский знак. Любой бородавки или родимого пятнышка достаточно, чтобы изобличить ее как ведьму. А в конце мучительного, исполненного страданий пути такую женщину всегда ждет костер.
Сопротивление «Молоту ведьм»
Пособием для пыточных дел мастеров и палачей становится составленный в 1487 году Генрихом Инсисторисом и Якобом Шпренгером трактат «Молот ведьм». Он служит как духовным, так и мирским судьям в качестве руководства, санкционирующего исполнение любой садистской прихоти. Шабаш ведьм, любовная связь с дьяволом и добрая тысяча других приписываемых ведьмам злодеяний детально разбираются здесь и возносятся до статуса неопровержимой истины.
«Молот ведьм», порождение самых безумных представлений, основывается — в полном соответствии с ожиданиями — на презрительном отношении церкови к женщине. Инсисторис и Шпренгер провозглашают: «Разве женщина что-либо иное, как враг дружбы, неизбежное наказание, необходимое зло, естественное искушение, вожделенное несчастье, домашняя опасность, приятная поруха, изъян природы, подмалеванный красивой краской? Если отпустить ее является грехом и приходится оставить ее при себе, то по необходимости надо ожидать муку. Ведь отпуская ее, мы начинаем прелюбодеять, а оставляя ее, имеем ежедневные столкновения с нею… Женщины рассуждают и иначе понимают духовное, чем мужчины… Ведь женщина более алчет плотских наслаждений, чем мужчина, что видно из всей той плотской скверны, которой женщины предаются. Уже при сотворении первой женщины эти ее недостатки были указаны тем, что она была взята из кривого ребра, а именно — из грудного ребра, которое как бы отклоняется от мужчины»[73].
Далее эта книга, а после нее и многие другие, во всех подробностях описывают, как совершаются сексуальные сношения с дьяволом. Неудивительно, что обвиненные в колдовстве женщины, желая покончить с пытками, описывают акт точно так, как ожидали судьи и палачи, ибо источник в конце концов у всех под рукой. Все это — копание в грязи, отвратительная порнография, лишь слегка прикрытая религией. Для нас сейчас непостижимо, что не только знаменитейшие богословы, но и крупнейшие ученые, знатоки права и даже художники — такие, как Альбрехт Дюрер и Ганс Бальдунг Грин[74], — клянутся на «Молоте ведьм» как на Евангелии. Такие личности, как Лютер, Меланхтон[75] или Парацельс, также заражаются идеями одной из пагубнейших книг, когда-либо написанных людьми, и считают преследование и сожжение ведьм богоугодным делом.
Конец процессам над ведьмами положили отнюдь не реформаторы церкви. Будь на то их воля, костры горели бы и по сей день. Сопротивление, стойкое и длительное, шло со стороны католиков, начавшись в ордене иезуитов: Адам Таннер, Пауль Лайман и Фридрих фон Шпее бесстрашно борются с дьявольским безумием. Бальтазар Беккер и Христиан Томазиус наносят ему решающий удар.
Однако потребовался еще век эпохи Просвещения, чтобы устранить прочно укоренившиеся предрассудки. В 1775 году в Кемптене идет процесс над Анной Марией Швегелин, последней немецкой ведьмой. Ей задают около трех сотен вопросов, которые почти без исключения касаются ее сексуальных отношений с дьяволом. И семь лет спустя в швейцарском кантоне Гларус снова тащат на эшафот ведьму, Анну Гельдин. Сомнительно, чтобы на этом и впрямь рассеялось безумие народного суеверия, но впредь ему хотя бы препятствуют государственные и церковные власти.
Венера в Ватикане
С. 291. Миниатюра из религиозного трактата (фрагмент). Средневековье прошло под знаком креста и розг. Этот инструмент монастырской дисциплины вселяет страх и… похоть.
С. 292. Госпожа Венера и влюбленный (ок. 1485). Фрагмент раскрашенной ксилографии Каспера Регенсбергского.
Наместники Христа на земле
Возникает вопрос: а не напрасно ли Рим сделали центром христианского мира, ведь именно этот город считался средоточием разврата на закате империи? Может, это недобрый знак? Ведь христианское Средневековье ничуть не усовершенствовало мораль. Дворцы по-прежнему содрогаются от гула необузданного наслаждения, словно завтра никогда не наступит.
Еще в раннем Средневековье Аммиан Марцеллин[76] пишет: «Когда я думаю о блеске столицы, меня не удивляет благоговение перед епископами. Римский епископ может рассчитывать на то, что к нему потекут богатые дары из рук первых дам, что он сможет разъезжать по улицам в великолепных каретах и нарядных одеждах, и роскошь императорского стола не сравнится с расточительными и лакомыми трапезами высших римских священников».
Поначалу всякий епископ называет себя «папой», отцом христиан, но со временем это обозначение стало исключительным титулом епископа Рима. Пять столетий длится борьба, затем папство все-таки добивается господства — правда, ценой разделения христианского мира на римскую и грекокатолическую церкви.
Папы полагают себя наследниками Римской империи — интернациональность становится основой церковной силы и величия. Папа простирает свою всемогущую длань поверх границ церковного государства и принуждает к преклонению перед собой даже императоров и королей.
Слуга слуг (servus servorum) — так в смирении называют себя первые папы. Однако это обозначение — лицемерная завеса для алчных и властолюбивых планов, ибо во времена расколотых или ведущих междоусобную борьбу мирских властей легко превратиться из слуги в заносчивого, жестокого тирана. История папства переживает подъемы и спады. Папу видят по большей части блистающим на вершине власти, однако время от времени случается так, что он вынужден капитулировать перед мирскими правителями. И нередко папский двор тонет в трясине беспутства.
Каковы времена, таков и папа. До конца Тридцатилетней войны на римском престоле успело смениться двести сорок пять пап, среди них было двадцать четыре антипапы и — согласно легенде, которую долго принимали за историческую правду, — одна «папесса». Девятнадцать покидают Рим, тридцать пять занимают резиденции за границей. Восемь пап находятся на службе не больше месяца, сорок — в течение одного года, и только десять больше двадцати лет.
Тридцать один объявляются узурпаторами и еретиками, а шестьдесят четыре «легитимных» папы умирают насильственной смертью — восемнадцать отравлены, четверо задушены, тринадцать погублены как-то иначе, остальные изувечены, удавлены и тому подобное. Об Иоанне XIV рассказывают, что его уморили голодом; Григория VIII заперли в железную клетку; Целестину V вбили гвозди в виски.
Папы из Авиньона не принимаются в расчет, двадцать шесть пап отстранены от сана, изгнаны, сосланы. Двадцать восемь смогли продержаться, только призвав на помощь иностранные войска. Почти невозможно подсчитать исторически подтвержденные любовные приключения наместников Христа или хотя бы уточнить, какую роль играли женщины при папском дворе. История Ватикана переполнена жуткими убийствами, ужасными семейными трагедиями — и веселыми празднествами.
Оргии и непристойные пиры
Со всеми своими отнюдь не христианскими чертами папство тем не менее не хуже своего времени — ведь оно в значительной мере его продукт. Некоторые из тогдашних пап напоминают нам римских императоров, которые в своей ненависти и жестокости, в своей жажде наслаждений и сладострастии точно так же были зеркальным отражением своей эпохи. Судя по всему, в некоторых папах воплотилась вся порочность господствующего класса. В X веке, когда Рим становится ареной кровавой борьбы, не признающей центральной светской власти, папский престол втоптан в грязь из-за пресловутого «господства римских женщин и блудниц». В споре за власть между римскими аристократическими родами, которые боролись за папский престол и хотели превратить его в основание для последующего обретения светской власти, трем мессалинам — Теодоре, жене римского сенатора, а также ее дочерям Теодоре и Марозии — удается вознестись до положения «властельниц христианского мира».
Кардинал Бароний, благоволивший к папству как таковому, вынес этому времени разгромный приговор: «В храмах и святых местах царила мерзость запустения, на папском престоле сидели не люди, а чудища в человеческом обличье. Надменные, сладострастные, опытные во всех пороках женщины правили в Риме и вместе со своими сожителями и выродками захватили папский престол».
Пятьдесят лет длится эта оргия, во время которой один папа норовит перещеголять другого в порочности. Когда любовник едва достигшей четырнадцати лет Марозии в 904 году занимает римский престол под именем Сергия III, стены папской резиденции ежедневно содрогаются от шума непристойных пиров папы и его свиты. В лице восемнадцатилетнего Иоанна XII (955–963) на троне сидит, по мнению Барония, развратнейший из всех пап. Когда ему наскучило кровосмесительное сожительство с матерью и двумя сестрами, он превращает папский дворец в бордель, а церкви — в театры и танцевальные клубы. Его можно было видеть разъезжающим по Риму с полунагими наложницами. Ни одна красивая женщина не отваживалась показаться на улице из страха пасть жертвой ненасытного сладострастия папы. Он насилует женщин даже на гробницах апостолов. В итоге Иоанн XII уходит из жизни, пожалуй, самым необычным для папы способом — супруг его любовницы, застав прелюбодеев на месте преступления, разбивает его голову о стену дворца.
Папа Бенедикт IX (1033–1045) восшел на престол десятилетним ребенком, который к четырнадцати годам, конечно же, превосходит всех своих предшественников распутством и коварством. Развращенность пап пробудила веру в близость конца света: при такой порочности верховных пастырей христианства, считали люди, мир не может простоять долго. Approximante fine mundi (ввиду близящегося конца света) — так начинаются многие документы в период смены тысячелетий.
Позорную жизнь пап в Авиньоне описал среди прочих авторов и папский личный секретарь Никола де Клемансис: «С папских времен во Францию прокралась порча, безнравственность и разврат, ибо только через пап французский народ узнал любовь к роскоши, великолепию и распущенности, при этом нельзя забывать и национальный французский порок — клевету».
Недаром Данте Алигьери в своей «Божественной комедии» без колебаний помещает нескольких пап в ад. И Франческо Петрарка, знаменитый поэт и свидетель событий в Авиньоне, отмечает: «Услышанное нами о Вавилоне — ничто по сравнению с Авиньоном, ибо здесь можно увидеть воплощение того, что написано в старых сагах и поэмах о сладострастии и разврате богов». Петрарка также сравнивает папский двор в Авиньоне с лабиринтом царя Миноса, где «поклонялись Венере», — и нет поблизости Ариадны, которая вывела бы из этого лабиринта.
Спасения ожидают только от золота. Оно открывает врата в чистилище и рай. Папа Климент V, которого во Франции удерживают главным образом отношения с красавицей графиней Перигор, закладывает в Авиньоне фундамент мрачного и величественного папского дворца. В его стенах римская дольче вита достигает еще большего размаха. Чтобы покрывать расходы блестящей жизни двора, папы находят лазейку в отчаянных и головокружительных финансовых махинациях. Иоанн XXII (1314–1334) вводит строгую систему налогообложения пороков, устанавливая тарифы на отпущение грехов за разного рода проступки. На все возможные прегрешения — от изнасилования до растления малолетних и инцеста — налагаются денежные штрафы. Судя по всему, поставленной цели Иоанн XXIII добился — он может похвастаться тем, что выжал из европейских народов более пятидесяти миллионов золотых гульденов.
Не только корыстолюбие и сладострастие процветает в папских дворцах, но и чревоугодие, а Павел II (1464–1471) — просто Лукулл среди пап. Он не только прожорлив, но и тщеславен. Перед выходом он имеет обыкновение тщательно румяниться, его одежды украшены драгоценными камнями и золотым шитьем. Неумеренное употребление вина делает его сентиментальным; по любому поводу он может проливать слезы, так что его окружение насмешливо кличет Павла «Богоматерь Сострадательница».
Как лупанарии античного Рима связаны с именами цезарей, так имена отдельных пап связаны с римскими борделями послеантичного времени. Сикст IV (1471–1484) открывает в Риме множество публичных домов и под кодовым названием «арендная плата» получает с них ежегодную пошлину в двадцать тысяч дукатов. Когда при Юлии III отклоняют связанную с поборами жалобу римских проституток, в одном только благочестивом папском Риме насчитывается сорок тысяч дам, занимающихся этим налогооблагаемым ремеслом. В конце XV века Ватикан, на престоле которого сидит папа Александр VI из семейства Борджиа, окончательно превращается в жестокое, эгоистичное и порочное Эльдорадо. Показателен, например, для папского двора такой долго сохранявшийся аттракцион, как прилюдное состязание в потенции: два одеяла, две подушки, двое мужчин и столь же привлекательные, сколь и сговорчивые женщины; улюлюканье и спаривание без особой эротики и какого бы то ни было удовольствия для дам, издававших крики наслаждения только ради платы.
Записки Букардуса, церемониймейстера Александра VI, об этом папе и его дворе дают нам возможность заглянуть в папский дворец и получить впечатление о творящихся в Ватикане неблагочестивых делах: «Вечером в конце октября 1501 года устроил Чезаре Борджиа[77] в своих покоях в Ватикане пир с пятьюдесятью почтенными блудницами, так называемыми куртизанками, которые после трапезы танцевали со слугами и другими присутствующими вначале в одежде, потом обнаженные. После трапезы настольные подсвечники с горящими свечами переставили на пол и кругом рассыпали каштаны, которые голые проститутки собирали, ползая на четвереньках между светильниками, а папа и его сестра Лукреция наблюдали за этим. В конце были назначены премии, шелковые камзолы, башмаки, береты и прочее для тех, кто сможет осуществить с проститутками самый бурный акт. Зрелище состоялось здесь, в зале, прилюдно, и по решению присутствующих победителям вручались награды».
В своей монументальной «Истории города Рима в Средние века» о подобных событиях при папском дворе повествует и Фердинанд Грегоровиус[78]. «Кардиналы транжирили тысячи на один званый пир. Они безбоязненно ложились рядом со знаменитейшими проститутками Рима. Богатый римский землевладелец и банкир Агостино Чиги заставил говорить о себе всю Италию, когда по случаю крещения незаконнорожденного ребенка принимал в своей вилле папу. Ели язычки попугаев, рыба доставлялась живой из самой Византии. Золотые приборы после каждого блюда с детским бахвальством выбрасывались в Тибр, где их улавливали спрятанные сети. Рим превратился в праздничный театр, дом непрерывных зрелищ. Папа был распорядителем развлечений, Ватикан кишел музыкантами, актерами и шарлатанами, поэтами и художниками, придворными льстецами и паразитами. Тут дозволялось представлять старые и новые комедии, бесстыднейшие скабрезности. Если бы нам удалось на год попасть в Рим времен Льва X и увидеть череду празднеств, в которых сплетались черты язычества и христианства, перед нами предстала бы весьма пестрая картина. Маскарадные шествия, воссоздание античных мифов и сцен из римской истории, снова процессии, блестящие церковные праздники, инсценировки страстей Христовых в Колизее, классическая декламация в Капитолии, торжества и речи по случаю дня рождения Рима, церемониальные выезды кардиналов, послов и князей со свитами, подобными войску, кавалькады охотников, когда папа выезжал в Маглиану, Пало, Витербо с соколами и собаками, обозом и слугами, а ему сопутствовали кардиналы, иностранные посланники, веселая гурьба римских поэтов, блестящая знать — настоящая вакхическая процессия. И вот папа, переодевшись мирянином, целыми днями охотится на оленей и диких кабанов. Пиршества, комедии, представление научных и художественных творений, совещания кардиналов, дела церкви, дипломатия, изощренные интриги, война и мир, кумовство Медичи — для всего этого и Ватикан, и папа находили время и место».
Искушения плоти и обет безбрачия
Как ни странно это звучит, но такие «нравственные заблуждения» немыслимы без обета безбрачия (целибата), о котором в конце XI века был издан указ папы Григория VII и который вопреки упорному сопротивлению был жестоко проведен в жизнь. Духовенство отрывали от жен и детей — поистине невероятное нарушение догматических неприкосновенности и нерасторжимости брака. Папа, обладатель центральной церковной власти, был озабочен не столько целомудрием духовенства, сколько укреплением собственного могущества. Он издает всеобщий запрет на брак священников, чтобы еще прочнее привязать их к церкви, ибо тот, у кого есть жена и дети, принадлежит ей только наполовину.
Библейское обоснование целибата необходимым не считается. Да и где его взять? В Писании Христос не проповедует безбрачие, в иудаизме священнослужителю запрещено всего лишь брать больше одной жены, а в раннехристианских общинах священники, как правило, имели семьи. Но, как говорится, Рим высказался — и дело кончилось. А поскольку легитимное утоление сексуального влечения священникам запрещено, многие из них ищут выход тайно, так что до распутства духовенства — всего один шаг. Чем строже похоть запрещается и предается анафеме, тем скорее она побуждает преступить запрет.
Реакцией на моральный упадок становится уход от мира, возникают первые монастыри. Предполагается, что они образуют «чистый антимир», противопоставленный разложению духовенства и одичанию нравов христианского люда. Расточительной пышности церковников члены монашеских орденов предпочитают добровольную бедность и непритязательную жизнь.
Разумеется, очень многие монахи и монахини ведут духовно наполненную жизнь, воздерживаясь от интимных отношений. Тем не менее, несмотря на удаленность от мирского шума и соблазнов, монастырь не может послужить убедительным примером победы христианства над плотскими желаниями. Скорее напротив — вполне вероятно, что средневековые монах и монахиня находят укромное место вне стен монастыря, где можно отдохнуть от строгости его устава. Историк Иоганн Бюлер приводит в своей книге «Монастырская жизнь в Средние века» следующий анекдот, основанный на источнике того времени. «В одном монастыре жила уже довольно немолодая монахиня, которая в юные годы была весьма веселой девицей. Молодые монашки были к ней очень привязаны. Потом появилась строгая настоятельница и прекратила доступ в монастырь даже для священнослужителей. Она вообще пресекла все контакты монахинь с мужчинами. Когда молодые увидели, что оказались в заточении, они сказали доброй старушке: “Хорошо тебе, что ты еще в юности потеряла невинность; будь она все еще при тебе, ты бы утратила всякую надежду”».
Монастырь создает поистине уникальные предпосылки для чувственной атмосферы. Большие духовные и физические нагрузки приводят к расцвету порочных устремлений. Монахиня — невеста Христа, монах обручен с Царицей Небесной, так что трудно сказать, кому ты изменяешь, поддаваясь искушению плоти. В такой тесной общине сексуальность становится еще притягательнее.
Среди насельников монастырей лишь немногие чувствуют настоящее призвание и полны решимости предаться вере со всеми ее крайностями. Остальные поступают в монастырь из-за бедности и сталкиваются там с нравственными требованиями, которым не хотят или не могут соответствовать. Временами родительский эгоизм принуждает повзрослевших детей отбывать жизнь за стенами монастыря, поскольку у семьи нет средств на приданое или она не может выделить самостоятельное хозяйство для сына.
Сексуальная активность в монастыре вряд отличается от интимной жизни в крестьянских хижинах, жилищах ремесленников, банях и домах радости. Плотское желание расцветает в монастырских стенах еще ярче, поскольку к утолению этого влечения добавляется сознание плотского греха, а привкус кощунства лишь подогревает силу воображения.
Скандальные хроники
Средневековая юмористическая литература содержит сколь угодно много примеров безнравственного поведения монахов и монахинь. Пикантная сторона жизни духовенства отражена у Джованни Бокаччо, Пьетро Аретино и других итальянских авторов, у англичанина Джеффри Чосера, в многочисленных немецких шванках, во французских литературных сюжетах и фарсах. Если закрыть глаза на сатирические преувеличения, можно прийти к выводу, что во всех европейских странах происходит одно и то же. Никола де Клемансис, хорошо зная своих собратьев, цинично замечает: «Если кто в наши дни ленив и склонен к пышной праздности, он так и рвется в священники. Тут же он становится исправным посетителем распутных домов и трактиров, где проводит время в пьянстве, обжорстве и игре, а напившись, кричит и буянит, поносит своими нечистыми устами имя Господне и святых, пока, наконец, из объятий проституток не взойдет на алтарь».
«Толстячок-монах», наслаждающийся жизнью в монастырской трапезной и винном погребе, «похотливая монашка», не стыдящаяся своего вожделения, — вот излюбленные объекты для карикатур. Вполне возможно, что к таким насмешкам авторов толкает и собственная нечистая совесть. Однако даже сама церковь потешается над веселой жизнью монастырских братьев и сестер. То, что творится в монастырях, считается не самым страшным грехом — по сравнению с другими преступлениями церкви этим можно пренебречь.
«Декамерон» Джованни Боккаччо в сатирическом ключе изображает распутных монахов. Немецкие сюжеты повествуют о странствующих монастырских братьях, которые ходят от дома к дому, убеждая женщин, что никто не научит их таинству любви так, как это может сделать монах. Подобных безбожников вполне можно причислить к уже ославленным бродячим артистам, хоть они и прикрываются монашеской рясой.
Скандальные хроники Средневековья полны сообщений о «развратном поведении» духовных лиц. В самом начале XIII века почти все священники содержали в своих домах наложниц, и община была этим очень довольна, поскольку крестьяне боялись, что в противном случае святые отцы доберутся до их жен. В начале XV века епископ города Вормса Маттеус признается: «Сожительство священнослужителей с наложницами практикуется открыто, и наложница одета так изысканно и содержится в такой чести, как будто эти отношения не запрещены, а приличны и одобряемы».
В 1507 году молодой пфальцграф Иоганн, будучи правителем епархии в Регенсбурге, распространяет циркулярное письмо: мол, он с болью узнал о том, что часть духовных лиц безбоязненно держит у себя дома наложниц и детей от них, а другие день и ночь проводят в трактирах, пьют там, играют в карты и кости, бранятся, а то и прибегают к оружию. В некоторых местах молодые каноники держат в страхе все население: в Айхштетте, например, из-за них небезопасно выходить на улицу по ночам, они преследуют жен почтенных горожан, разбивают окна домов, опрокидывают ярмарочные постройки, насмехаются над шествиями. В Падерборне народ жалуется на то, что сожительницы каноников буквально терроризируют город и его обитателей.
Другие хроники сравнивают монастырские порядки с нравами борделей, ибо братьев то и дело посещает «всякое бабье», а часть монахов имеет постоянных сожительниц. Даже церковные инспекции официально подтверждают такие отношения, хотя, принимая во внимание церковную дисциплину, многие дела стараются замять. Так или иначе, всем известно, что в некоторых монастырях поют не столько псалмы, сколько непристойные песни и не столько служат мессы, сколько предаются оргиям. Книга «Зеркало священства»[79] приводит несколько забавных примеров выражения эротизма в монастырях.
Церковное руководство, также подверженное искушениям плоти, почти ничего не поэтому поводу не предпринимает. С одной стороны, оно пытается навести некоторый порядок, чтобы успокоить общественное мнение и хоть как-то спасти авторитет церкви. С другой — боится насильственных мер, поскольку во время проверок церковным чиновникам приходится опасаться за собственную шкуру. Так, в 1428 году в Вормсе монахини врукопашную отбиваются от правящего епископа Ландольфа, а сестры из монастыря Клингенталь встречают епископскую комиссию вертелами и кочергами. Они даже грозят поджечь монастырь, если ревизоры сунутся туда еще раз.
Монастырский секс
О женских монастырях тоже не скажешь ничего похвального. Так, если верить свидетельствам того времени, в монастыре Гнаденцель в Швабской Юре творятся дела еще более непристойные, чем в публичном доме: день и ночь монастырские ворота открыты для платежеспособных посетителей. Когда однажды дело заходит слишком далеко, у покровителя монастыря, герцога Юлия Брауншвейгского, лопается терпение и он велит живьем замуровать в стену настоятельницу.
В монастыре Святой Елизаветы в Меммингене из-за распущенного образа жизни монахинь приходится ввести строгое затворничество. Об одном монастыре близ Ульма идет такая дурная слава, что церковные власти вынуждены учинить расследование, результаты которого превосходят самые худшие опасения. 20 июня 1484 года председатель комиссии епископ Гаймбус Кастельский в ужасе сообщает о невероятно «развратных» письмах и дорогих одеждах, которые он обнаружил в кельях. Весьма огорчает его и то обстоятельство, что большинство монахинь находится в интересном положении. Проверка монастыря Зефлинген в 1484 году показала схожую картину: в здешних кельях тоже найдены развратные любовные письма, а большинство монахинь — беременны.
Монастыри оказались отнюдь не закрытыми, далекими от мира обителями, какими они, вообще говоря, были задуманы. Так, монахини могут ходить в деревенский трактир на танцы. Совет города Базеля вводит в 1433 году специальные полицейские меры, поскольку священнослужители и миряне ночами появляются на улице закутанными до неузнаваемости и «среди них можно увидеть госпожу настоятельницу женского монастыря и ее девицу Урсулу». О состоянии в монастыре Оберндорф в Тале сообщает хроника XVI века: «Там содержалось до двадцати четырех монахинь, по большей части знатного происхождения, которые, как говорят, ни в чем не испытывали недостатка, а напротив, жили в избытке разных благ. Что за славная жизнь, если полагать ее таковой, была в этом монастыре, видно по тому, что многие дворяне из Шварцвальда и Неккара заезжали в монастырь, так что он по праву получил название “бордель для благородных” или “богадельня для благородных”. Однажды в монастыре было много знатных гостей. Поздно ночью они устроили танцы, и нечаянно так получилось, что во время увеселении погасли все светильники. Тут возникла чудесная “игра”, в которой каждый мужчина взял себе монашенку. И хотя темнота не пощадила никого, никто не имел оснований жаловаться».
Итак, большая часть монахинь при поступлении в монастырь отнюдь не прощается с мирской жизнью: лицемерные настоятельницы лишь иногда проявляют притворную строгость, демонстрируя свое ханжество. В то время как напоказ выставляются скромность и послушание, в монастырской жизни допускается всякого рода нерадивость. Тайные пути к удовольствиям, далеким от монастырского устава, находятся почти всегда. Как уже упоминалось, монахини посещают общественные бани, часто вовсе не служащие всеобщей добродетели.
Разумеется, не всякий источник сведений можно принимать за достоверный и правдиво отражающий факты, особенно если он силится устрашить или удивить гротеском. Так, сообщения о монастыре Мариакрон, в котором после его обрушения якобы «находили в тайных покоях и других местах головы детей, а то и целые погребенные тела», не просто преувеличение — это чистой воды выдумка. Примечательно, однако, что злодеяния монахинь, от которых волосы встают дыбом, удивления не вызывают, и такие рассказы распространяются, не встречая энергичного протеста.
Естественно, против монастырского распутства не раз принимались меры. В Базеле в 1498 году было издано распоряжение: «Кто днем или ночью идет в женский или мужской монастырь с греховными умыслами, должен заплатить десять гульденов штрафа». Во многих городах существуют перечни наказаний, которые доказывают, что позднее Средневековье столкнулось с серьезными проблемами, касающимися нравственности священнослужителей и монахов разных орденов, и никакие мирские или церковные органы не могли изменить положение дел.
В народе сложилось собственное мнение о поведении насельников монастырей — люди не тешат себя иллюзиями относительно их нравственности. На этот счет красноречиво высказываются многие поговорки. Вот некоторые из них.
«Кто с благочестивым поведется, благочестия наберется», — сказал монах и за ночь переспал с шестью монашками.
«Рай заслужить непросто», — заметил аббат, упав с кровати и сломав монашке ногу.
«Мы все совершаем ошибки», — призналась монашка, когда у нее вырос живот.
«Мавр другого не зачернит», — заверила монашка священника и улеглась на него.
«Не люблю праздности», — сказала монашка, ложась в постель к священнику.
«Вот верная девушка!» — молвил святой отец, поскольку она родила ему двух сыновей, а одного утаила.
Правила исповеди
Введение исповедальной кабинки, а с нею и тайной исповеди не добавило духовенству воздержанности. Правила исповеди, содержащие список упоминаемых в ней грехов, позволили и даже вменили священникам в обязанность задавать самые интимные вопросы. Что творится в голове посвященного в сан неженатого мужчины, беседующего с женщиной о ее личной жизни, да еще без свидетелей и прочих помех? И что испытывает женщина, когда о своих самых сокровенных ощущениях, в которых не отважилась бы признаться и самой себе, она должна говорить молодому мужчине? Интимный разговор в кабинке зачастую становится лишь прелюдией, особенно для слабовольных женщин, ведь нет ничего удивительного в том, что за словами следуют дела.
Хотя правила исповеди (перечни вопросов, которые должен задать исповедник) наверняка продиктованы намерением повысить нравственность прихожан, вместе с тем они — руководства для дознания, и с их помощью на свет Божий извлекаются мельчайшие детали интимной жизни. Иезуит Антонио Эскобара-и-Мендоза, автор одной из самых знаменитых книг об исповеди, предлагает следующую схему признаний в прегрешении против шестой заповеди.
«Я совершил семь прегрешений.
1. Я тешил себя развратными мыслями о незамужних и замужних женщинах, находящихся в кровном родстве со мною, о монахинях, о содомии, о скотоложестве; я доставлял себе наслаждение распутными мыслями; я провинился развратными словами, взглядами, прикосновениями к такой-то и такой-то; столько-то и столько-то раз.
2. Я грешил половыми отношениями с незамужней, оказавшей мне сопротивление девственницей, с замужней, с кровной родственницей, с монахиней; внутри природного отверстия или снаружи; столько-то и столько-то раз.
3. Я грешил противоестественно посредством содомии, скотоложества, онанизма.
4. Я сносил развратные поцелуи и объятия; столько-то и столько-то раз.
5. Я преследовал женщину, я обменивался с нею любовными словами и письмами, я делал ей подарки со злым умыслом, я прикасался к ней развратно; столько-то и столько-то раз.
6. Я читал развратные книги; я лелеял желание вызвать в других дурные вожделения; я хвастался совершенными грехами; столько-то и столько-то раз.
7. Я желал соития с моей женой, несмотря на противодействующие брачные препятствия или обеты, несмотря на опасность выкидыша; столько-то и столько-то раз».
«Столько-то и столько-то раз» непременно стоит и в особой схеме исповеди для супругов: «Я совершал соитие противоестественным способом, либо используя неестественные отверстия (анальное соитие — прим. автора), либо изливая семя вне отверстия; при соитии я менял положение тел с большой опасностью растраты семени; я вступал в соитие с моей женой с мыслями о моей возлюбленной; я совершал соитие на освященном месте; я сожительствовал с моей женой ночью, не считаясь с тем, что она собиралась наутро принять святое причастие; я совершал развратные прикосновения с опасностью семяизвержения; столько-то и столько-то раз».
Исповедь обеспечивает церкви огромную власть и не поддающееся описанию влияние. Тайна исповеди нерушима как для духовного лица, так и для исповедующегося, который затем должен держать в тайне злоупотребления церкви. Насколько сильно совращала эта форма таинства, совершенно очевидно. Злоупотребления в исповедальной кабинке были таковы, что потребовалось официальная реакция духовных властей. В 1322 году церковный собор в Оксфорде запретил священникам выслушивать исповедь женщин в темном месте, а в 1617 году архиепископ Камбре отдает распоряжение: «Исповеди женщин должны выслушиваться не в ризнице, а на свободном месте в церкви, в темное время там должны зажигаться свечи». Иезуитам Венеции в 1648 году и вовсе запретили принимать исповедь, поскольку, как выяснилось, ни одна женщина не могла чувствовать себя при этом в безопасности.
С практикой исповеди тесно связан вездесущий страх наказания, которое следует по пятам за всяким нарушением бесчисленных запретов. По крайней мере, этим наказанием всегда угрожают. За любое нарушение регламента сексуальной жизни в браке (не говоря уже о внебрачной связи) последует, как уверяет духовенство, расплата в виде уродливых или одержимых бесом детей. Система средневековых наказаний отличается жесткостью: за содомию, под которую подпадает гомосексуальность, полагается смерть на костре; прелюбодеям отрезается нос, анальный секс карается семью годами покаяния. Так называемые покаянные книги — реестры грехов и положенных за эти грехи наказаний — относятся к наиболее читаемым текстам Средневековья. Они изобилуют стилистическими красотами и фантазиями. Так, например, епископ Вормса Бурхард сообщает, что «женщины, которые засовывают во влагалище живую рыбу и держат ее там, пока она там не замрет», а затем подают ее возлюбленному на обед как средство приворота, наказываются двухлетним постом.
На этом фоне вновь и вновь раздаются призывы к реформам. Во время церковного собора в Констанце император Сигизмунд якобы не раз предостерегал: «Реформируйтесь сами, или народ вас реформирует». Однако эти предостережения так и не были услышаны. Часто цитируемое высказывание зальцбургского архиепископа Маттеуса Ланга фон Велленберга гласит: «Что вы хотите улучшить в нас, священниках? Мы никогда не были хорошими!»
Жесткие реформаторы
С. 315. Король Венцеслав с двумя банщицами. Фрагмент из Библии Венцеслава.
С. 316. Вавилонская блудница. Фрагмент иллюстрации к Библии Лютера (ок. 1530 г.).
Мартин Лютер и «животная потребность»
Но вот она, в конце концов, наступает, Реформация, и, казалось бы, теперь можно уповать на то, что будет покончено не только с непорядками в церкви, но и со злосчастным объединением грехов и сексуальности. Казалось бы, главный реформатор Мартин Лютер женат, а также одарен изрядным красноречием и способен называть вещи своими именами. Однако происходит обратное: протестантская религия новейшего толка оказывается не терпимее к эротике, чем католическая доктрина. Протестантизм хочет быть во всем святее папы Римского.
Бурная жизнь Мартина Лютера обросла многочисленными легендами, которые рассказывали еще при его жизни. Они сделали великого реформатора фигурой из школьных учебников, причем выставляли его скорее как тип, чем как личность: красноречивый, связанный с народом, высоконравственный — неоспоримый образец для каждого немца. Тем не менее за этой завесой из вымысла и правды угадываются и реальные черты инициатора Реформации.
Откуда взялось скептическое отношение Лютера к эротике и сексуальности? Мы располагаем многочисленными документами, которые позволяют судить о мыслях и чувствах богослова. В детстве Лютер натерпелся страха перед своим отцом, будучи жертвой того, что сегодня называется авторитарным воспитанием. Его школьный наставник тоже обращался с ним жестоко. И даже от матери он не мог ожидать понимания и снисхождения — однажды она побила сына до крови за то, что тот съел орех, лежавший на столе. Лютер остро ощущал потребность в защите со стороны какой-нибудь власти. Не без основания он жаждал вступить в строгий и аскетический орден августинцев.
Причины присоединения Лютера к реформаторскому движению во многом известны — безнравственность духовенства, жизнь папского двора, полная роскоши и распущенности, покупка должностей, семейственность и процветающая торговля индульгенциями, а также склонность священников посещать дома радости, разрешенные папой и обложенные церковным налогом. Все это ведет к антицерковной позиции Лютера, в теологическом же плане реформатор выбирает реакционный путь.
Поиск власти, которая стояла бы выше папы и церкви, приводит его к представлению о личном Боге: лишь Он один своей милостью может дать человеку избавление и прощение за греховное существование. Как монах и священник католической церкви, Мартин Лютер поначалу верит, что должен оправдаться перед Богом за свою жизнь. Изощренная система актов покаяния, молитв и паломничеств дает понять, что спасения можно добиться лишь путем оправдания.
Бог представляется Лютеру незримым, и все усилия человека Он встречает резким «нет!». Протестантский принцип разоблачает грехи на каждой ступени человеческого общества. Даже святой несовершенен, ибо и он подлежит Божьему суду. Прежде всего, святой несовершенен тогда, когда считает себя совершенным. Притязание церкви на окончательную истину и абсолютный авторитет, утверждение, что монах и монахиня в большей степени угодны Богу, а также иллюзия, что безбрачие может преодолеть власть вожделения — все это Лютер ставит под сомнение и в конце концов порицает. Это сознание вездесущего греха оказывает влияние на интерпретацию сексуальности.
Психическое состояние Лютера многое объясняет, в том числе и его сексуальный пессимизм. Реформатора можно считать образцом пуританина. Одна из его отличительных черт — боязнь всякого рода грязи. Чистоплотность в системе ценностей протестантов занимает второе место после божественности, причем антипатия ко всякого рода запятнанности часто соотносится с большим интересом к нравственной грязи.
В отличие от высказываний Августина и Фомы Аквинского суждения Лютера о сексуальности и эротике основаны на личном опыте в браке. В римско-католических кругах — особенно во время контрреформации, — утверждают, что Лютер порвал с Римом во многом из-за желания жениться на монахине. Однако один-единственный взгляд на исторические факты опровергает это утверждение. Лютер встречает бывшую монахиню Катарину фон Бора лишь через семь лет после так называемого выдвижения тезисов. В 1525 году, когда он женится, ему уже сорок два года, у него плохое здоровье, и он очень занят работой. Катарина в свои двадцать семь лет послушная, но здравомыслящая женщина. От романтического волшебства или бурных чувств этот брак невероятно далек.
Лютера часто хвалят за сочный и близкий народу язык, но насколько же бессильным оказывается его красноречие перед лицом «непроизносимого» (любимое выражение Лютера), то есть тех невыразимых вещей, которые происходят между супругами! После десяти лет брака тот самый Лютер, который так любил уснащать свои проповеди и застольные речи крепкими словечками наподобие «пердеть», «ссать», «вонять», «свинячить», выказывает отвращение к «самым естественным в мире вещам». «Теперь я умалчиваю о мерзости, которая сокрыта во плоти, памятуя о животном вожделении и зуде. Все это отчетливые знаки первородного греха». Особенно отвратительны, полагает он, гениталии, каковые должны быть постоянно тщательно укрыты. Некогда Господь предусмотрел их для благородного акта зачатия, а теперь, в состоянии греха, они становятся омерзительнейшими органами. То, что в раю было актом, полным радости, теперь поражено проказой жгучей похоти. Срам сексуального возбуждения тела, боли родовых схваток — все это для Лютера симптомы греха, последствия внутренней испорченности, но не сама болезнь.
Реформатор и «супружеские радости»
Уверовав в опустошительную суть эротических радостей и мерзкий характер сексуальности, Лютер тем не менее не прославляет безбрачие. Он не склонен отдавать предпочтение девственности, отрицая супружество, и тем самым порывает с традицией. Богослов не только настаивает на праве священников заключать брак, но даже проповедует, что все — за исключением избранных — в брак вступать обязаны. Для этого он приводит два основания: брачный союз учрежден и даже «предписан» Богом, и, несмотря на грехи, все же необходим; кроме того, человек все равно не может в полной мере устоять перед соблазнами похоти, о чем не в последнюю очередь говорит безнравственное поведение якобы безбрачного и целомудренного духовенства.
Так, по убеждению Лютера, в пользу превосходства брака над целибатом говорит, наряду с божественным происхождением этого института, также неодолимая власть сексуального влечения. Каждый человек, полагает Лютер, должен давать выход своему плотскому вожделению, но по необходимости, а не ради ярких ощущений. Он вновь и вновь утверждает, что неженатый человек обречен на предосудительный, порочный образ жизни. Тело требует супружества, а Бог требует брака. Из Библии Лютер усваивает, что у женщины есть выбор, и ей придется выбирать между браком и проституцией. Его скепсис по отношению к идеалу девственности следует рассматривать на фоне борьбы реформатора против всей католической догматики, привязанной к целибату. Как в этом человеке совместились одобрение брака и сексуальный скептицизм, непредвзятому наблюдателю понять сложно, но их сочетание можно рассматривать как основной протестантский принцип, позже осуществленный в домах протестантских пасторов.
Как правило, Мартин Лютер колебался между экстремальной и умеренной позициями. Так, он придерживался мнения о ничтожности обетов безбрачия, поскольку они идут против божественного указания на то, что человеку негоже оставаться одному. С одной стороны, Лютер признает обет безбрачия, с другой — заявляет, что тот, кто в поиске блага дает такой обет, вызывает негодование, поскольку пытается использовать это «доброе дело» для торговли с Богом. Полагать, что сексуальный аскетизм вознаграждается особым статусом перед Богом, означает, согласно Лютеру, впасть в ересь. Обет целомудрия, утверждает он, есть обет безбожный, даже богохульный, поскольку противоречит Евангелию, и, следовательно, его надлежит отменить.
Из этой позиции отнюдь не следует, что Лютер считает сексуальность в браке чистой и святой. Напротив, брачные половые отношения для него — вид «лекарства», всего лишь меньшее зло, чем разврат. Мол, Бог направляет плотскую страсть по прямолинейному пути брака, семьи и деторождения, но как только аппетит утолен, подкрадывается отвращение. Частота супружеских измен, согласно Лютеру, также доказывает, что брак, по большому счету, не способен в достаточной степени умерить сексуальные притязания, однако он хотя бы частично укрощает похоть. «Супружеский долг» никогда не может исполняться без греха, но Бог в своем неисповедимом милосердии смотрит на это сквозь пальцы. Тем и исчерпывается великодушие протестантизма, к которому ведет упомянутое божественное снисхождение.
Из всего этого может следовать, что сексуальность для Лютера — злосчастная необходимость, так сказать, конструктивная ошибка априори грешного человека. Лютер не связывает с ней эротические радости — или не признается себе в этом. Правда, в его практических советах, касающихся образа жизни христианина, все-таки присутствует некоторый реализм. Хорошо известна и много раз подвергалась критике, например, его точка зрения: «Если женщина отказывается, позови девушку». К тому же Лютер оставался сторонником убеждения, что христианину позволено все, на что нет четких запретов Библии. Это касается и полигамии, пример которой подавали патриархи. Правда, Лютер не заходит так далеко, чтобы провозгласить полигамные радости доступными для всех, но подчеркивает относительность своей терпимости, напоминая христианскому миру, что не всякой свободой следует пользоваться. Этот ответ очень характерен для этической системы Лютера. Он отказывается быть законодателем и энергично защищает свободу христианина, но при этом взывает к совести верующих и проповедует всяческую умеренность. Такую же позицию он занимает по отношению к обузданию сексуальности. Желание — по Лютеру — инстинктивно, неукротимо, имеет животный характер и подобно бешеному зверю, которому время от времени нужно давать волю.
Хотя реформатор отвергает иерархию католической церкви и, в первую очередь, ее самовольно присвоенный авторитет, он сам занимает вполне авторитарную позицию в богословских, моральных и практических вопросах. Лютер защищает сословные различия, не возражает против применения силы и с наивным доверием готов передать абсолютную власть в светские руки. Твердо уверенный в том, что миром нельзя править без насилия, он негодует, когда крестьяне восстают против неволи. Протест угнетенных для него не что иное, как отсутствие должного послушания и покорности мирской власти. Точно так же реакционно лютеровское понимание политики, которое внесло решающий вклад в развитие протестантизма как конфессии, поддерживающей государство и зависимой от него. В случае сомнений передай решение на усмотрение властителя — так гласит его максима.
Покорность властям и подавление всякой эротической свободы идут в Реформации рука об руку. Многочисленные табу и истерические наставления пуританского протестантизма заставляют человека постоянно ощущать себя виноватым, и это чувство вины исключает спонтанное эротическое переживание. О жизни, полной желания и любви, можно забыть.
Все XVI столетие протестанты показывают себя расточительными только в одном отношении: они не жалеют энергии на богословские дебаты и доктринерские дискуссии о том, какую одежду следует носить духовным лицам, уместно ли заменять каменные алтари деревянными столами и где их нужно ставить — в центре церкви или на восточной стороне. Эти пространные споры и обсуждения показывают склонность евангелической церкви к регулированию банальнейших вопросов, что ведет также к отказу от эротики.
Протестантам не приходит в голову, что религия вполне может сосуществовать с радостью и жаждой жизни. Они сознательно отказываются от всякого желания и вместо этого лелеют мелочность и нередко враждебность по отношению к женщине. Не стоит удивляться, что реформаторские движения проклинают карнавалы, маскарады, танцы, игры и другие увеселения, изгоняют смех не только из святых зон, но и вообще из жизни. В этом они опять же проявляют рвение и основательность. Они ожесточенно выступают против пьянства, которое, как известно, ослабляет самоконтроль, и ненавидят театр, поскольку он обращается непосредственно к чувствам и бессознательному.
Еще при жизни Лютера отчетливо проявляется реформаторское предпочтение жесткого патриархального и патерналистского мышления. Всякого рода ограничения по отношению к сексуальности красной нитью проходят через всю Реформацию, особенно в ее экстремальных вариантах — кальвинизме и пуританизме.
Кальвин и церковные установления
Если протестантизм Лютера можно считать реакционным и чопорным, то кальвинизм просто невозможно перещеголять в фанатизме и дотошности, с которыми его сторонники докапываются до греха. Жан Кальвин, самый известный ученик Лютера, был изгнан из Франции за приверженность к протестантизму и стал духовным и светским главой города Женевы. После продолжительной и не всегда успешной борьбы с «безнравственным» буржуазным обществом в 1541 году ему наконец удается ввести так называемые церковные установления. Начиная с 1558 года его «Законы об одежде и роскоши» выступают в первую очередь против «свободной любви», азартных игр и «распутных танцев».
Церковные установления при Кальвине превращаются в главный инструмент управления. Церковь выполняет функции органа государственной безопасности, и городские власти передают ей многие из своих полномочий. Она с особым тщанием занимается надзором за нравственностью, не оставляя без внимания сферу интимной жизни каждого верующего, при этом совместная работа городских и духовных властей идет очень слаженно. Согласно церковным установлениям Кальвина грешник передается мирскому суду, который назначает наказание и принуждает осужденного к добрым делам. Известно распоряжение Кальвина о проведении официального расследования по поводу похищения человека чертом. Кальвин пребывает в уверенности, что чуму в Женеве в течение трех лет распространяли колдуны и ведьмы. Он полагает правдивыми признания, полученные под пытками, а отказ от них, по его мнению, служит свидетельством, что обвиняемый или обвиняемая снова находится во власти дьявола. Противников казней на костре Кальвин предлагает отлучать от церкви за пренебрежение божественным словом.
Господство Кальвина в Женеве составляет одну из самых мрачных глав в невеселой истории взаимоотношений религии и эротики. Его неукротимый гнев не знает меры. В Женеве даже пустяки влекут за собой напряженность и приводят к жестоким действиям власти. Ребенок обезглавлен за то, что поднял руку на своего отца. Возражение Кальвину считается более тяжким преступлением, чем несогласие с отцом. Недостаточно почтительный отзыв о его проповедях влечет трехдневную отсидку на хлебе и воде — мягкое наказание за грех протеста. Критик учения Кальвина, нацарапавший на полях одной из его книг слово «глупость», был обезглавлен за предательство и богохульство. Другого противника Кальвин без угрызений совести передает в руки французской инквизиции. Однако Мигелю Сервету удается бежать, и он возвращается в Женеву, чтобы объясниться с Кальвином. Реформатор велит схватить его, без законных оснований осудить и сжечь. Множество людей страдают от мизантропии Кальвина, которую с трудом удается прикрыть богословскими фразами; им приходится на своей шкуре узнать, что означает очищение мира от зла. За шестьдесят лет сто пятьдесят человек, выступавших против доктрины Кальвина, были отправлены на костер.
В то же время нельзя обойти молчанием и прогресс, который принес с собой кальвинизм. После долгих дискуссий в 1561 году церковные установления дополняются законами о браке, согласно которым женщина, по крайней мере теоретически, может претендовать на те же права, что и мужчина. Такое произошло впервые в истории христианства. Кальвин даже высказывается за то, что мы сегодня называем «партнерством»: ошибочно полагать, заявляет он, будто женщина создана лишь для того, чтобы рожать мужчине детей (последней точки зрения, кстати, придерживался Лютер в своем пренебрежении к индивидуальной любви и в заботе о достаточном потомстве). Супруга, считает Кальвин, должна быть для мужчины «неотъемлемой спутницей жизни», полноценным членом общины. Даже законы Кальвина о разводе значительно опережают свое время. Супружеская измена мужа считается достаточной причиной для развода с ним, и в Женеве разрешается вступать в брак с разведенными женщинами, что знаменует первый шаг к эмансипации.
Абсолютный контроль
Кальвинисты с особой энергией внушают человеку ощущение вины и проявляют редкую изобретательность, осуждая стремление к удовольствиям и радости жизни. Охота на «запретную распущенность», ожесточенная борьба против «необузданности плоти, которая переходит все границы, если ее не сдерживать со всей строгостью», защита от всякой эротики ведут к строгому регламентированию повседневной жизни.
Верховный реформатор беспощадно изгоняет со своих небес не только всех без исключения прелюбодеев, но также любого, кто каким-то образом проявил жизнерадостность. Подружки невесты подлежат заключению в тюрьму, если они слишком ярко украшают новобрачную. Люди подвергаются строгим наказаниям, если они пляшут или проводят чересчур много времени в пивной, едят рыбу в страстную пятницу или возражают пастору, который хочет крестить их ребенка не тем именем, какое выбрали для него родители.
Полиция в Божьем государстве Женевы не успевает справляться с работой: шпики постоянно доносят на граждан за их якобы проступки, а полицейские следят за улицами, лавками и домами, что бы в воскресенье и в среду никто из жителей не пренебрег обязанностью посетить богослужение. Так выглядит женевская утопия, которую Джон Нокс[80] с восхищением называет «самым совершенным христианством со времен апостолов».
В своей богословской доктрине Кальвин показывает себя не менее жестким. Он провозглашает, что человек за свои бесчисленные повседневные проступки заслуживает непрерывной Божьей кары: «Разве не справедливо подавлять нашу плоть, чтобы она привыкала к игу и не могла пуститься в беззаконную распущенность?» Для Кальвина это было достаточным основанием, чтобы представить себе Творца, который приговаривает к бесконечным адовым мукам всех созданных Им людей — почти без исключения. Он одержим страхом перед собственным инстинктом, более того, перед женщинами. В безумии своей больной души этот человек требует, чтобы женщина при малейшем подозрении на любовную связь на стороне была наказана — даже без жалобы обиженного супруга (к счастью, ему не удается провести этот закон в Совете города). Но если ее деяние получало огласку, женщину, совершившую супружескую измену, могли зашить в мешок и бросить в воду.
Установление жесткой дисциплины не только тела, но и души связано, пожалуй, с физическими особенностями самого Кальвина. Пуританскому реформатору досталось слабое и болезненное тело, и он подолгу мучился от невралгических болей. Отказывая себе в малейших радостях жизни, он лишает этих радостей и других, а взамен проповедует малоприятную обязанность испытывать ненависть к самому себе. И чем больше он себя ненавидит, чем немилосерднее становится его садизм с религиозной оторочкой, тем сильнее проявляется его стремление к власти, к политическому достижению религиозного господства.
Пуританская власть
Во время господства Реформации торжествует пуританская бесчувственность, расцветает пышным цветом мирская аскеза, омрачается и сужается тот мир, который в эпоху Возрождения начал было просветляться и наполняться радостью бытия. Карнавал приходит в упадок, народные обычаи языческого происхождения забываются, и воцерковленность становится обязанностью, за исполнением которой ведется неусыпный надзор. В Женеве осуждаются развлекательные игры, танцы, употребление алкоголя, новомодное курение, вообще развлечения всех видов, а по пятницам увеселения вовсе запрещены. Театральные репертуары подвергают чистке или вообще закрывают театры.
Когда пуритане приходят к власти в Англии, они тут же начинают борьбу против распространенной там «безнравственности». Теперь и в этой стране закрываются театры и развлекательные учреждения, праздники заменяются скучными «днями всеобщего смирения», когда замирает торговля и запрещено всякое предпринимательство. В конце концов «бессмысленное блуждание по полям, на бирже и в других местах» ненужно и даже вредно.
Под пуританским правлением эта принципиальная враждебность к жизни быстро развивается в садизм. Для острастки служат изощренные методы публичного унижения — позорный столб, плети, деревянные колодки, железный ошейник. Существует много возможностей направить ненависть — глубинную и подкрепленную богословским фундаментом — на жертв и дать волю садистским импульсам. Освобождая такого рода разрушительные силы, протестанты обнаруживают и свой собственный негативный характер.
Контрреформация, то есть попытка католической церкви исправить эти злоупотребления, — не просто движение сопротивления и реакция на Реформацию. В оправданном страхе перед дальнейшим уменьшением приверженцев католическая церковь вновь припоминает свои некогда строгие уставы и отрекается от широко практикуемой безнравственности. Она снова объявляет сексуальные проступки наихудшими из всех грехов, но вместе с тем не подвергает осуждению невинные удовольствия и радости. Вселенский церковный собор в Триенте, созванный папой, спешит подтвердить все средневековые предписания и заповеди. На несколько десятилетий католическая церковь снова сгибается под тяжестью нетерпимой морали.
Пока католики празднуют победу контрреформации в своих барочных соборах, исполненных великолепной чувственности, протестантский пуританин опускает голову в молельном доме, лишенном украшений, и слушает угрозы красноречивых проповедников. Реформаторская доктрина продолжает упражняться в фантазиях о том, что зло разлито повсюду, и не останавливается даже перед изобретением новых чертей. Табачный, карточный, игровой, плясовой, разнаряженный, пивной и театральный черти празднуют воскресение из мертвых и подвергаются гонениям повсюду, где их только заподозрят. Результат — надзор за нравственностью, поставленный на широкую ногу, и объявление всего мирского бесовским. Этот надзор — первоисточник чопорной двойной морали буржуазии; он и спустя века влечет за собой бесчисленные личные катастрофы.
Список иллюстраций
На суперобложке использован назидательный рисунок анонимного немецкого художника (ок. 1480). Он разъясняет, что чистота тела не всегда сопутствует чистоте души.
На контртитуле воспроизведена миниатюра из «Бибилии для бедных» (Франция, ок. 1220).
С. 9. Альдобрандино из Сиены. Средневековое руководство по сексу «Режим тела» (фрагмент миниатюры, 1285).
С. 10. Анонимный художник. Влюбленная пара (1484). Темпера.
С. 27. Мир придворной любви (фрагмент). Французская книжная живопись, XV в.
С. 28. Изображение шестой заповеди: «Не прелюбодействуй» (фрагмент). Данциг, XV в.
С. 45. Влюбленный и Дама Веселье. Иллюстрация к «Роману о Розе», конец XV в.
С. 46. Влюбленная пара на фоне идеализированного пейзажа: так называемое «Подношение сердца» (1430). Гобелен из Арраса.
С. 77. Епископ возлежит с женщиной, а обманутый муж — под кроватью (фрагмент).
С. 78. Дитмар фон Айст, переодетый торговцем, добивается расположения дамы при помощи своих товаров. Манесский песенник, ок. 1300 г.
С. 99. Иероним Босх. Сад радостей земных (1503). Деталь средней части триптиха.
С. 100. Антон Айзенхойт. Ересь (1589). Гравюра на меди. Отклонение от вероучения часто изображалось аллегорически, при помощи эротических и вовсе не отталкивающих образов.
С. 119. Муж притворяется спящим, в то время как жена отдается любовнику. Фрагмент эротической иллюстрации к шванку, XV в.
С. 120. Свадебная церемония (фрагмент). Миниатюра из еврейской рукописи. Милан, 1436 г.
С. 147. Сладострастие (фрагмент). Гравюра на меди Криспина де Пассе с работы Мартина де Фосса.
С. 148. Нижнерейнский мастер. Любовное колдовство. Картина на дереве, вторая половина XV в.
С. 175. Средневековый бордель (фрагмент). Ксилография, XV в.
С. 176. Мастер герцога Антона Бургундского. Баня (фрагмент, ок. 1470).
С. 193. Беспутная шутка на сцене (фрагмент, 1575).
С. 194. Анонимный мастер из Аугсбурга. В женском доме. Ксилография, XVI в.
С. 225. Изображение шестой заповеди: «Не прелюбодействуй» (фрагмент). Данциг, XV в.
С. 226. Хоровод желания (фрагмент). Иллюстрация к «Роману о Розе». Фландрия, ок. 1490 г.
С. 253. Позиция 69. Рельеф на нижней стороне откидного сиденья в хорах кафедрального собора в Асторгасе, XIII и XV вв.
С. 254. Джакомо Якьерьо. Источник вечной юности (ок. 1411–1416). Фрагмент фрески.
С. 269. История про молодого монаха и его наставника аббата. Иллюстрация к «Декамерону» Джованни Боккаччо, 1415–1419 гг.
С. 270. Ведьма, заколдовавшая молодого мужчину (ок. 1470). Гравюра на меди.
С. 291. Миниатюра из религиозного трактата (фрагмент). Средневековье прошло под знаком креста и розг. Этот инструмент монастырской дисциплины вселяет страх и… похоть.
С. 292. Госпожа Венера и влюбленный (ок. 1485). Фрагмент раскрашенной ксилографии Каспера Регенсбергского.
С. 315. Король Венцеслав с двумя банщицами. Фрагмент из Библии Венцеслава.
С. 316. Вавилонская блудница. Фрагмент иллюстрации к Библии Лютера (ок. 1530 г.).
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Йохан Хёйзинга (1872–1945) — нидерландский философ, историк, исследователь культуры. Цитируется трактат Хёйзинга «Осень Средневековья» (1919), перевод Д. Сильвестрова. (Здесь и далее — прим. ред.)
(обратно)2
Букв.: «темные века» (англ.).
(обратно)3
Мф. 22:37.
(обратно)4
Климент Александрийский (Тит Флавий Климент, 150–215) — раннехристианский апологет и проповедник.
(обратно)5
Майстер Экхарт (Иоганн Экхарт, ок. 1260 — ок. 1328) — средневековый немецкий теолог и философ.
(обратно)6
Готфрид Страсбургский (конец XII в. — ок. 1210) — средневековый немецкий поэт-эпик, автор знаменитой поэмы «Тристан».
(обратно)7
Вальтер фон дер Фогельвейде (ок. 1160 — после 1228) — немецкий поэт и композитор периода классического миннезанга.
(обратно)8
Генрих фон дем Тюрлин (ок. 1200 — ок. 1276) — средневековый немецкий поэт, живший в первой половине XIII века.
(обратно)9
Пьер де Бурдей Брантом (1538–1614) — французский аристократ, историк и мемуарист. Джироламо Морлини — итальянский писатель XVI века.
(обратно)10
Возлюбленный, любовник, поклонник (фр.).
(обратно)11
Кодекс Манессе — знаменитый средневековый манускрипт XIV века.
(обратно)12
Бернар де Вентадур (ок. 1150–1180) — провансальский поэт и трубадур XII века.
(обратно)13
Перевод Л. Гинзбурга.
(обратно)14
Джеффри Чосер (ок. 1344–1400) — виднейший из английских поэтов Средневековья, автор знаменитых «Кентерберийских рассказов». Томас Мэлори (ок. 1405–1471) — английский писатель, автор «Книги о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола». Эдмунд Спенсер (ок. 1552–1599), английский поэт, наряду с Шекспиром и Мильтоном признан одним из величайших англоязычных стихотворцев.
(обратно)15
Дени де Ружмон (1906–1985) — швейцарский писатель и философ.
(обратно)16
Хильдегарда Бингенская (1098–1178) — немецкая монахиня, настоятельница монастыря в долине Рейна, автор естественнонаучных сочинений, врач. Бернар Клервоский (1091–1153) — французский средневековый мистик, цистерцианский монах, аббат монастыря Клерво. Фридрих Барбаросса (Фридрих I Гогенштауфен) (1122(1123) — 1190) — император Священной Римской империи.
(обратно)17
Бегинки — религиозное движение, возникшее в 1170 г. в Брабанте и распространившееся по средневековой Европе. Бегинки обитали в бегинажах (общежитиях), но могли жить и в отдельных домах. Они могли вступать в брак, выходить из общин, не давать монашеских обетов.
(обратно)18
«Видение Тундала» — популярный трактат ирландского монаха, созданный в 1149 г., описывает воображаемое путешествие в ад души плутоватого рыцаря Тундала.
(обратно)19
Memento mori — помни о смерти, memento vivere — помни о жизни (лат.).
(обратно)20
Memento mori — помни о смерти, memento vivere — помни о жизни (лат.).
(обратно)21
Фрове, или Фрейя, — в скандинавской мифологии богиня плодородия, любви, красоты.
(обратно)22
Катакомбы Присциллы — христианские и языческие подземные захоронения II–IV вв. в Риме, названы в честь знатной римлянки, казненной императором Домицианом.
(обратно)23
Вагину зубастую (лат.).
(обратно)24
Хель (также Нифльхель) — подземное царство мертвых в скандинавской мифологии и имя его хозяйки, свирепого существа наполовину синего, наполовину цвета сырого мяса.
(обратно)25
Гийом де Сен-Тьерри (1085–1148) — французский богослов и мистик. Гуго де Сен-Виктор (1096–1149) — французский философ, богослов, педагог.
(обратно)26
Хадевейх Антверпенская, или Брабантская, — фламандская бегинка, мистическая писательница XIII в. Святая Тереза Авильская (1515–1582) — испанская монахиня-кармелитка, католическая святая, автор мистических сочинений.
(обратно)27
См. слова Иисуса в Евангелии от Луки (15:7): «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии».
(обратно)28
Ин. 1:1-14.
(обратно)29
Иоанн Кассиан Римлянин (ок. 360–435) — один из основателей монашества в Галлии, видный теоретик монашеской жизни.
(обратно)30
Карпократ — гностик из Александрии II века н. э.
(обратно)31
Франциск Ассизский (Джованни ди Пьетро Бернардоне, 1182–1226) — католический святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена.
(обратно)32
Арнольд Брешианский (ок. 1100–1155) — итальянский религиозный и общественный деятель. В юности несколько лет прожил во Франции, где стал учеником Пьера Абеляра.
(обратно)33
На самом деле в 1310 г. были сожжены 54 тамплиера, а в 1324 г. еще двое, в том числе Великий магистр ордена Жак де Моле. Несколько десятков рыцарей умерли в тюрьмах.
(обратно)34
Рейнмар фон Хагенау (ок. 1160 — ок. 1207) — эльзасский миннезингер. Гартман фон Ауэ (ок. 1170–1215) — знаменитый эпический и лирический поэт немецкого Средневековья, автор куртуазных рыцарских романов «Эрек» и «Ивейн», а также шедевра средневековой поэзии стихотворного романа «Бедный Генрих».
(обратно)35
Фердинанд II Католик (1452–1516) — король Арагона и Сицилии (как Фердинанд II), король Кастилии (как Фердинанд V Католик, в 1474–1504), король Неаполя (как Фердинанд III, с 1504).
(обратно)36
Плотское соединение (лат.).
(обратно)37
Фридрих II (1194–1250) — германский король и император Священной Римской империи.
(обратно)38
Иоганн Гейлер фон Кайзерберг (1445–1510) — знаменитый немецкий проповедник.
(обратно)39
Пьетро Андре Маттиоли (1501–1577) — итальянский ботаник и врач.
(обратно)40
Териак — древнее мнимое универсальное противоядие, состоящее из десятков ингредиентов.
(обратно)41
Майское дерево — украшенный цветами и лентами высокий столб, который по традиции устанавливается ежегодно в мае на центральных площадях во многих деревнях и городах Европы. Считается, что майское дерево должно принести в эту местность изобилие и счастье.
(обратно)42
Перевод В.Т. Бабенко.
(обратно)43
Альберт Великий (1200–1280) — философ, теолог, ученый, наставник Фомы Аквинского.
(обратно)44
Перевод В.Т. Бабенко.
(обратно)45
Гилберт Ангеликус (ок. 1180 — ок. 1250) — средневековый английский врач.
(обратно)46
Имеется в виду герой романа немецкого писателя Ганса Якоба Кристоффеля фон Гриммельсгаузена (1622–1676) «Похождения Симплициссимуса».
(обратно)47
Virtus — добродетель (лат.).
(обратно)48
Vis — сила (лат.).
(обратно)49
Virtus spiritualis — духовная добродетель (лат.).
(обратно)50
Григорий Турский (538–594) — епископ Тура с 573 г., франкский историк.
(обратно)51
Людвиг Тома (1867–1921) — немецкий писатель, в реалистической либо в сатирической форме описывавший повседневную жизнь в Баварии на рубеже XIX–XX вв.
(обратно)52
Уилл-Эрих Пойкерт (1895–1969) — немецкий фольклорист и писатель.
(обратно)53
Ганс Себальд Вехам (1500–1550) — немецкий художник, график, гравер. Считается самым выдающимся после Альбрехта Дюрера мастером малых форм.
(обратно)54
Конрад Цельтис (1459–1508) — выдающийся немецкий писатель-гуманист.
(обратно)55
Фастнахт (Fastnacht) — аналог русской масленицы, карнавал, который проводится накануне великого поста.
(обратно)56
Бертольд Регенсбургский (ок. 1210–1272) — немецкий проповедник.
(обратно)57
Хросвита Гандерсгеймская (938–973) — немецкая монахиня, поэтесса, автор драматических произведений на латинском языке, назидательных комедий, насыщенных религиозными мотивами и символикой.
(обратно)58
В немецком языке слово «смерть» — мужского рода.
(обратно)59
Себастьян Франк (1499–1542) — немецкий гуманист, философ и историк, деятель радикально-бюргерского направления Реформации.
(обратно)60
Себастьян Брант (1458–1521) — знаменитый немецкий писатель-сатирик и юрист.
(обратно)61
Пс. 117:24.
(обратно)62
Перевод В.Т. Бабенко.
(обратно)63
Уистен Хью Оден (1907–1973) — английский поэт.
(обратно)64
Из притчи о десяти девах, Мф. 25:1–8.
(обратно)65
Йессе Херлин (1500–1575) — немецкий художник. Поскольку этот мастер вряд ли мог в трехлетием возрасте написать картину, автор, по-видимому, имеет в виду художника Фридриха Херлина (1435–1500), который жил в Нердоингене, однако к указанной дате (1503) умер. По всей видимости, датировка картины приведена ошибочно.
(обратно)66
Джовани-Баттиста Арменини (1540–1609) — итальянский художник и теоретик живописи.
(обратно)67
Петер Флётнер (1485–1546) — немецкий скульптор, гравер, медальер и ювелир.
(обратно)68
Ганс Себальд Вехам (1500–1550) — немецкий художник, график, гравер; считается самым выдающимся после Альбрехта Дюрера мастером «малых форм». Альбрехт Альтдорфер (1480–1538) — немецкий художник, мастер живописных картин и гравюр на исторические и религиозные сюжеты.
(обратно)69
Каспар Давид Фридрих (1774–1840) — немецкий живописец, представитель раннего романтизма.
(обратно)70
Суккубы и инкубы — соответственно демоницы и демоны, жаждущие совокупления с людьми.
(обратно)71
Бартоломео Спина (1475–1546) — теолог, инквизитор, управляющий папским дворцом. Известен, в частности, тем, что первым призвал к запрету гелиоцентрической системы Коперника.
(обратно)72
Иоганн Шерр (1817–1886) — немецкий историк.
(обратно)73
Пер. с лат. Н. Цветкова.
(обратно)74
Ханс Бальдунг Грин (1480–1485) — выдающийся художник верхнегерманской школы, живописец, гравер и рисовальщик. Считается самым талантливым учеником Дюрера.
(обратно)75
Филипп Меланхтон (1497–1560) — немецкий протестантский богослов и педагог, сподвижник Лютера.
(обратно)76
Аммиан Марцеллин (ок. 330 — ок. 400) — римский историк, автор сочинения «Деяния» (31 книга), которое было задумано как продолжение «Анналов» и «Историй» Тацита.
(обратно)77
Чезаре (Цезарь) Борджиа (1475–1507) — сын папы Александра VI, политический деятель.
(обратно)78
Фердинанд Грегоровиус (1821–1891) — немецкий историк.
(обратно)79
«Зеркало свящества. Исторические памятники христианского фанатизма» (Der Pfaffenspiegel — Historischr Denkmale des christlichen Fanatismus) — книга, содержащая критику церкви. Написана Отто фон Корвиным (1812–1886) в 1845 г. Нацисты использовали ее во время травли католической церкви.
(обратно)80
Джон Нокс (ок. 1510–1572) — крупнейший шотландский религиозный реформатор XVI века, заложивший основы пресвитерианской церкви.
(обратно)
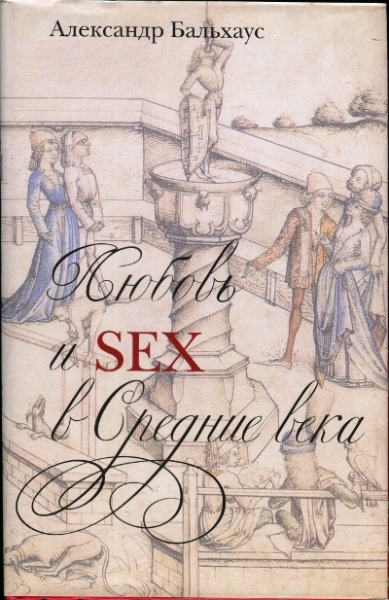


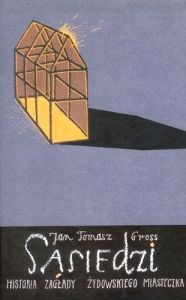
Комментарии к книге «Любовь и секс в Средние века», Александр Бальхаус
Всего 0 комментариев