История всего: лекции о мифе Гусейнов Гасан
© Гусейнов Гасан, 2016
© Владислава Дмитриевна Бумбак, дизайн обложки, 2016
© Гасан Чингизович Гусейнов, фотографии, 2016
Редактор Лариса Валерьевна Суслова
Редактор Юрий Александрович Голайдо
Редактор Марат Харисович Кузаев
Редактор Владислав Викторович Непийпов
Редактор Владимир Дмитриевич Дингес
Редактор Виктория Николаевна Черных
ISBN 978-5-4483-4105-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Введение. Зачем вам античность?
Мыслительный прыжок во времени и пространстве, который вам предстоит совершить, чтобы только прикоснуться к главным памятникам античной литературы: зачем он?
Как сказал бы один из патриархов русской классической филологии, Фаддей Францевич Зелинский, из холодной северной страны, лежащей во льдах между Сахалином и Магаданом А. П. Чехова или А. И. Солженицына и Петербургом Ф. М. Достоевского или Александра Блока, вам предстоит зачем-то перелететь к Средиземноморью. Предстоит начать читать о Троянской войне, воспетой почти три тысячи лет назад на языке, который для большинства из вас, к сожалению, так и останется чужим, даже если вы потратите несколько лет на его изучение. Так зачем переноситься?
Может быть, достаточно сказать о традиции? Но всех ли устроит это объяснение? Мне, например, этого было бы мало. Хотя, конечно, есть что-то понятное и вполне объяснимое, я чуть не сказал «естественное» в том, что человек первым делом обращается к культуре того мира, откуда когда-то принесли азбуку для его родного языка. Да, сама кириллица обязывает нас, носителей русского языка, дернуться в первом филологическом рвении к главным истокам русской азбуки — древнегреческому и древнееврейскому. Но есть и другое, я бы сказал — прагматическое и актуальное, а по-русски говоря, остро необходимое в обращении к античной литературе и мифологии: без нее невозможно понять, о чем говорит русская и западная литература сегодня и почему она говорит так, а не иначе.
Вот замечательное стихотворение Николая Алексеевича Заболоцкого «Возвращение с работы» (1954):
Вокруг села бродили грозы, И часто, полные тоски, Удары молнии сквозь слезы ломали небо на куски. Хлестало, словно из баклаги, И над собранием берез Пир электричества и влаги Сливался в яростный хаос. А мы шагали по дороге Среди кустарников и трав, Как древнегреческие боги, Трезубцы в облако подняв1.На первый взгляд, упомянутые здесь греческие слова «электричество» и «хаос», как и прямая отсылка к «древнегреческим богам», чисто декоративны. Но так ли это? Воспоминание о подневольной работе в бытность автора в заключении держится на пантеистической формуле Заболоцкого, которая станет вам близка и понятна, когда вы познакомитесь с мифологической картиной мира греков (я бы рекомендовал вам обязательно прочитать прекрасную книгу моего учителя — профессора Азы Алибековны Тахо-Годи «Греческая мифология»). К чему сводится эта формула? К тому, что человек, тот самый полуголый зэк с вилами, иронически сравнивающий себя с олимпийским божеством Посейдоном, — остается в вечном противоборстве с хаосом. «Хаос» — это первобытная бездна, предшествовавшая появлению мира, но это и «хасма» — страшная пасть, которая может распахнуться в любой момент, и, даже стоя под которой, ты должен, беря пример с богов, не выпускать из рук трезубца. Меня могут спросить, а зачем нужен такой вот обратный перевод Заболоцкого на язык греческой мифологии? Отвечу: потому что сам поэт просит об этом своего читателя. Заболоцкий переводит опыт безвинно осужденного на рабский труд на язык культурного сообщества. Не случайно тут даже избрание Посейдона — самого «хаотичного» и буйного из всех олимпийцев. Греческая мифология здесь не что иное, как другая природа, объяснительная схема сосуществования человека и природы.
Есть и еще одно важное свойство у стихотворения Заболоцкого, которое отсылает нас к античности: оно не только серьезно, но и иронично. Ирония эта выражена столкновением не вполне поэтических слов «электричество» и «древнегреческий» со стандартными поэтизмами, ударением в слове «хаос». И эта ирония не романтическая, а сократическая: здесь удовольствие, даже наслаждение моментом, сращено с болью, но узнать эту боль может только посвященный.
Раздел 1. Лекции о мифе2
Исследования древнегреческой мифологии
Солярная или лунарная теория греческой мифологии. — Этиологические мифы — мифы о происхождении мира. — Миф в психоанализе. — Эвгемеризм, материалистическая теория мифа. — Естественно-научное направление. — Идея числа. — Миф как толкование ритуалов. — Лингвистическая теория мифа.
Исследований и теорий греческого мифа столько же, сколько и самих мифов. Их, действительно, очень много, и нужно объяснить, почему их так много, почему сам миф уже является исследованием себя самого. Слово «миф» означает связное повествование или представление чего-то как связного повествования.
В те времена, когда люди, в том числе, древние греки, не знали письменности, основными содержательными комплексами, которые мы можем привязать к мифологии, были изображения. Для того чтобы правильно истолковать изображение, нужно придумать рассказ о нем. Самая ранняя форма мифов — это объяснение того, почему именно этот рассказ правильный. Для того чтобы представить масштаб и пестроту разных теорий греческого мифа, с которыми мы имеем дело, достаточно сказать, что греческие мифы описывают небосвод, небосклон: у каждой звездочки, у каждого созвездия есть имя, и почти за каждым созвездием скрывается повествование, какая-то история — вот основания для так называемой солярной, или лунарной теории греческой мифологии. Греческая мифология — это не что иное, как наиболее раннее описание причин, по которым звездное небо выглядит так, как оно выглядит.
Представьте себе, что вы опускаетесь глубоко под землю, туда, где в Аттике, в области центра, которым были Афины, находятся Лаврийские рудники, где добывают серебро. Кроме серебра там, в глубине, какие-то драгоценные камни. И выясняется, что все эти камни, все эти металлы, руды, травы тоже представляют собой мир, целиком описываемый в повествовательном строе греческой мифологии. Там мы обнаруживаем для каждого дерева, для каждой травки имя мифологического персонажа, и этот мифологический персонаж оказывается такой, потому что у него была такая судьба. Вот знаменитая картина Александра Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис» — антропоморфное изображение трех юношей. А что такое гиацинт и кипарис? Это растения, в которые были превращены эти подростки, потому что они убежали от Аполлона. Они хотели скрыться от него, и он в наказание превратил их в эти растения.
Это повествование представляет собой только один маленький пиксель из огромного полотна, которое целиком лежит в растительной области. И первые теории греческого мифа и вообще индоевропейской мифологии говорят о том, что мифы развивались и возникли как иносказания природы. Это этиологические мифы, или мифы о происхождении мира, — первые теории возникли там.
Если мы совершим прыжок в не такие отдаленные времена, туда, где царствует наука о душе — психология, — туда, где царит психоанализ, мы обнаружим новую картину. Оказывается, начиная с Вильгельма Вундта и заканчивая Юнгом, величайшие психологи конца XIX — начала XX столетия открыли миф как представление человеческого бессознательного и коллективного бессознательного, если говорить об архетипах Юнга.
Миф нужен этой науке как объяснительный механизм работы бессознательного, а в сущности — работы нашего сознания.
Самое «простое» представление о мифологии — это представление, которое восходит к Эвгемеру, ученому III века, и эта теория называется его именем. Представление о том, что мифы — это отложившиеся предания об исторических персонажах, которые были примерно такими же, как те исторические персонажи, которых мы знаем, но просто жили в глубокой древности, и документов никаких не осталось, письменности не было. Поэтому некоторые из этих персонажей слились с другими, дед оказался тождественен внуку, и таким образом сложились представления о Зевсе, об олимпийской семье и так далее. Это представление тоже довольно распространенное, представление, которое иногда считают материалистическим, потому что оно говорит нам о том, что есть некая реальность. Просто она очень далеко уходит корнями в глубокую древность, когда никаких достоверных сведений у нас об этом нет.
Есть представление о мифе, которое можно называть естественно-научным, и это тоже очень серьезное представление. Когда мы говорим о теории так называемого Большого взрыва, то чем не прообраз для этой теории греческое представление о хаосе: вот эта страшная пасть раскрывается, возникает пространство и время. Не есть ли это раннее представление о Большом взрыве? Само это представление о Большом взрыве как о событии тоже несет мифологические черты, потому что мы пытаемся назвать обычным именем процесс, очень трудно представимый с помощью обычных слов, которыми мы пользуемся. Вот почему миф оказывается в этой точке предтечей естественно-научного знания и точных наук.
Что такое вообще теория? Теория — это созерцание. Это такой взгляд на вещь, когда вещь говорит сама за себя. Поэтому всякий теоретик хотел бы максимально формализовать свою теорию, дать ей числовое выражение, перевести ее из описательного языка в язык или на язык, которым легко поделиться с другими, потому что это знание максимально формализовано. Это знание, которое можно выразить в числе. Тут же выясняем, что идея числа у греков — не только у Платона, но и до Платона, у Пифагора — это идея сакральная, это идея, которая представлялась древним, тайным знанием. Это в мифическом представлении греков чистая мистика, то есть знание, к которому можно приобщиться, только если ты посвящен. Если ты становишься мистом, если ты осваиваешь это таинственное знание недоступным для других людей способом. Конечно, это прямо противоположно современной науке, современная наука вся построена на идее абсолютной открытости и возможности передать знание, возможности освоить его и сделать доступным другим. Мифический взгляд прямо противоположный: это тайное, волшебное знание. Но ниточка, связывающая их, все-таки число и представление о числе, которое сложилось в недрах мифического представления о мире.
Поэтому, говоря об исследованиях греческой мифологии, мы оказываемся в точке, из которой можем пойти и в сторону поэзии, аллегорического толкования, и в сторону естественно-научного описания, и в сторону точной аналитической науки, и, наконец, мы можем просто любоваться изображениями.
Несмотря на необычайное богатство мифологической традиции, первые исследования мифов — наверное, до середины XIX века — рассматривали и изучали мифы как иносказание, как представление чего-то другого: другой истории, других социальных отношений или иносказаний об устройстве Вселенной. И только начиная, с одной стороны, с психологов, с Вундта, Фрейда, а с другой стороны, начиная со структурного метода, миф стал интересовать сам по себе, как самостоятельная структура. Одно из главных имен здесь, конечно, Клод Леви-Стросс, который внес огромный вклад в изучение мифологии самой по себе, мифа самого по себе, и все многочисленные исследователи, которые более или менее шли по его следам.
Особый интерес представляют исследователи мифологии, которые видели в мифе представление, изложение, пересказ, истолкование древних ритуалов.
Это тоже довольно древняя теория. Основания для ритуальной теории мифологии дали уже греческие трагики и комедиографы, потому что они представляли в сильно искаженном, видоизмененном спектакле толкование мифа иногда протонаучного толка. Толкование того, что происходило с Прометеем, с Эдипом. Если бы не эта познавательная, исследовательская линия уже у Еврипида и Софокла, то их последователи и исследователи из других областей науки не использовали бы греческий миф в качестве такого замечательного приема и в качестве материала для построения своих теорий.
Очень важна лингвистическая теория мифа — теория, представление о мифологии как о недрах, внутри которых зародился наш язык. Для меня, как филолога, главная исследовательская база и исследовательская теория, которая привязывает и толкует миф в связи с языком, — это теория Бронислава Малиновского, внесшего огромный вклад в понимание мифа именно как языка, как языка культуры. Развивая эти идеи, можно сказать, что и язык, на котором мы говорим, на котором мы пишем, с помощью которого мы думаем и без которого мы не думаем, — это тоже мифическая сущность. Это тоже миф.
Почему миф ускользает от периодизации
Минотавр
На какой вопрос пытается ответить миф. — Зачем нужна периодизация предметов исследования.
Великий шахматист Давид Бронштейн никогда не был чемпионом мира и не выигрывал крупных турниров по очень интересной причине: он довольно долго думал перед первым ходом. И это очень странно: человек ведь приходит, уже зная, у него есть какие-то заготовки. Почему же он сразу не делал первый ход, когда играл белыми? Очень долго думал — иногда 10—12 минут — в каждой партии.
Когда говорят о периодизации мифологии, серьезный исследователь мифа тоже должен на какой-то момент замереть и поразмышлять, как великий шахматист Давид Бронштейн. Он должен подумать: а с чего, собственно, ему начать? Потому что «миф» — это греческое слово в русском языке. Все, что в нашем, да и в других европейских языках, связано с мифологией, познанием и познавательными процедурами, знанием, логикой, существует на греческом. Такой кусочек греческого языка внутри другого языка, и все мы знаем это слово — «миф».
В мифе сочетается одновременно выдумка, фантазия: что-то волшебное и что-то, наоборот, истинное и точное, знание, которым можно поделиться и в котором нельзя ошибиться. Нельзя ошибиться, например, в том, что Афина — богиня-девственница и родилась из головы Зевса. А родилась она оттого, что Зевс проглотил свою возлюбленную Метиду, беременную Афиной, потому что боялся, что эта возлюбленная родит сына и этот сын сгонит его с Олимпа.
Мы знаем, что в физическом смысле это не могло быть так. И мы ни в коем случае не можем перепутать Афину с Афродитой, которая, наоборот, даже старше Зевса и родилась до него из семени оскопленного Урана. Мы понимаем, что миф — это повествование о вымысле, но есть и другое толкование. Греческая мифология — если вы в детстве читали какие-то изложения мифологии — представляет собой очень развернутый ответ на вопрос «Отчего этот мир такой? Как он стал таким?».
С тех пор, когда и самого времени не было, и до нашей сегодняшней повседневности, всюду то и дело выпрыгивает какой-то мифологический персонаж, какое-то существо: от древнего Хаоса, из которого все возникло, из этой пасти, до какого-нибудь Геракла. О человеке, который, например, совершил дома генеральную уборку, давно запланированную, мы можем услышать, что он вычистил авгиевы конюшни. И мы все понимаем, что это означает. В нашем быту это есть. Но это есть в глубокой древности, а местом встречи этой древности и современности является некое место в Греции или в другой части Восточного Средиземноморья.
Внутри этого огромного временного пространства довольно трудно найти относительно точно определяемые эпохи, которые бы его размечали и указывали, что это вот было до того, а это было после. Но эту задачу пытались решить и греческие, и римские мифографы, то есть люди, записывавшие и переписывавшие мифы. Только счет шел не по абсолютной шкале времени, а по относительной — генеалогической. Она-то и давала сбои. Периодизацией мифологии занимался, по-своему, конечно, и самый первый поэт — слепой старец Гомер, которому приписываются поэмы «Илиада» и «Одиссея». И, конечно, этим занимаются ученые, начиная примерно с середины XIX века, когда появилась наука мифология, или этнология, этнография, — наука о преданиях разных народов. Периодизация волнует, конечно, всех. Почему? Потому что она свидетельствует, что мы понимаем сущность нашего предмета. До того, как вы периодизировали вашу науку, вы толком не можете сказать, чем вы занимаетесь. Периодизация позволяет вам поставить эти границы.
Но когда говорят о мифе, возникает проблема: он ускользает от периодизации. Первые произведения мировой литературы, в которых излагается греческая мифологическая традиция, — «Илиада» и «Одиссея». И другое произведение, по времени примерно тогда же созданное, как полагают, и это «как полагают» очень важно, потому что у нас нет никаких твердых, точных сведений о том, что это было именно в эти века создано, — я имею в виду «Теогонию» Гесиода, или поэму о происхождении богов. Эти важнейшие памятники сами по себе уже являются толкованием и попыткой периодизации мифологической традиции.
Однако эти поэмы были сочинены в эпоху дописьменную, когда главное представление мифа, еще не сложенного в связный сюжет, было изобразительным, предметным. Вот этот камень — это пупок Зевса. И мы должны понимать, что это его пупок. А вот это поле, на котором растут пионы, небольшие горные пионы, — это брови Зевса. А весь этот мир — это тело Зевса. Это представление первично по отношению к сюжетам, которые связаны с Зевсом, или с Герой, или с каким-то другим божеством.
А под землей, под горой, под представлением о том, что происходило с Зевсом и другими олимпийскими богами, оказывается еще более древняя эпоха, когда боги выглядели не так, как люди — как думали впоследствии, как мы знаем из античной скульптуры или из живописи Нового времени, — а представляли собой каких-то чудовищ. Эта фаза чудовищ, змей, драконов — тератоморфная эпоха, — как полагают, предшествовала представлению о человекообразных богах.
А за тератоморфной эпохой… Тут возникает вопрос: а что было раньше, до того? И оказывается, что до того, до чудовищ в представлении носителей так называемого мифологического сознания были абстрактные категории. Но ведь абстрактные категории с точки зрения современного человека — порождения более позднего времени. Но если мы пытаемся навязать греческому мифу какую-то периодизацию, то мы вынуждены сказать, что греки на самой ранней стадии своего развития представляли себе темноту и свет, ночь и день как мифологические существа, что они оживляли в своем сознании, в своем воображении, в своей фантазии то, что мы сейчас называем абстрактными категориями.
Конечно, это вздор, но это очень удобный вздор. Это тот вздор, с помощью которого мы можем читать, например, «Теогонию» Гесиода. И, читая «Теогонию» Гесиода, мы обнаруживаем, что она сама по себе воспроизводит некую схему периодизации, в которой самые ранние стадии понимания мифа как универсального объяснения мироздания совпадают с самыми поздними стадиями понимания мифа как предтечи философии и естественных наук.
Таким образом, представление о том, что когда-то давно боги были чудовищами, а потом им на смену приходят человекообразные боги, а потом боги сходятся с людьми, появляются герои, а за веком героев следует век обычных людей, уже оторвавшихся от богов, — сама эта схема представляет собой попытку вписать периодизацию мифологии в понятные нам рамки истории и легенд. И этот парадокс, эта фундаментальная трудность сродни трудностям, которые испытывает историк, изучающий историю по книгам или в лучшем случае по старым газетам, когда он вдруг оказывается на археологических раскопках.
Вдруг исследователь видит, что история для археолога выглядит совсем по-другому. Вот дворец, в котором произошел пожар, рухнула крыша, крыша упала на пол, и настоящий историк-археолог должен ходить по этой площадке, и он должен отличить, где то, что лежит здесь, было полом, а где то, что было крышей. Где то, что было внизу, а где то, что было наверху. И точно так же мифолог вынужден считаться с тем, что в каждом сюжете, в каждом повествовании одновременно присутствует сжатый, сплющенный предмет или прото-сюжет, а на нем, в виде напластований, неразличимо слились самые разные эпохи, иногда — в одном образе.
Достаточно назвать такие мифы, как миф, например, о Минотавре и лабиринте. Внутри этого сюжета есть и тератоморфная фаза — ужас от страшного чудовища, сына Пасифаи от быка. А с другой стороны, вся эта история — это история о цивилизаторской миссии, о Дедале — строителе лабиринта, о замечательном открытии архитектуры, которое на наших глазах происходило на Крите.
Затрудняет обычную периодизацию греческой мифологии как, скажем, историческую периодизацию какого-то явления, еще и то обстоятельство, что очень часто мы имеем дело не просто с сюжетом, все персонажи которого принадлежат, например, этой местности или какому-то кругу героев, более или менее локализуемых. Зачастую это совсем не так. Как правило, это соединение сюжетов, в которых действуют пришлые персонажи. Эти новички каждый раз, приходя в Восточное Средиземноморье, меняли всю картину. Один из лучших примеров этого — бог Дионис, или Вакх, который пришел из Малой Азии и перестроил всю мифологическую картину, существовавшую в Греции до него. Вдобавок его отождествили с местными персонажами, например, с аттическими, которые приобрели черты этого пришедшего нового божества.
Или Аполлон: казалось бы, с ним все совершенно ясно. Более того, у нас в голове есть схема, которую мы унаследовали от Ницше в последней трети XIX столетия: противопоставление Аполлона как носителя ясности, света и рациональности — Дионису как божеству стихийному, страстному. Но это представление очень позднее и литературное, а сам Аполлон бесконечно далек от единства. Это не один образ, это очень сложный мифический персонаж, это комбинированное божество, которое есть и волк, и солнце, и ворон. Все его животные и растительные ипостаси говорят, что периодизировать появление этого божества едва ли возможно. Но как иначе показать, как и кем оно было в разные эпохи, показать развитие одного мифологического персонажа.
Поэтому мы вынуждены считаться с тем, что современные представления о периодизации греческой мифологии довольно простые. Есть у нее чудовищная фаза, есть фаза антропоморфная, и, наконец, наступает фаза переосмысления всей этой мифологии в литературе, в искусстве, в психологии, в социальный психологии. И всякий раз такое переосмысление заставляет пересмотреть и всю традиционную периодизацию. Но вот внутри мифа времени нет, либо оно искривляется для того, чтобы угодить повествованию, сюжету. Прометей принадлежит старшему поколению богов (по сравнению с Зевсом), он — титан. Но за прегрешения, состоявшие в том, что помогал людям, существам злокозненным и готовым отвернуться от богов, был наказан, очутившись в чужой эпохе. Сам акт «передачи огня» отражает древнейшую доисторическую фазу развития человечества, а вот акт передачи памяти об этом событии в повествовании может быть весьма поздним по меркам истории. Постоянное переосмысление мифической традиции и составляет главную специфику мифа как явления духовной жизни. Как и в самом языке, самые древние пласты могут проявиться в относительно поздних текстах и изобразительных комплексах.
Почему Кронос ел своих детей
Как настоящее пожирает будущее. — Кронос и его дети. — Элементы древнегреческого мифа в современном обиходе.
Чтобы получить разумный ответ на поставленный в заглавии вопрос, мы должны разобраться, о какой ипостаси Кроноса мы говорим. Если это персонаж мифа или божество, родителями которого были Уран и Гея, сводной сестрой — Афродита, а детьми — Зевс, Посейдон и другие, то ответ очень прост: Кронос поедал своих детей из страха. Ему было предсказано, что кто-то из детей его свергнет, а другого способа избавиться от следующего поколения пока не придумали. Кстати, и в разговорном языке нашем это представление живо: «такого-то съели» — говорят, конечно, о человеке, потерявшем должность, другими словами, функциональный Кронос живет в каждом из нас.
Далее, уже древние философы представляли Кроноса как аллегорию всепожирающего времени, и главный атрибут его — серп, которым он дал ход этому времени. Серп его — это материальная «бритва Оккама»: оскопив Урана, Кронос остановил появление новых сущностей, из-за которых утроба Геи могла бы взорваться, вернув мир в состояние хаоса. Но тут возникло новое противоречие: пожирая собственных детей, Кронос питался силой будущего, чтобы утолять свою похоть (или сохранять власть) в вечно длящемся настоящем. Золотой век для каждого владыки, который организует для себя вечность, собственно говоря, в этом и состоит, хотя для всех остальных уже «время прошло». Иначе говоря, «золотой век» — это миф о понимании времени как пожирании настоящим будущего или о попытке иметь бытие без становления.
Отсюда — вся мифология Зевса, который сумел перехитрить своего отца, запустив процедуру становления, от которой и сам когда-нибудь погибнет. Вся греческая мифология вышла из желудка Кроноса, и возможности ее отнюдь не исчерпаны. Для того чтобы одолеть питавшегося потомками Кроноса, Зевс сошелся с Метидой, и та подсказала ему, как вызвать у сына Урана и Геи вселенскую рвоту. Благодаря этому освободившиеся братья и сестры Зевса пришли ему на помощь, и в итоге одолели Кроноса. Но проклятие страха и желание «заесть» чужое будущее ради сохранения собственной власти распространялось и на Зевса, который впоследствии проглатывает Метиду, узнав, что та родит ему сына, который его свергнет. Стало быть, с биологической точки зрения, это еще и миф о наследственности, а дальше — всем известный рассказ о рождении девы Афины из головы Зевса.
Молот Гефеста, разбивший голову Зевса, чтобы выпустить оттуда Афину, и серп Кроноса, которым был оскоплен Уран, благодаря чему появилась на свет Афродита, — это и всеобщие символы созидательной деятельности, подпорченные позднейшими политическими пертурбациями, но все еще заслуживающие размышления.
Здесь мы вступаем в следующую важную область алчности, чревоугодия как творческой деятельности. Когда мы охотно читаем, мы говорим, что «проглатываем» страницу за страницей. Мы «пожираем глазами» прекрасных. Даже смеясь над поэтическим бессильем Валерия Брюсова, мы не забудем его «несытых рук»3. За всем этим бытовым пониманием жажды обладания стоит миф о Кроносе. Страх лишиться того, что появилось благодаря тебе самому, — достаточно привычное и знакомое явление. Кронос живет и в Зевсе, и во всех остальных, и в нас. Тошнота, тоска от нежелания наступления будущего, также может послужить объяснением, почему Кронос ел своих детей.
Логика мифа
Почему человек стремится постичь тайну мироздания. — Как миф помогает объясняет ее. — Миф как способ выживания во времени.
Когда мы произносим миф и логос, сразу возникает вопрос, русские это слова или греческие? С одной стороны, конечно, они греческие, заимствованные. С другой стороны, в русском языке они, как теперь говорят, прописаны, и от них никуда нельзя деться: миф, мифология, логика, что-то логично, что-то нелогично. «В начале было Слово» по-гречески звучит «эн архе эн хо Логос». Логос — греческое слово, означающее «слово», и вместе с тем совершенно русское. То же можно сказать и про миф — он также означает «слово». Стало быть, встречаются три многозначности: многозначность греческих слов миф и логос, многозначность этих слов, уже заимствованных русским языком, и многозначность русского слова «слово», которое может означать и что-то безмерно серьезное, и что-то безмерно легковесное. Этот контраст особенно хорошо виден в диапазоне значений слова миф.
Говорят, что миф — это что-то волшебное, ненастоящее или то, что было так давно, что никто не помнит. Но вместе с тем миф, оказывается, обладает объясняющей силой. Вот мы знаем, что Сизиф толкает в гору камень, тот скатывается вниз, и мы понимаем, что это — солнце. А урожай собирают потому, что дождем, падающим с неба на землю, Уран совокупился с Геей, и та дала плоды. Это и неправда, и правда. Вот почему внутреннее противоречие, которое содержится в самом нашем понимании греческо-русского слова миф, нуждается в постоянно освежаемом анализе.
Например, миф — это представление о том, что дождь идет, потому что, как греки говорили, «Зеус хюэй» — Зевс писает. Так как Зевс — величайшее божество, его моча прозрачна, как дождевая вода. А, например, пионы, которые цветут в мае-июне в зависимости от климата, древние греки считали бровями Зевса. Мы понимаем, что так говорится не по-настоящему, понарошку. Или число 14, сакральное число Геры, божественной супруги Зевса, а Олимпийских богов —12. За этими числами ничего особенного не стоит, но это нечто сакральное, некий набор представлений, которые объясняют мир волшебным образом, взывая сначала к нашему воображению, а потом уже — к нашему соображению. И мы начинаем понимать, что всякое число таково. Математика — сакральная наука. Она обеспечивает познание некой беспримесной истины. Так вот, и само это представление вполне мифологично. Три русских слова — «шифр», «зеро» и «цифра» — происходят от одного арабского слова, обозначающего «нуль», или по-латыни — «никакой». Узнаете? Это же ответ Одиссея на вопрос Полифема, как твое имя? Никто, ответил Одиссей. Греческие и римские математики этого нашего нуля не знали, зато знали и развивали философию не-сущего. У них была словесная, описательная теория небытия и даже теория перехода из этого мира в мир иной. Мифологическое описание, например, рек подземного царства, океана, жизни на Островах Блаженных, — тоже сакрализация математических интуиций, оставшаяся с человечеством и после того, как оно узнало о существовании отрицательных чисел и других математических чудесах. Даже 12 подвигов Геракла можно понять и описать так, чтобы люди увидели самую строгую и обыкновенную математику сквозь философию числа, а исчисление и его методы поняли как нечто чудесное.
Например, мы все понимаем, что наука доказала: Зевса нет, а дождь идет из туч, то есть имеют место некие физические явления. И вместе с тем, по какой-то не совсем понятной причине, у всех народов сохраняется представление о таком вот «праповествовании» о мире, и его следы и опорные точки до сих пор живут в нас. Мы даже не отказываемся в языке от неправильных описаний мироздания. Мы говорим, например, что солнце встает и садится, хотя никто не сомневается, что это земля наша летит вокруг солнца. Это значит, что человек предпочитает жить в мире с далеким историческим прошлым своего языка и, отчасти, своих представлений. Мало того, человек даже вполне исторические события с удовольствием мифологизирует, или объясняет эти события как чудо, или, если они ему не нравятся, готов объявить их никогда не существовавшими, и тогда сама эта ложь превращается в опасный миф.
Например, мы имеем представление о семье, где есть глава, который может ассоциироваться с Зевсом, или с кем-то другим. У нас есть представление о бунте младшего поколения против старшего, и греческая мифология демонстрирует страшные примеры этой вечной войны, где отец пожирает своих детей, и тогда сын убивает его. И мы понимаем, что в этом мифическом объяснении содержится какое-то зерно, которое не сводится к волшебству и иносказанию, а выражает самую сердцевину загадочности мира, в котором мы живем. «Отцы и дети» И. С. Тургенева, разговоры о «революциях, которые пожирают своих детей», — за всем этим миф не столько о семье, сколько о власти. В этом мифе о владыке, который всю свою жизнь боится, что его свергнет кто-то из сыновей, коренится постоянно возобновляемый урок, о котором незадолго до расцвета тоталитаризма в Европе говорил Альберт Эйнштейн.
Например, в некоторых диалогах Платона слово «миф» употребляется не просто в значении «слово, повествование», а в значении «закон, на основании которого дела обстоят так-то и так-то». Иными словами, миф — это ложное, волшебное, фантастическое описание действительности, и ее происхождения, за которым у всех нас существует некоторое зернышко — как та горошина, на которой ворочается принцесса, — в котором содержится некая пранаука, объясняющая все мироздание в целом. Она может быть фантастичной или описываемой каким-то слишком простым и даже топорным языком, но она постулируется как необходимая, как условная точка отсчета. Поэтому Платон и называет «мифологией» законотворческую деятельность: ведь законодатель заинтересован в законе, которого все боятся и которому все подчиняются. А это возможно только с законами, освященными абсолютным авторитетом.
Например, нам часто говорят, что миф это совсем не то, что логос. Миф представляет собой всеобщее, универсальное описание происхождения Вселенной, которое понятно и ребенку, и взрослому, и умному, и глупому, и ученому, и неученому: есть какое-то верховное божество, которое мы можем отождествлять, например, с солнцем или с громом и молнией. Как не обожествить явление природы? Как не посмотреть на природу как на невероятное чудо?
Эйнштейн говорит об этом так (пер. Ю. Шейнкера): «Тайны природы для нас — это источники наиболее прекрасных переживаний. Это фундаментальные эмоции, которые стоят у колыбели истинного искусства и истинной науки. Кто этого не знает, кто потерял способность удивляться и изумляться — все равно что мертвец и глаза его тусклы. Ведь переживания таинственного — даже если смешаны со страхом — породили религию. Знание того, что существует нечто непроницаемое для постижения, наше восприятие глубочайших причин и самой лучистой красоты, которые лишь в самой примитивной форме постигаются нашим разумом — именно это знание образует истинную религию. В этом и только в этом смысле я являюсь глубоко религиозным человеком. Я не могу мыслить о боге, который награждает и наказывает свои творения. Я также не могу и не хочу мыслить об индивидууме, который переживает свою физическую смерть. Пусть слабые души из страха или абсурдного эгоизма лелеют такие мысли. Мне достаточно проблесков в познании чудесной структуры мироздания, познания частицы, пусть всегда крошечной, Великой Причины, обнаруживающей себя в Природе».
Итак, нам предлагают начать различать, расплетать, а это область логоса. Это — тоже речь, разговор, который разбирает устройство, структуру. И этот разговор ведется по строгим правилам, которые называются логикой. Мы говорим, что есть два типа реальности: загадки и тайны. Загадка создана для того, чтобы мы ее разгадывали, а тайна не может быть разгадана. Прикладная наука занимается загадками, а фундаментальная наука занимается тайнами. Покажите мне человека, который постиг тайну мироздания — его нет. Но мы хотим быть к ней приобщенными. И мы приобщаемся к ней через миф, всем нам понятное универсальное повествование, хотя мы условились, что это универсальное повествование не совсем реально. Оно волшебное, в нем много фантазии, но мы решили, что принимаем это как рамочные условия взгляда на мир как на живое существо. Вот почему философы ходят в обоих направления — то от мифа к логосу, то от логоса к мифу. И в зависимости от направления движения они видят разные вещи.
Например, мир вещей, неужели и в нем есть что-то мифичное? Мы с вами живые люди, и поэтому мир вещей для нас тоже живой: не только деревья, но и камни живые. Прошлое пропало, и мы логически понимаем, что его не восстановить. Если у кого-то ушли родные, ушли учителя, мы знаем, что их нет. Они не вернутся. Но они — с нами, и это наш личный миф. Наше личное повествование о своей судьбе — это тоже миф. Старые люди имели своих бабушек и дедушек, и когда в семье живут старики, они все время вспоминают историю из их жизни. Эти истории обрастают какими-то новыми подробностями. То, что рассказывает бабушка, совсем не обязательно правда, но ее история в жизни нескольких поколений одной семьи становится семейным мифом, объяснением, почему в этой семье происходит что-то: потому что бабушка рассказывала, что ее дедушка сделал то-то и то-то. И поэтому какая-нибудь семейная безделушка, иногда — пучок сухой травы, становится для человека вещью, разглядывая которую, он передает семейный миф дальше.
Следовательно, миф — это не только универсальное и общее, но еще и частное. Это то, что присуще каждому человеку с его личной биографией, которая растянута между прошлым и будущим. С этой точки зрения, миф — это способ выживания во времени. Если бы он не сворачивал, не подчинял себе потоки времени, то мы бы жили страшно нервозно, все время боялись бы ежесекундного исчезновения текущего момента. Будущего еще нет, прошлого уже нет, а настоящее время постоянно пропадает. Мы бы не знали, на что опереться. Мы опираемся на представление о вечности, а представление о вечности целиком мифично.
Древнегреческий миф и язык
Понимание языка через миф. — Как миф знает то, чего сам человек не знает?
Когда мы говорим «греческий миф и язык», мы должны делать скидку на то, что мы говорим не о греческом мифе и греческом языке, а мы говорим о греческом мифе и о любом другом языке, который пользуется греческим словом «миф». В данном случае мы говорим о мифе и о русском языке, вообще о всяком европейском языке.
Первым делом всякий нам скажет: «Это вообще тавтология, потому что миф — это и есть язык: слово, повествование, речь». Конечно, есть и другие обозначения для языка. Но где здесь проблема? А проблема есть. Не только потому, что «проблема» — это тоже греческое слово со своим значением, но и потому, что миф — это не просто язык, а язык, который впервые сам о себе задумался. Это тот язык или та речь людей о своем языке, которая задает вопрос: откуда я пришел? Откуда я, этот язык? Как я родился? Где мое рождение случилось? Зачем я здесь нахожусь? Что я такое? Как я могу себя описать, нарисовать? Иначе говоря, язык понимается здесь не просто инструментально, как некий набор знаков, некая знаковая система, которой мы пользуемся, для того чтобы что-то выражать. Нет. Первое и самое существенное — это повествование, изнутри которого появляется вопрос о его собственной сущности: почему он такой или почему я такой?
Фундаментальная трудность языка, если рассматривать его на фоне мифа, — это осознание того, что язык — единственный предмет, который изучается с помощью самого этого предмета. Когда вы занимаетесь анализом, например, каких-то данных в естественных науках, у вас есть инструменты, и эти инструменты не тождественны объекту, который они исследуют. А в нашем случае для понимания языка нет никаких других инструментов, кроме самого языка. И миф есть первичная сущность, которая рассказывает о себе с помощью повествования, она рассказывает истории.
«История» — это тоже греческое слово, но в данном случае мы говорим об историях (мифах), которые случились однажды и все время повторяются. Миф — это то, что живет с каждым человеком в его привычном рассказе — рассказе в том числе и о себе. Даже когда мы говорим о событиях совсем недавних, но прошедших, в этом смысле соединившихся в прошлом с преданиями, с мифами «старины глубокой», со сказками, со всем тем, что покрывается словом «миф», мы говорим: «Это стало мифом».
Например, улица Арбат в Москве, по которой когда-то ходил 39-й троллейбус, которая шла от Смоленской площади к Арбатской площади, и по которой проезжал на своей машине Сталин. И когда он проезжал, прохожих останавливали какие-то топтуны и поворачивали лицом к стене. Это предание — что оно такое? Когда мы сегодня идем по Арбату и видим фотографии того времени, оно, конечно, является мифом этой улицы. И эта улица, люди, которые по ней снуют, живут с этим воспоминанием. Где оно существует? Да нигде! Только в памяти этих людей и тех, кому эти люди свою память как знание передадут.
Когда мы говорим о человеке, обманувшем самого Зевса или саму смерть, о Сизифе: за Сизифом был послан Танатос, божество смерти, и он должен был отвести Сизифа в подземное царство, но Сизиф оказался крепче, связал Танатоса, и в течение некоторого времени смерть прекратила свое хождение среди людей. Люди перестали умирать, а раз люди перестали умирать, значит, перестали приносить умилостивительные жертвы богам. И боги взмолились богу войны Аресу, чтобы тот прекратил это безобразие со стороны Сизифа и отпустил Танатоса. Сизиф отпустил Танатоса, после чего люди снова начали умирать.
Что это за миф? Это миф об одном из самых важных слов, которые люди употребляют, — о слове «смерть». Что такое смерть? Видел ли ее кто-то когда-то? Нет. Она приходит совершенно незаметно. Что происходит с человеком — наш язык не знает, но он описывает это как «смерть», т.е. знает смерть, не зная смерти.
Мифы о смерти, мифы об умирании страшно разнообразны. Наш язык, повторяя, заставляя нас рассказывать об этом, говорит нам что-то, чего мы сами не знаем — только он знает. Знание об этом присуще каждому из нас, только когда нас нет на свете. Это знание, которое мы получим, когда исчезнем, когда мы перестанем существовать. И язык, который знает это, требует от нас почтения, уважения и по возможности молчания об этом крайне неприятном предмете. То, что я сейчас заговорил об этом, — это нарушение некоторых правил. Но нарушение какое? Нарушение, сделанное в интересах науки, потому что мы должны понять, как же язык связан с мифом. А связан он именно так: миф важнейшее свойство, которое присуще языку, прячет от человека, говорит: «Это ты узнаешь только потом, это будет отложено в какое-то неизвестное тебе будущее».
Еще одно очень существенное свойство языка, которое невозможно понять без обращения к мифу, — это так называемая структура языка, строение языка. Почему для обозначения каких-то сущностей в разных языках есть разные грамматические категории? Что это такое и как объясняется? Ведь люди устроены одинаково, у каждого есть, например, печень, глаза или нос, но при этом в некоторых языках есть неопределенная форма глагола, инфинитив, а в других языках ее нет. В некоторых языках есть, например, артикль, а в других языках — нет.
Почему языки устроены так по-разному? Для этого греческий миф тоже предлагает нам множество историй. Через повествование раскрывается некое структурное свойство языка, которое в действительности, с точки зрения науки лингвистики, ничего не объясняет. Это, можно даже сказать, «какие-то сказочки». Но на простой вопрос, почему в одном языке есть такая-то категория, а в другом языке ее нет или она компенсируется какой-то другой, сама лингвистика ответить не может, и за этим она обращается к мифу.
И, наконец, последнее, в чем продолжает жить миф в языке — об этом хорошо написал еще до Первой мировой войны Виктор Шкловский в своем трактате: «Наш язык — это кладбище метафор, а всякая метафора в конечном счете восходит к некоему мифу». Можно, конечно, смотреть на язык как на кладбище поэтических метафор. Да, миф — это все то, что мы прячем под представлением об этимологии, происхождении слов, происхождении формы, происхождении буквы, которую греки приписывали тому или иному божеству, тому или иному герою. Откуда это взялось? Откуда начало? Как получилось, что язык сразу возник в таком невероятном богатстве своих форм? На этот вопрос человек без мифа ответить не может.
Миф и архитектура
Какие мифические комплексы лежат в основе представлений об античной архитектуре. — Как в зданиях и кораблях проявляется изоморфность человеческому телу. — Для чего в римские храмы и гробницы встраивали «глаза»
Когда мы говорим о древнегреческом мифе и архитектуре, мы имеем в виду две вещи, которые на первый взгляд очень далеки друг от друга. Под этими двумя вещами подразумеваются не слова «миф» и «архитектура», а две сущности, очень непохожие и вместе с тем соединенные в один прочный узел.
Первая сущность — это устройство мифа, предания, того, что мы иногда называем мифологическими сюжетами. В качестве мифологических сюжетов можно использовать любой свод этих преданий, их изложение или хотя бы один фрагмент, например, несколько эпизодов Троянской войны, даже не конца Троянской войны, а несколько важных узловых эпизодов, как в гомеровской «Илиаде». Также можно рассмотреть более развернутое описание того, что произошло после Троянской войны, скажем, в греческой трагедии или в «Одиссее» того же Гомера. Объединяет их то, что в процессе их изучения становится ясно, что у всех этих произведений, очень разных, есть определенная архитектура, они должны быть каким-то образом выстроены, для того чтобы передать мифическое содержание, сделать возможным это повествование. Причем они должны быть выстроены так, чтобы каждый, кто слушает, воспринимал даже небольшое произведение, представляя себе все целиком. Это должно быть не представление произведения как просто отдельно висящего объекта, а как единую систему, части которой становятся подобными двери, окну, порогу или карнизу какого-то большого здания.
Таким является представление о мифе как о сложной, многообразной конструкции, как о городе, в котором есть разные строения, в которых по-разному можно говорить об одном и том же сюжете. Это и есть первое очень важное измерение темы «Миф и архитектура». Однако сейчас не об этом, потому что достаточно просто наметить этот сюжет.
Речь пойдет о том, что внутри самой архитектуры как специальной науки, техники, способа строить что-то, как вида деятельности живет старый греческий миф. Первое измерение, о котором мы говорим, касается, на первый взгляд, внутреннего устройства самого мифологического гипертекста, который был более или менее известен во всей своей вариативности всем грекам.
Тем не менее, есть еще одно свойство, еще одно измерение греческого мифа, которое на самом деле определяет физиономию архитектуры как вида деятельности. Оно объясняет нам, почему, согласно Витрувию, архитектором может быть только человек, который одновременно является специалистом, не только по статике, механике, не только умеет что-то вычислять, но и специалистом по мифологии, истории, литературе. Архитектор должен все это знать.
Почему? Потому что в основе представлений о строительстве, об архитектуре лежат некие мифические комплексы, которые сопровождают не только древних греков. Комплексы не эти сопровождали на самой ранней стадии существования эту восточно-средиземноморскую цивилизацию, но и сейчас они определяют дух профессии архитектора. Это представления о том, что строение, здание в той или иной степени либо воспроизводит действие Демиурга, величайшего ремесленника, который создает этот мир, либо позволяет человеку двигаться в этом мире и добиваться внутри этого большого и страшного мира чего-то, что он хочет добиться. По этой причине всякое строение изоморфно человеческому телу, изоморфно человеку, но человеку, понимаемому мифически.
Можно привести несколько примеров. Мифы о строительстве, известные нам, — это, прежде всего, лабиринт, строительством которого занимался гениальный архитектор Дедал. Он был не только архитектором, он был механиком, сооружал машины. Например, он соорудил первого робота Талоса, которого иногда называют племянником Дедала. Однако этот племянник был сделан из меди и ходил по периметру острова Крит, вылавливая и убивая пиратов, которые там пытались высадиться. Этот робот, этот механический человек был творением Дедала. Дедал сделал не только корову для Пасифаи, но и построил Лабиринт, самое знаменитое архитектурное сооружение, самый знаменитый дворцовый комплекс, отовсюду закрытый, тайный.
Представление об архитектуре как о тайном и таинственном знании укоренено, таким образом, в греческом мифе.
Однако есть и другое строительство, другие архитектурные сооружения, которые мы, ошибаясь, не мыслим, как архитектурные. Таким сооружениями мог большой корабль, который отправляется в плавание. Взять, например, «Арго» — этот корабль тоже представляет собой архитектурное сооружение, он тоже, так или иначе, изоморфен человеку и своей команде.
Существуют греческих слова, которые всем известны. Одно из таких слов — это «бабка», или «пята», она же ахиллесова пята, косточка на ноге, уязвимое место Ахилла. За эту косточку держала его Фетида, когда обжигала младенца, чтобы сделать его неуязвимым, и эта единственная косточка осталась уязвимой. Почему она уязвима? Нам объяснят, что у греческих воинов, которые сражаются почти босиком, это слабое место: попадает туда копье или камень, и боец становится беспомощным и гибнет.
Называется эта штука астрагал. И с этими астрагалами, с этими бабками происходит удивительное превращение — в них играют как в кости, слово «альчики» происходит отсюда.
В XXIII песни «Илиады» тень Патрокла говорит Ахиллесу:
«Кости мои, Ахиллес, да не будут розно с твоими;
Вместе пусть лягут, как вместе от юности мы возрастали
В ваших чертогах. Младого меня из Опунта Менетий
В дом ваш привел, по причине печального смертоубийства,
В день злополучный, когда, маломысленный, я ненарочно
Амфидамасова сына убил, за лодыги поссорясь.
В дом свой приняв благосклонно меня, твой отец благородный
Нежно с тобой воспитал и твоим товарищем назвал.
Пусть же и кости наши гробница одна сокрывает,
Урна златая, Фетиды матери дар драгоценный!»4
«За лодыги поссорясь» у другого переводчика звучит как «раздражася за козон». Что это за «лодыги», что за «козон». Это и есть астрагал, который находится чуть выше стопы, это соединяющая косточка между голенью и стопой. Она была очень важна и для Дедала, когда он делал Талоса. Бедного Талоса тоже убили, потому что выбили эту косточку, соединяющую непосредственно стопу и голень.
Подвергнутый Фетидой божественному обжигу, Ахиллес лишился во время этой процедуры астрагала. И тогда кентавр Хирон, будущий воспитатель Ахиллеса, пошел на могилу гиганта Дамиса в Паллене, а это был самый быстроногий из гигантов, вырезал у него из ноги лодыжку и вставил ее Ахиллесу на место выгоревшей. Впоследствии гибель сына Фетиды и была вызвана тем, что этот протез выпал (Ptolem. Chen. Nov. hist. 6). Являясь анатомическим символом загробного царства, астрагал оказался в центре целого пучка мотивов, о которых сейчас нужно сказать, чтобы было понятнее и их архитектурно-мифологическое содержание. В позднем мифологическом трактате Фульгенция (конец 5 — начало 6 в.) говорится, в частности: «По разумению язычников, отдельные части человеческого тела находятся под покровительством своих богов: голова — Юпитера, глаза — Минервы, руки — Юноны, грудь — Нептуна, крестец принадлежит Марсу, чресла и ложесна — Венере, ноги — Меркурию, как писал Дромокрит в «Фисиологуменах», вот и Гомер говорит
Зевсу, метателю грома, главой и очами подобный, Станом — Арею великому, персями — Энносигею5.
И Тибериан в «Прометее» говорит, что боги наделили человека своими членами. Наконец, Ахилла, рожденного человеком, мать усовершенствовала, окуная его в Стигийские воды, (…) только лодыжку его (talus) не окунула, чем и обозначила ее естество: ведь жилы, находящиеся в лодыжке, простираются до бедер и чресел вплоть до мужской силы, а другие жилы тянутся оттуда к большому пальцу. И фисики, пользующие женщин, для удержания плода делают кровопускание в этом самом месте; и возбуждающую примочку, которую иатрософист Африкан назвал stisidem, он предписывал прикладывать к большому пальцу и лодыжке. Вот и Орфей указывает, что лодыжка — это главное место, относящееся к похоти (principalem libidinis locum). Наконец, и при грыже приэигания следует делать именно в этих местах. Ахилл, стало быть, показывает [т.е. миф об Ахилле следует понимать в том смысле — Г. Ч. Г.], что доблесть человеческая, пусть она защищена отовсюду, все же никак не может сопротивляться натиску похоти». Ввиду того, что похоть и все ее атрибуты — это для средневекового мифографа-христианина посюстороннее воплощение Ада (ср. отсутствие Плутона в списке членодарителей человека), мы лучше поймем этот мотив в контексте игр, созданных на основе астрагала, как части культового комплекса Деметры-Коры-Плутона, с одной стороны, и в параллель итифаллическому культу Диониса, с другой стороны (миф о Дионисе и Прозимне (Полимне).
Ахилл и Аякс играют в нарды
Игры эти — бабки, кости и нарды. Именно за игрой в бабки (астрагал) с сыном Амфидаманта Клитонимом Патрокл убил своего соперника, после чего вместе с отцом бежал к Пелею, где и сошелся с Ахиллесом. Предание об изобретении игры в астрагал лидийцами указывает на то, что, во-первых, поводом к изобретению послужил смертельный голод, вызванный неурожаем, и, во-вторых, что сама игра проходила как жеребьевка на «тех, кто остается» (лидийцы), и «тех, кто уходит на новое место» (этруски); с игрой в бабки, придуманной лидийцами, тесно связана игра в кости (cybos), являющаяся усовершенствованным вариантом игры в астрагал: по Геродоту, преемник Протея Рампсинит играл в Аиде в кости с Деметрой (египетской Исидой); наконец, возвращаясь к Ахиллесу, напомню хрестоматийный сюжет греческой вазописи: «игра в шашки (точнее, в нарды: ведь используются и шашки, и кости) Ахиллеса и Аякса».
Прежде чем показать, какую роль играет астрагал в конструкции колонны, я должен сказать несколько слов о первом человекообразном роботе — Талосе, которого изготовил для Миноса Гефест, а погубила Медея, ставшая, кстати, в загробном царстве супругой Ахиллеса. Колхидская колдунья опоила Талоса и вынула из его ноги лодыжку-пробку, после чего из медного гиганта вытек ихор — кровь богов, которой тот был заправлен. Отсюда и латинское слова для астрагала — talus. Так звали и афинского двойника, племянника Дедала, который изобрел пилу и первым научился делать из ствола брус (Apld. III 15 9). На связь мифологии Талоса и Ахиллеса, а вместе с тем и принадлежность мотива астрагала к погребальному культу, указывает статья «Сардонический смех» в словаре Суды, где, в частности, говорится, что «карфагенцы во время богослужений помещали ребенка в руки медной статуи Кроноса, протянутые над очагом, а искаженный рот поджариваемого казался им выражением смеха. Симонид же утверждает, что изготовленный Гефестом Талос, прыгая в костер, убивал сардинцев, не желавших подчиниться Миносу; он прижимал их к груди и заставлял осклабиться».
А вот теперь можно перейти и к колонне, прообразом которой и было у греков и римлян человеческое тело. Что собой представляет колонна греческого храма? Мы читаем у Витрувия, что колонна — это метафора человеческой фигуры. И ее прочность, способность стоять, держать на себе огромную тяжесть определяется прочностью промежуточной прослойки между базой, на которой стоит колонна, и самой колонной. И это место называется астрагалом.
Еще один астрагал упоминается в греческом мифе, когда Эльпенор упал с мачты корабля, на котором он плыл, и сломал позвонок. Он сломал седьмой позвонок, называемый по-гречески тем же словом «астрагал». Это наиболее уязвимая косточка. Когда говорят «сломал себе шею» — это значит, что человек сломал седьмой позвонок. Именно словом «астрагал» греческие и римские архитекторы называли тонкую часть колонны, которая находится между капителью колонны и самой колонной. От прочности этого узла, от точности, с которой капитель кладется на барабан колонны, зависит устойчивость всего здания, так же как прочность тела человека, падающего с мачты, зависит от этой косточки.
Мы понимаем, что архитектор, который возводит колонну, философствует о своей колонне, думает, почему она такая, а не другая, и опирается в своем представлении на древние мифы. Архитектор представляет, что человеческое тело и здание, в котором этому человеческому телу предстоит действовать, изоморфны друг другу.
Если мы пойдем немного дальше, то зададимся вопросом, чем является сама капитель колонны. Коринфская колонна, например, самая изящная из всех колонн. Витрувий, описывая ее, говорит, что в Коринфе жил замечательный архитектор, который увидел надгробие девушки. Кормилица этой безвременно почившей девушки сложила в корзину ее любимые игрушки и поставила на надгробие, а из-под земли вырос прекрасный цветок аканф. Этот аканф пророс в корзинку и представлял собой удивительное зрелище, которое понравилось архитектору, и он на основе этого увиденного предмета создал капитель. Таким образом, на примере одной только колонны как части храмового сооружения мы видим, что человек, с одной стороны, изоморфен этой колонне. Она построена как человеческое тело. Верхняя ее часть называется капителью, что происходит от слова caput («голова»). Что касается других ее важнейших звеньев, то они названы теми же словами, которыми греки описывают наш скелет.
Также есть еще одно измерение, и это измерение касается представления о целом здании как о мембране между миром человека, горожан, семьи, рода и всей Вселенной. Это, как мы понимаем, очень древнее представление об изоморфности тела и постройки было необыкновенно развито впоследствии римскими архитекторами. Когда мы смотрим на Пантеон в Риме или когда мы видим гробницу булочника Эврисака в Риме, мы обращаем внимание на круглые окна-глазницы. Они называются oculus, что переводится как «глаз». Когда мы читаем описание этого важного архитектурного элемента у Витрувия, мы понимаем, что сквозь окна в куполе Пантеона на нас сверху смотрит божество, а сквозь множество слепых глазниц на надгробии Эврисака на нас с того света смотрит сам Эврисак.
Мы рассмотрели только три элемента человеческого тела: стопу, седьмой шейный позвонок и глаз. Однако этого достаточно для понимания того, что любое архитектурное сооружение, особенно большое и сложное, обязательно имеет в своей основе кроме непосредственного физического еще и ментальный мифический план.
Память в архитектурной теории Витрувия
Что было прообразом Витрувианского человека. — Кто такая Мнемозина. — Как Витрувий рекомендовал описывать окружающий мир.
Из пяти частей риторики самая трудная, хотя и самая очевидная четвертая часть — память. Что такое память для риторики — понятно, что такое память для всякого искусства вообще — тоже понятно. В греческой мифологии Мнемозина является богиней памяти. Она мать муз, прародительница всех творческих занятий человека: всех наук, всех искусств. Объясняется это тем, что беспамятный человек не может заниматься вообще ничем. Но что такое память в практическом смысле? Мы понимаем, что есть разные виды памяти, и процедурам запоминания и забывания посвящено множество исследований, этим занимаются естественные науки.
Но что такое память в риторике как в гуманитарной науке и как в прикладной науке? На этот вопрос лучше всего нам отвечает отец архитектурной теории Витрувий, который жил во времена Августа. Он посвятил свое замечательное произведение «Десять книг об архитектуре» императору и считал, что архитектура — это универсальное искусство, потому что человек, который хочет стать архитектором, должен овладеть хотя бы поверхностно всем кругом наук, которые в то время были доступны человечеству. Долгое время Витрувия не понимали, на какое-то время он был забыт.
Наступили времена, когда каждая строчка Витрувия вдруг стала иметь значение, и, наверное, самое знаменитое в истории мирового искусства графическое изображение — так называемый «Витрувианский человек» Леонардо. Это раскинувший руки человек, у которого был свой мифологический прообраз, причем совсем не такой веселый, как нам кажется. Этим прообразом был Иксион, привязанный к колесу за свои прегрешения. Однако этот «Витрувианский человек» означает и для Витрувия, и для Леонардо, и для всех поздних архитекторов и теоретиков, для строителей-практиков, и для Альберти, и для Брунеллески, для всех-всех он означает одно. Здесь есть некое ключевое существо, некое ключевое тело. Это человеческое тело, пропорции которого, то есть соотношение, например, стопы, руки, носа, головы, головы по отношению к остальному телу, ноги по отношению к остальному телу и так далее, — все эти пропорции представляют собой модель для пропорций всех наиболее значительных, наиболее важных архитектурных сооружений, которые с тех пор возникли. Огромное здание и целый город, состоящий из таких выстроенных зданий, соразмерны человеческому телу, это как бы человек.
Это является первым шагом, первым толчком к памяти. Витрувий, говоря о том, что необходимо знать архитектору в первую очередь, имел в виду, что архитектору при строительстве необходимо помнить то, о чем нельзя забыть. А как помнить? Недостаточно просто записать где-то, ведь надо держать это в голове. И, таким образом, слово «архитектура» для человека, который интересуется риторикой, значит то же самое, что оно значит на современном языке, например, на современном жаргоне программистов или на языке тех, кто строит электронно-вычислительную технику. Все то, что мы сейчас делаем, все то, что записывается, все то, что воспроизводится, вся та техника, которая при этом применяется, и все те программы, которые нужны для того, чтобы даже простейший звук записать, воспроизвести и увидеть, — у всего этого есть архитектура. И эта архитектура устроена таким образом, что программа помнит, с чего она начинала, какие у нее цели, и помнит каждый свой узел.
Витрувий задает один вопрос и подсказывает нам: а как сделать так, чтобы вся эта архитектура держалась у нас в памяти? Каким образом это сделать? Ведь это же нельзя запомнить механически, надо запомнить это в том высоком смысле, о котором говорит нам Мнемозина. Витрувий предлагает нам универсальную шпаргалку, а мы с вами помним, что шпаргалка — это старое греческое слово, которое означает испачканную пеленку. То есть такой листок, измаранный человеком, понимаемый только им, только этот человек в нем разбирается, ему достаточно на него на минуточку взглянуть, и он все вспоминает.
Витрувий говорит, что существует несколько форм, несколько способов записи и изображения того, что мы видим вокруг себя.
Первую запись Витрувий называет ихнографией или следописанием. Ихнография представляет собой, например, план местности или запись повествования о чем-то на листе бумаги. Другая форма, другой способ записи, более сложный. Витрувий называет его греческим словом «ортография», то есть прямописание. Это не то же самое, что мы называем орфографией, хотя слово, омоним. Ортография — это изображение фасада здания. Итак, мы нарисовали некую схему местности, план движения от одной точки к другой точке, конспект прочитанной нами книги или какой-то рисунок, по которому можем восстановить то, что мы прочитали. Теперь же мы должны суметь нарисовать фасад, то есть представить интересующий нас предмет в виде изображения, например, здания, его фасада, в котором мы видим вход, окна, крышу, может быть, изображения труб. Мы видим то, что должно отпечататься в нашем сознании, и этот отпечаток будет нами не просто выучен, а именно отложен на внутренней сетчатке нашего знания.
Также существует третья форма записи. Витрувий называет ее сценографией, или скенографией. Сценография — это объемное изображение того, что скрывается за фасадом, это представление нашего здания как помещения, в котором есть множество комнат. Это немножко напоминает то, что было у Булгакова в «Театральном романе», когда он описывает первые движения драматурга: снимается крыша, и в аксонометрической проекции он видит то, что там происходит, как там движутся люди и какие между ними возникают ситуации. Конечно, это самая сложная форма записи, сценографическая запись, но она совершенно необходима.
Первые шаги, первые навыки изготовления нашей шпаргалки Витрувий описывает как способность человека, которая вырабатывается, при прохождении этих трех ступеней. Человек, проходя эти ступени, приобретает определенные навыки. Дальше следует важнейшая ступень, которая сопровождает нас всю жизнь. Ступень эта называется «время». Ступень «время» означает, что все то, что мы узнаем, и все знания, которыми мы делимся с кем-то, расположены во времени. Поэтому, для того чтобы ихнография, ортография и скенография действительно были у нас в памяти, мы должны уметь воспроизвести их во времени. Поэтому мы должны создавать для своей шпаргалки синхронистическую таблицу, мы должны писать, что было до и что было после.
Наконец, возможно самое простое, но и самое интересное, то, что делает человека человеком, и то, что делает знающего действительно знающим, — нам нужны лица. Все то, что было упомянуто выше, является совершенно безжизненными событиями, фактами, какими-то группами явлений. Все это мы можем описать более или менее разумно, но за всем этим стоят люди. Они действовали или действуют в этом ландшафте. Их портреты могут висеть на фасаде, нами изображенном, и они, конечно, действуют в условиях сцены в этом объеме, прячущемся за зданием. Легко увидеть, что, какой бы предмет мы с вами ни взяли — от истории философии, например, до статистики, — любой предмет содержит в себе элементы, которые можно воспроизвести, например, на бумаге. Во-первых, его можно воспроизвести во всех трех режимах: в режиме ихнографическом, ортографическом и сценографическом. Для любого предмета можно представить его историю в виде портретов. Эти портреты будут некими аватарками людей, которые внесли свой вклад в развитие этой науки. Тогда эти портреты будут историей науки. Они тоже будут привязаны к хронологической или синхронистической таблице: люди, изображенные на них, могли быть современниками, или один жил через сто лет после другого.
И вот, человек, например, студент, готовящийся к экзамену, или преподаватель, который готовится к лекции, упаковывает свой материал в такое витрувианское пространство. Через очень короткое время он обнаруживает, что ему больше не нужны ни эта ихнография, ни эта ортография, ни сценография, потому что все уложилось в его памяти как повествование о событиях, и эти события становятся частью его собственной жизни, его собственной биографии. Таким образом, память для оратора — это механизм, работа которого строится по архитектурным правилам. Для того чтобы этот механизм жил, оратор должен разрешить своему слушателю войти в его пространства. Оратор должен их раскрыть. Он не должен ничего придумывать, а должен только рассказать, как эти пространства создаются.
Таким образом, мы понимаем, почему Витрувий и его теория архитектуры являются еще и риторической теорией, и каким образом это связано с механизмом работы нашей памяти. Память — это не то, что механически затвержено и потом будет воспроизведено в той же форме, в какой мы его затвердили, а совсем наоборот. Память, по Витрувию, — это то, что для оратора работает каждый раз здесь и сейчас по-новому в зависимости от тех людей, которые слушают это, в зависимости от того, в каком настроении и в каком состоянии находится сам говорящий. Его задача — просто ввести в это пространство, которое представляет собой архитектурное пространство, ввести туда и себя самого, и своего слушателя.
Древнегреческие мифы о душе
Как были созданы люди согласно древнегреческой мифологии. — Какими способностями душа наделяет человека. — Прометей. Почему он был наказан за кражу огня у богов. — Душа и тело. — Почему человеку необходима душа.
Когда мы говорим о том, что такое «душа» в древнегреческой мифологии, мы прежде всего подразумеваем, что она сама по себе и является душою греческой мифологии. Она является причиной, по которой возможно о чем-то говорить. И обозначается душа не только греческим словом «психея», ψυχή, но и другими словами, точно такими же, какими пользуемся мы, когда говорим о ней. Мы говорим о сердце («в своем сердце…»), мы пользуемся несколькими именами для описания души. Вместе с тем мы никогда ее не видим, хотя знаем, что в мифах разных народов — древних греков тоже — душа улетает, покидает тело. И эта первая антитеза — душа и тело — это то, с чего начинается мифология души.
Согласно греческому мифу, боги существовали до человека. А душа появляется только с появлением человека. Это прежде всего человеческая душа, душа человека. И появляется она потому, что без нее у богов не получалось создать людей. Мы читаем об этом у разных авторов — от Гесиода до Платона. В диалоге Платона «Протагор», главные герои которого Сократ и Протагор, обсуждают, как вообще понимать главное в человеке, и Протагор рассказывает о происхождении души. Он говорит, что в создании человека принимали участие два персонажа. Титаны, то есть представители старшего поколения богов, сыновья Иапета, дядья Зевса. Они уже подчинены Зевсу и выполняют его приказы. И им было дано поручение — создать человека.
После чего Эпиметей — в переводе с греческого его имя означает «крепкий задним умом» — решил распределить разные свойства среди всех живых существ, не только среди людей. Позже их вылепили из глины, обожгли, и они как горшки пустые стояли, а когда начинали действовать — разбивались, враждовали друг с другом, не знали, как вести себя. Эпиметей решил всех наделить свойствами. Но он так увлекся, распределяя эти свойства среди разных животных — кому-то дал шерсть, чтобы это животное не мерзло, какому-то дал способность плавать в воде, — и разделил всех таким образом, что пищевая цепочка, о которой мы знаем, была достаточно гармоничная, и только одно существо он не наделил ничем. Это существо — человек.
Когда пришел Прометей, он увидел, что наделал его брат Эпиметей. Прометей понял, что нельзя обойтись без одной недоступной ему божественной сущности, потому что она находилась в руках у сына Зевса и Геры Гефеста, который был величайшим мастером и относился к богам. Этой сущностью был огонь.
Огонь, который украл Прометей у богов для человека, на самом деле и есть та субстанция, благодаря которой люди могут взаимодействовать. Обожгли эти тела, такие как наши, поместили туда то, что мы называем огнем, со всех сторон запаяли, чтоб ниоткуда не вытекала эта «душа». Две линзы только сделали. И человек, заглянувший в глаза другого человека или животного, видит там подобную своей душу. Это некий общий котел, который существует где-то на небесах, которым пользуется Гефест, чтобы что-то создать. Боги пользуются этим огнем, и, главное, они умеют пользоваться этим тонким пламенем. Вот и люди оказались им наделены…
Боги возмутились поведением Прометея. Увидели, что человек наделен чем-то, чем он не умеет как следует пользоваться. Он узнает другого и благодаря этому узнаванию понимает, что другой такой же, как я. Но свою собственную сущность понять, познать никак не может. Благодаря наличию этого огня, этой огненной субстанции души человек может пожелать что-то, что ему не присуще, например, бессмертие, как у богов, а этого ему не положено.
Тогда боги создают первую женщину — Пандору, которая в своем ларце держала все возможные болезни, страхи, несчастья. Боги запретили ей открывать этот ларец, но она все-таки воспротивилась. Ее как первое экспериментальное существо взял в жены крепкий задним умом Эпиметей, Пандора же — всеодаривающая. И она, как в свое время Эпиметей обманул Прометея, обманула Эпиметея, открыла этот ларец, и оттуда вылетели все несчастья, охватив человека.
Душа же осталась единственной сущностью, которая могла помочь людям этим напастям противостоять — и каждому отдельному человеку, и всем вместе. Как — это уже другой вопрос, но первый и основной источник понимания, что эта огненная сущность — единственное, что держит человека и позволяет ему сохранять в себе божественное, — это понимание лежало в основе греческого мифа о душе. Хотя увидеть ее так же невозможно, как в макрокосме посмотреть раскрытыми глазами на Солнце.
Можно сказать, что душа внутри человека — это то же, что Солнце вне его.
Здесь возникает проблема, о которой часто вообще не хотят задумываться. Эта проблема соотношения души и тела. Мы знаем о телесной выраженности греческой культуры, что через тело, через воплощение любой абстрактной, отвлеченной идеи в мифе, в предании и выражает себя эта культура. Но вместе с тем, особенно учитывая, например, христианскую традицию, мы говорим о предпочтении душе, которое отдается перед телом, потому что душа, в отличии от тела, бессмертна. Душа — это то, что делает человека человеком в высшем смысле этого слова. Это, в частности, прекрасно выражено в русской поэзии. Вот замечательное четверостишие Владислава Ходасевича:
Пробочка над крепким йодом, Как ты скоро перетлела, Так вот и душа незримо Жжет и разъедает тело6.Душа здесь — та самая огненная, едкая, разъедающая сила, которая сама по себе бессмертна. И она, покинув тело этого человека, очищаясь, погружается в Солнце, в общий мир, где находятся и другие души. Однако при этом человек исчезает навсегда, «Я» уходит. Отсюда очень развитая в греческом мифе тема диалога, собеседования человека с собственной душой, «Я» с самим собой. Это может быть «Я» Одиссея, разговаривающего со своим сердцем, которое на гомеровском языке тоже является душой. Это может быть «Я» Прометея, который проклинал свой подвиг, свое дарование души человеку, когда Зевс приковал его к Кавказу, к горе в краю скифов, и где каждый день его печень клевал орел и она отрастала снова.
А что такое печень? Печень — это железа, которая порождает мембрану, внутри которой и живет, по-видимому, душа. Но где она на самом деле живет, где она находится — в сердце, в печени, в голове, в какой части человеческого тела, — на этот вопрос греческая мифология нам ответа не дает, но не дает и психология.
Древнегреческие мифы об обществе
Почему в основе отношений между богами и людьми в древнегреческой мифологии лежит зависть. — Какое место в социальной жизни людей и богов занимает обман. — Как в древнегреческих мифах представлена семья.
В известном смысле фраза «мифология древнегреческого общества» является тавтологией, потому что мифология сама по себе и есть первая общественная дисциплина сознания и речи. Миф, в свою очередь — это предание, прежде всего, об отношениях богов и об отношениях богов и людей, богов как сообщества и людей как сообщества.
В основе этого отношения лежит представление о том, что у богов есть все: у них есть бессмертие, у них есть люди, которые поставляют им жертвоприношения, например, воскурения или возлияния, а то и просто преподносят богам жареное мясо, причем лучшие куски. У богов есть все. В их жилах течет не простая кровь, как у людей, а ихор — кровь божественная. Люди вынуждены поставлять богам дым от туков, которые сжигают. Однако мы знаем, что боги питаются амброзией и нектаром — это их пища и их питье. У них все не такое, как у людей, другое. Это, так сказать, закрытое сообщество, которое наслаждается бессмертием.
Тем не менее, есть у богов одно свойство, которое греки и называли завистью богов. Боги завидуют людям только одном отношении. Казалось бы, чему завидовать, ведь люди смертны? Однако люди обладают страстями, πάθη, то есть такой болью, которая может быстро превратиться в наслаждение, и таким наслаждением, которое не боится содержащейся в нем боли. Само понимание жизни как сущности, которая прерывается, составляет основу нашего существования. Боги этого не знают, они вечные, им скучно. Зависть как основа отношений между людьми и богами — это социальное явление. И это социальное явление описывает нам греческая мифология.
Другая сторона — это сам человек. В этом большом мире отношения между людьми и богами или между самими богами иногда представлены комически, карикатурно, что и является социальностью в сознании древнего человека. Мы не должны забывать, что и внутри каждого человека происходит социальная жизнь. Почему внутри каждого? Потому что каждый существует отдельно как отдельное живое существо, но это живое существо еще и социально. Люди собираются в группы на празднества, они собираются для совместных жертвоприношений, они собираются, чтобы наиболее разумным образом продлить род так, чтобы следующее поколение выросло с их ценностями, с их представлениями. Поэтому первичное представление о так называемом родовом проклятии, которым проникнута вся древнегреческая литература и мифология, которое возникает и накапливается прегрешениями старшего поколения, а потом разворачивается в следующих поколениях, является тоже представлением об обществе, совершающем какую-то ошибку и потом за эту ошибку расплачивающемся.
Наконец, представление о том, что общество — это два, три, четыре человека, разговаривающих между собой, укоренено в очень ранних греческих мифах. Например, в мифе о рождении Гермеса и о том, что должен был сделать Гермес, для исправления ошибок, допущенных при создании человека Прометеем и Эпиметеем.
Когда Прометей и Эпиметей создали человека, этот человек начал существовать и действовать — сразу как сверхчеловек. Зевс захотел каким-то образом внедрить в человеческое сообщество свойства, которые удержали бы его от стремления к всемогуществу, излишнему и избыточному и для людей, и для богов. Вместе с тем это должны были быть свойства, которые позволяли бы людям жить гармоничной жизнью, ведь боги, согласно этому представлению, зависят от людей. Как же сделать так, чтобы жизнь людей, с одной стороны, их всех как массу ослабляла, но, с другой стороны, позволяла бы им иногда, забыв о заботах, приходить в гармоничное состояние и, если не быть, то хотя бы чувствовать себя всемогущими? Тут и появляется бог Гермес. Именно этот бог является, как мы помним, воришкой, который украл коров Аполлона. Гермес, вообще говоря, с момента своего рождения отличался чрезвычайным хитроумием и вместе с тем обладал каким-то необыкновенным даром создавать из ничего, например, музыкальные инструменты. Он же придумал лиру, он придумал инструмент, который потом выменял у него хозяин коров Аполлон, и потом Аполлон подарил этот инструмент Орфею, способному с его помощью своими прекрасными песнями покорять весь мир, заставлять предметы двигаться, а людей — то просыпаться, то пробуждаться. Орфей и есть символ человека, способного с помощью изобретения вора Гермеса умиротворять людей обманом, завораживать их.
Представление, согласно которому общество может и должно быть заворожено высшими силами или каким-то хитрецом, чрезвычайно важно. Взять хотя бы Одиссея. Он хитрец, управляющий войском. Бесспорно, это замечательный персонаж: страшный, грозный, но отличающийся таким же хитроумием, как и Гермес.
Одиссей олицетворяет такое удивительное свойство человека, как понимание обмана, и все-таки действует внутри этого обмана как единственно спасительного. Когда, например, женихи сватались к Елене, Одиссею удалось уговорить всех женихов объединиться против любого, кто оспорит решение Елены. Сделано это было во избежание вражды в том случае, если кому-то не понравится выбор Елены. Когда же Елена выбрала себе в мужья Менелая, все остальные женихи оказались связанными клятвой прийти на защиту Менелая в том случае, если кто-то покусится на Елену. Этим объясняется, почему греки были вынуждены отправиться в поход на Трою: они были связаны клятвой помощи Менелаю. Что это, как не социальный инжиниринг?
Одиссей обманывает Полифема - мозаика Палаццо Массимо
В данном случае мы имеем дело с обществом, собирающимся в военный поход. Нужно отметить, что все наиболее интересные греческие мифологические циклы, к сожалению, имеют дело с обществом в первую очередь как с обществом разбойников и охотников. Это общество нападающих на другую страну. Они отправляются в далекий поход, чтобы похитить там что-то, идут ли они за золотым руном в Колхиду или на войну с Троей. Эта модель общества чрезвычайно интересна, но это только одна из возможных моделей. Такое общество очень хрупко. Участники Калидонской охоты начинают убивать друг друга из-за разногласий о дележе добычи.
Есть и мифы о ячейке общества, то есть о семье. Эти мифы представляют собой, наверное, главный фонд сюжетов всей мировой литературы. Что такое семья в мифе? Семья — это отец, мать, брат, сестра, жених сестры, внезапно возникающий чужеземец, который приходит издалека и уводит молодую у законного жениха. Вот вам, пожалуйста, миф о Минотавре. Мы каждый раз выхватываем из этого сюжета какой-то один интересующий нас образ, например, самого Минотавра — этого несчастного получеловека-полубога, сына Пасифаи от быка, который на самом деле был и не бык никакой, а просто Зевс, принявший вид быка. Или, например, Минос — царь, давший половину имени Минотавру, законный муж Пасифаи, который попросил Дедала изготовить корову, в которую должна была залезть Пасифая, для того чтобы сойтись с быком, потому у нее было вожделение к этому быку. В основе мифа — представление о культе верховного божества, и этому верховному божеству Минос приносит в жертву свое супружеское счастье. Однако у него есть еще и дочь Ариадна, которая ненавидит Минотавра, своего брата, потому что специально для Минотавра выстроен целый дворец, которым является лабиринт. Специально для Минотавра на Крит привозят жертв из Афин. Ариадна хочет смерти этого полубожества-полузверя. Но она — его сестра, и вот она с помощью Тезея, которому она дает нить, убивает Минотавра. Потом Ариадна вроде бы должна стать его женой, и Тезей даже берет ее с собой в Афины. Проплывая мимо Наксоса, они останавливаются на Наксосе, и там Тезей бросает Ариадну. Однако ее находит другой бык — Дионис, и она там, на Наксосе, становится невестой уже Диониса. Потом она погибнет в страшных мучениях, повесившись на шнурке, удивительно напоминающем ту самую нить, которую она дала в свое время Тезею.
Вот вам и семейная история. Это история общества, в котором есть любовь, не знающая границ, и есть месть, не знающая границ. И еще это история общества, в котором есть некие правила, и эти правила должны соблюдать народы и целые государства. Историческая интерпретация, например, мифа о Тезее и Минотавре ведет к отношениям Афин и Крита, как бы заодно сплетая из разных повествований непротиворечивую семейную историю, с наказаниями за инцест или за убийство родственников, — все то, что делало мифы занимательным материалом не только для толкований, но и для непосредственного восприятия в качестве триллера.
Десять аристотелевских категорий
Как Аристотель описывал бытие. — Десять категорий, из которых состоит все сущее и благодаря которым в нем устанавливается связь между явлениями и объектами.
Говоря о десяти аристотелевских категориях, мы, прежде всего, должны вспомнить значение самой «категории». Оно состоит из двух частей: приставки «ката» — и глагола, обозначающего публичную речь и речь в принципе. Приставка показывает ее направление, указывает на цель, для чего мы что-то говорим. «Категория» обозначает любую реальность, которая является предметом речи и мысли.
О всеобщей связи явлений
Аристотель является учеником Платона, и, соответственно, принадлежал греческой традиции видеть в мире не просто сходство одного явления с другим, но и их всеобщую связь, в том числе всеобщую связь с человеком. Грубо говоря, у нас есть руки, и у нас есть десять пальцев. Эти пальцы — идеальный инструмент для всего, чем бы мы ни занимались. Даже когда мы создаем другой инструмент, мы создаем его руками. И поэтому мысль, что эти десять пальцев еще и окно в то, как устроено наше сознание, первой приходит на ум.
О первых пяти философских категориях
Таким образом, Аристотель пошел по этому пути. Он предположил, что можно создать сеть из категорий, пользуясь которыми мы и описываем, познаем и просто видим мир. К этим категориям, в конечном счете, будут восходить и грамматические категории, но сначала речь идет именно о категориях философских. Первая же категория, которую Аристотель считает основной, это категория сущности или то, что отвечает на вопрос «что?». Прежде, чем обсуждать, каков предмет, надо установить, существует ли он на самом деле. Далее следуют категории, которые всем нам хорошо известны, потому что они отвечают на два вопроса: «где» и «когда». Даже игра такая есть: «Что? Где? Когда?» Это первые три аристотелевских категории, то есть когда — это категория времени, где — категория пространства. Однако, Аристотель говорил именно об ответе на данные вопросы. Две следующие категории нам тоже хорошо известны, и отвечают на вопросы «какой» и «сколько». Сколько этого, и каково оно? То есть это категории качества и количества.
О категориях отношения и действия
Наконец есть очень важная шестая категория, она в каком — то смысле является ключевой, и, хотя это речевая, словесная категория, к ней, в конечном счете, восходит вся математика. Это категория отношения: в какой связи то, о чем мы говорим, находится со всем остальным. Наконец четыре оставшиеся категории мы можем называть категориями действия, они объясняют «происходящее как происходящее». Первая категория (из эти четырех) — действие; вторая, парная ей — категория претерпевания. Мы знаем эти слова, они есть и в русском языке, и во всех европейских языках. Первое слово — «поэзия», «poiesis», от греческого «делать», «создавать», «творить». А вторая категория — «patos», «страдание». Конечно, они парные. И иногда мы представляем себе эту пару очень просто. Кто-то ударяет рукой по столу, отчего тот ломается — он, тем самым, страдает, наблюдается «претерпревание от действия», но это, безусловно, самый примитивный пример. Кто-то создает поэтическое произведение, а кто-то, слушая его, проливает слезы.
О категории обладания
И, наконец, две последние категории: категория пребывания и категория обладания. Например, туча, находящаяся в небе, если ее не гонит ветер, находится в «пребывании», то есть она ни на кого не оказывает воздействия и над ней никто не довлеет. Что же касается обладания, то эту категорию лучше все проиллюстрирует пример с собакой и владельцем. Мы можем с вами находиться здесь, но у нас может быть собака, но она, допустим, дома. Мы обладаем этой собакой, но вместе с тем мы понимаем, что собака — это отдельное существо, и оно далеко. Обладание — особняком стоящая категория.
Об универсальности аристотелевских категорий
Когда мы дочитываем до конца короткий трактат Аристотеля, не очень понятный, со множеством темных мест, которые нуждаются в толковании, тем не менее, осознаем, что в основе нашей дальнейшей культурной деятельности, в основе грамматики, поведения лежит простой растр. Он позволяет не только описать действительность, но и увидеть ее. И это величайшее достижение философской мысли, которое, на первый взгляд, кажется очень простым, но им обладает каждый человек, который, посмотрев на свои десять пальцев, вспоминает имя Аристотеля.
Открытый вопрос
Нетрудно увидеть, что философские категории лежат в основе грамматических категорий, хотя в школе об этом никогда не говорят. Грамматические категории предлагается понимать просто так, надо просто на слово поверить, что они такие. То, что они восходят к философским категориям Аристотеля, мне кажется, значительно обогатил бы сам процесс обучения. Потому как в тот момент, когда ребенок смотрит на свои пальцы, и понимает, что эти инструменты изоморфны, то есть структурно соответствуют по своим функциям и по своей форме, тому, как он думает, как он говорит, как он строит речь, вот в тот момент ему становится просто интереснее жить и учиться.
Категория времени в мифе
Какое место занимает понятие времени в мифе. — Как, согласно античным мифам, появилось время. — Какой древние греки видели связь времени и вечности.
Десять Аристотелевских категорий устроены так, что каждая из них может стать центральной — это одна из тайн Аристотеля. Что значит «центральной»? Она может стать первой, главной категорией. Категория времени, хоть она и является не первой в списке Аристотеля, для нас, когда мы о ней говорим, она становится центральной при ее рассмотрении.
Что такое время?
Очень интересно, что сам Аристотель избегает слова «время», когда говорит об этой категории. Он говорит: «Я говорю о том, когда это было».
Время — это ответ на вопрос «Когда?». Это не длительность, не философская категория. Это ответ на вопрос «Когда?» Ответ этот иногда дать очень трудно, потому что на него можно ответить по-разному. Можно сказать, «никогда» или «всегда». Эти две крайности, «никогда» и «всегда», говорят о том, что время является для нас некой загадкой, и мы всю жизнь, до самого конца своего собственного времени, пытаемся эту загадку разгадать. Когда такая загадка стоит перед человеком, перед человеческим обществом, перед людьми, они на этот вопрос дают очень разнообразные ответы. Попробуем их рассмотреть с точки зрения мифологии.
Первое, с чего все начинается — это Хронос. Хронос, он же Кронос — это сын Матери-земли и Отца-неба, который возник когда-то. Таким образом, время не существовало всегда, оно возникло после появления пространства. Оно родилось из этого разомкнутого пространства. Причем, интересно, что родилось оно и в греческой традиции, и в еврейской традиции очень похожим образом: немножко удалилось то, что было до времени, и появилось пространство, внутри которого могло родиться время. Вот эта исходная связь времени и первичного пространства потом, как ни странно, в современной науке будет снова востребовано. Если читать, например, Стивена Хокинга, мы узнаем, что вот это представление о времени и пространстве имеет связь с ранней греческой интуицией, архаичной очень интуицией, что время возникло из ничего. Итак, из первичного ничего, из этого хаоса, разомкнутого на землю и небо, возникает бог Кронос. Он тезка времени, и этот бог начинает с того, что пожирает своих детей. Функция времени, поедающего человека, вообще-то хорошо понятна. Каждый человек считает морщинки у зеркала или седые волосы — отмеряет это время.
Это мифологическое, изначальное время как время пожирающее содержит в себе еще один очень интересный элемент. Дело в том, что, когда мы внимательно смотрим на Кроноса, мы видим, что его главный атрибут и у древних греков, и в Новое время — это серп или коса. Нечто отрезающее, обрезающее. В данном случае — орудие, оскопляющее Урана. Кронос заставил отца остановить процесс воспроизводства, постоянного порождения богов. Иначе говоря, до того, как стать божеством, порождающим собственных детей, которых он тоже будет пожирать, Кронос совершил преступление против того, кто возник первым, и обрезал, остановил его. К серпу Кроноса мы еще вернемся, а пока мы его просто держим в памяти.
Мы знаем эту функцию времени пожирающего из замечательного стихотворения, последнего стихотворения, оставленного на грифельной доске Гаврилой Романовичем Державиным:
Река времен в своем стремленьи Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей. А если что и остается Чрез звуки лиры и трубы, То вечности жерлом пожрется И общей не уйдет судьбы7.Итак, время граничит с вечностью. Что такое вечность, мы не знаем. Мы не понимаем, что такое вечность, или мы понимаем так же мало о ней, как о том, что такое время, потому что время постоянно исчезает. Как некая оппозиция этому времени исчезающему, пожирающему нас, рождается представление о вечности как о покое, как об остановке всего, о том, внутри чего нет движения. Притом, Платон говорит о том, что «время — это подвижный образ вечности». Это страшное время, которое с серпом идет и обрезает жизнь, оказывается только подвижным образом того, в чем на самом деле нет никакого убытка. И нас самом деле все остается, как оно было когда-то изначально. Эта мечта о вечном присутствует в греческом представление о времени. Она имеет то же пространственное выражение. Вечная жизнь — это та жизнь, которая наступает после смерти, когда души отправляются на Острова блаженных, и там после определенных процедур, которые они проходят в загробном царстве, они пребывают в своем вечном состоянии.
Это вечное состояние, вообще рассуждения о вечности и о возможности вечности, и есть, в каком-то смысле, естественное движение нашего сознания в пику наблюдаемому процессу старения и пожирания временем нас самих, процессу боязни. Это очень неуклюжее выражение, но это процесс. Страх — это не просто состояние, это процесс, который по ходу жизни человека нарастает, и поэтому мечта о вневременном постоянно присутствует в греческом мифе и в нашей жизни.
Есть еще одна сторона в представлении о времени, о которой обязательно нужно сказать. Речь идет о метках времени или названиях, например, разных отрезков времени. К нам они почти все пришли из Древней Греции. Когда мы говорим о подземных реках загробного царства, мы вспоминаем реку Лета — реку забвения. Мы понимаем, что время — это некая длительность, которой присуща способность заставлять нас забыть о прошедшем. Минувшее забывается, должно быть забыто. Мы же сопротивляемся. Память слабеет, а мы сопротивляемся. Мы хотим помнить об этом.
Образ реки времени знаком нам не только от Державина, но и от Гераклита. Он говорит о времени, в котором нельзя прожить дважды, как о реке, в которую нельзя войти дважды. Еще один философ сказал, что даже один раз нельзя войти в эту реку, потому что мы этого времени не видим. Мы видим только то, что оно нас пожирает, а самого времени мы не видим.
Со временем связано представление о нескольких мифологических реках. Во-первых, это река Стикс, река последнего времени, которая удушает, сжигает или замораживают человека. Во-вторых, это река Лета, попадая в которую и напиваясь воды из которой, человек забывает все свое время, накопленное в его жизни. Наконец, это удивительная Фазис, река в Колхиде, на берегах которой жила знаменита волшебница Медея, племянница Цирцеи или Кирки. Это та самая волшебница, которая умела, как и фессалийские ведьмы, сводить Луну на землю. Мы с вами, когда говорим об астрономических явлениях, пользуемся выражением «фаза Луны». Что же такое фаза? Фаза — это некая единица времени, связанная с событием астрономическим или событием житейским.
Эпоха — это греческое слово, имеющее два значения. Помните, мы говорили о серпе Кроноса? Этот серп действует и здесь. Эпоха, с одной стороны, по-гречески означает воздержание, отказ от чего-то, перехватывание дыхания и удержание дыхания. Также мы знаем, что эпоха — это какой-то обширный отрезок времени, когда как бы нет развития. Это время, качественно очерченное, например, эпоха Возрождения или эпоха Средневековье, или эпоха какого-то правителя — когда целый мир вдруг задержал дыхание и не дышит. Потом мир вздохнул, и наступила другая эпоха. Живя в начале какой-то эпохи, мы еще ничего о ней не знаем- она новая. Но живя в конце эпохи, мы прощаемся со своим временем.
Течение времени вызывает постоянные страхи, постоянные ужасы и, вместе с тем, мечту о единственном миге пересечения с вечностью.
В греческой мифологии есть один удивительный эпизод, может быть, страшный эпизод, в котором соединились эти два представления о времени текущем, убегающем, безвозвратно уничтожающем, и о времени как мгновении, как миге, соединяющем человека с вечностью, о которой он ничего не знает и не может узнать.
Это сцена в Илиаде, когда Ахилл убивает амазонку Пентесилею. Мы эту сцену, этот эпизод знаем из многочисленных изображений на вазах. Как правило, это замечательное изображение в вазописном кругу. По мотивам этой сцены есть знаменитая картина Климта: со склоненной головой мужчина и рядом с ним женщина, которая смотрит на него. Это сцена описывает, как амазонка Пентесилея, которая пришла на помощь троянцам, сражается с Ахиллом. Ахилл убивает ее, протыкая своим копьем. И в то мгновение, когда он уже поразил ее, она смотрит ему в глаза. Их взгляды встречаются, и они влюбляются друг в друга. Этот единственный миг влюбленности, миг перехода из жуткого, кровавого, пожирающего потока времени в вечность, описан греческим поэтом так, что не остается никакого сомнения в том, что наряду с этим потоком, уносящим нас куда-то, действительно есть представление и мечта о чем-то вечном. Как греки говорили, «от взгляда рождается любовь».
Оказывается, это представление, некое клише, банальное и пошлое, о вечной любви, зиждется здесь. Здесь его корень. Это встреча лиры и трубы, поэтического слова и ужасного воинского подвига, который состоит в убийстве. Это встреча, которая, с одной стороны, загадку времени разрешает, потому что это потрясающая прекрасная сцена, а, с другой стороны, забивает ее в нас как еще более глубокую загадку, которую мы никогда не сможем разгадать.
Категория пространства в мифе
Возникновение пространства. — Пространство загробного мира. — Миф о лабиринте.
В так называемой мифологической картине мира пространство играет не меньшую роль, чем и в так называемой научной картине мира. И понятно, мы знаем это от Аристотеля, есть два сакраментальных вопроса, которые мы задаем сразу после того, как спрашиваем «что?» и «кто?», — это «где?» и «когда?». «Что, где, когда?» — есть игра такая, совершенно мифологическая по своему происхождению, потому что «где?» и «когда?» — это ответ на вопрос «что такое время?» и «что такое пространство?».
Что такое пространство в мифе? Пространство старше времени, потому что мы знаем от Гесиода (и не только от него, но Гесиод первым про это нам рассказал) про первоначальный хаос, который является безвидным и, вообще говоря, является ничем, и даже ничем не является, это просто — закрытая пасть. Когда эта пасть в один прекрасный день почему-то раскрылась, возник мир, потому что возникло небо и возникла земля. И между ними началось взаимодействие, земля начала порождать что-то. Это и есть первое пространство, здесь все зародилось. А уже потом возникло время. И эта первичность пространства страшно интересна, потому что ее мифологическая или, правильнее сказать, мифическая природа, это возникновение непонятно как, непонятно из чего, непонятно когда, потому что тогда и слова «когда» не было, еще до времени, но это то, внутри чего все существует.
Где находится то, что я сейчас говорю, в каком месте? Этот вопрос точно так же стоял и перед древними греками, когда они впервые начали повествовать о разных пространствах. И есть по крайней мере два мифа, интересных и важных для нас сегодня, важных в нашей обыденности, повседневности нашей, важных, потому что эти два мифа определяют и эту нашу повседневную жизнь. В сущности, они и только они должны нас волновать. Первый миф — это разговор о том, где мы оказываемся после того, как исчезаем, умираем. Это миф о загробном царстве. Это миф о таком месте, в котором, как нам кажется, или хочет казаться, или может казаться, находятся все люди, которые умерли, их очень много, место, в которое когда-то придем и мы, «примкнув к большинству», как говорили древние. И здесь есть один персонаж, играющий в философии XX века центральную роль и являющийся, возможно, главным героем мировой науки. Этого персонажа звали Сизиф. Он был сыном Эола, а еще, скорей всего, настоящим отцом Одиссея. Да-да, не Лаэрт, а именно Сизиф, потому что иногда даже Гомер его зовет «Сизифеем», «Сизифидом». Сизиф соблазнил Антиклею, мать Одиссея, которая, правда, сразу после этого вышла замуж за Лаэрта. Сизиф отличался невероятным хитроумием, он был самым умным из людей, был еще умнее, чем Одиссей. И он многое умел рассчитать, а многое просто угадывал по своему хитроумию. И этот Сизиф, например, первым из людей догадался, что есть замечательный способ не умереть после того, как тебя отправляют в Аид. Он велел своей жене не приносить жертв после погребения и, вообще говоря, не погребать его тело. И случилась ужасная вещь перестали поступать жертвы в подземное царство. Аид вынужден был отправить душу Сизифа обратно на землю, вернуть его, чтобы не погребенное вовремя тело договорилось с собственной вдовой, чтобы жертвы все-таки поступили, а то непорядок! Это такая шуточная, почти бурлескная история. Другая история о том же Сизифе, гораздо более известная, — это то наказание, которому он был подвергнут за свои многочисленные хитроумные поступки, граничившие с преступлениями. Обо всех рассказывать скучно: все это можно прочитать в другом месте. Но главное, что случилось с Сизифом, это вот что. Попав на тот свет, в Тартар, в это страшное загробное царство, где всем людям предстоит оказаться, хотим мы этого или не хотим, Сизиф занят странным делом, которое на всех языках называется «сизифовым трудом». Он закатывает на гору какой-то огромный кусок мрамора, и там этот кусок мрамора застывает на какой-то момент на вершине горы, а потом скатывается вниз. Некоторые считают, что прообраз этого камня — Солнце, но это черное солнце загробного мира, невидимое солнце. А некоторые говорят, что никакое это не солнце, а величайшее открытие человека — колесо. Что вот это вращающееся колесо — то открытие, для которого у природы нет аналога.
Как мы знаем, у познания есть два основных способа: по аналогии люди действуют в 99 случаев из 100. А другой способ — это то, что греки называли эвристикой, мы тоже называем это эвристикой, способностью открывать новое. Открытие совершается без всякого примера, в природе нет для него аналогов. И вот это изобретение колеса или понимание вращения Солнца, понимание вращения светила, — это то, что узнал, или угадал Сизиф, и за это был наказан. Вот эта страшная кара, этот сизифов труд, эта физическая или интеллектуальная деятельность, которой человек занят, несмотря на то, что прекрасно понимает тщетность этих занятий, и то место, в котором он этим делом занят, о котором мы ничего не знаем, о котором мы только знаем, что мы туда попадем, и то занятие, которое кажется нам бессмысленным, но почему-то наказанный человек им занят, — это и есть мифическое представление о пространстве вообще. Где бы мы ни находились, говорит нам миф, мы находимся внутри огромной загадки, и эту загадку мы все время сами себе загадываем, мы ее не разгадываем, а только все время загадываем.
Другой ключевой миф о пространстве, о котором нужно сказать, как о важнейшей точке приложения размышлений о загадочности пространства, — это, конечно, миф о лабиринте. Лабиринт, который построил великий зодчий, изобретатель, техник, механик Дедал для критского царя Миноса, сын которого Минотавр должен был быть спрятанным где-то. Его пожалела его сестра Ариадна, она попросила Миноса построить для него такое убежище, в котором никто не мог бы его найти, но в котором можно было бы это страшное дикое существо кормить — а питался он, к сожалению, только живыми людьми — пространство лабиринта с того момента, когда он был создан Дедалом, стало для человечества символом загадочности — любого открытия, любого поиска. Мы называем лабиринтом нечто трудное; это место, в котором ставятся и, в общем, наверное, никогда не решаются неразрешимые вопросы. Мы попали в лабиринт. Люди играют с этим. Мы знаем, что лабиринт — это излюбленный масонский символ, символ вольных каменщиков, которые строят мир сам по себе совершенный, но внутри этого совершенного мира есть несовершенство, с которым мы должны бороться, а точнее говоря — бороться с собой, если не можешь выбраться из лабиринта.
Главное свойство мифического пространства — изоморфизм, или пропорциональная воспроизводимость в любом направлении — от небесного свода к содержимому черепной коробки и от неба к небу. Когда Дедал сбежал от Миноса на Сицилию, к царю Кокалу, Минос объявил, что щедро одарит того, кто сумеет продернуть золотую нитку через морскую раковину, причем так, чтобы нить прошла из конца в конец все полости раковины, не повредив ее. Царь Кокал очень уж захотел получить награду из рук Миноса, и выведал хитрость у Дедала: надо было только привязать нитку к муравью и запустить того в раковину. Муравей в поисках выхода обегает все закоулки раковины и продергивает золотую нить. Счастливый Кокал уверен, что Минос заплатит выкуп, но не тут-то было: Минос требует выдачи Дедала! Правда, в ответ царь Кокал позвал критского царя в гости, где нарушил все правила гостеприимства и убил Миноса руками дочерей Кокала.
Мифы о пространстве, внутри которого человек обречен существовать, и силу которого, мощь которого он должен преодолеть, живут с людьми до сих пор. Любая микросхема, с этой точки зрения, восходит к Лабиринту Дедала и раковине Кокала.
Категория возраста в мифе
Афродита и Эрот Мозаика (Остия)
Как долго жили боги. — Как соотносятся время, вечность и современная социология возраста. — Возраст как субстанция.
Всем известно, что миф имеет дело с вечностью. Однако, хоть это и не неправильно, точнее сказать, что миф — это повествование о мире, которое объясняет, что сначала возникло пространство, а потом время.
Самый ранний миф о хаосе, греческий миф о хаосе — это миф о раскрывающейся пасти (хасме, хаосе) и о разделении того, что еще не было миром, на небо и землю, и на небо и океан, и на землю и океан, на эти огромные, непостижимые сущности, которые привлекали внимание человека еще задолго до того, как его стали интересовать какие-то социальные проблемы. В этом смысле миф онтологичен, то есть он о бытии как таковом. С другой стороны, мы понимаем, что миф — это всего лишь слово, повествование. И до того, как человек в мифе описал природу, космос, этой природы и этого космоса просто не существовало. Но как человек это делает, как миф описывает мироздание? Миф дает нам первичные категории времени, пространства, протекания жизни. Это такие категории, как, например, категория верха и низа, категория хорошего и плохого: давать жизнь — хорошо, убивать — плохо; живое — хорошо, мертвое — плохо; в подземном царстве жить плохо, а на солнечном свете, на поверхности земли и под небом — хорошо; есть квадратное и продолговатое, а есть шар, есть куб; есть горячее и холодное. Все эти первичные категории, пифагорейские, которые предшествовали аристотелевским, присутствуют в мифе, и миф все их изначально объясняет.
Но есть одна вещь, которую очень трудно объяснить, — это соотношение времени и вечности. Вот в знаменитых стихах Державина:
Река времен в своем стремленье Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей. А если что и остается Чрез звуки лиры и трубы, То вечности жерлом пожрется И общей не уйти судьбы…8Здесь традиционная античная тема: есть время, которое воспевается поэтами, это героическое время войны (труба), и время жизни, радости и оплакивания (это лира), и есть вечность, которая тоже принадлежит человечеству, но она навсегда ушла; есть смертные люди, которые живут горячей, живой жизнью, и, наконец, есть смерть, которая всех погружает, как бы запечатлевает, как кусок янтаря — муху. Это — первое большое мифическое противопоставление.
Но есть и другое противопоставление, циклическое, которое говорит, что у нас на наших глазах все время что-то повторяется, идея вечного повторения реализуется в смене времен года и поколений. Каждый человек имеет свое детство, свое отрочество, юность, зрелый возраст и, наконец, старость, после которой он должен умереть. Хотя мы знаем и другие случаи, примеры того, как человек умирает рано, умирает еще ребенком, подростком, во цвете лет и тоже где-то застывает в мифической картине мира в своем возрасте.
С точки зрения экзистенциального чтения греческой мифологической традиции мы обнаруживаем, что в этой традиции есть и переживание возраста не как сменяющегося в природном цикле отрезка жизни, а как некой субстанции. Например, у нас есть Зевс каким его застает в последней фазе живого греческого мифа, Троянской войны, Гомер. После этой войны, как известно, греческие боги разрывают всякие связи с человеческим миром и уходят. В этой фазе отец богов и людей — это взрослый солидный мужчина, даже почти старик, у которого масса детей и внуков, но у него есть тетка. Эта тетка родилась когда-то довольно странным образом — из семени оскопленного Урана, деда Зевса. И эту тетку зовут Афродитой, но ведь Афродита — прекрасная молодая богиня, молодая женщина. Мало того, у Афродиты ведь есть сын, и этот сын — вечный ребенок Эрот. Вот вам прекрасная картина того, как возраст, оказывается, может быть субстанциальным. И в этой субстанциальности тетка Зевса может вступить в инцестуозную и не вполне приемлемую с точки зрения возраста связь с собственным ребенком, что и происходит в греческом же мифе. Как так? Мы еще понимаем в патриархальном мире, когда Зевс, отец богов и людей, берет себе в наложницы прекрасную юную деву или в наложники даже Ганимеда, который становится у него виночерпием. Это как-то социально приемлемо оказывается для многих эпох. А вот связь, например, старухи с молодым любовником — это что-то невообразимое, хотя это тоже присутствует в греческом мифе в ярчайшей форме. Просто экзистенциальное чтение отвергается столетиями других толкований.
Сколько лет отсутствовал Одиссей на Итаке? Двадцать лет. За это время он успел родить ребенка у Кирки (Цирцеи). Этот его сын, Телегон, приезжает однажды на Итаку и, восхищенный красотой Пенелопы, влюбляется в нее, берет ее себе в жены, попутно убивая Одиссея, как это сделал Эдип со своим отцом Лаием. Конечно, нам сейчас немедленно расскажут и объяснят, что это надо все понимать в метафорическом, переносном смысле, что речь, когда говорят о Пенелопе, не о самой Пенелопе как о женском существе, а только о царице, женщине, через которую передается власть на Итаке. Все это будет правильно, но повествовательная канва мифа не может игнорироваться, а она говорит нам, что здесь есть юноши: Телемах, который отправляется к Цирцее (Кирке), и Телегон, отправляющийся к Пенелопе, и эти сыновья Одиссея становятся мужьями его жен. И это переживание юного возраста, странного союза старухи и юноши оказывается столь же экзистенциально значимо, сколь гораздо более традиционная картина, в который престарелый мужчина берет в жены юную красавицу.
Когда мы читаем с такой точки зрения или такими глазами греческие предания, мы обнаруживаем, что сама эта тема так актуальна сегодня по очень интересной причине: в наше время продолжительность человеческой жизни несравнима с той, которая была в глубокой древности. Мы можем говорить, что многие люди достигают трех поколений жизни людей, как у Нестора или Приама. Старцы и старухи проживают новые жизни, а некоторые остаются вечными детьми, как Эрот, которого, возможно, родила Афродита и с которым она потом была в союзе. Что это значит с точки зрения понимания возраста в греческом мифе? Это значит только одно: в древнейшем устном повествовании содержится предчувствие и понимание, содержатся, я бы сказал, некоторые гносеологические основания для того, чтобы интерпретировать мир возраста в наше время, в нашу эпоху. Поэтому греческий миф сегодня так востребован.
Понимать, что существует отнюдь не только игривое, легкое, некое бурлескное описание приключений, которые переживали древние. На самом деле, скажут нам, ничего этого не было, это только метафоры перехода власти из рук в руки, это только метафора богатства, это только метафора каких-то совсем других отношений. А это не только метафора! И этот буквализм в чтении греческой мифологической традиции обладает вполне определенными философскими основаниями. Другой человек, другой возраст — это не повторение, не цикл, в который вступает каждый, вступив в старость, например. Это субстанции, которые присущи каждому человеку: субстанция детства, сопровождающая человека с младенчества до конца его дней; субстанция старости, которой каждый наделен с младенчества до конца своих дней; субстанция зрелости, которая может быть присуща и младенцу, и старику, но она остается субстанцией. Этот круг представлений, который мы наблюдаем в греческом мифе как в носителе знания о человеческой природе, сейчас необычайно востребован и является важной составляющей и современной психологии, и современной социологии возраста.
Когда мы говорим о субстанциальности возраста, мы вспоминаем еще два мифа. Один миф о Титоне, возлюбленном Эос, который был так прекрасен, что Эос попросила у Зевса для него вечной жизни, чтобы он стал бессмертным, но забыла попросить вечной молодости. И этот ее возлюбленный превратился сначала в старикашку, а потом в вечного, но совершенно невидимого персонажа, в цикаду, которая кричит при закате и восходе солнца. Цикада как миф о вечной старости, о верещании старца, который способен только на такое проявление страсти.
С другой стороны, миф о замершей юности — это миф об Эндимионе и Селене, которая так влюбилась в него и так не хотела, чтобы он изменился, что погрузила его в вечный сон. И этот погруженный в вечный сон прекрасный юноша — любимый античный мотив. Есть и другие мотивы, мотивы выхода из застывшей юности, застывшего прекрасного каменного предмета, как у Галатеи, которую оживил Пигмалион. Но нас здесь интересует другая сторона — нас здесь интересует субстанциальность замершего прекрасного, прекрасного возраста, который оказывается бессмертным. В этих сюжетах присутствует очень глубокая интуиция возраста как субстанции: возраста детства, как у Эрота; возраста юности, как у Афродиты, его матери и возлюбленной; возраста юности замирающей, как у Эндимиона; возраста вечно сварливой, но при этом похотливой старости, как у Титона. Это три субстанции, которые заставляют нас перечитывать греческую мифологическую традицию еще и с точки зрения современного взгляда на человека, живущего почти вечно, не умирающего, не только протезами, но и своими пикселями и файлами из битов остающегося здесь, присутствующего почти бессмертно.
Категория пола в мифе
Дионис Коринфская мозаика I век н. э.
Что такое миф применительно к полу. — Как разные подходы к миру формируют представления о поле. — Как экзистенциальный опыт человека преломляется в мифах о Тиресее, Кенее, Зевсе, Афродите.
Когда мы говорим о мифе, мы должны условиться о некоторых границах, потому что миф («слово, речь») — это что-то безграничное. Это греческое слово означает в нашем общении очень многое: и предельный вымысел, и нечто невероятно глубоко укорененное, какую-то высшую истину. Условимся, что миф — это некое повествование о мире, которое содержит в себе объяснение того, как устроен этот мир, о его первоначалах и вместе с тем это такое повествование, которое всякий раз новым, следующим поколением должно заново переосмысливаться.
Тогда мы поймем, что такая тема, как пол человека, не может не волновать нас самих. Потому что она нас интересует, мы живем в этом мире двух, может быть, трех полов, а может быть, четырех полов, в условиях, в которых живет современный человек. И вместе с тем мы понимаем, что древние люди, с которыми связано возникновение мифологии, тоже были взволнованы этой странной особенностью человека, и не только человека, но и многих животных, этой странной особенностью разделения на мужской, женский и какой-то еще, смешанный пол.
Почему сейчас нас и многих исследователей мифологии вновь взволновала эта проблема, как это получилось? Здесь надо сказать, что существует несколько направлений в теории мифологии, все эти направления занимались в мифе чем-то своим. Например, самая влиятельная школа — этакий неоэвгемеризм — понимала миф как превращенную форму раннего исторического сознания, предысторию человечества, предысторию космоса. В этом смысле миф — это самая ранняя онтология (учение о бытии) и самая ранняя антропология и социология. Миф — это повествование о том, как был устроен, вообще говоря, мир и человеческое существо.
Другую теорию, которая сложилась уже в древности, можно в целом назвать структурно-семиотической — точнее, это целый набор, множество разнообразных теорий, которые объясняют нам причины сходства повествовательных комплексов у чукчи и древних греков, у индейцев Амазонки и славян. Есть некие общие повествовательные мотивы, сюжеты, и этими повествовательными комплексами занимаются те или иные структурно-семиотические теории.
Но есть еще один очень интересный подход к мифу, в котором миф рассматривается не извне, не как объяснение внешнего мира, окружающего человека (неба, моря, природы), а как то, что происходит у человека внутри. Конечно, отцом-основателем этого взгляда, психологического погружения в миф был Зигмунд Фрейд: так, миф об Эдипе лег в основу психоанализа, громадной теории.
Но и это не последний подход к мифу. Можно сказать, что греческую мифологическую традицию нужно читать как чисто экзистенциальный опыт человека: это просто экзистенция, это существование. И если этими наивными глазами смотреть на миф, то мы обнаружим удивительную вещь: переживание многополости человеческого существа, божества присутствует в самых разных мифологических сюжетах. В античной мифологии встречаются несколько персонажей с амбивалентной природой: Тиресий, который был одновременно и мужчиной, и женщиной, или Кеней, который сначала был женщиной, потом захотел превратиться в мужчину, да к тому же еще стал неуязвимым мужчиной.
Или взять Зевса. С одной стороны, это явно мужчина, это старец или человек, вечно находящийся в расцвете сил, а с другой стороны, это человек, мужчина, который, оказывается, донашивает собственного ребенка, а именно Диониса, родившегося тоже довольно загадочным путем у Семелы: он зашивает его себе куда-то в бедро или еще куда-то (слова эти не называются в приличном обществе) и там донашивает этого ребенка. Значит, он не только мужская особь, но и женская. Более того, несмотря на все очевидные свойства настоящего мужчины, который должен быть, например, храбр, Зевс — страшный трус. Больше всего на свете он боится, что его кто-то свергнет, и больше всего на свете он боится, что его свергнет сын. И как только ему сообщают, что очередная его возлюбленная родит сына, который его, Зевса, победит, он что-то придумывает для того, чтобы этих родов не было.
Самый знаменитый случай такого рода — это случай Афины. Афина, как известно, дочь Зевса от Метиды, богини странного, таинственного разума, ума великого. Но в тот день, когда Зевс узнает, что Метида должна родить от него сына, он проглатывает ее. И Афина во всеоружии выходит из его головы, рожденная головой Зевса как органом, рождающим человеческое существо. Но что это за человеческое существо? Является ли Афина женским существом? Мы читаем, что она дева, непорочная дева, она не связана ни с каким рождением, она благоприятствует мужчинам, и эта дева — воительница, строительница государств, это дева с мужскими достоинствами (в традиционном, патриархальном обществе с мужскими достоинствами), очень мудрая, она страшно мудрая, правда, она еще и мстительна. Значит, это смешанное женско-мужское существо. И в этом смешанном женско-мужском существе, конечно, очень много от Зевса и очень много от Метиды. Но она не женщина и она не мужчина. Она — представительница некого третьего пола, она странная особа, опасная.
А если мы посмотрим еще дальше, то обнаружим, что такие божества, как Дионис, Аполлон, Артемида, с одной стороны, обладают выраженными половыми признаками, с другой стороны, они (если читать мифы о них с экзистенциальной точки зрения) постоянно переживают свою недостаточную мужественность, или недостаточную женственность, или свою смешанную сущность, женско-мужскую. Афродита и Гермес рождают Гермафродита — человека, который обладает одновременно признаками мужчины и женщины.
Таких людей довольно много, они существуют и в реальной жизни. Но переживание одновременного присутствия в мифе разных существ разного пола, иногда сливающихся, иногда разъединяющихся, говорит нам об одном: греческий миф содержит в себе очень важное для нас представление о другом в каждом человеке, о странном, о непохожем, о том, что каждое человеческое существо не может быть в буквальном смысле слова вписано в свои гендерные рамки. Человеческое существо сложнее, чем эта рамка мужского и женского, которая, казалось бы, существует в мифе и до мифа.
Миф заставляет нас пересмотреть привычные разделения и искать то странное, новое, необычное, что так интересно современному человеку, современной литературе. Когда я говорю о современности, я имею в виду как раз даже не XX век и не начало XX века с теорией Отто Вейнингера или с теориями Фрейда, с теориями Карла Густава Юнга, а я говорю о литературе и самоощущении людей XXI века, которые часто хотят быть в гендерном отношении совсем нейтральными. Они не хотят, чтобы их определяли через мужское и женское или через мужское и женское вместе. Они необычны каждый по-своему. И греческий миф дает такую потрясающую возможность: видеть в человеке другое, в одном человеке два или три пола в обыденном смысле этого слова. И если с этой точки зрения перечитать греческие мифы, то мы увидим там много замечательного.
Эрос в античной культуре
Юн ли Эрот. — Где живет Эрот. — Когда Эрот стал проказником. — В чем состоит двойственность Эрота. — Как Эрот связан с панком?
Мифология Эрота одна из самых интересных и загадочных в греческой традиции. По-русски различают имя божества — Эрот и абстрактное понятие, или философскую категорию, — Эрос. Это одно и то же слово, просто в одном случае используются косвенные падежи, а в другом — именительный.
Одни исследователи полагают, что Эрот — довольно позднее божество и ранняя мифологическая традиция не знала никакого Эрота. Другое мнение, которое высказано уже в «Пире» Платона, а это первая половина IV века до н.э., заключается в том, что Эрот — это очень древний бог. Якобы он старше и Зевса, и 12 олимпийских богов, а родился этот бог из мирового яйца, он был высижен, и нет у него ни отца, ни матери. Есть версия, что мать у него все же была, и это богиня Илифия, которая помогает женщинам при родах. Позднее «настоящей» матерью Эрота будет считаться Афродита. Но, пожалуй, вернее всего будет сказать, что это божество пронизывает всю греческую мифологию, присутствуя в разных сюжетах. Однако Эрота очень трудно схватить, потому что появляется он неожиданно и так же неожиданно может исчезнуть. У Анакреонта есть замечательное стихотворение, в котором поэт просит Эрота вознести его на крыльях. Эрот подлетел, увидал, что борода-то уже седая у поэта, и улетел на своих золотистых крыльях. Попробуем его поймать хотя бы мысленно. Тут нам поможет гора литературы, старой и совсем свежей9.
В нашем сознании и в сознании людей поздней античности Эрот — это мальчик, крылатое существо, прообраз путто на известных нам живописных и архитектурных произведениях эпохи Возрождения или барокко. В греческом мифе он появляется, чтобы ужалить или поджечь своим пылающим факелом, воспламенить человека или другое божество, и так же быстро исчезает, как злой мальчик Андерсена или — у того же Анакреонта — как кузнец молотом ударяет человека, а потом швыряет его в ледяную воду. И чувство, которое вызывает этот бог, проходит и исчезает.
По-видимому, на ранней стадии, две с половиной тысячи лет назад, потребность философствований вокруг этого мифологического персонажа была чрезвычайно острой. И она связана с тем, что в отличие от многих других богов, которых традиционно связывают с некими внешними явлениями природы (скажем, Посейдон — это пучина морская, Зевс — это тучегонитель, отец грома и молнии), Эрот — это божество совсем другого склада. Он поселяется внутри живого существа, ныряет в него. Таких божеств, впрочем, немало, например, божества страха. Недаром Эрота в ранних изображениях иногда помещают в общий контекст с керами, страшными крылатыми существами, разъедающими человека изнутри. Заставлять нас бредить, терять рассудок — это любимая забава Эрота, говорит Анакреонт.
Сейчас наука занимается разными поворотами мифологической традиции как протоколом обращения человечества с чувствами. Только что, буквально в феврале, вышел сборник статей о невероятном разнообразии «эротов» в греческом мифе, начиная с VIII в. до н.э. до первых веков христианской эры10. Два десятка интереснейших статей, из которых я пока прочитал только треть, наверное.
Эрот особенно активен в сюжетах, которые А. Ф. Лосев называл «бурлескными». Это очень поздняя стадия мифологии, когда всерьез к мифу уже никто не относится. Например, Эрот сидит и играет в шашки или в кости с Гермесом, мухлюет, как всегда, потому что он еще и бог-обманщик. К нему подходит, по одной из версий, мать, Афродита, и уговаривает его влюбить Медею в Ясона. Эроту нет дела до этой истории, он сидит и играет. И тогда Афродита дарит ему изумительной красоты шар. И этот шар обладал такой особенностью: если его подбрасывали, он оставлял за собой огненный шлейф, что-то вроде кометы. А Эрот — он же младенец, ему страшно нравится шар, он хватает этот шар и соглашается воспламенить Медею.
После этого закручивается история с Медеей и Ясоном. Медея влюбляется, как мы бы сказали, иррациональным образом в Ясона, а тот пришел, чтобы погубить ее отца и украсть золотое руно. В данном случае Эрот оказывается ребенком, которого можно подкупить, а он и сам не знает, какая власть находится в его руках. Здесь главное — представление о любви как о силе, не знающей саму себя, как о чем-то примордиальном, младенческом, спрятанном очень глубоко, но появляющемся и проявляющемся очень ярко, как та комета.
У Анакреонта есть серьезно-смешное стихотворение как раз о том, как Эрот бросает ему свой волшебный шар, поэта влечет к девушке, а та глядит на другого или на другую. Зря шар ловил, да ведь не увернешься! Звон этого эротического шара, который попадает в человека, гремит в поэзии от Сапфо до Евтушенко. Посмотрите, как он преобразуется в стихах последнего 1960-х годов:
Звон земли Какой был звон когда-то в голове, и все вокруг во городе Москве двоилось, и троилось, и звенело, трамваи, воробьи и фонари, и что-то, обозначившись внутри, чистейше и натянуто зверело. Звон рушился, взвалившись на меня, как будто бы на дикого коня, и, ударяя пятками по ребрам, звон звал меня в тот голубой провал, где город пирожками пировал, всех в клочья рвал, но оставался добрым. Звон что-то знал, чего не знал я сам. Он был причастен к чистым небесам и к мусору окраинных оврагов. Звон был цветною музыкой без слов, смешав желтки церковных куполов с кумачным смачным переплеском флагов. Звон за меня придумывал стихи из семечной шалавой шелухи, хрустящей под ногами по перронам, И я звенел в ответ на звон земли, и строчки из туннеля глотки шли, как поезда, заваленные звоном. И не было меня — был только звон. Меня, как воплощенье, выбрал он. Но бросил — стал искать кого моложе. Заемный звон земли во мне любя, ты не была. Звон изваял тебя. Но звон исчез, и ты исчезла тоже11.Это стихотворение о том самом сияющем шаре, которым Афродита однажды подкупила Эрота.
Все, что связано с мифологией Эрота как сына Афродиты, очень интересно. Здесь присутствует много, как сейчас бы сказали, и обсценных, и инцестуозных мотивов. Например, известны сюжеты европейской живописи XVII века, например, когда или Эрот соблазняет Афродиту, или Афродита соблазняет Эрота. Эротические сцены почти порнографического содержания также раскрывают представление о слепоте любви. Но и о чем невозможно забыть, так это — восторг перед телом человека и перед сплетением тел. Вот почему Эрот — это и каторга, и сладострастие поэта, это и сверхчувство, погрузившись в которое, испытываешь неожиданные вещи, и нечто, дразнящее разум. Все это делает Эрота необычайно интересным предметом для философов и для философствующих поэтов, в том числе гомоэротического склада: не будем забывать, что первое и главное стихотворение о могуществе Эрота написала Сапфо.
Впрочем, не всякая поэзия о любви эротична или пробуждена Эротом. Например, у Пушкина есть любовная лирика и эротическая, и рациональная. А вот у Бродского эротики нет совсем: этот поэт никогда не теряет рассудка и даже больше всего боится потерять рассудок. С другой стороны, вполне можно сказать, что у некоторых поэтов присутствует эротическое измерение трагического. В античности Эрот и Афродита жестоко правили людьми, и это их правление мы видим, например, в трагедии, в эпосе: от Эсхила до «Энеиды» Вергилия, а от нее — через Данте и Гоголя — прямо к Казандзакису и Моррисону, к Высоцкому и — в наши дни, к Александру Дельфинову, например.
В центральных диалогах Платона, «Пире» и «Федре», обсуждается природа Эрота как божества, как мифологического персонажа, ответственного за поведение людей и богов, и как сложной и противоречивой философской категории, которая владеет каждым человеком изнутри, непонятно откуда в нем появляется, но все же должна быть рационально локализована. И поэтому представление о крылатости этого божества в греческой поэзии и в греческой философии так развито, так распространено. А уже у греков размышления о природе Эрота переняли все остальные. Совсем недавно в Оксфорде вышла книга под, можно сказать, скандальным шуточно-серьезным названием: Греческое тиранство над Германией: как греческое искусство и поэзия повлияли на немецких писателей 18—20 вв. В русской научной литературе Эрота, прямо скажем, не жалуют. Разве что в энциклопедическом словаре «Мифы народов мира» наблюдается принудительный эротический сквозняк.
Когда мы читаем у Анакреонта или в стихах, приписываемых Анакреонту, как действует это божество, мы узнаем — и мы улыбаемся в этот момент, — что Эрот совершенно случайно попадает через бокал вина сначала в рот человека, а потом там, в глубине, начинает щекотать душу своими крылышками. Или он ослепляет, налетая на человека. И вот этот ослепляющий, поджигающий Эрот все время волновал греков и в каком-то смысле волновал их гораздо больше, чем даже Приап — божество производительных сил природы, который в итифаллическом виде представал на многочисленных изображениях, и который в некоторых частях Греции с Эротом отождествлялся.
Один интересный сюжет связан с Эротом в новейшее время и касается этот сюжет панка. До появления панка у этого слова в английском языке были два или три значения. Одно значение — трут, зажигающийся от трения. Это тот самый трут, с которым изображают Эрота. А с другой стороны, это «шлюха», «потаскуха». И в этом слове некоторые специалисты (Роберт Грейвс, например) видят первичную встречу Эрота в его флористической ипостаси и образа жизни, который обычно связывают с избытком, так сказать, любовных чувств. Но каким образом культура панка, и в какой мере, и до какой степени принадлежит к числу эротических субкультур, — это, конечно, большой вопрос. Тут дело идет и о третьем значении слова «панк» — уличная шпана, отбившаяся от рук молодежь, которая наконец-то вошла в силу, но применить ее может, увы, только в потасовках и в сексуальной активности, в которой мифология Эрота как раз позволяет разглядеть сенсуальную античность.
Впрочем, и во всей мифологии Эрота и ее переосмыслениях в веках вопросов намного больше, чем ответов.
Раздел 2. О Гомере
Миф как преодоление противоречий
Противопоставление мифа и истории. — Противоречия «Илиады». — Чтение Гомеровского эпоса как реконструкция.
В обыденной речи люди противопоставляют «миф» и «историю», полагая, что в одном случае мы имеем дело с вымыслом, а в другом — с истиной или, по крайне мере, со стремлением к истине. Например, очевидно, что Зевс-громовержец или его дочь Афина, появившаяся на свет из головы отца, который к тому же перед родами съел мать своей дочери, принадлежат мифу. А вот событие, описываемое в «Илиаде» как Троянская война, по-видимому, все же историческое. Просто оно имело место не совсем тогда, не совсем так и не совсем в том месте, о котором повествует «Илиада».
Если мы спросим, на чем зиждется такое противопоставление мифа и истории, нам могут ответить, что критерия здесь два: наличие конкретных вещественно-духовных источников (надписи на камнях, постройки, руины, мнения авторитетов), а также большая или меньшая фантастичность сюжета. Историческое повествование избегает метафор и иносказаний, а мифологическое на них держится. Для достижения произведением большей художественной силы эпический поэт старается наделить повествование признаками законченного мифа. Фаза, на которой мы застаем греческую мифологию в эпоху Гомера, совпадает с победой не только антропоморфизма (представления богов в облике людей), но и своеобразного социального историзма. Этот социальный историзм состоит в представлении мира богов и героев как определенным образом организованного социума — со своей властью, иерархией главных действующих лиц по кланово-семейному принципу и т. д. Есть верховное божество — Зевс, есть его многочисленные родственники, чада и домочадцы. У богов-олимпийцев, возглавляемых в мире Гомера Зевсом, есть своя история. И эта история вступает в логическое противоречие с «вечностью» и «бессмертием» олимпийцев. Миф героического эпоса этого противоречия никак не разрешает, а только усугубляет. Так, бессмертные боги произошли когда-то на свет и затем выросли, в дальнейшем они вкушают свое бессмертие в некоей бесконечной, но финальной для себя фазе. Герои (т.е. полубоги) довольно рано узнают, иногда во всех подробностях, при каких обстоятельствах им суждено вскоре погибнуть. Однако действию это нисколько не мешает. Не мешает действию и то, что Гомер то и дело останавливается на какой-то мелкой подробности, словно забывая, о чем, собственно, идет речь. Правда, он никогда не забывает вернуться к главной теме песни. Подобно тому, как герои никогда не забывают погибнуть.
Главное из бросающихся в глаза противоречий «Илиады»: все — и боги, и люди — твердо знают, что Трое суждено погибнуть, что никакие их действия не остановят неумолимого «хода вещей», Судьбы. И все же все до единого действуют так, как будто они ни о чем не знают, как будто ход вещей можно еще отвратить. Этот эпический мотив будет доведен до своего логического предела в главном поэтическом произведении римлянина Вергилия — «Энеиде». Все — и боги, и люди — подчинены закону. А есть ли закон, которому подчинен сам закон? Да, такой закон есть. Он и называется мифом. Это — универсальная (по-гречески мы бы сказали, конечно, космическая) объяснительная машина (тоже греческое слово, кстати). Историю и природные объекты эта машина объясняет через генеалогию. Географию — через повествование о приключениях богов и героев на суше и на море. Язык — через себя самое. Миф — это всеобщий этимолог. Кстати говоря, и в филологии есть эта мифологическая закваска: сводя семантику к этимологии, языковед поступает именно мифологически, приравнивая происхождение слова к значению, в котором слово употребляется.
Героический эпос выбирает из мифа все, что складывается в связное повествование о событиях Троянской войны. Но в этом повествовании свернуты и отсылки к другим пластам картины мира. Поэтому каждое новое чтение гомеровского эпоса — это новая реконструкция. Каждый читатель нового поколения должен выбрать для себя, какой пласт ему важнее или понятнее. Историк ищет здесь предания о событиях далекого прошлого, психолог — представление об устройстве внутреннего мира людей, живших три тысячи лет назад. Филолог анализирует поэтику — организацию повествования, словарь, сюжетные линии, перекличку мотивов, способ, которым поэт растворяет друг в друге историю и миф.
Растворяя миф и историю друг в друге, эпос заставляет говорить природу — зверя, дерево, человека, звезды, — весь тот видимый и осязаемый телесный мир, за которым грек никогда не видит пустоту, а только все новый и новый предметный, звучащий, осязаемый мир. Вся астрономия, со своими созвездиями, планетами и астероидами — это толкование опрокинутой на небо «Илиады». И так доходит до самых глубоких подземелий: есть мифологическая астрономия и астрология, но есть и мифологическая минералогия и ботаника, мифологическая зоология и энтомология. Цветы пионы считаются бровями Зевса, а птица павлин — священной птицей Геры, сверчок (цикада) — возлюбленным богини зари Эос. Эпический поэт берет от мифа его повествовательную оболочку, от которой читатель может идти на все четыре стороны — назад, на древний догомеровский Восток, вперед, к литературе Рима, в высоту, к истолкованию мифа в философии и изобразительном искусстве, и в глубину, к толкованию филологическому.
Существовал ли Гомер?
Гомер. Римская копия греческого оригинала
Кто подлинный автор «Иллиады» и «Одиссеи». — Особенности переводов данных произведений на русский язык. — Гомеровский стиль и эпос.
Был ли Гомер?
Был. И главное, есть!
Был ли Гомером этот слепой старик, скульптурный портрет которого размещен в словарях и энциклопедиях вплоть? Неизвестно, и даже не имеет значения. Являются ли «Илиада» и «Одиссея», приписываемые Гомеру в действительности его произведениями? И да, и нет. Да, потому что так вот уже три тысячи лет повторяет традиция. Нет, потому что та форма, в которой древнегреческий текст поэм запечатлен в новейших изданиях, по меньшей мере на 300 лет младше предполагаемого времени жизни легендарного Гомера. Так, может, «Гомер» — это фальсификация, как Оссиан Макферсона? Нет, слишком много археологических и лингвистических данных подтверждает подлинность гомеровского оригинала.
Чтобы избежать разговора о мнимости и подлинности Гомера, будет говорить о гомеровском эпосе. В иерархии литературных жанров эпос — крупное стихотворное произведение о значительных событиях мирового или национального масштаба — находится на самой вершине. Пройдут века, и эпосом будут в расширительном и переносном смысле называть нестихотворные, а затем и крупные нелитературные произведения, созданные на литературной основе, — вплоть до голливудских блокбастеров.
Наша эпоха — эпоха развитой массовой книжности. Вы держите в руках книгу, вы легко возвращаетесь к любой интересующей вас строке, легко можете перечитать понравившийся отрывок. Что же говорить о произведениях словесного искусства, которые исполняли сказители, а точнее — певцы-аэды, с VIII или даже IX века до н. э. до VI века до н. э.? У аэдов не было письма, они пользовались в качестве мнемонических инструментов изделиями того рода, которые впоследствии назовут произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вслед за певцами-аэдами, которых представляют импровизаторами, явятся рапсоды, или мастера певческих «кройки и шитья». Именно рапсоды, постепенно закреплявшие на письме репертуар сказителей и исполнявшие песни как фрагменты некоего известного целого, оказались, по-видимому, первой «редакционной инстанцией», которую должен был пройти гомеровский эпос перед своим «воцарением» под известными нам именами «Илиады» и «Одиссеи». Многие исследователи считают, что и сам Гомер был одним из рапсодов, что жил он в Ионии (территория нынешней Турции). Но как сохранил он в своих песнях напластования из других исторических эпох, остается великой загадкой.
В центре эпического повествования — события, имевшие место в Восточном Средиземноморье за 400 лет до самих повествователей. Аэды, услаждавшие слух воинов, рассказывали тем о битвах давно минувшего прошлого, которого не знали и сами, но искусно вплетали в свои сочинения фрагменты новой картины мира. От старинной импровизации на темы греческой мифологии в поэмах Гомера осталось множество следов. Прежде всего — это тот стихотворный размер, которым они написаны. Методологически сама идея жанровой иерархии сегодня не выдерживает критики: эта иерархия построена на превосходстве большого над малым и древнего над новым.
Величие «Илиады» и «Одиссеи» состоит, однако, не в том, что эти произведения возникли очень давно и велики по объему, пусть даже принцип определения значимости произведения по внешним критериям и сохраняет силу для многих ввиду его удобства. Критерии оценки — расходы на постановку, занятость в проекте выдающихся исполнителей, применение спецэффектов — очень важны, но внутренне бессодержательны.
Что же важно? Конечно, наличие запоминающихся, ярких героев, судьба которых, то совпадая, то расходясь с судьбой войска или целого народа, не отпускает слушателя, зрителя или читателя. В основе эпоса — повествование о событиях, которые признаются ключевыми, основополагающими для всех последующих носителей данного языка, представителей данной культурной традиции. Одновременно это и такое повествование, которое остается частью личного опыта каждого. В героическом эпосе нет разделения на «плохих» и «хороших». Для повествователя и его реципиента, а впоследствии — читателя, в центре внимания в каждое мгновение остается удержание перед умственным взором целого, охват его сразу несколькими фасетками.
И вот Гомер — это одновременная способность «крылатого слова» и метрически организованной речи, взглянуть на предмет интереса — будь то зверь, человек или вещь — и с самого большого отдаления, и в самом большом доступном приближении. Как это делали поэты до Гомера, мы никогда не узнаем, однако почему это не удалось воспроизвести в литературе, известно: гомеровский эпос был последней перевернутой страничкой предписьменной поэзии. В мире гомеровских поэм еще не знают письменности или денег, но уже все знают о природе человеческого любопытства, жадности и мстительности.
Вот почему в каждой большой культуре Гомера стараются переводить на язык современной поэзии. России в этом отношении не очень повезло: «наш» образцовый школьный Гомер уже очень стар — это первая треть XIX века, это Гомер Н. И. Гнедича и В. А. Жуковского, а более новые переводы пока не смогли занять равнозначную позицию.
Единственное достоинство данной культурной слабости — наша способность закрыть глаза и представить себе на мгновение, что письменности нет, что все слова, речь поэта мы умеем воспринимать только на слух. И так продолжается из поколения в поколение несколько столетий: сменились поколения и певцов, и слушателей. Читая Гомера в переводе Н. И. Гнедича, мы понимаем, как много в этом переводе непонятного. И это были не какие-то греческие слова, а русские слова, вышедшие из употребления, иной раз всего каких-нибудь 20 лет назад. Непонятного — кому? Да даже и грамотному человеку. Между нами и временем Гнедича меньше 200 лет, тем не менее это достаточно много, например, для того, чтобы слова, звучавшие возвышенно и величаво тогда, сегодня вызывали смех или недоумение.
Словесным источником гомеровских поэм были отдельные песни, представлявшие собой повествовательный клубок. Он разматывался вокруг ярких запоминавшихся картин, изобразительных и предметных комплексов. Множественные переклички, возникающие между гомеровскими поэмами и изображениями на камне, керамике или в металле, дают представление об этих «вещах Мнемозины». Конечно, сегодня наш с вами «текст» сплетен из закрепленного в письменном виде словесного материала, но его «подбой» — это и память о сложных изобразительных комплексах, воображаемых или реальных. Слово одушевляет эти вещи, оно заставляет слушателя поэмы сначала представить себе некое волшебное по красоте виртуальное изделие. Потом, увлекшись его разглядыванием внутренним оком, словно разбуженным потоком речи певца, слушатель забывает обо всем и заботится уже только о том, как бы не пропустить момент таинственного превращения Гектора из откормленного и порвавшего путы жеребца в разбуженного льва. Детям века цифровых технологий легко представить себе подобное превращение простым анимационным трюком.
Таким образом, первым заметным признаком гомеровского стиля, восходящим к устной природе эпоса, мы назвали внушение реципиенту способности видеть (слышать) за малым большое, за движением человека природный катаклизм, за явлением природы волю божества, за поступками богов их неожиданную ревность к людям.
За счет чего достигается эта суггестия? За счет повествовательной щедрости, необыкновенного богатства словесных средств и свободы владения ими. Сила и богатство эти таковы, что греки очень рано сочли «слово» божественной субстанцией. Эту удивительную, кажущуюся волшебной способность построить повествование, в котором читателю одновременно предлагается наблюдать несколько планов бытия, каждому новому читателю Гомера предстоит схватить и понять.
«Эпос» по-гречески — просто «речь», «сказ», «слово». «Эпос эйпéйн» значит просто-напросто «слово молвить». Но другое значение этого слова — «деяние». И мы, когда спрашиваем «о чем речь?», имеем в виду «в чем дело?». Эпическая поэма — это не только повествование о событиях и деяниях, это акт воссоздания события и деяния.
В 21-й песни «Илиады» Ахиллес убивает одного из сыновей Приама, Ликаона:
Мертвого, за ногу взявши, в рекý Ахиллес его бросил,
И, над ним издеваясь, пернатые речи вещал он:
«Там ты лежи, между рыбами! Жадные рыбы вкруг язвы
Кровь у тебя нерадиво оближут! Не матерь на ложе
Тело твое, чтоб оплакать, положит; но Ксанф быстротечный
Бурной волной унесет в беспредельное лоно морское.
Рыба, играя меж волн, на поверхность чернеющей зыби
Рыба всплывет, чтоб насытиться белым царевича телом.
Так погибайте, трояне, пока не разрушим мы Трои,
Вы — убегая из битвы, а я — убивая бегущих!
Вас не спасет ни могучий поток, серебристопучинный
Ксанф. Посвящайте ему, как и прежде, волов неисчетных;
В волны бросайте живых, как и прежде, коней звуконогих;
Все вы изгибнете смертию лютой; заплатите вы мне
Друга Патрокла за смерть и ахейских сынов за убийство,
Коих у черных судов без меня вы избили на сечах!»
(Песнь XXI, стихи 120—135)12
Чем страшнее содержание текста, тем меньше поэт его боится, а читатель трепещет и уже никогда не сможет забыть прочитанное. Это произведение станет матрицей для всей европейской и в том числе русской литературы. Вот почему Гомер не просто был и есть, а еще и будет ожидать человечество впереди.
«Птичка-античка, или Другая природа»
«Высокая» природа античности. — Античность в русской поэзии. — Другая природа античности.
Отправляясь в путь, надобно первым делом ответить на вопрос: откуда я выхожу. Несмотря на известную оторванность России от происходившего в мировых гуманитарных и социальных науках в прошлом XX веке, античная литература насколько я знаю, только в русском университетском обиходе зовется по-свойски «античкой». Мне скажут: «Ну, ты хватил! Да как же можно даже думать о тех многих, кто называет великого Гомера „античкой“, ты думай лишь о тех немногих, кто благоговейно закатывает глаза, едва заслышав имена Платона или Горация!»
Беда, однако, в том и состоит, что благоговение иногда оказывается следствием непонимания или недопонимания. А тот, кто, сначала по незнанию, называет античную литературу «античкой» (птичкой-античкой), быть может, высказывает нечто такое, что нам, мнящим себя хранителями традиции, самим еще предстоит понять. Может быть, это как раз и есть ключевое слово к той замочной скважине, при которой сидят хранители? Тут нам великое подспорье — русская поэзия, для которой античность — другая природа. В стихотворении Николая Заболоцкого «Читайте, деревья, стихи Гезиода» (1946), природа — от рощ и водопадов до берез и берлог — названа и сводней, и обманщицей, и даже еще хуже:
В который ты раз мне твердишь, потаскуха, Что здесь, на пороге всеобщего тленья, Не место бессмертным иллюзиям духа, Что жизнь продолжается только мгновенье!13И — уже под конец этого стихотворения, на мой вкус, чуть-чуть слащавого, поэт — уже как бы от имени «всех Гесиодов» так разъясняет отношение обеих природ, с которыми и в которых он живет:
От моря до моря, от края до края Мы учим и пестуем младшего брата, И бабочки, в солнечном свете играя, Садятся на лысое темя Сократа.14Раскрывая окна и двери к истории античной литературы и культуры, не станем ограничиваться возвышенным и надприродным. Все-таки не будем забывать, что прекрасное, гармоничное, мудрое и совершенное — не таковы ли главные клише, связанные с популярной античностью? — ровно половина дела. Но ведь для того, чтобы Афине можно было во всеоружии родиться из головы Зевса, этому верховному богу Олимпа предстояло проглотить беременную возлюбленную. А для того, чтобы из пены морской могла появиться на свет Афродита, Зевсу пришлось отрезать своему отцу Кроносу и сбросить с неба готовый к испусканию семени детородный член.
Один из тех, кто самым интимным образом относился к античности, Алексей Константинович Толстой, писал в 1859 году:
Вы всё любуетесь на скалы, Одна природа вас манит, И возмущает вас немало Мой деревенский аппетит. Но взгляд мой здесь иного рода, Во мне лицеприятья нет; Ужели вишни не природа И тот, кто ест их, не поэт? Нет, нет, названия вандала От вас никак я не приму: И Ифигения едала, Когда она была в Крыму.15Это стихотворение, положенное на музыку Цезарем Кюи, отсылает нас к мифу о царевне Ифигении, которую отец ее, Агамемнон, собирался зарезать в жертву богам в надежде таким образом добиться успеха в войне. Спасенную богиней Ифигению боги перенесли в Тавриду, т.е. в Крым.
Перевод и переводчики
Перевод Гнедича. — Латинская традиция переводов Гомеровского эпоса. — Переводы на другие языки.
Обратимся к переводам в буквальном смысле слова. Хороших переводов за последние десятилетия в России стало намного больше, в том числе и в особенности благодаря работе нашего великого современника, недавно умершего Михаила Леоновича Гаспарова. М.Л. был, кстати, выпускником кафедры классической филологии МГУ. Не удивлюсь, если узнаю, что для кого-то толчком к изучению античности стала книга Гаспарова «Занимательная Греция». Она драгоценна еще и тем, что там есть проба перевода гомеровской «Илиады», увы, так и оставшаяся, боюсь, камнем для не построенного нового здания.
А пока главный свой перевод «Илиады» для русского читателя все-таки тот, что опубликовал в 1829 году Н. И. Гнедич. Продираться сквозь переводы — и хорошие, и никакие, и плохие, — вот что предстоит на первых порах всякому читателю древних авторов. При этом хорошими или никакими переводами могут почему-то оказаться тексты корявые и малопонятные, а плохими вам могут назвать как раз легче читаемые по-русски и понятные всякому грамотному человеку. И — иногда — за одно и то же слово или целое произведение русского толмача, «преложителя» древнего автора будут и восхвалять, и хулить.
В России по всякому поводу не первый век к месту и не к месту цитируют Пушкина. Встречая публикацию русского перевода «Илиады» Гомера, перевода, выполненного Николаем Гнедичем, Пушкин написал в 1830 году:
Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи; Старца великого тень чую смущенной душой.Но в том же 1830-м году из-под пера Пушкина выходит новая эпиграмма:
Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера. Боком одним с образцом схож и его перевод.16Как прикажете понимать основоположника современного русского литературного языка?
Поймем сначала буквально. Устами Гнедича, да и устами Пушкина, с нами говорит не «сам» Гомер, а только «тень» его. То, что в первом двустишии сказано с благоговением, высоким стилем, повторено в другом саркастически-сниженно: просто слова о «кривом» (т.е. слепом или подслеповатом) «преложителе» Пушкин достал из другого стилистического комода. В первом случае говорится о переводе как о тени оригинала, во втором — о переводчике как человеке, самой природой обреченном на неполноту понимания.
Поэтому читателю изучать приходится не историю античной литературы вообще, а, скорее, историю переводов античной литературы. Но как же быть, если даже самый влиятельный перевод первого и главного великого памятника древнегреческой литературы осмеивают как однобокий?! И хулитель перевода не кто иной, как никогда не выключаемое солнце русской поэзии.
Самая протяженная во времени традиция переводов Гомеровского эпоса, конечно, латинская. Она завязалась в III веке до н.э.: первый римский поэт Ливий Андроник в III в. до н.э. перевел «Одиссею» и тем начал историю римской литературы (правда, этот перевод был утерян). А завершилась эта традиция через 1700 лет, когда Анджело Полициано во второй половине XV века перевел на латинский язык «Илиаду». Примерно тогда же латинские переводы Гомера делали в Германии. Первые итальянские переводы появятся еще через столетие, первый полный итальянский перевод Сальвини выйдет в 1723, а в первой четверти XIX в., т.е. в те же годы, что и Гнедич доделывал свой перевод «Илиады», печатаются те итальянские «Илиада» и «Одиссея», на которых воспитывались несколько поколений образованных итальянцев. Кстати, автором перевода «Одиссеи» был Ипполито Пиндемонте, чье имя известно и каждому русскому школьнику (правда, только как один из псевдонимов Пушкина). Первый полный перевод «Илиады» в Российской империи был польский — Франтишека Дмоховского (1801). Гомер на немецком и английском появился на 100 лет раньше, чем на итальянском — в первые годы XVII в. Первый английский перевод Джорджа Чэпмена — современника Шекспира. А своим поэтом в новое время сделал Гомера для англичан Александр Поп. Для России, как вы можете узнать из прекрасных книг А. Н. Егунова и Е. Г. Эткинда, особенно важным был опыт переводов Гомера на французский и немецкий языки. Это беглое и поверхностное перечисление говорит нам, среди прочего, что, куда бы мы ни посмотрели на литературной карте Европы, у каждого языка и каждой литературы есть своя длинная история переводов Гомера. И миновать главные вехи этой истории никак нельзя.
Вопросы к Гомеру
Что такое гомеровский эпос. — Облик текста. — Намеренная архаизация перевода. — Импровизационная основа эпоса.
Я сознательно несколько переиначиваю проблему, традиционно излагаемую во всех без исключения учебниках и хрестоматиях по античной литературе, проблему, известную как «Гомеровский вопрос», или вопрос об авторстве гомеровских поэм.
Первый общий вопрос: что такое гомеровский эпос. В иерархии литературных жанров эпос — крупное стихотворное произведение о значительных событиях мирового или национального масштаба — находится на самой вершине. Пройдут века, и эпосом будут в расширительном и переносном смысле называть не стихотворные, а затем и крупные не литературные произведения, созданные на литературной основе, — вплоть до голливудских блокбастеров. Методологически сама идея жанровой иерархии сегодня не выдерживает критики. Эта иерархия построена на превосходстве большого над малым и древнего над новым. Величие «Илиады» и «Одиссеи» состоит, однако, не в том, что эти произведения возникли очень давно и велики по объему. Пусть принцип определения значимости произведения по внешним критериям и сохраняет силу для многих до сих пор в силу его удобства: критерии оценки — расходы на постановку, занятость в проекте выдающихся исполнителей, применение спецэффектов — очень важны, но внутренне бессодержательны.
Что же важно? Конечно, наличие запоминающихся, ярких героев, судьба которых, то совпадая, то расходясь с судьбою войска или целого народа, не отпускает слушателя, зрителя, читателя. В основе эпоса — повествование о событиях, которые признаются ключевыми, основополагающими для всех последующих носителей данного языка, представителей данной культурной традиции. Но это и такое повествование, которое одновременно остается частью личного опыта каждого. В героическом эпосе нет разделения на «плохих» и «хороших». Для повествователя и его слушателя, а впоследствии — читателя, в центре внимания в каждое мгновение остается удержание перед умственным взором целого, охват его сразу несколькими фасетками.
Но первый вопрос все-таки — о самом облике текста. Сегодня вы держите в руках книгу. Но закройте глаза и представьте себе на мгновение, что письменности нет, что все слова, речь поэта вы воспринимаете только на слух. И так продолжается из поколения в поколение несколько столетий. Сменилось несколько поколений певцов и слушателей. Читая Гомера в переводе Н. И. Гнедича, вы заметили и не могли не заметить, как много в этом переводе непонятного. И это были не какие-то греческие слова, а русские слова, вышедшие из употребления, иной раз всего каких-нибудь 20 лет назад. Не понятного — кому? Да даже и грамотному человеку. Между нами и временем Гнедича меньше 200 лет. Это очень много. Достаточно много, например, для того, чтобы слова, звучавшие возвышенно и величаво тогда, сегодня вызывали смех или недоумение (вспомните эпиграмму Пушкина на Гнедича). Вот Зевс просит Аполлона перестать помогать ахейцам и вступиться за троянцев после того, как брат Зевса Посейдон, самый необузданный и гневный среди олимпийцев, вынужден был для виду покориться воле Зевса. Вот что говорит Громовержец:
Благо и мне и ему, что, и гневаясь, он уступает
Силам моим: не без пота б жестокого дело свершилось!
Но прими, Аполлон, бахромистый эгид мой в десницу
И, потрясающий им, устраши ты героев ахейских.17
«Бахромистый эгид мой в десницу…», в дневнике чтения одной из участниц нашего сообщества имеется скептическая ссылка на „власатые перси“ Ахиллеса, да здесь что ни слово, то комментарий нужен. В статье А. Н. Егунова и А. И. Зайцева „Илиада“ в России» это обстоятельство объясняется так: «Гнедич заставил нас, насколько это вообще возможно, воспринимать язык и стиль своего перевода примерно так, как воспринимали язык и стиль Гомера греки классической и эллинистической эпохи»18. Другими словами, той эпохи, когда поэмы Гомера записывались и стали основой школьного образования. Намеренная архаизация совершенно законна и по существу.
Наша эпоха — эпоха развитой массовой книжности. Вы держите в руках книгу, вы легко возвращаетесь к любой интересующей вас строке, легко можете перечитать один раз прочитанное место. Что же говорить о произведениях словесного искусства, которые исполняли сказители, а точнее — певцы-аэды, с VIII или даже IX века до н.э. до VI века до н. э. У аэдов не было письма, они пользовались в качестве мнемонических инструментов изделиями того рода, который впоследствии назовут произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вслед за певцами-аэдами, которых представляют импровизаторами, явятся рапсоды, или мастера певческих «кройки и шитья». Именно рапсоды, постепенно закреплявшие на письме репертуар сказителей и исполнявшие песни как фрагменты некоего известного целого, оказались, по-видимому, первой «редакционной инстанцией», которую должен был пройти гомеровский эпос перед своим «воцарением» под известными нам именами «Илиады» и «Одиссеи». Многие исследователи считают, что и сам Гомер был одним из рапсодов, что жил он в Ионии. Но как сохранил он в своих песнях напластования из других исторических эпох, остается великой загадкой.
В центре эпического повествования — события, имевшие место в Восточном Средиземноморье за 400 лет до самих повествователей. Аэды, услаждавшие слух воинов, рассказывали тем о битвах давно минувшего прошлого, которого не знали и сами, но искусно вплетали в свои сочинения фрагменты новой картины мира. От старинной импровизации на темы греческой мифологии в поэмах Гомера осталось множество следов. Прежде всего — это тот стихотворный размер, которым они написаны.
Первый видимый элемент импровизации — устойчивые клише, или формульные стихи («Встала из мрака младая, с перстами пурпурными Эос»19, «И Гефесту Фетида, залившись слезами, вещала…»)20. Это и набор эпитетов, прилагавшийся к именам богов и героев: «С вестью Ирида явилась к Елене лилейнораменной»; «Аполлон Дальновержец»; «Теламонид могучий», «шлемоблещущий Гектор». Это приспособленные под размер поэмы другие простейшие нарративные операторы: «Так он сказал…», «Так говорила. Приам же…», «Так говорила, и старцы…». Итак, не забудем об изустной природе поэм, которые под именем великого слепца были записаны только в VI веке. А потом, как, впрочем, и все прочие дошедшие до нас тексты античных авторов, переписывались от руки еще две тысячи лет. Античность — вся, и греческая, и римская, — знает только рукописную, штучную книгу.
Гомер и риторика
Суггестивная природа гомеровского эпоса. — Приемы создания образа. Ораторское искусство в «Илиаде». — Исток риторической традиции. — Правдоподобие в эпосе.
Риторика как наука возникнет лишь несколькими столетиями позже появления самого значительного произведения риторического искусства — эпических поэм. Поэмы, в которых реальные исторические события переплетены с самым беспардонным вымыслом, но которые оказались убедительнее любого научного трактата, любых подтвержденных неумолимыми физическими данными доказательств. Сила этого вымысла столь велика, что он готов справиться с любыми поправками и уточнениями, которые — начиная с самой античности! — предлагали ученые археологи, историки и философы. В чем же эта сила? Во-первых, она в необыкновенной суггестии, иначе говоря, в совпадении предельной сжатости и предельной повествовательной щедрости певца.
Вот Аполлон, исполняя приказ Зевса, предложил троянцам свою помощь и подвигнул их на вылазку. Вот как описывает Гомер попытку Гектора переломить ход войны. Итак, Аполлон:
Рек, и ужасную силу вдохнул предводителю воинств:
Словно конь застоялый, ячмéнем раскормленный в яслях,
Привязь расторгнув, летит и копытами поле копает;
Пламенный, плавать обыклый в реке быстрольющейся, пышет,
Голову, гордый, высоко несет; вкруг рамéн его мощных
Грива играет; гордится он сам красотой благородной;
Быстро стопы его мчат к кобылицам и паствам знакомым, —
Гектор таков, с быстротою такой оборачивал ноги,
Бога услышавши глас; возбуждал он на бой конеборцев.
Словно рогатую лань или дикую козу поднявши,
Гонят упорно горячие псы и ловцы поселяне;
Но высокий утес и густая тенистая роща
Зверя спасают; его изловить им не сужено роком;
Криком меж тем пробужденный, является лев густобрадый
Им на пути и толпу, распыхавшуюсь, в бег обращает, —
Так аргивяне дотоле толпой неотступные гнали
Трои сынов, и мечами и копьями в тыл поражая;
Но лишь увидели Гектора, быстро идущего к рати,
Дрогнули все, и у каждого в ноги отважность упала.
(XV, 261—279).21
Поразительная, хотя на первый взгляд избыточная в плане ее образности, перспектива возникает в месте встречи обоих сравнений. Сцена выхода Гектора на поле битвы предстает в двух конкурирующих сравнениях. Каждое является самостоятельной картиной. Оптику первой картины я бы назвал гиппоэротической. Как застоявшийся в конюшне жеребец рвет путы и несется к своим кобылицам, так и Гектор, подстегиваемый Аполлоном, вылетает за стены Трои, туда, где у своих кораблей хотят найти убежище греки. Мирно-эротический характер этого сравнения заставляет предположить, что тут Гомер показывает своего героя из троянской перспективы. Глядя из-за городских укреплений, в самом деле, можно мечтать о вырвавшемся на свободу изголодавшемся по кобылицам жеребце.
Совсем другое дело — сравнение Гектора с «густобрадым львом», наводящим ужас на города и веси. Этот Гектор-кровожадный-лев увиден уже не глазами троянцев, но глазами греков. В чем особенность такой внутритекстовой перспективы? Конечно, она довольно проста. Можно говорить здесь о риторической фигуре хиазма, в центре которой, в перекрестье «Х», ратная сцена, а в начале и в конце периода два разнозаряженных фаунистических сравнения.
Словесным источником гомеровских поэм были отдельные песни, представлявшие собой повествовательный клубок. Он разматывался вокруг хорошо запоминавшихся картин, изобразительных и предметных комплексов. Множественные переклички, которые возникают между гомеровскими поэмами и изображениями на камне, керамике или в металле, дают представление об этих «вещах Мнемозины». Конечно, сегодня наш с вами «текст» сплетен из закрепленного в письменном виде словесного материала, но его «подбой» — это и память о сложных изобразительных комплексах, воображаемых или реальных. Слово одушевляет эти вещи, оно заставляет слушателя поэмы сначала представить себе некое волшебное по красоте виртуальное изделие. Потом, увлекшись его разглядыванием внутренним оком, словно разбуженным потоком речи певца, слушатель забывает обо всем и заботится уже только о том, как бы не пропустить момента таинственного превращения Гектора из откормленного и порвавшего путы жеребца в разбуженного льва. Детям века цифровых технологий легко представить себе подобное превращение простым анимационным трюком.
Итак, первым заметным признаком гомеровского стиля, восходящим к устной природе эпоса, мы назвали суггестию, или внушение восприемнику произведения способности видеть за малым большое, за движением человека — природный катаклизм, за явлением природы волю божества, за поступками богов их неожиданную ревность к людям. За счет чего достигается эта суггестия? За счет повествовательной щедрости, необыкновенного богатства словесных средств и свободы владения ими. Сила и богатство эти таковы, что греки очень рано сочли слово божественной субстанцией. Эту удивительную, кажущуюся волшебной, способность построить повествование, в котором читателю одновременно предлагается наблюдать несколько планов бытия, вам предстоит схватить и понять.
Именно в «Илиаде», первом записанном произведении греческой устной словесности, ораторское искусство обсуждается как совершенно особый дар. Одно из таких мест в «Илиаде» — 15-ая песнь, известная под более поздним заголовком «Оттеснение от кораблей» (280 и след.). Гомер рассказывает о Фоанте (или Фоасе) из Этолии. Этот Фоас был
«… и в бою стрелобойном Храбрый и в стойком; его и в собраньях мужей побеждали Редкие, если при нем в красноречии спорила юность. Он, распаляемый ревностью, так говорил меж ахеян…»Что говорил Фоант, сейчас не столь важно, а важно, как на его речь отозвались ахейцы:
Так говорил; и, внимательно слушая, все покорились (ст.299).22
По праву надо сказать, что именно здесь — исток и всей античной риторической традиции.
Но вернемся к Гектору и к сравнениям со львом и конем. Исследователи Гомера считают, что и само это сравнение, и особенно постоянный эпитет Гектора — «конеборный», не случайность, что здесь перед нами — запечатленная, т.е. отлитая и потом застывшая в языке, память о третьем тысячелетии до нашей эры, когда предки троянцев времен Троянской войны, предположительно описываемой Гомером (XII в. до н.э.), впервые вывели на историческую сцену одомашненную лошадь. И все же мы с вами читаем «Илиаду» не как исторический источник. Гомеровский эпос не исторический трактат, и сообщаемые им истины представляют собой особый сплав истории, мифа и личного, человеческого, душевного самоотчета — в самом возвышенном, но и в самом постыдном, в любви и в жажде славы, в тщеславии и в похоти, в трусости и в человеческом зверстве, каково, например, сладострастное упоение при виде убитого врага. При этом достоверность достигается не документальной точностью, а правдоподобием — тем более глубоким, чем фантастичнее описываемое Гомером. «Эпос» по-гречески — просто «речь», «сказ», «слово». «Эпос эйпéйн» — значит просто-напросто «слово молвить». Но другое значение этого слова — «деяние». И мы с вами, когда спрашиваем «о чем речь?», имеем в виду, «в чем дело?»
Эпическая поэма — это не только повествование о событиях и деяниях, это акт воссоздания события и деяния. Идя по гомеровской параболе (парабола — это, по-гречески, сравнение, притча) за «шлемоблещущим Гектором», бегущим навстречу смерти, читатель эпоса уже никогда не сможет избавиться от присутствия в его сознании эпизодов Троянской войны.
Одна из странностей эпоса — впечатление значительности описываемых событий усиливается от обилия слов, значения которых читатель не знает, а если и знает, то не задумывается о корнях этого значения. Вот, «внушительный» говорим мы о чем-то большом, крупном, значительном. Странно, не правда ли? Ведь «внушать» — просто калька греческого слова со значением «нашептать в уши». Что же это за внушительная сила, способность невидимым, иногда еле слышимым словом возбудить в сознании слушателя или читателя великую, грозную картину брани. В 21-й песни «Илиады» Ахиллес убивает одного из сыновей Приама, Ликаона:
Мертвого, за ногу взявши, в реку Ахиллес его бросил,
И, над ним издеваясь, пернатые речи вещал он:
«Там ты лежи, между рыбами! Жадные рыбы вкруг язвы
Кровь у тебя нерадиво оближут! Не матерь на ложе
Тело твое, чтоб оплакать, положит; но Ксанф быстротечный
Бурной волной унесет в беспредельное лоно морское.
Рыба, играя меж волн, на поверхность чернеющей зыби
Рыба всплывет, чтоб насытиться белым царевича телом.
Так погибайте, трояне, пока не разрушим мы Трои,
Вы — убегая из битвы, а я — убивая бегущих!
Вас не спасет ни могучий поток, серебристопучинный
Ксанф. Посвящайте ему, как и прежде, волов неисчетных;
В волны бросайте живых, как и прежде, коней звуконогих;
Все вы изгибнете смертию лютой; заплатите вы мне
Друга Патрокла за смерть и ахейских сынов за убийство,
Коих у черных судов без меня вы избили на сечах!»
(Песнь XXI).23
Нет границ между живой и неживой природой, между зверем, божеством и человеком
Что такое видимый мир. — Узловые события мифа и жизни. — Любовная страсть как сюжет. — Цензурирование мифов. — Вариации мифа о Елене
Видимый мир для Гомера — это место встречи людей и богов. В отличие от человека, более или менее обреченного проводить свою жизнь в собственном, человеческом облике, божество не только бессмертно, но и гораздо пластичнее человека, свободнее меняет свой облик. Хоть в греческой мифологии имеется специальный персонаж, превращавшийся то в зверя, то в огонь, то в воду, — морское божество Протей, все же и он уступает по силе перевоплощения верховному олимпийцу — Зевсу. Хоть гомеровский эпос — это такое повествование о Троянской войне, которое представляет себе богов антропоморфно, и здесь нет непроходимой границы между человеком и рекой, конем и богом. Миф героического эпоса в этом отношении более всего напоминает компьютерную игру. Вернее — несколько конкурирующих игровых платформ. Главная — наша с вами гомеровская, но она не единственная. И, что самое интересное, конкурирующие варианты касаются узловых событий мифа и жизни. Что это за события? Таких событий три: два неповторимых и единственных, и еще одно, в принципе повторяемое, а уж у богов-то и подавно. Речь идет о рождении, смерти и неодолимой вспышке любовной страсти. Когда такой страстью к смертному или смертной воспылает бог или богиня, событие это может иметь место один-единственный раз. Так, Семела буквально сгорела в молниях своего олимпийского супруга, и младенца Диониса пришлось донашивать, зашив эмбрион в бедро, самому отцу — Зевсу. В барана пришлось превратиться грозному Посейдону. Божество бурного моря, он похитил нимфу Феофану, спрятал на острове в облике овечки и, чтобы сойтись с нею, сам должен был принять облик барана; от этого союза родился знаменитый златорунный баран — тот самый, на котором Фрикс и Гелла вылетели в Колхиду, и от которого было получено злосчастное «золотое руно».
Следует, конечно, помнить, что любовная страсть, а вернее сказать — сюжет, развернутый вокруг любовной страсти, часто представляет собой лишь субститут, т.е. подмену, каких-то других — династических или экономических отношений. Миф совершенно не интересуется политэкономией и социальной историей. Но вот изложение или представление того или иного мифа в эпосе может оказаться в высшей степени полезным источником для исторической реконструкции. Мне уже приходилось говорить об эпитете Гектора «конеборный», в котором исследователи видят след того, как кочевые племена в третьем тысячелетии до н.э. принесли в Троаду культуру домашней лошади.
Конечно, трудно удержаться от искушения толковать некоторые события «Илиады» как аллегорию природных катаклизмов. Осенью 2007 года СМИ сообщали о совпавших по времени пожарах и наводнениях в Греции. Так было и две, и три тысячи лет назад и в Малой Азии, где лежала Иония. И не у Гомера ли мы найдем описание страшно и грозно ожившей реки, восставшей на Ахиллеса за то, что тот осквернил воды Скамандара трупами своих врагов (XXI)?
В дальнейшем разыграется противостояние Гефеста и Скамандра. Колченогий сын Зевса и Геры — кузнец и старший по званию бог — обрушится на влиятельное, но все же местное водное божество. Часто буквальное толкование мифологической подкладки гомеровских поэм отталкивает нас от понимания содержания «Илиады». И сам Гомер, изготавливая свою версию из различных вариантов, отказывается от некоторых сюжетных ходов в силу их чрезмерной пряности для своего времени. Это же обстоятельство веками заставляло читателей и, главное, позднейших издателей беспрерывно цензуровать древних. Уж слишком свободно и прямо говорит греческий миф о вещах, пространство для которых в христианской Европе было занято новой картиной мира. Казалось бы, как это возможно, как можно спрятать праздничный, хоть уж очень звероподобный, блуд богов и эротические хитрости людей? Но это и началось не с Гомера даже, не только не с Гнедича.
Никто не знает, ради чего Гомер отказался, например, от варианта мифа о рождении Елены — дочери Зевса и Леды, жены спартанского царя Тиндарея. Подробности появления на свет ключевой фигуры Троянской войны вложил в уста самой Елены трагик Еврипид: «Да, — объясняет Елена, — я дочь Тиндарея, но рассказывают и о том, что Зевс принял облик летящего лебедя, преследуемого орлом, и так, обманом, нашел убежище в объятьях Леды». О том, как Зевс внушил ей страсть и оплодотворил ее, рассказывает немало поэтов. Но у самого Гомера мы на этот счет почти ничего не найдем. Античных комментаторов и позднейших европейских эмблематиков будут привлекать загадочные яйца, которые снесла Леда, и весь ее несчастный приплод — сама Елена, ее сестра Клитемнестра (или Клитеместра), братья-близнецы Кастор и Полидевк. Еще через несколько столетий тема вдохновит символистов и модернистов. Посмотрите, во что превратится миф о Леде и лебеде под пером великого английского поэта Уильяма Б. Йейтса (William Butler Yeats, 1865—1939):
A sudden blow: the great wings beating still Above the staggering girl, her thighs caressed By his dark webs, her nape caught in his bill, He holds her helpless breast upon his breast. How can those terrified vague fingers push The feathered glory from her loosening thighs? How can anybody, laid in that white rush, But feel the strange heart beating where it lies? A shudder in the loins, engenders there The broken wall, the burning roof and tower And Agamemnon dead. Being so caught up, So mastered by the brute blood of the air, Did she put on his knowledge with his power Before the indifferent beak could let her drop?24Вот русский перевод Романа Дубровкина:
Биенье мощных крыльев, натиск пылкий, Скользят по бедрам перепонки лап, Широкий клюв сомкнулся на затылке, Не вырваться, не крикнуть, — слишком слаб Отпор девичьих рук, — бессильно тело Стряхнуть великолепный этот плен! Прислушайся, как бьется ошалело Чужая грудь у дрогнувших колен! Зачаты в судороге сладострастной Смерть Агамемнона, поход напрасный, Сожженный город, бесконечный бой… Но в этот миг, пьянея от победы, Открыл ли он предбудущие беды, Покуда не пресытился тобой?25Миф о Елене, родившейся от брака с необыкновенной женщиной, страсть к которой заставила Зевса разыграть целый спектакль (он ведь сам был и орлом, преследовавшим лебедя, и лебедем, кинувшимся к ногам Леды за защитой), волновал греческих поэтов. Лирик Стесихор около середины VI в. до н.э. решил спасти репутацию спартанки Елены и внес поправку в миф о ее похищении Парисом. Оказывается, по Стесихору, Парис сначала бежал с Еленой к Протею, в Египет. Там мудрый Протей, сам большой умелец менять собственный облик, изготовил, как сейчас бы сказали, полноразмерного аватара Елены, которого глуповатый, ленивый Парис и увез в Трою. А настоящая Елена, по Стесихору, дожидалась в Египте, у Протея, прибытия за нею законного супруга — Менелая. Но есть и третий вариант посмертной судьбы Елены — ее союз с Ахиллесом на островах блаженных…
Гомер является подсказкой ко всей древнегреческой литературе, особенно — к греческой трагедии. При всех (и нередких) расхождениях фабулы греческих трагедий и гомеровского эпоса, трагики не зря называли себя не иначе как гостями на гомеровском пиру, а свои трагедии — отдельными кушаньями с пышного гомеровского стола. К эпизоду Троянской войны возведут миф о возникновении своей великой цивилизации римляне. «Энеида» Вергилия станет латинским синтезом «Илиады» и «Одиссеи».
Гомеровские боги: пол и возраст
Возраст богов как противоречие в эпосе. — Зевс и Ганимед. — Генеалогическое древо богов.
Чтобы из мифа о богах и героях или о происхождении всех явлений природы можно было составить связное повествование, поэту приходится встраивать в свое произведение все новые неустранимые противоречия. Одно из таких кричащих противоречий Гомера — представление о возрасте богов и людей. С одной стороны, боги бессмертны, а с другой — они живут в вечной и для каждого — своей «янтарной капле». Вот Зевс, не в силах удержать свою похоть, выкупает у троянца Троса (или Троя) юношу-Ганимеда (по другой, более распространенной версии, многократно воспроизведенной в мировой живописи, Зевс похищает Ганимеда, приняв облик орла).
Царь Эрихтоний родил властелина могучего Троя,
Троем дарованы свету три знаменитые сына:
Ил, Ассарак и младой Ганимед, небожителям равный,
Истинно, был на земле он прекраснейший сын человеков.
(ХХ,)26На Олимпе Ганимед назначается виночерпием и одаряется бессмертием. Он больше не взрослеет. В позднем изложении этого сюжета у римлянина Овидия выделяется фривольный слой похищения прекрасного юноши эдаким бисексуальным олимпийским монстром:
Некогда царь всех богов к Ганимеду Фригийскому страстью
Вспыхнул. Нашлось, чем быть пожелал и Юпитер,
Лучше того, чем он был. Но в птицу ему обратиться
Он удостоил лишь ту, что нести его молнии может,
Без замедленья, дробя могучими крыльями воздух,
Он илийца схватил, который, мешая бокалы,
Нектар — Юноне назло — и поныне Зевсу подносит.
(Овидий. Метаморфозы, Х, 155—165)27
Для чего понадобилось Зевсу (латинское его имя — Юпитер), похищая Ганимеда, принимать облик орла? Может быть, только для того, чтобы в предании не потерялась древняя фаунистическая (животная) ипостась верховного божества? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Есть предание, есть пересказ его, есть устойчивый мотив похищения человека птицей. Есть, наконец, позднее представление о пиршествах богов на Олимпе как о застольях богатого и знатного семейства. В таком контексте охальник Зевс, действительно, дразнит свою, впрочем, никогда не стареющую и прекрасную супругу Геру (римское имя ее — Юнона) присутствием в доме юного возлюбленного — Ганимеда.
Однако же, раз греческий миф не знает непроходимой границы между полами, между человеком и животным и даже между человеком и вещью, то вполне понятна его «терпимость» к различным типам и, так сказать, уровням человеческой сексуальности. Олимпийская мифология — высшая стадия древнегреческой мифологии — имеет дело с некоторым подобием семьи, какой бы странной ни казалась эта семейка. В какой же фазе греческого мифа застает его Гомер? А. Ф. Лосев полагает, что это фаза едва ли не иронического отношения к мифологии вообще. Вместе с тем, иногда кажется, что ирония, как сказали бы на современном компьютерном жаргоне, «зашита» в самую мифологическую программу. Внести некоторую ясность в мифологическую картину мира и, возможно, несколько исправить, как сегодня сказали бы, «имидж» Гомеровских богов, собирался поэт Гесиод. В «Теогонии» Гесиод предлагает непротиворечивую картину мира, или генеалогическое древо богов. Это замечательное дидактическое произведение, хотя ни ясности, ни исправления подмоченной репутации олимпийцев у Гесиода не получилось. С тех пор попытки осерьёзнить миф обычно ведут к обратным желаемому результатам. Однажды разобравшись в устройстве мифа как примирителя взаимоисключающих повествований, вы уже никогда не захотите (да и не сможете) от этого устройства отказаться, ведь оно окажется полезным при анализе все новых и новых произведений литературы.
Раздел 3. Воплощение мифов
Некоторые проблемы античной мифографии
Предмет изучения мифографии. — Иллюстративный характер мифологических изображений. — Внесловесный пласт мифологической образности. — Мифологическая вещь = кристаллизатор повествования. — Эволюция иконографии мифа о Сизифе. — Миф о Катрее. — Зазор между изложением сюжета и осмыслением его предметного содержания.
Изучение повествовательного строя сочинений античных мифографов в его связи с иконографией мифа может·представить значительный интерес для мифологии как историко-культурной дисциплины. Не задаваясь вопросом «Что такое миф?», мифографы пишут о том, какие бывают мифы, правдивы ли они, какими мифами пользовался Гомер, какими — трагики, что в действительности означают мифы и т. п. При этом в силу того, что основным источником мифографов является греческая поэзия — эпическая, драматическая, лирическая, — сама собою складывается уверенность в том, что и предмет их интереса — миф — явление насквозь словесное, ибо µῦθος, говорят нам, и есть слово.
Вооружившись этой уверенностью, мы готовы сделать и следующий шаг, связанный уже с истолкованием мифологии, воплощенной в произведениях искусства, для которой весь этот пестрый изобразительный материал делается иконографией. Так, например, иконография Троянской войны связывается с гомеровскими поэмами или поэмами эпического цикла как иллюстрация, воспроизводящая — с поправкой на язык пространственного искусства — сюжетные схемы памятников (в том числе гипотетических) искусства словесного.
Во множестве случаев такая установка безусловно правильна. Собственно, с того момента, как Гомер или трагики вошли в школьный обиход, преимущественно иллюстративный характер мифологических изображений на вазах, зеркалах, в настенной живописи и т. д. не вызывает никаких сомнений. Именно таковы Tabulae Iliacae (Троянские картины) императорской эпохи, а также «гомеровские чаши», самые старые из которых Карл Роберт датировал III в. (в их основе, вероятно, лежат уже не самые киклические поэмы, но их ипотесы).
Принципиальные трудности порождает лишь вопрос о механизме изобразительного повествования, или, точнее, о механизме словесного воспроизведения мифологического изображения: преобладание иллюстративной иконографии греческой мифологии, с одной стороны, и убежденность в безостаточной словесной выразимости мифа — с другой заслоняют от мифографов внесловесный пласт мифологической образности. Что принадлежит этому пласту?
На ранней стадии оформления мифа то была мифологическая вещь = кристаллизатор повествования. Это не только т.н. атрибуты богов и героев — треножник Аполлона, трезубец Посейдона, серп Крона, шлем Плутона, но и золотой агнец Атрея и Фиеста, пурпурный волос Ниса и золотой — Птерелая, медный гвоздь Талоса и лодыжка Ахиллеса, раковина Миноса и Дедала, ржавый нож Филака.
Мифографу, даже ориентированному на древнейший поэтический источник, не остается ничего иного, кроме упоминания такой мифологической вещи в качестве обыкновенного предмета, изделия или органа, упоминания, не обременяющего компилятора и его читателя вопросами о самостоятельной (до- или внесюжетной) судьбе вещи. Различные ступени непонимания мифографами структурирующей функции мифологической вещи, воспринимаемой как устойчивый иконографический признак сюжета, являются важным показателем для определения момента, когда произошел окончательный разрыв словесной и изобразительной повествовательных систем. Яркие примеры дает «Мифологическая библиотека» Аполлодора.
В I.9.3 речь заходит о преступлении Сизифа. Изложение строится следующим образом: сначала сообщается традиционная иконография Сизифа («в наказание он катит в гору головой и руками огромный камень»), а потом объясняется предыстория наказания (Сизиф выдал Асопу, что его дочь Эгину похитил Зевс). Данная последовательность свидетельствует не только об опоре на изобразительный источник, и даже не только на то, что источник этот сравнительно поздний (на самых ранних изображениях Сизифа его пресловутый камень невелик и напоминает диск, еще вполне пригодный для того, чтоб быть связанным с дневным или ночным светилом). Важно, что все остальные элементы «мифологии Сизифа» осознаны мифографом как вторичные по отношению к главному мотиву фабулы — «сизифову труду».
Такова самая примитивная ступень, на которой мифологическая вещь еще не требует для себя объяснений, хотя ничто, кажется, не мешало Аполлодору связать наказание Сизифа с наказанием его тестя Атланта, поддерживающего небесный свод, и задуматься о стародавних владыках каменного неба и каменного солнца. Но не тут-то было: иконографическая традиция «вырастила» диск в неподъемную скалу из банальной каменоломни.
Гораздо резче контраст между иконографическими обязательствами мифографа и трудностями в словесном перевоплощении простейшего изобразительного мотива обнаруживается, например, в изложении мифа о Катрее, сыне Миноса, и именно там, где Катрей становится убийцей сестры.
В сестру Катрея Апемосину влюбился Гермес, не сумевший догнать ее, ибо она превосходила его быстротой ног. Тогда Гермес расстелил на дороге свежесодранные шкуры животных, на которых Апемосина поскользнулась и была настигнута Гермесом. Об этом она рассказала брату, но тот не поверил в правдивость ее рассказа и ударом ноги убил Апемосину. И здесь Аполлодор не вдается в разъяснения, так что весь мотив содранных шкур и быстрых ног остается загадкой и для данного контекста, и для всей «Мифологической библиотеки».
Вне зависимости от того, какими источниками — изобразительным или литературным — пользовался автор «Библиотеки», очевидно, что повествование идет по пути фабульного растолкования реалий. То, что мифографу может казаться деталью рассказа, при ближайшем рассмотрении оказывается его смысловым стержнем. Но этот смысл остается невостребованным, если считать иконографический комплекс иллюстрацией, а подлинный источник видеть в словесном пересказе фабулы — «событий», «действий», «поступков» мифологических «персонажей».
Двойной источник античной мифологической традиции и возникающий вследствие этого зазор между изложением сюжета и осмыслением его предметного, вещественного содержания — необходимая предпосылка для изучения повествовательных приемов, которыми пользовались мастера изобразительного искусства. Только для них скрытым стержнем повествования оказывается, наоборот, слово.
Грифос: предметное и словесное воплощение греческого мифа
Орест и Ифигения Мозаика II век н.э. (Капитолийские музеи)
Предписьменная эпоха. — Гриф как жанр застольной словесности. — Вещи Мнемозины, или зачем еще были нужны изображения на вазах: различные толкования. — Формы бытования словесного искусства. — Мифотворческий смысл и словесное оформление.
В VI книгу своего «Предметного словаря» навкратит Юлий Поллукс, бывший в последней четверти II в. профессором риторики в Афинах, включил слова, касающиеся застолья (τα συμποτικά ονόματα). От лексики, гнездящейся вокруг «топчанов» и «сотрапезников», «вина», «мяса», «рыбы», «дичи», «зелени», «поваров» и «рукомойников», Поллукс приводит ученика и читателя к розам, фиалкам, лилиям, анемонам, гиацинтам, к тимьяну, чабрецу и доброму десятку других цветов, из которых делались венки для пирующих, продолжает: «К словам, входящим в круг застольных, принадлежат, конечно же, загадка (αίνιγμα) и гриф (γρι̃φος); загадками забавляются (παιδιό), а вот грифы — это целая наука (σπουδή): разгадавший его при перемене блюд получал в награду кусок мяса, а не осиливший грифа выпивал кубок рассолу28. Именем своим гриф обязан рыбацкому сачку (τοις «αλιευτικοις γρίφοις). Предмет грифа именуется киликеем (κυλικειον). Грифами прославился софист Феодект, развивший искусство запоминания и называвший грифы памятниками (μνημόνια)». Упомянув затем застольные песни, круговую песнь-сколий, вручение выдержавшим ночное пиршество кунжутных и пшеничных лепешек, Поллукс описывает игру в коттаб и, наконец, перечисляет выражения со значением «расходиться по домам». Итак, начав с шутки-загадки (αινιγμα-παιδιά), сотрапезники переходят к серьезному состязанию (γριφος-σπουδή), победитель которого удостаивается права исполнить песнь под звуки лиры, а завершает пиршество игра в коттаб. Бесхитростная схема застольных состязаний нарастающей трудности в §107—112 VI кн. «Ономастикона» содержит, однако, нечто большее, чем расшифровку знаменитой формулы σπουδογέλοιου (смесь серьезного и смешного), отправной точки сократического диалога-симпосия от Платона до Юлиана29.
Две вещи в пассаже Поллукса привлекают особое внимание. Первая — термин κυλικεΐον, обозначающий предмет, с помощью которого загадывается гриф, вторая — упоминание Феодекта из Фаселиды. То обстоятельство, что от Феодекта не дошло ни одного сочинения, а немногочисленные фрагменты не позволяют выносить определенных суждений о характере его творчества30, не отменяет распространенного в античности взгляда на него как на выдающегося писателя — трагика и ритора. Это в его честь Аристотель назвал «Феодектиями» свой риторический трактат, а в «Никомаховой этике» и «Поэтике» как образцы совершенства рассматривает трагедии Феодекта «Линкей» и «Филоктет». Дионисий Галикарнасский, Исей, Плутарх называют Феодекта учеником Исократа, в словаре Суды говорится, что его учителями были также и Платон и Аристотель. Вместе с тремя другими знаменитейшими ораторами Эллады его пригласила карийская царица Артемисия для составления эпитафии ее мужу, царю Мавсолу. Феодект умер в Афинах и был похоронен в почетнейшем месте — у Священной дороги, соединявшей Афины с Елевсином. Фаселиты в знак скорби по самому знаменитому своему земляку установили на рыночной площади статую Феодекта31. Здесь перечислено практически все, что известно о Феодекте32, и мы вряд ли узнаем, что в точности имел в виду Поллукс, когда называл его μνημονικός. Очевидно только, что речь идет о том разделе риторики, который касается запоминания и непосредственно предшествует «говорению» — воплощению риторического произведения. Понятно также, что методика запоминания представляла все большие трудности по мере угасания предписьменной традиции словесного искусства на фоне цветения письменной культурной традиции33.
Мнемотехника Феодекта возникла не на пустом месте, и упоминание о ней в словаре Поллукса — одно из последних свидетельств существования жанровой формы, изучение которой то заслонялось, то подготавливалось исследованием ее позднейших -рецидивирующих воплощений (экфраза). Суть интересующей нас жанровой нормы обнаруживает синонимия μνημόνιον-κυλικεΐον. Действительно, памятка — это, прежде всего вещь, и гриф как жанр застольной словесности обслуживается соответствующими предметами, в первую очередь — расписной посудой. Столетия, разделяющие словарь Поллукса34 и эпоху перехода от предписьменной культуры к письменной (от «архаики» к «классике»), не лишают эту книгу памяти о вещах, служивших агрегатами для возбуждения поэтического вдохновения в те времена, когда вещь была устойчивым элементом произведения словесности, а речь, импровизация исполнителя оставалась эфемерной гетерогенной филиацией вещи35. В эту эпоху изображение и слово стоят друг к другу в том же отношении, что текст и картинка в книжках для детей, еще не умеющих читать. Ребенок ли считывает свой рассказ с изображения, посредник ли импровизирует свой, отталкиваясь от картинки и подписей, — неважно. Существенно то, что изображение помещено в сердцевину устного предания, оказываясь, таким образом, вещественным залогом произведения устной словесности. Образцом залога и является киликей из «Ономастикона». Но, чтобы взглянуть на вазопись как на промежуточную форму бытования произведения словесного искусства, увидеть в ней посредницу между божественным словом и певцом, особый тип текста, необходимо хоть немного осмотреться среди других вещей Мнемозины.
О памятниках такого рода, рассчитанных на истолкование знатока, известно немало. Три ступени приближения к этим вещам нам доступны. На первой — художественный инвентарь эпоса (пример — гомеровский щит Ахиллеса); на второй — знаменитые в древности многофигурные мифологические композиции, описание которых занимало филологов — антикваров и реконструкторов древней греческой культурной традиции (таковы, например, трон Аполлона в Амиклах, ларец Кипсела, описанные Павсанием). Наконец, на третьей ступени — только сами вещи — от грандиозных архитектурно-скульптурных ансамблей вроде Парфенона до сохранившихся многочисленных памятников греческой вазописи, глиптики и торевтики36. Нетрудно увидеть за всем этим общий источник, о котором сказано у О. М. Фрейденберг: «Вещь как космос: в таком значении до нас дошло много описаний искусно сделанных вещей, на которых изображена первобытная вселенная. Выжженный руками гончара горшок, сотканный полог, вылепленный кубок, вооружение героев — эти вещи передавали мифы рядом со словесным их оформлением… Миф о Троянской войне, прежде чем стать повествованием, служит узором для тканья Елены… Бокалы и чашки, горшки и вазы, светильники, всякие сосуды — они рождаются мифотворческим смыслом…»37. Необходимо, может быть, только одно замечание. Вещи Мнемозины рождены словом, а «мифотворческий смысл» — это и есть их «словесное оформление». Принадлежащие, однако, эпохе предписьменности (или предграмотности, VII—VI века.), вещи эти в большинстве случаев безнадежно утратили свою словесную ауру. За сотни лет они так привыкли оставаться явлением изобразительного и декоративно-прикладного искусства, что приходится прибегать то к хитростям, то к трюизмам для привлечения их хотя бы на периферию филологического изучения, которому они принадлежат по праву: действительно, «писать» и «рисовать» по-гречески значит просто «процарапывать» — ξέσαι, а γράμματα превращаются в «буквы», «записи», «писание», отбыв прежде службу «линий» и «изображений». Ключевой вопрос здесь, следовательно, в смене.
Часть 1
Первая задача записи-графики — тайнопись: содержание записи должно быть скрыто от посредника, от чужого. В VI песне «Илиады» сын Гипполоха Главк рассказывает сыну Тидея Диомеду о своем происхождении. Центральная фигура в его рассказе, конечно же, дед Главка Беллерофонт, основной мотив — миф о том, как Антия, жена гостеприимца Беллерофонта царя Прета, объявила мужу, что гость «желал насладиться любовью с ней, с нехотящей». Прет поверил, но не решился поднять руку на Беллерофонта и послал того к своему тестю, ликийскому царю Иобату, а с собою дал ему «погибельные знаки» (σημα κακόν), начертанные на складной дощечке:
Дшицу же тестю велел показать, да от тестя погибнет38
Увидав σῆμα κακόν, Иобат подверг Беллерофонта известным испытаниям, но в конце концов и он «познал знаменитую отрасль бессмертных»:
В доме его удержал и дочь сочетал с ним царевну39.
Все последующие изложения этого мифа, восходящие либо к тексту Гомера, либо к трагикам, делают из «дщицы» Прета «письмо», «таблички для чтения», незаметно превращая истолкование знаков Прета Иобатом в чтение общезначимого, так сказать, текста. Любопытен спор схолиастов «Илиады»: один, «упрощенец», говорит40, что «знаки — это буквы, а дщица — табличка для письма». Зато «ученый», тот, кто пользовался комментарием самого Аристарха, пишет, что не следует думать, будто речь идет о письменах: «писать» означает здесь «вырезать» (ξέσαι); так, нацарапав изображение (εἴδωλα), Прет дал знать об этом своему тестю. Речь идет о пиктограмме, которая может быть истолкована двояким образом. Прет не должен был просить Иобата убить Беллерофонта, ему довольно было описать тестю покушение на Антию. Остальное происходит в соответствии с тем или иным истолкованием послания Прета: Иобат подвергает Беллерофонта испытанию и отдает ему дочь и царство. Все это можно было бы считать ни к чему не обязывающей мифологической завитушкой, если бы не распространенность мотива в историческое время.
Стоит сопоставить сюжет с Беллерофонтом у Гомера и мифографов с родственными эпизодами из «Истории» Геродота, посредника между письменной и предписьменной традициями, выступающего здесь в качестве и основного, и дисциплинирующего источника. В одном речь идет о послании Гарпага к Киру, содержавшем призыв к восстанию против Астиага и зашитом для надежности в зайца, доставленного к Киру вернейшим слугою Гарпага, для отвода глаз снабженным причиндалами охотника (а именно «сетью» — синонимом «загадки»: δίκτυον =γρΐφος). Получив, по словам Геродота, «книжицу» (βιβλιον) с письменами, Кир разыграл грандиозный спектакль-басню: «записав в книжку то, что хотел», он объявил персам, что назначен их полководцем и просит всех их явиться, имея при себе серпы; весь следующий день персы по его приказу срезали этими серпами заросли терновника; на третий день Кир устроил роскошное пиршество, пожертвовав на это весь скот своего отца Камбиза, и все это для того только, чтоб на свой вопрос, который из двух дней лучше, услышать, что день пиршества, конечно, прекрасней дня изнурительного труда. Таких дней будет больше, если вы согласитесь выступить вместе со мною против Астиага и мидян, сказал он персам.
Разительный контраст архаичной энигматики войны с терновником, заклания отцовских стад и «классического» мотива переправы через кордон (τών όδών φυλασσομένων) нелегальной корреспонденции заставляет усомниться не только в подлинности, но и в самом факте написания какого бы то ни было письма: не довольно ли было Киру увидать «охотника с сетью и пойманным зайцем», чтоб соответствующим образом истолковать послание Гарпага?
Другой, эллинский пример — знаменитое послание перешедшего на сторону персов спартанца Демарата, содержащее предупреждение о начале персидского нашествия на Элладу. Демарат, по словам Геродота, нацарапал письмо прямо на дощечке, которую залил воском, и отправил его в Лакедемон. Дочь Клеомена и жена Леонида, догадливая Горго41, соскоблила воск и прочитала то, что хотел сообщить Демарат. Мог ли Демарат идти на такой риск, не достаточно ли красноречивым посланием (лаконца лаконцам!) была неисписанная «дщица»?
Наконец, последний — третий пример того, как письменная традиция переиначивает на свой лад дописьменный семиозис, — рассказ Геродота о выдумке Гистиея: желая передать из Сус в Милет тирану Аристагору призыв поднять восстание против Дария, этот Гистией обрил своего вернейшего раба, вытатуировал на его голове (την κεφαλήν εστιξε) свое послание, дождался, пока отрастут волосы, и через кордоны (φυλασσομένων τών όδών) отослал раба в Милет с единственным поручением — просить Аристагора обрить его и осмотреть голову, знаки на которой обозначали восстание (τα δέ στίγματα ἐσήμαινε ἀπόστασιν). Несмотря на извечное и повсеместное употребление татуировок в качестве средства хранения наиболее значимой информации, а также легкость, с которой в целях конспирации обритая голова слуги была б немедленно по прочтении отрублена, все же данное сообщение Геродота не выдерживает критики, ибо тавтологизирует сам по себе достаточно значимый акт. Любопытны следы, выдающие в этих «знаках» (στίγματα) протезы: уточняя имевшееся в его руках сообщение, Геродот в трех фразах пять раз повторяет глагол σημαίνω, сопровождая сказанное личным клеймом-оговоркой «как я говорил выше» (ως και πρότερον μοι εΐρηται).
Правда, во всех трех случаях мой аргумент, как всякий аргумент ad hominem, страдает недоказуемостью. Но зато он определенно опирается на узус. Суть этого узуса в том, что пользование словом в предписьменных культурах — едва ли не самая опасная из житейских и полисных процедур. Вес слова здесь неизмеримо выше, чем в последующие эпохи торжества письменности. Вот почему его предпочтительней скрыть за вещью: Геродоту такая установка уже чужда.
Много сказано и написано о древнегреческом переживании времени как циклического замкнутого пространства, совсем не приходится слышать о неимоверных возможностях, предоставляемых такой картиной мира словесному творчеству. Ведь тут любая вещь может быть расценена как знамение, нуждающееся в истолковании, а речь — как прорицание, все равно, говорится ли в ней о невероятном побочном следствии грядущих событий («Колиадские жены ячмень будут жарить на веслах»: это произойдет после того, как шторм прибьет обломки персидских кораблей к аттическому берегу) или невероятном условии неизбежных напастей (например, оракул Крезу, посуливший ему конец царствования в случае, если правителем мидян станет мул, т. е. Кир). Угаданное, умом добытое или правильно истолкованное слово тождественно подлинному овладению ходом событий, самой судьбой. Именно слово снимает пресловутый фатализм, якобы присущий мышлению античного человечества.
Сами события кажутся призванными для того, чтоб оправдать одни и не оправдать другие словесные ожидания. Любое, даже самое безобидное, высказывание имеет шанс задним числом оказаться пророчеством, случайно произнесенное имя становится ключевым знамением.
Зеркальная сторона этого узуса — истолкование знамений и сновидений, настойчивое словесное оформление смутных видений и разгадывание сложных загадок. Историк должен обратить внимание на воплощенные в этом явлении черты первобытного сознания, филолог не может не погрузиться тут в атмосферу глубочайшей веры предписьменного человечества в мощь словесного искусства, которое обращает случайный знак в повествование, истолкованием закрепляя случай как неотторжимое звено в цепи событий.
Незаметное сведение загадочных изображений (εἴδωλα) к буквам (γράμματα), а истолкования — к чтению — это лишь свидетельство наступления новой эпохи, представители которой склонны к реалистичным оценкам (Геродот понимает, что сновидения — плод вчерашнего опыта), но как честные дети своих отцов не способны на злонамеренное искажение традиции (Геродот верит в бороду, вырастающую у жрицы Афины, когда педасийцам грозит беда). Вот почему в иных случаях подбирающий сугубо «рациональные» доводы к истолкованию политических и иных событий. Геродот предельно внимателен и к прорицанию, и к истолкованию, и к прорицателям, и к истолкователем знамений и пророчеств.
Для Геродота, как и для историка литературы, прорицатель и истолкователь — не просто лица, достойные уважения, но прежде всего — поэты и ораторы. Эфемерность их художественной продукции, утилитарность целей, коррумпированность отдельных мастеров жанра не могут заслонить от нас этого простого обстоятельства. Такими же поэтами были и Солон и Тиртей. Поэт-дифирамбограф Симонид Кеосский, в своих стихах прославлявший павших и победивших, пишет эпитафию поэту-прорицателю Мегистию как собрату, обслуживавшему ту же аудиторию до того, как случилось имеющее быть воспетым им, Симонидом. Поэт-дифирамбограф Лас из Гермионы, соперник Симонида «при дворе» Гиппарха, соперничал там же, в Афинах, с поэтом-прорицателем Ономакритом, которого он уличил в приписывании Мусею доморощенных пророчеств. Ономакрит был изгнан из Афин, но не перестал быть прорицателем и с успехом выступал в Сусах, где Ксерксу «пел свои пророчества» (χρησμωδέων), а изгнанников из Афин и Фессалии (писистратидов и алевадов) потчевал сентенциями (γνώμας).
Впрочем, уже упомянутое имя поэта-пророка Мусея делает излишним обзор поэтического творчества прорицателей, как и убеждение кого бы то ни было в том, что прорицание — особый и весьма уважаемый жанр древней греческой словесности.
Нам теперь важней другая сторона дела, прозаический оттиск этой же жанровой формы — истолкование прорицаний и знамений42. Для представителя письменной культурной традиции несущественно, идет ли речь об истолковании пророчеств (λόγια, χρησμολογίαι), намекающих на приметы события, или об истолковании самих примет-знамений. Когда геродотовские Дарий и его первый визирь Гобрий готовились к решающему сражению с воинством скифов, тамошние цари «прислали Дарию вестника с дарами: птицей, мышью, лягушкой и пятью стрелами. Персы стали спрашивать у гонца, в чем смысл (νοον) принесенных даров. Тот ответил, что. ему велено только передать их и тотчас возвращаться: персы, мол, сами достаточно мудры, чтоб понять, что говорят дары (γνώναι τόθέλει τα δώρα λεγειν). Услышав это, персы стали совещаться. По мнению Дария, это означает (είκάζων), что скифы сдаются ему сами вместе с землей и водой, ибо мыши, роясь в земле, кормятся тем же, чем человек, лягушка обитает в воде, птица похожа на коня, а стрелы означают, что скифы отказываются от борьбы. Такого мнения держался Дарий, но против него высказался Гобрий, так истолковавший смысл даров: „Если вы, персы, не вспорхнете, как птицы, в небо, как мыши, не зароетесь в землю, как лягушки, не ускачете в болота, вы не вернетесь назад, пораженные этими стрелами!“ Так персы толковали дары (букв.: означивали дары, τα δώρα εϊκαζον)».
Перед нами привычная для Геродота экспозиция истолкования знамения или пророчества. Но есть нюанс. Взявшись разгадывать дары-загадку, Дарий принимает некое условие игры и обязуется вести себя в соответствии с исходом истолкования. Подлежащие истолкованию предметы имеют статус сакральных, объясняющий и их наименование (ср. непонятый «дар» греков троянцам — «Троянского коня»). Сейчас мы увидим, как, по Геродоту, не в тяжелой борьбе и не вследствие поражения, но в силу простого совпадения нового скифского послания-ключа и правильного толкования Гобрия Дарий фактически передаст свои полномочия первому визирю и примирится с неудачей.
«Сквозь ряды выстроившегося скифского войска проскочил заяц, которого бросились ловить все, кто его заметил… Дарий спросил, что за шум подняли враги, и узнав, что те преследуют зайца, сказал окружавшей его свите: „Эти люди слишком презирают нас, и теперь мне сдается, что Гобрий говорил правду о скифских дарах“». После этого Дарий стал просить у Гобрия «совета», как спасти войско. Гобрий велел, оставив в лагере только раненых и всех ослов, остальным войском сняться и ускоренным маршем уходить к переправе через Истр.
Итак, истолкование дара скифов делается потайной пружиной событий: не разгадай Гобрий этого секрета, не убедись Дарий в надежности его истолкования, они познали бы судьбу свою и войска не только на словах, но и на деле. Как видно, пророческая сила знамений и даров прямо пропорциональна их загадочности. Об этом свидетельствуют, конечно, не только приведенные главы скифской войны Дария. Пророчеств-не-загадок попросту не бывает43: даже когда Ликургу Пифия без обиняков заявляет, что он бог, ему предстоит разгадать, в каком же это смысле, так что вся его последующая деятельность законодателя есть прямое разгадывание загадки Пифии, ведь бог — это в первую очередь законодатель44. Мучительность поисков разгадки бросается в глаза там, где загадан бывает некий вполне определенный предмет. Значимым делают этот предмет принудительные сцепления его с другими. Так, послание скифов требовало от персов восполнения по следующей схеме:
птица мышь лягушка заяц?
I стрела II стрела III стрела IV стрела V стрела
Под пятую стрелу, предназначенную, по замыслу скифов, для Дария и персидского войска, мудрый Гобрий подставил — в духе своих корреспондентов-кочевников — осла, чем и снял с даров заклятие.
Достаточные для понимания атмосферы загадывания и разгадывания знамений и пророчеств как важного жанра словесного искусства эпохи предписьменности, эти и множество других выразительных примеров, которыми изобилует текст не одного Геродота, представляют большие трудности для того, кто захотел бы выявить даже самые общие правила составления и пользования сочинениями этого рода. Окрашенная азийским колоритом скифо-персидской войны игра в «дичь и стрелы» имеет слишком общий характер, ибо фольклорная связка птица-мышь-лягушка-заяц-осел не нуждается в закадровых связях: загадка строится и разрешается в пределах одного события, где в ход идет природа слабых жертв вседостигающей стрелы, а не их символика45. Так, Кир загадан в прорицании Локсия «мулом» просто потому, что мать его («кобыла») была знатной мидянкой, а отец — («осел») — персом46. Так, Крез грозит пленившим Мильтиада лампсакийцам, что истребит их город, «как сосну». «Лам псакийцы не могли понять, что означают эти словаугрозы… Какой-то старик объяснил им, что, как он знает, сосна — единственное дерево, не дающее поросли, и срубленное дерево не возрождается. Тогда лампсакийцы из страха перед Крезом выпустили Мильтиада».
В подобных случаях и значимость, и значение предмета истолкования всецело принадлежат ситуации, контексту. Совсем другое дело, когда загадка создается из ничего, путем мистификации или произвольной сакрализации невинного явления или предмета. Так, когда жители Аттики уступили страну для разграбления персам, в Афины в обозе захватчиков прибыл некто Дикей. Увидав громадное облако пыли и услыхав голоса, которые показались ему голосами посвященных в Елевсинские таинства (персы, поясняет Геродот, как раз опустошали долину!), Дикей решил, что это сами боги в отсутствие афинян устроили торжественное шествие, а значит, войску персов грозит разгром.
Где ключ, воспользовавшись которым, Дикей отринул разумное объяснение пыльных туч, повисших над Елевсинской долиной, и принял другое, мантическое? Очевиднее всего, в мифе. Именно миф (в данном случае — его мистериальная ипостась — культовый комплекс Деметры и Персефоны) является для Дикея душой дела. Знамение для него, как и для его спутника, спартанца Демарата, — это только пыльная туча; истолковывает Дикей, однако, не ее метеорологические эволюции, но их мифологическое содержание. Такое пророчество, как данное Дикеем Демарату, — назовем его аттическим, — это область пересечения видимого внешним (пыльная туча) и внутренним (предания афинян) оком47.
Часть 2
В прорицаниях и знамениях «скифского» типа истолкование обязано держаться как можно ближе к своему видимому предмету: Дарий-герменевт терпит фиаско именно потому, что пытается абстрагироваться от даров (птица кивает на коня, лягушка — на воду и т. д.), не находя истинного, т. е. в данном случае поверхностного, смысла сцепления стрел и животных. Иначе обстоит дело с прорицаниями второго, «аттического» типа.
Именно такое прорицание получили афиняне накануне персидского нашествия. Пифия предрекла захват Аттики персами, загадав афинянам единственную, но решающую их судьбы загадку:
Τείχος Τριτογενει ξύλινον διδοι εύρύοπα Ζεύς
Μουν ον απόρθητον τελέθειν τό σε τέκνα τη ονήσει —
«Афине-Тритогенее всевидящий Зевс даст деревянную стену, которая пребудет единственной и нерушимой защитой для тебя и твоего потомства».
Геродот подробно обсуждает два толкования, предложенные афинянами. Первое, слабейшее, опиралось на память о тех временах, когда акрополь был окружен плетеной или живой изгородью из терновника. Ее-то некоторые прорицатели и отождествляли с «деревянной стеною» пророчества.
Иное, сильнейшее, толкование защищал Фемистокл: ξύλινον τεϊχος, по его мнению, это корабли, и персы будут побеждены в морском бою. Геродот приводит следующую аргументацию для фемистоклова толкования: «Против тех, кто понимал под «деревянной стеной» корабли, были два последних стиха прорицания Пифии:
О божественный Саламин, ты погубишь сыновей жен, Когда Деметра будет сеяться или колоситься.
Эти стихи опровергали мнение тех, кто считал деревянные стены кораблями: толкователи утверждали, что, приняв морской бой, афиняне будут разбиты у Саламина… Фемистокл, сын Неокла, говорил, что толкователи не все поняли правильно, ибо, если б речь шла действительно об афинянах, в словах пророчества не было б снисхождения, и если б его обитателям предстояла гибель, вместо «божественной Саламин» сказано было б «жестокий Сала мин». Поэтому, согласно правильному толкованию, бог говорит о неприятеле, а не об афинянах, которым Фемистокл советовал готовиться к морскому сражению, ибо деревянные стены суть корабли».
Оставляя за скобками софистические выкладки Фемистокла, касающиеся эпитетов Саламина, нельзя не заметить, что Геродот подробно останавливается на косвенных свидетельствах в пользу «навмахического» толкования и при этом ни слова не говорит о том, почему все-таки деревянная стена — это корабли. Одно из двух — либо объяснение очевидно и вовсе не нуждается в обсуждении, либо Геродот просто не отдает себе отчета в том, какой ход приняла тогда мысль Фемистокла. Какую бы точку зрения мы ни приняли (я придерживаюсь первой), ясно одно: Фемистокл в отличие от толкователей-буквалистов решает у Геродота мифологическую загадку. Корабли, которыми Зевс награждает Афину, должны были появиться в истолковании Фемистокла не только потому, что Афина именуется в прорицании «рожденной морскою стихией». Это очевидное обстоятельство нуждается еще хотя бы в одном звене, которое соединило бы загадку с афинским флотом, давно поджидавшим своего часа. Тритогенея Фемистокла и афинян — это та Афина, чью первую, и притом деревянную, статую вырезал Эрихтоний, это та Афина, что помогла афинянину Дедалу соорудить деревянную корову для Пасифаи, а Епею — воздвигнуть знаменитого Троянского коня48.
Как Гобрий старался нанизать на одну нить птицу, мышь, лягушку, зайца и осла, так корабли Фемистокла тянутся за деревянной коровой Дедала, деревянным конем Епея, кораблями и плотами Одиссея, морехода, предстательствующего за свою патронессу в соревновании с пучинным Посейдоном.
Правильность истолкования Фемистокла была обеспечена глубиной погружения в миф. Других истолкователей, напротив, погубил буквализм. Дело в том, что буквальный смысл слов ξύλινον τειχος «дровяная кладь», «поленница». Последовательно придерживавшиеся этого чтения буквалисты забаррикадировались на акрополе, но были выкурены из своего убежища и перебиты, исполнив пророчество в его негодном, гибельном варианте.
Есть ли необходимость говорить о том, что перед нами — совершенный риторический комплекс, удовлетворяющий труднейшим требованиям: bene или male, пророчество исполнится в любом случае, и потому истолкование может иметь несколько степеней полноты и, следовательно, правоты:
Отбросив терновую изгородь за ползучий (ράχος) эмпиризм (reductio ad rem), дровяную кладь за буквализм (reductio ad vocem), Фемистокл выбрал мифологическое разрешение загадки (reductio ad deam), к составлению которой он, надо думать, приложил немало стараний.
Уже этой унаследованной от эпохи предписьменности и, насколько возможно, надежно документированной склонности политических деятелей античности к подобным загадкам довольно для понимания атмосферы обращения со словом, в которой жили вещи Мнемозины, от начала окончательного торжества письменности оставшиеся вне своего привычного словесного окружения.
Предварительно напомним, что вещь, изделие занимает ключевое место в мифе, а точнее, именно вокруг вещи кристаллизуется мифологический сюжет, собственно повествование. Достаточно назвать серп Крона, треножник Аполлона, шлем Плутона, трезубец Посейдона, топор Гефеста, ящик Пандоры, лиру и жезл Гермеса, лук и стрелы Аполлона и Артемиды, сандалии, сумку, шапку и серп Персея и Гермеса, меч, два лука и стрелы, панцирь, плащ, палицу и львиную шкуру Геракла, полено Мелеагра, нож Филака, золотого агнца Атрея и Фиеста, пурпурный волос Ниса и золотой — Птерелая, медный гвоздь Талоса, ларец Данаи и Персея, дубинку Амфитриона, пояс Ипполиты, ожерелье и пеплос Гармонии и Эрифилы, диск Аполлона, Теламона, Ориона, столу и тирс Диониса, эгиду Афины, щит Персея, меч и сандалии Тезея, раковину Миноса, ларец Филлиды, железную палицу Перифета, нить и венок Ариадны, сирингу Пана, чтоб убедиться в универсальном характере построения мифологического сюжета вокруг вещи или иконографического мотива.
Детальная каталогизация и классификация мифологических вещей (части тела и орудия труда, оружие, доспехи и украшения, бытовые вещи и музыкальные инструменты) в соответствии с их ролью в мифологическом действии — не решенная еще задача, но можно с определенностью утверждать, что все эти вещи-атрибуты никогда не говорят сами за себя: сосредоточившие в себе семена исторического опыта, они — чем дальше, тем больше — нуждаются в растолковании и могут быть уподоблены поплавкам над погруженными в воду сетями. При этом вовсе не обязательно и не нужно понимать мифологическую вещь только как застывший предмет. Обретая в мифе несколько степеней воплощения, она представляет собою ситуативно перестраивающийся модуль.
Так, любая попытка перевести миф о лабиринте из свернутости загадочного для греков имени Λαβύρινθος в повествование будет сопряжена с подбором разъясняющих аналогов. Вот их предельно сжатое изложение:
1. Дедал-афинянин, плотник, строит для Миноса Лабиринт.
2. Когда Минос вез Тезея и других афинян на Крит, он влюбился в одну из афинянок, Перибею; в споре о Перибее, доказывая, что его соперник Тезей не сын Посейдона, Минос бросает в море свое кольцо (или браслет); Тезей ныряет идостает из воды не только то, что бросил Минос, но и подаренный ему на дне морском Амфитритой венок.
3. Гефест-афинянин, кузнец, дает Ариадне венок из золота и «индийского камня», надев который, Тезей находит в Лабиринте вход к Минотавру.
4. Дедал дает Ариадне нить, благодаря которой Тезей находит выход из Лабиринта.
5. В память о благополучном возвращении Тезея из Лабиринта Дедал устрояет площадку для хоровода Ариадны.
6. Ариадна надевает венок Гефеста на свадьбе с Дионисом; венок этот был помещен потом Дионисом на небо и сделался созвездием (Северная Корона).
7. После расставания с Ариадной Тезей в память о Лабиринте учредил свой хоровод на Делосе под названием «геранос».
8. Дедал бежал от Миноса, но был им найден и опознан с помощью спиралевидной раковины (модели Лабиринта, в которую Дедал продел нить, привязанную к муравью)
Итак, догреческое ядро мифа — Лабиринт — дает по меньшей мере семь ступеней воплощения, так что в итоговой схеме получаются четыре пары оппозиций.
Таким образом, первоначальным истолкованием мифологической вещи служит повествование о различных ее модификациях.
Нетрудно заметить, что исходная сюжетообразующая роль вещи лежит в основе пользования повествовательным инвентарем второго порядка. Этот инвентарь, собственно, и рожден в мифе. Открытие49 вещей Мнемозины падает на эпоху величайшего творческого подъема, совпадающего по мифу с началом гомеровской Троянской войны: правнук Даная Паламед изобрел письмена50, правнуки Даная Акрисий и Прет — круглые щиты (άσπίδες). Первый такой щит в греческом мифе принадлежал внуку Акрисия Персею. Это щит-зеркало и щит-глаз. Добытая с его помощью голова Медузы Горгоны станет украшением эгиды Афины. Второй щит, в пять слоев и пять полей, был выкован Гефестом для Ахиллеса.
Щит-солнце, высочайше соединяющий функции глаза и зеркала, он запечатлевает весь космос в его основных природных (астральном, божественном, человеческом, зверином) и социальных (война, мир, торговля, земледелие, охота, свадьба) горизонтах. Гефест, его создатель, выковал сюжеты щита, но в эпическом повествовании сцены эти остаются подвижными, ибо щит есть только зеркало вселенского круговращения. Правда, это такое зеркало51, которое не просто служит Ахиллу доспехом, но даже руководит его дальнейшими поступками52 и речами53.
Сюжеты щита Ахиллеса представлены на схеме:
Понятность такого изделия для читателя и владельца обеспечивается, конечно, отнюдь не просто набором универсальных оппозиций мир — война, землепашцы — пастухи и т. п. Византийский схолиаст Агаллий с Керкиры, ученик Аристофана, поступил совершенно правильно, когда отождествил сцены мирного и осажденного городов с Афинами и Елевсином, война между которыми оказывается конкретным прообразом Троянской войны54. Гомеровское изделие Гефеста, таким образом, заново вводится в поэму как конспект обрамляющего мифа-предыстории55. Как полагалось Ахиллесу вычитывать из этого мифа свою судьбу? Трудно требовать прямого ответа на этот вопрос, но косвенные свидетельства достаточно внушительны.
Первое касается астральных мотивов шита. Гомер не знает иной судьбы Ариадны, чем ее смерть от тихой стрелы Артемиды, пущенной по наущенью Диониса. Посмертная звездная судьба Ориона, помещенная в обрамление хоровода Ариадны, чье звездное существование тоже началось сравнительно недавно, определенно рассчитана на зрителя, знакомого с мифами об Ойнопионе — сыне Ариадны от Тезея или Диониса и Ойнопионе — отце Меропы, который некогда ослепил Ориона и был спрятан в подземном доме, воздвигнутом Гефестом, так что отождествление обоих Ойнопионов по сходству астральных судеб протагонистов в обоих сюжетах послужило одной из невидимых скреп заключенного в щите послания-предупреждения Ахиллесу. Хотя павшие под тихими стрелами Артемиды Ариадна и Орион — достаточно красноречивое окружение для Ахиллеса, готовящегося пасть у Скейских ворот под Аполлоновой стрелой и отбыть на острова Блаженных, все же только наличие точно установленного связующего звена между ними — Ойно пиона — позволяет говорить об общезначимости предложенного толкования56.
Другое свидетельство — подчеркнутый у Гомера мотив состязания Гефеста-металлурга и Дедала-плотника. Хоровод Ариадны, обрамляющий сюжеты щита, так описан в «Илиаде»:
Там же Гефест знаменитый извил хоровод разновидный,
Оному равный, как древле в широкоустроенном Кноссе
Выделал хитрый Дедал Ариадне прекрасноволосой57
Вкусивший уже совсем иного богословия схолиаст утверждает, что «смешно думать», будто Гомер мог говорить о желании бога состязаться с человеком: перед нами обыкновенное сравнение, «ведь творений Гефеста никто никогда не видал, дедалово же видели многие множество раз»58. А между тем именно противостояние Гефеста и Дедала в мифе об Ариадне придает точный смысл и астральному горизонту щита в целом, и появлению на его краю хоровода Ариадны, венчающего композицию изделия.
Венок Гефеста — это олимпийская параллель критского хоровода Дедала, вот почему хоровод Ариадны венчает щит не в переносном, а в самом прямом смысле слова. «Так же как венок есть украшение главы, так и звезды, обнимающие небесный свод, именуются венком Неба», — пишет мифограф Гераклит в «Гомеровских аллегориях» и в этом именно месте, где толкует о щите Ахиллеса. За обобщенным венком Гераклита легко увидеть венок Ариадны, придающий исключительную ясность сюжетным сцеплениям изделия Гефеста.
Конечно, не следует преувеличивать вещественность щита, изготовленного потребителем амвросии и нектара. Еще легкомысленнее было бы, однако, пренебречь бросающимся в глаза фактом: описание щита Ахиллеса рассчитано не на произвольное сопоставление обобщенных сюжетных схем («повесть о двух городах» и т. п.), но — и здесь уместен инженерный термин — на отслеживание вполне определенных имен, ключевых для понимания сюжетов не в их абстрактной наглядности, а в их мифологической общезначимости и простоте. Щит Ахиллеса ровным счетом ничего не скрывает от своего владельца и зрителя, но помещает главное событие — грядущую гибель и взятие к богам Ахиллеса — в точку пересечения разных планов мироздания — от астрального (небосвод в обрамлении Океана) и олимпийского (боги-соперники в войне Афин с Елевсином) до звериного (львы, пожирающие стадо). Общезначимая конкретизация этого сюжетного богатства делается возможной лишь на основе точной мифологической схемы, исключающей разночтения. Разобранный здесь мотив навит на основу: Гефест — создатель щита Ахиллеса, Гефест — создатель венка Ариадны, Гефест — создатель подземного убежища Ойнопиона, Гефест — создатель куклы для Ориона, верхом на которой тот добрался до солнца59.
Вопия: «Я — изделие Гефеста!», щит Ахиллеса ведет нас и к Талосу — медному человеку, созданному Гефестом для Миноса и принявшему ту же смерть, что Ахиллес; убить его помогла аргонавтам Медея: Талос был поражен в лодыжку, и из раны вытек весь ихор60. Так линия основы, не прерываясь, намечает подробности посмертной судьбы Ахиллеса, имеющего стать на островах Блаженных супругом колхидской волшебницы. Мотивы щита, таким образом, не переплетаются, но непосредственно растут «от ствола». Модель такого типа повествования — не текст, не плетение, но лабиринт — клубок или свиток, в котором соседство событий означает их родство61.
Итак, вещь Мнемозины (неважно, существует она «на самом деле» или выступает только в качестве приема, как в «Илиаде») требует от читателя непрерывной конкретизации каждого образа до предельного сближения со всем его мифологическим окружением, куда в конечном счете вписывается и адресат изделия-послания. Двоякий статус вещи Мнемозины (так щит Ахиллеса — и щит и Vor- иNachgeschichte героя) как бытового предмета и как хранилища культурного наследия, очевиден и для трона Аполлона в Амиклах, и для ларца Кипсела, и для метопов Парфенона.
«Надо только считаться со средствами выражения и свободой древнего искусства»62. Вещь Мнемозины — это запись, отчуждающая в отличие от текста лишь каркас произведения словесного искусства, восполнение которого зависит от сохранности изустной культурной традиции. Вещи Мнемозины не иллюстрируют отдельные эпизоды некоего общепонятного (или имеющего стать таковым) текста, но принуждают читателя-исполнителя, пользуясь общепонятными блоками, возводить особую, обращенную к моменту постройку, или, если угодно, искать выход из лабиринта.
Спартанцы не зря относились с подозрением к письменности и называли письмо «тайнописью» (у лаконцев «писать» значит «загадывать загадки» — γριφασθαι = γραφειν, Hesych). И радикальный критик63 отчуждения слова в любых проявлениях — от записи до эвристической живописной композиции — главным недостатком отчужденного слова называет обостряющуюся с течением времени нужду в толкователе — отце или дядьке, который бы всюду ходил за своим детищем-текстом и разъяснял бы его64.
У вещи Мнемозины есть два неоспоримых преимущества, позволяющих отчасти выдерживать эту критику: будучи несловесным компонентом произведения словесного искусства, она изначально ориентирует зрителя на разгадывание загадки, тогда как приносящее немедленное удовлетворение поверхностное понимание любого текста делает процедуру последующих истолкований излишеством и роскошью. Другое преимущество касается высокой скорости выявления ключевых слов или имен, организующих повествование: так, имени Гефеста подчинены все сюжеты его изделия.
Эти преимущества и объясняют в полной мере, что позволило Феодекту называть расписные сосуды для застольных загадок-грифов памятками.
Заманчиво было бы вслед за великими — Виламовицем и Карлом Робертом — объявить памятники греческой вазописи, составляющие наиболее многочисленную и лучше всего сохранившуюся группу вещей Мнемозины, — иллюстрациями утерянных эпических поэм или драматических произведений. Верно подчеркивая изначальную книжную функцию расписного сосуда, такой подход приводит к неоправданным усложнениям и модернизации предмета. Многосюжетные вазописные композиции представляют собой каплю в море расписных сосудов, не иллюстрирующих ничего, кроме своего собственного сюжета. Требование взглянуть на такие наиболее распространенные вазы как на элементарные застольные загадки может быть удовлетворено кратким анализом росписи эрмитажной чернофигурной амфоры круга Лидоса.
На лицевой и обратной стороне — одинаковые изображения всадника, но в одном случае рядом с всадником помещены летящая птица и собака, а в другом — заяц и гимнастический снаряд для прыжков в длину. На вазе нет никакой разъяснительной надписи, да она и не нужна современнику: собака и птица-душа, традиционные атрибуты подземного царства, равно как и заяц и гимнастический снаряд, атрибуты земной жизни, тотчас ориентируют зрителя на восприятие каркаса для импровизации на тему тождества жизни и смерти.
Другой пример — краснофигурный скифос Пистоксена (Шверин, Госмузей, инв. №708), современника афинских трагиков. В росписи два сюжета: Ификл, единоутробный брат Геракла, берет урок музыки у знаменитого лирника Лина; на обороте — юный Геракл с копьем в руке уходит от старушки, влачащей лиру и опирающейся на посох. Имена всех четверых надписаны, но если в отношении Геракла, Ификла и Лина ясно, кто они такие, то имя старушки — Герофсо — нигде, кроме как на этой вазе, не упоминается. Известно, однако, что у Геракла и Ификла была бабка по имени Анаксо, и если допустить здесь вероятную ошибку в передаче вазописцем редкого имени второстепенного персонажа, то связь обоих сюжетов делается прозрачной: для Ификла нанят в учителя великий музыкант Лин, а Гераклу приходится заниматься музыкой с собственной бабушкой — ход, представляющий собой прекрасную завязку для драмы сатиров о Геракле — убийце Лина. При этом не имеет значения, до или после постановки такой гипотетической драмы расписана ваза Пистоксена.
Вазописному повествованию всякий раз принадлежит собственный словесный компонент, лишь факультативно связанный с тем или иным поэтическим прототипом. Это объясняет обилие двусмысленностей в росписи ваз, в том числе таких хрестоматийных, как краснофигурный килик Дуриса (нач. V в., Рим, Ватиканские музеи), входящий едва ли не в каждый альбом репродукций греческого искусства. Здесь представлен тупиковый вариант мифа о золотом руне: мы видим мертвого Ясона свесившимся из пасти стерегущего руно дракона. Как ни истолковывай намерения вазописца или заказчика, очевидно одно — сюжет росписи, представляя альтернативу традиционному мифу, нуждается в интенсивной повествовательной обработке по горячим следам изображения, представляя собой изобразительную пародию на словесное повествование. Роспись — ключ к новому словесному произведению, обязанному учитывать оба взаимоисключающих варианта мифа. Афина же, стоящая перед драконом с копьем в руке, выступает в сюжете в роли еврипидовских «богов из машины», ибо она возвращает отколовшийся было вариант мифа в лоно традиции.
Но не число подобных случаев (а их не перечесть) представляет интерес. Важно установить повествовательный строй μνημονιων =κυλικεΐων, уяснить те свойства этих предметов, которые позволяли им служить нуждам словесного, риторического искусства. Полную определенность может дать здесь только анализ многосюжетных мифологических росписей.
Из произведений чернофигурной аттической вазописи самой знаменитой и самой насыщенной сюжетами считается и, без сомнения, является так называемая ваза Франсуа — кратер работы гончара Эрготима и вазописца Клития. Сепаратный анализ сюжетов вазы показал, что за ними во многих случаях стоят известные, хоть и не всегда дошедшие, произведения поэтического искусства: «Киприи» и гимн к Гефесту, «Илиада» и «Теогония». Множественность разнородных источников заставляет, однако, отказаться от представления о вазе Франсуа как об иллюстрации или наборе иллюстраций. Даже самый поверхностный взгляд на композицию этого мифологического глобуса обнаруживает в нем глубоко продуманную цельность:
Калидонская охота Геранос Тезея
Аталанта, Пелей, Меланий, Ме- Тезей, Ариадна, афиняне
леагр, Антимах, Диоскуры, Акаст и др.
Игры в честь Патрокла Кентавромахия
Диомед, Автомедон, Одиссей, Тезей, Антимах, Кеней и др.
Дамасипп и др. «Шит Геракла»
«Илиада»
Свадьба Пелея и Фетиды
присутствуют все олимпийцы, в т. ч. Гефест; в центре композиции Хирон, а также Музы, Мойры и др.
Преследование Возвращение Гефеста
Троила на Олимп
Ахиллес, Поликсена, Гермес, Зевс, Гера, Афина, Афродита,
Фетида, Аполлон, Приам и др. Арес, Гефест, Дионис и др.
«Киприи»
Гераномахия
пигмеи-пращники верхом на козлах сражаются с журавлями
«Илиада»
Отдельные сюжеты (прежде всего Кентавромахия) сохранились частично; на ручках с обеих сторон — Артемида, под нею «слева» Аякс несет убитого Ахилла, «справа» — Медуза, на «зверином фризе» львы охотятся на ланей.
Цельность эта выражается на всех уровнях — от высшего, на котором восемь сюжетов, объединенных единством мотива, представляют собой законченное повествование, до относительной хронологии запечатленных событий и соотнесенности персонажей внутри сюжетов.
Хотя закономерности сцепления нескольких мифологических сюжетов в многофигурных композициях греческой вазописи остаются до сих пор не выявленными65, некоторые общие места вазописной композиции аксиоматичны. Одни сюжеты в силу занимаемого ими положения на тулове вазы — центральные (свадьба Пелея и Фетиды), другие (соседствующие снизу и сверху) — обрамляющие (игры в честь Патрокла, Кентавромахия, преследование Троила, возвращение Гефеста); сюжеты, помещенные на горле или (в зависимости от типа сосуда) на венчике вазы, «старше» обрамляющих, но «младше» центрального сюжета (Кали-донская охота и геранос Тезея); на росписи ножки представлен самый младший сюжет изделия (фарс-гера номахия).
Иерархия сюжетов определяет и главный объединяющий мотив кратера — мотив неудачного союза: Аталанта и Меланий, Тезей и Ариадна, Пирифой и Гипподамия, Ахиллес и Патрокл, Пелей и Фетида, Гефест и Афродита, Никодамант и Ойноя. Этот мотив осложнен сопутствующим мотивом неудачного сватовства: Тезей и Диомед (один из участников игр в честь Патрокла) безуспешно сватались к Елене, Тезей и Пирифой похитили Елену и пытались похитить Персефону, кентавры пытались овладеть Аталантой, в состязании с которой потерпел поражение и Пелей.
Ключевое слово данного мотива, связывающее дальше всего отстоящие друг от друга сюжеты — журавль (γέρανος): мифы о журавлях и пигмеях и о Тезее оказываются частями одного произведения потому, что принадлежат здесь общему мотиву. Вазописец отсылает зрителя к редкому истолкованию гераномахии, зарегистрированному в поздних «Превращениях» Антонина Либерала: в журавля Артемида (или Гера) превратила пигмеянку Ойною, слишком счастливую в замужестве за Никодамантом, чтобы оказывать почести богине; выполняя волю божества, все пигмеи с тех пор стали врагами журавлей и воевали с ними. Таким образом, слишком счастливый брак вазы Франсуа тоже оборачивается, как и остальные, несчастьем.
Разобранный здесь мотив не исчерпывает содержания росписи нашей вазы, которое далеко уводит за рамки изображенного. Но все же он обнажает повествовательный строй вазописного произведения как предметного залога произведения словесного искусства. Лежащий в его основе принцип тавтологии (параллелизма) или сгущения мотива, характерный для архаических художественных форм и роднящий повествовательные приемы Клития с техникой создателя щита Ахиллеса, сочетается с принципом, в общем виде сформулированным Виламовицем как «свобода древнего искусства». Мифы, сближенные по сходству периферийных сюжетных признаков, создают превосходное мнемотехническое устройство, умение пользоваться которым состоит в искусстве восполнения отсутствующих элементов композиции, отыскания за каждой парой сюжетов недостающих для связного повествования звеньев.
Так, показанные на вазе Калидонская охота и свадьба Пелея и Фетиды предполагают (так сказать, внутри сосуда) восполнение по схеме:
а) Пелей и Теламон изгнаны с Эгины за убийство брата Фока;
б) Пелея во Фтии очистил от скверны убийства Евритион и отдал за него дочь Антигону;
в) на Калидонской охоте Пелей случайно убивает Евритиона;
г) от скверны убийства Пелея очистил Акаст (участник Калидонской охоты);
д) Пелей оклеветан перед Акастом (мотив Ипполита и Федры);
е) Акаст бросает Пелея одного на охоте у Пелиона и прячет меч Пелея в навозе; на Пелея нападают кентавры;
ж) Хирон спасает Пелея и учит его, как завладеть Фетидой;
з) свадьба Пелея и Фетиды на Пелионе.
Отметим, что мотив другого эгинского изгнанника — Теламона (см. п. «а») — развивается точно таким же образом в направлении сюжета «возвращение Гефеста».
Благодаря сочетанию двух повествовательных методов (ветвления мотива и восполнения мифологического сюжета) κυλικεΐον типа вазы Франсуа должен был использоваться как средство обучения66 и как оселок для риторических упражнений, застольной поэтической импровизации: по свидетельству Афинея, автор книги «О грифах» Клеарх писал, что разгадывание грифов не чуждо философии и древние пользовались ими для обучения.
Мир книжности не обязан был сохранять воспоминания о предписьменном прошлом, но и в чистом украшательстве экфразы живет память о вещи-загадке, которая — в подражание гомеровскому щиту Гефеста — становится частью литературного произведения. Такова у Мосха золотая корзинка Европы работы Гефеста, зеркально отражающая судьбу своей хозяйки изображением мифа об Ио и Зевсе. Таков кубок Тирсиса в знаменитой I идиллии Феокрита, воспроизводящий предшествующее состязание певцов и загадывающий читателям судьбу самого поэта. Вытесненный на периферию пиитического обихода, расписной сосуд утратил прежнее «знаменование» и мало-помалу должен был действительно стать иллюстрацией.
Выявление повествовательной организации и мнемотехнических функций жанра грифа потребовало вкратце остановиться на проблемах обращения со словом в эпоху перехода от предписьменной к письменной культурной традиции67. Анализ проблемы истолкования знамений и прорицаний, хоть он и сильно затруднен помехами, чинимыми новыми культурными установками (послания Гарпага, Демарата и Гистиея у Геродота), все же позволяет не только в очередной раз подтвердить важнейшую роль мифа как повествовательной плоти этого жанра словесного искусства, но и выявить центральную роль мифологической вещи — кристаллизатора сюжета, — вокруг которой формируются предания о наиболее древних мифических комплексах (лабиринт). Мифологическая вещь, как ситуативно перестраивающийся модуль, является ключом к пониманию повествовательного строя произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, называемых в статье вещами Мнемозины; изделия эти, возникнув в недрах предписьменной культурной традиции как вещественный залог произведений устной словесности (гомеровский щит Ахиллеса), обладают особым повествовательным строем, не потерявшим своего значения и на закате эпохи предписьменности (ваза Франсуа). Анализ приемов, характеризующих повествовательный строй (тавтология, ветвление мотива) и восприятие (восполнение сюжета) вещи Мнемозины, обнаруживает, что в основе вазописного повествования лежит произведение словесного искусства, источником для воссоздания которого служит ключевое слово (геранос). Сосуществование в рамках одного произведения предметного и словесного воплощения греческого мифа обусловило особенности развития греческой мифологической традиции и нуждается в дальнейшем изучении.
Миф и театр
Как мифология повлияла на развитие драматургии. — Зачем Эсхил использовал в своей трагедии элементы мистерий. — Как с помощью мифа Эсхил общался со зрителем.
Античная мифология нашла отражение и в театре. Вне зависимости от того говорим на современном театре или же о театре Древней Греции — всюду мы можем встретить элементы античной мифологии.
Взять, например, Эсхила — одного из самых трудных для понимания драматургов. Существует традиционное представление о композиционной простоте его трагедии, неразработанности характеров, слабости драматургической техники. Этой простотой и объясняется, как правило, обилие неясных темных мест в тексте его трагедий.
Вместе с тем, внимательное чтение и затем сопоставление отдельных кусков текста дает возможность сделать определенные выводы о драматургической технике Эсхила и найти излюбленные приемы трагика.
Греческая трагедия, прежде всего, основном на многовековой мифологической традиции, и потому всякий образ у Эсхила есть прежде всего образ мифологический. Нашей же задачей является рассмотрение того, как именно мифологическая образность формируется в драматическом произведении. Основным материалом для анализа станет единственная сохранившаяся трилогия Эсхила «Орестея».
Театр в Эпидавре
Можно заметить, что в «Орестее» Эсхил подражает елевсинским мистериям, древнему культу, справляемому дважды в году. В рамках трагедии Эсхил вполне осознанно пользуется терминами елевсинского ритуала, из-за чего мог бы быть обвинен в подражании мистериям вне самого ритуала, носящего священный смысл.
Было бы ошибкой предполагать, что такое использование этого учения носят бессознательный характер. Ведь одна из главных трудностей, стоящих перед автором трагического спектакля, заключалась как раз в том, чтобы резкие сюжетные переходы (перипетии) осуществлялись на возможно более прочных основаниях, причем основаниях ней декларативно-логического порядка, но глубоко присущих самому развертывающемуся действию.
Изложение пути Ореста в терминах мистерии и есть как раз удачный художественный прием, позволяющий значительно обогатить драматургическое содержание всего спектакля в целом. Наличие мистериальной линии позволяет, среди прочего, объяснить некоторые эпитеты, характеристики героя, кажущиеся в отрыве от этого контекста напыщенными и странными.
Значение мистериальный линии не сводится только к орнаментальному обогащению драматического действия. Путь очищения души оказывается той моделью действия, которая позволяет зрителю вынести собственное «ценностное определение героя».
Использование ритуальных источников, как видно, представляет собой весьма искусно разработанное Эсхилом художественное средство, с помощью которого достигается предельное драматическое насыщение каждой сцены и, вместе с тем, надежное сцепление между собой сцен, хотя и отстоящих друг от друга, но связанных общностью мотива.
Было бы, однако, неверно думать, что Эсхил использовал ритуальные прототипы только как целые типовые «наборы», «блоки», несущие в себе вполне самостоятельный драматический заряд. Наиболее интересными, на наш взгляд, случаями применения трагиком мистериальных или ритуальных моделей являются те трагедии, которых, в отличие от трилогии «Орестея», само действие не предполагает обращения к прототипам религиозного характера. Ритуальное начало присутствует в них в «снятом виде», причем это несомненный итог стараний самого трагика: он берет из своих источников лишь тот материал, который будет служить динамике структуры, а не ее орнаментальному отягощению.
Так, трагедия «Персы» обращается со своими явными ритуальными прототипами достаточно прямолинейно. Тот факт, что именно множество стран и народов начинает войну против Эллады, нужен Эсхилу для того, чтобы подчеркнуть «варварский» колорит, «персидскую» символическую и художественную ориентацию трагедии. Такая ориентация позволяет истолковывать гибель персидского войска как справедливое воздаяние за жадность, за желание владеть всем и вся.
Художественный смысл гео-этнографической многоликости персидского войска сводится не просто к проповеди единства и предупреждению об опасности разобщенности и раздробленности. В «Персах» существенно важна именно «ориентальная» эстетическая установка — разобщенность во множестве и пестрота подчеркнуты трагиком даже там, где речь идет о разбитом персидском войске. Персидское командование представлено двадцатью пятью военачальниками, в то время как о греческих полководцах не упоминается, но говорится о руководстве богов. Ясно, что победа греков — дело рук богов, а персам никто из богов не помогает. За дерзость своего правителя персы проходят своеобразный очистительный цикл, так что все художественные параметры реального исторического события приобретают несомненный ритуальный, мифический оттенок.
Наличие ритуального подтекста придает многим метафорам и сравнениям Эсхила образное богатство и силу. Например, в его трагедии фигурирует колос как важный символ. Срезанный колос, возможно, и не был прямым источником для Эсхила. Действительно, жатва смерти — это один из самых распространенных архетипов ранних форм искусства, фольклора, имеющий широкое хождение повсюду, где, так или иначе, развивалось земледелие, а вместе с ним и земледельческие культуры. Главное, что привлекает Эсхила к этой теме — мотив плодородия. Мотив этот, опять же, связан для трагика с елевсинским культом. Культ плодородия был не просто компонентом таинств, но их ядром, вокруг которого формировались другие, более частые мистериальные элементы. Примером может послужить смена времен года.
В целом, в драматургии Эсхила мы можем встретить три типа отношений к ритуальной модели: прямое использование в сценической практике, условное применение и, наконец, преодоление ритуального прототипа иными художественными средствами.
Также в трагедиях вводится группа сравнений с животными. Если для Гомера сравнение с животными, звериные эпитеты, условно говоря, фольклорны, то у Эсхила этот вполне традиционный источник начинает играть структурно-драматическую роль в трагедии. Эпитет или сравнение служат не частной характеристике того или иного действия или поступка, а указывает на глубокие внутренние связи, охватывающие все действие в целом, отношения всех героев.
Итак, перед нами известный миф об Итисе. По мифу в соловьиху была превращена Прокна, а ее сестра Филомела — в ласточку. Терей вырвал у Филомелы язык, и это не что иное, как судьба пророческого дара Кассандры: по милости Аполлона никто не верит ее прорицаниям.
Мы видим, что все сравнения с птицами, окружающие Кассандру, носят не просто декоративный характер, но вполне функциональны: они указывают на ее судьбу как символы, корни каждого из которых укоренены в мифах.
Еще более глубокую связь со всей структурой «Орестен» образуют сравнения с собаками, козочкой, оленем и зайцем. Связь эта подкрепрена у Эсхила, во-первых, фольклорной и эпической традицией сравнения героев с тем или иным животным. Однако на этом можно было бы и не останавливаться вовсе, если бы не драматические хитросплетения, которыми окружает Эсхил даже вполне традиционный источник.
Миф о Пенфее является лучшим напоминанием о полной подчиненности человека богам. Превращая человека в зверя, боги и наказывают его, и совершают своего рода милость по отношению к нему, находя для него истинную оболочку. Таким образом, трагик заставляет нас отнестись серьезнее к сравнению Ореста с оленем, связать в сознании эту метаморфозу героя с гневом Артемиды.
Очищение героя происходит на новой ступени развития звериной темы при полном освобождении от звериных мифических прототипов. Итак, наблюдения над тончайшим параллелизмом в развитии темы показывают всю ее важность в действенной линии произведения. Противоречивость в действиях божества воплощена в художественной структуре трилогии как противоречивость ее природы.
Таким образом, встречаемые в трагедии Эсхила мифологические элементы являются не просто художественным приемом, призванным украсить произведение. Миф в данном случае создает некие установки, в рамках которых герои вынуждены действовать. Автор с помощью этих установок раскрывает персонажей, позволяя зрителю представить их. Это делает драматургию неразрывно связанной с мифом со времен Эсхила, и миф может выступать в качестве элемента драматургии и сегодня.
Пять книг об античной мифологии
Зелинский Ф. Ф. Сказочная
древность. — Грейвс Р. Мифы древней Греции. — Лосев А. Ф. Античная мифология в
ее историческом развитии. — Голосовкер Я. Э. Логика мифа. — Тахо-Годи А. А.
Греческая мифология.
Имена Зевса, Гермеса, Геры и Артемиды нам знакомы с детства, но нельзя сказать, что мы в сущности понимаем мифологию и миф. Одни книги знакомят с ними, другие — более сложные — делают попытку разобраться в этих явлениях, выстроить их теорию и философию.
Зелинский Ф. Ф. «Сказочная древность Эллады»
Фаддей Францевич Зелинский — выдающийся классик, переводчик Софокла с древнегреческого языка. Он написал данную книгу в тяжелейший для нашей страны период истории, во время Гражданской войны, видя, в каком состоянии находится высшее образование — когда о какой-либо системе говорить не приходилось. Зелинский пересказывал греческие мифы для общеобразовательных нужд. Это не научные работы, но они обладают необыкновенным достоинством — пересказывают греческую мифологию как какую-то реальную мечту человека, живущего в условиях разрухи: например, далекую мечту о Средиземном море в насквозь промерзшем Петрограде. И это чувствуется на каждой странице, в каждой строчке. Тексты, как сейчас сказали бы, порой пафосные, но очень добротные. В конце 80-ых годов я собрал и издал эти разрозненные сборники под единой обложкой в издательстве «Московский рабочий». По тогдашним понятиям книга вышла обычным тиражом, по нынешним — гигантским, тысяч, наверное, сто или шестьдесят, то есть ее легко купить. Ее достоинство заключается также и в великолепных иллюстрациях, которые сделала Лия Орлова, прекрасная художница книги. На каждом развороте иллюстрация — тонкая прорись оригинального рельефа или вазописного изображения, к которым я написал комментарий, постаравшись стилизовать его под чуть более старый текст, чем у самого Зелинского. Кроме того, я сделал к книге указатель и небольшой словарик. Она может быть полезна для детей, подростков или для кого-то, кто вовсе не читал ничего на эту тему и хочет впервые познакомиться с ней. Но даже для специалиста в этой книге есть кое-что интересное: Зелинский показывает, чем отличается структура мифов в эпосе от структуры мифов греческой трагедии. Тема, конечно, весьма узкая, но она безмерно интересная.
Грейвс Р. «Мифы древней Греции»
Это книга выдающегося, можно даже сказать, великого английского историка культуры, философа, филолога Роберта Грейвса, также еще и писателя, известного как автор многих романов о Римской империи. Грейвс выпустил несколько книг по мифологии. Одна из самых известных — «Белая богиня», существует несколько изданий в русском переводе. Часть из них в каком-то смысле даже лучше английских изданий, потому как вышли под редакцией выдающегося специалиста по классической филологии и, в частности, по мифологии, Азы Алибековны Тахо-Годи, моего учителя.
Книга Грейвса «Мифы древней Греции» в отличие от Зелинского — это исследование, которое пытается восстановить, скажем так, место греческого мифа в мироздании как кирпичика устройства самой Вселенной. Это не просто некое повествование о превращениях, о мире волшебного, а о части, крупице устройства Вселенной. Кроме того, его можно считать грандиозной расшифровкой греческого мифа как путеводителя по доисторическому и раннеисторическому Средиземноморью.
Лосев А. Ф. «Античная мифология в ее историческом развитии»
Живущие в России должны знать книгу Алексея Федоровича Лосева, которого иногда называют «последним русским философом Серебряного века», даже если они не все поймут в ней. Лосев писал книгу в исключительно сложных условиях, и очень многие вещи не мог проговаривать, но ухитрился создать некую философско-эстетическую систему, внутри которой было своеобразное представление о мифе. Сначала издание называлось «Олимпийская мифология в ее историческом развитии», затем — «Античная мифология в ее историческом развитии». Это попытка связного, философско-аналитического взгляда на греческую мифологию — довольно сложная для человека, который впервые подходит этой теме, и может, представляющая некий вызов, потому что это и представление мифологии, и вместе с тем своеобразная критика самих оснований античной мифологии с позиций средневекового христианского богословия. На это у Лосева наслаивается и необходимость мыслить в атмосфере советской цензуры — сначала сталинских времен, впоследствии — закатно-советского времени. Разбирать все эти наслоения — задача будущих исследователей, если таковые, конечно, появятся.
Голосовкер Я. Э. «Логика мифа»
Яков Эммануилович Голосовкер — выдающийся поэт, переводчик, философ, историк философии. И опять, это не единственная книга, а целое гнездо книг. Люди старшего поколения знают его детские книжки, например, «Сказания о титанах». Оно вышла после войны и на самом деле является детской книжкой, но внутри нее, в подкладке очень своеобразное представление об истории греческого мифа, о разных его слоях. Голосовкер отталкивается не от олимпийской мифологии, а от той, что ей предшествовала, своеобразной исторической фазы греческой мифологии, и строит свою концепцию на оригинальной идее, которая стала доступна читателю только через двадцать лет после смерти мыслителя.
Много десятилетий спустя после смерти Голосовкера вышла его книга «Логика мифа», и она представляет огромный интерес, и ее надо читать. Там совершенно другой взгляд на греческую мифологию. Очень непривычный, потому что многие считают логику чем-то противоположным мифу, а Голосовкер показывает, что нет этой противоположности, она снимается в его особом подходе — через фантазию как познавательную способность. Логика для Голосовкера не отрицание мифа, а некий отраженный свет мифа, который надо ему, мифу, теперь вернуть. Читатель, который от «Сказания о титанах» дойдет до «Логики мифа», захочет читать Голосовкера дальше и дальше.
Тахо-Годи А. А. «Греческая мифология» (М.: Искусство, 1989)
Эта книга написана, наверное, наиболее доступным для современного читателя языком. Аза Алибековна Тахо-Годи — ученица и спутница жизни Алексея Федоровича Лосева, профессор Московского университета — написала эту книгу специально для издательства «Искусство», отсюда некоторые ее особенные достоинства. Ее автор не столько пишет, сколько читает цикл интереснейших лекций: часть теории искусно спрятана в повествование, и притом незаметно для читателя. Поскольку по времени написания это самая новая из перечисленных книг, современному читателю легче всего было бы начать именно с нее.
Раздел 4. Диалоги об античности и современности
Свобода и миф68
Геракл I век н.э. (Рим)
Журнал «Станиславский» (далее — Стан.): Гасан Чингизович, с сентября вы, как я слышал, закабалились по полной программе. Прочитал, что в Высшей школе экономики на факультете Медиакоммуникаций втрое больше часов отпустили на вашу «анти4ку2007», чем на филфаке МГУ [Прим. ред. — Блог-учебник anti4ka2007 — созданный Г. Гусейновым учебный сетевой ресурс МГУ на платформе Livejournal, площадка для взаимодействия студентов-филологов и преподавателей, сейчас архив ресурса открыт для доступа, но не функционирует. Наследником anti4ka2007 стал учебный портал studium-generale.ru, на котором вот уже пятый год студенты факультета КоМеДи занимаются историей античной литературы и риторикой]! Поэтому и ушли?
Гасан Чингизович Гусейнов (далее — Г. Ч. Г.): И поэтому тоже. Нельзя держать на голодном пайке выпускников школ, где поколение 1980-х-1990-х годов рождения обворовано по главным филологическим дисциплинам, и конца этому пока не видно.
Стан.: Ну, ваш путь из рабства в рабства мне знаком. Но мы хотели говорить о свободе в понимании древних греков.
Г. Ч. Г.: Древние греки говорят о свободе только в контексте рабства, т.е. до свободы как отвлеченного понятия они не доходят.
Стан.: Ну, не хотелось бы все-таки так быстро заканчивать разговор…
Г. Ч. Г.: А я и не предлагаю. Давайте посмотрим на парные явления — наблюдаемые непосредственно и созерцаемые умом.
Стан.: Это как?
Г. Г.: Скажем, смертность и бренность наблюдаются непосредственно. А бессмертие и вечность — это продукт умосозерцания.
Стан.: И что это значит?
Г. Ч. Г.: Это значит, что единственная, пусть и тоже устанавливаемая только по косвенным признакам, свободная реальность в человеке, это его сознание. Только оно способно отвлечься к понятиям, которые честный человек в непосредственной жизни не наблюдает. Собственно, быть свободным и значит — просто думать в свободное от рабства время. Но попробуй скажи школьникам, что само слово «школа» означает, исторически, именно свободное время, что это чистейший досуг, и нас с вами ведь засмеют. А между тем, это именно так. Первый этаж свободы маленького древнего грека — это образование.
Стан.: Кентавр Хирон обучает маленького Ахилла.
Г. Ч. Г.: Да, после того, как его мать Фетида попыталась добиться для Ахилла максимально доступной для него свободы — неуязвимости. Осталось только одно уязвимое место.
Стан.: Это распространенная метафора «неполной свободы»?
Г. Ч. Г.: Да, и этот миф повторяется. Другого героя, Аякса, подержал в своей львиной шкуре Геракл, но сделал того неуязвимым только частично: в шкуре лежал колчан, поэтому подмышки и несколько позвонков остались вполне уязвимыми.
Стан.: И как это надо толковать?
Г. Ч. Г.: А так, что есть мечта, и вот-вот, еще мгновение — и твой подзащитный станет совсем таким же, как сами боги.
Стан.: И никогда-никогда не удается?
Г. Ч. Г.: Даже когда удается, оказывается, что полная неуязвимость, как и полная свобода, недосягаемы. Вот, например, миф о Кенее. Он сначала был женщиной, и звали ее Кенидой, она сошлась с Посейдоном, который был известен своей, так сказать, импульсивностью. И когда он захотел чем-то расплатиться за этот краткосрочный союз, Кенида придумала такую штуку. Она попросила, чтобы Посейдон сделал из нее неуязвимого мужчину.
Стан.: «Гусарская баллада» какая-то, только в другую сторону.
Г. Ч. Г.: Ну да, он все так и сделал, как она просила. И вот Кенида стала неуязвимым Кенеем. Металлические стрелы отскакивали от него, не причиняя ни малейшего вреда. А надо сказать, что Кеней этот был лапифом…
Стан.: Стало быть, враждовал с кентаврами? Я все-таки не очень пойму, к чему вы клоните.
Г. Ч. Г.: Да к тому, что и против могучего и неуязвимого нашлось оружие! Кентавры завалили его стволами елей и подожгли, так что Кеней просто задохнулся в дыму. Если оставить в стороне все детали этого повествования, то получается такое толкование: проявления субстанциальной несвободы, или неизбежности смерти, невозможно ни предусмотреть, ни, тем более, преодолеть.
Стан.: А есть для этого у греков какая-то своя, как вы любите говорить, общезначимая теория?
Г. Ч. Г.: Есть! Эта теория — миф. Миф как форма знания, откуда что взялось. Вместо абстрактной свободы — конкретная вариативность. Вот, по одной версии Кенея убили, завалив лапником и подпалив его, а по другой — забив бедного в землю.
Стан.: Да, я помню, кентавров иногда изображают с деревцами в крепких руках.
Г. Ч. Г.: Да-да, это как раз следы этого вот представления.
Стан.: Т.е. свобода понимается как свобода выбора между двумя способами исполнить неизбежное…
Г. Ч. Г.: Совершенно верно! И формулу «свобода это осознанная необходимость» можно уточнить именно так — это выбор на развилке дорог, каждая из которых приведет…
Стан.: …в Рим!
Г. Ч. Г.: Да, в «старость, это Рим, который…
Стан.: … взамен турусов и колес…
Г. Ч. Г.: не читки требует с актера…
Стан.: а полной гибели всерьез!»
Г. Ч. Г.: Вот мы тут и художественную самодеятельность замутили. А ведь нам достаточно было бы просто спросить себя, а почему в греческом пантеоне нет божества свободы?
Стан.: И как бы вы ответили на этот вопрос?
Г. Ч. Г.: Да потому что свобода проявляется и в космосе, и в истории, и в жизни только как искра, огонь, мимолетность. Она не субстанциальна, а акцидентальна. Греческие боги — тоже, кстати, воплощение свободы мысли! — даже завидуют людям своей знаменитой «завистью богов». Ведь у людей есть страсть к свободе, дух свободы, желание пойти наперекор судьбе, а боги — заложники своего бессмертного статуса.
Стан.: Прометей, Эдип, Одиссей…
Г. Ч. Г.: Да, они все как бы взламывают предложенный ход вещей. Но их стремление к свободе чистосердечно. Боги понимают, что сам ход вещей измениться не может, но их согласия на это нет.
Стан.: Значит, ничтожные люди все-таки выступают против богов и судьбы?
Г. Ч. Г.: Да нет, тут есть своя загвоздка в том, что Прометей — титан, т.е. дядя Зевса, и поэтому говорить, что тут какая-то богоборческая составляющая есть, все-таки не приходится. Интересно, пожалуй, что идея освобождения человечества символически представлена огнем. Огонь, который Прометей украл и доставил людям, это и есть предметный субститут свободы. Огненная, т.е. гасимая природа свободы, осознается и в мифе, и в обыденной жизни, и в последующие эпохи. Когда Фет, может быть, в величайшем из своих стихотворений, пишет
Не жизни жаль с томительным дыханьем, Что жизнь и смерть? А жаль того огня, Что просиял над целым мирозданьем, И в ночь идет, и плачет, уходя69, —Фет и говорит об этой самой акциденции свободы и любви, которую можно превратить в субстанцию только путем слишком утонченной эквилибристики, которой потом злоупотребят идеологи веры в «спасение», «бессмертие души» и прочие красивые, но не доказуемые вещи.
Стан.: Иначе говоря, тот, кто говорит, что свобода субстанциальна, по-вашему, шарлатан?
Г. Ч. Г.: Да, такой человек, как теперь говорят, «по-любому», шарлатан и шулер. Потому что делать вид, что логическая возможность, или образ, порождаемый нашим сознанием, непременно должна иметь и имеет доступное нам физическое, или телесное, воплощение, значит водить и себя и других за нос. И не только с точки зрения греческой мифологии, но и с точки зрения современного естественнонаучного знания. Потому что свобода как предмет знания — это только акциденция, т.е. случайно возникающая и тут же исчезающая, эпизодически показывающая нам свою рожицу и вызывающая бурные страсти и не поддающаяся фиксации вещь.
Стан.: Но — вещь?
Г. Ч. Г.: Не настоящая вещь, а продукт работы ума. Как кентавр, который родился от союза Иксиона и куклы Геры, как Минотавр, которого родила Пасифая от быка. Виртуальная вещь. Фантом. Который логически необходим, но физически, в том виде, в котором его создает наше воображение, невозможен.
Стан.: Иначе говоря, свобода как субстанция — это предмет веры?
Г. Ч. Г.: Совершенно верно. Бог и свобода как предметы веры существуют. Но попытки навязать их обществу как субстанцию, вручить их слабым людям как палку, которой они колотят по голове тех, кто с ними не согласен, как святотатцев, такие попытки очень скоро приводят к кровопролитию. Мракобесие — это как раз следствие неразличения субстанциального и акцидентального.
Стан.: Правильно я понимаю, что логическое присутствие свободы и божественного вы не отрицаете?
Г. Ч. Г.: Ну конечно, их и невозможно отрицать. Без них немыслим сам акт сознания. Но мы ничего не знаем о природе самого этого сознания. Отсюда необходимость постоянно примысливать к наблюдаемому не наблюдаемое, умозрительное. Помните миф о Мидасе?
Стан.: Который все превращал в золото и не мог из-за этого ни пить, ни есть?
Г. Ч. Г.: Совершенно верно. Он хотел беспредельной свободы…
Стан.: «Все куплю! сказало Злато…»70
Г. Ч. Г.: Да-да, именно! А сам чуть не умер, став рабом своей жадности. Зевс его освободил от этого несчастья, велев окунуться в реку Пактол. Мидас избавился от своей напасти, а в Пактоле до сих пор золотой песок наблюдается.
Стан.: Вы хотите сказать, что культ свободы так же мало возможен, как…
Г. Ч. Г.: Культ Мидаса! Свобода — это огромная ценность, не имеющая окончательного, видимого выражения. Поэтому ее так легко потерять и так трудно отвоевать вновь. Сейчас вот и у нас в стране, как где-нибудь в Пакистане или в Иране, полно желающих снова забить мозги людей религиозным мракобесием под видом учения о спасении души или о ключе к вечному блаженству. Кто во что горазд. Лишь бы только ты стал Мидасом. Очень занятно, что представители разных конфессий и деноминаций поддерживают друг друга и всюду ищут обидчиков своих «оскорбленных чувств».
Стан.: Т.е. тоже акцидентальное объявляют субстанциальным?
Г. Ч. Г.: Именно так. Апеллируют к недоказуемому, чтобы на основании своих культурных предпочтений лишить гражданских и политических свобод всех остальных.
Стан.: Довольно неожиданный финал.
Г. Ч. Г.: А так всегда бывает, когда акциденцию пытаются выдать за субстанцию. У нас это связано с тем, что советский отрезок русской истории немножко затянулся, и с логикой стало совсем плохо. Помню, в статье про акциденцию в «Философской энциклопедии» так прямо и было сказано, что «категория акциденции в советской философии не применяется». Это ведь было отличное иносказание для нашей с вами темы. Категория свободы в советской жизни не применяется, потому что у древних греков не было такого божества.
Стан.: Стало быть, логическая ошибка может привести к крупным социальным последствиям?
Г. Ч. Г.: Может. Потому мы и ценим свободу так высоко, что она заметна только тогда, когда ее начинают ущемлять, а в остальное время не дает познать себя, не видна. И, что особенно важно, свобода не требует никакой сакрализации. Святыни и поклонение нужны проходимцам, чтобы проще было мобилизовывать легковерных.
Рок и выбор
Стан.:: Чем рок отличается от личного выбора, противостоят ли они друг другу или выбор — лишь проявление, скажем, одно из проявлений рока?
Г. Ч. Г.: Будете смеяться: когда вы сказали «рок», я первым делом подумал о рок-музыке, рок-искусстве. Думаю, что не только у меня была подобная непосредственная ассоциация. Так что теперь, рассуждая о «роке», «фатуме», «судьбе», о том, что «на роду написано», не могу отвязаться от этой изначальной и этимологически никак не связанной с нашей с вами темой ассоциации. Даже Бетховена вспомнил, объяснявшего начало пятой симфонии как стук судьбы.
А за нею другая литературная ассоциация — с Александром Семеновичем Рокком из «Роковых яиц» Михаила Булгакова. Замечательная театральная фантазия автора и вполне осознанная игра с именем создают для нашего разговора третью кулису. Посмотрите, сколько их: и рок-музыка, и русские 20-е годы, и европейская эпоха наполеоновских походов, когда этот великий злодей — обновитель континента произнес свои знаменитые слова, запомнившиеся Гете: «Сегодня судьба — это политика!» Тут не только прихоть фонетической ассоциации (нужно ли говорить, что русское слово «рок» — это всего лишь калька, перевод латинского «фатум», или «сбывшееся пророчество», и к року англо-американскому отношения не имеет). Есть принуждение, могучая сила, ритмичная, пульсирующая внутри и стучащая молотом о наковальню вне нас. Ее осознание и есть акт первичного выбора между знанием и незнанием. Поэтому первый выбор человека — это понимание факта тотального внешне-внутреннего принуждения. Выбор этого знания и есть первый личный выбор.
Стан.: И у кого, например, в европейской литературе он был первым, этот выбор?
Г. Ч. Г.: В западной традиции это гомеровские герои, которые обложены с обеих сторон — безличной долей, которой не в силах противиться и боги, и самими богами — капризными, прихотливыми и похотливыми ревнивцами и завистниками смертных. Боги отличаются от людей у Гомера тем, что, как бессмертные, они безвольны. Чтобы понять, что делать с ахейцами и троянцами, Зевс должен подсмотреть ответ, кинуть жребий. После чего, кстати, другие боги немедленно отворачиваются от проигравшей стороны. Другое дело — смертный. Он твердо знает, что конец наступит, но ограничивает действие этого рамочного условия кулисами сзади и зрительным залом спереди. Там, где жизнь — театр, метафора свободы — героическая роль.
Стан.: Ну, и кто может быть назван первым героем, который сделал личный выбор? Ахилл? Эдип?
Г. Ч. Г.: Ну да, от Ахилла до Эдипа. А первым историческим философом выбора был, наверное, Сократ, который в конце V века до нашей эры ссылался на своего частного «демона». Этот «демонишка» подавал голос только в момент совершения неправильного выбора. Когда Сократ все делал правильно, тот молчал. Иначе говоря, выбор совершается и тогда, когда мы не знаем, что совершаем выбор. Что выбор — а) свободный и б) может быть неправильным, — мы и узнаем от Сократа. Поэтому часто от выбора уклоняются и те, кого просто страшит ошибка.
Стан.: Не кажется ли вам, что сегодня все чаще люди полагаются скорее на рок, отказываясь от индивидуального выбора?
Г. Ч. Г.: Это очень, очень важный вопрос. Вы точно сказали про желающих «полагаться на рок». Один говорит «будь что будет» и ждет у моря погоды, другой говорит «была не была» и лезет в воду (или в пекло). Оба полагаются на одну и ту же судьбу, но делают это прямо противоположным образом. Отказ от выбора — тоже выбор. Для нас с вами опять не случайность и то, что личный выбор как главная проблема существования первоначально ставится в драме. Опять: каменные рамочные условия, но сценическая площадка, сцена — место, расчищенное для свободного выбора. Выбирающий безвыходность — только зритель, выбирающий действие — актер и его герой.
Стан.: Вы хотите сказать, что от… демонстрации своего свободного выбора недалеко до эксгибиционизма?
Г. Ч. Г.: Совершенно верно! Конечно, выбор — это акт художника жизни, а художество всегда нарциссично. Поэтому в событии личного выбора, когда оно публично противопоставлено групповому отказу от выбора, всегда есть горький привкус недостоверности, позерства, актерства. Да что говорить: отвечая на ваши вопросы, я должен по жанровой природе интервьюируемого принять на себя роль эдакого павлина, мнение которого о «выборе» в каком-либо отношении ценно. Даже отдавая себе отчет в условности происходящего, человек начинает вести себя в соответствии с этой принятой ролью, вещать, важничать и т. п. Но, разбирая, из каких слов составлено наше знание о том, что такое рок, судьба, легко впасть в уныние безвыходности, отказа от выбора.
Стан.: Тогда, пожалуйста, скажите: личный выбор — это выбор в личной жизни или общественный выбор может также стать результатом многих «личных выборов»? То есть: может ли личный выбор скорректировать вектор общественного движения?
Г. Ч. Г.: Второй вопрос у вас интересный получился: подлежащее и дополнение легко поменять местами. Общественное движение, насколько я понимаю, это многообразные и разнонаправленные процессы. Какого-то одного «общества» попросту не существует. Этот конструкт и есть результат многих «личных выборов», включая «отказы от личного выбора». Чем больше отказов, тем хуже конструкт. Почему непредсказуемы результаты общественных процессов, пусть очень похожие на какие-то другие в прошлом? А потому, что реальный выбор делают не статистические доли какой-то массы (это ведь фикция), а единицы. Единицы уклонившихся от выбора и единицы принимающих вызов и делающих свой выбор. Очень часто хочется, чтобы выбор кто-то сделал за тебя. Но тогда этот кто-то и будет тобой. Сколько таких других живет в нас, уклонившихся от выбора и не понявших, что же нам мешало? Это и есть рок, булгаковские роковые яйца, занесенные какими-то таинственными кукушками к нам в голову. Вылупятся — и вытолкнут собственные мысли, собственную волю к выбору. Заставят полюбить слепых коней Фортуны. Простите уж за мрачность. Не конь ли Ахилла пророчил ему смерть? Кусачие кони рока!
Стан.: Вот мы и вернулись к рок-музыке, как змея, кусающая свой хвост…
Г. Ч. Г.: И свои роковые яйца.
Стан.: Это по-прежнему одна из ваших любимых тем — яйца, из которых вылупились Елена Прекрасная и Клитемнестра?
Г. Ч. Г.: Конечно, не выбери Зевс Леду, не придумай сойтись с нею в облике лебедя, и не было бы ровным счетом ничего. Ни Троянской войны, ни основания Рима, ни-че-го.
Стан.: Но иногда хочется побыть лебедем.
Г. Ч. Г.: Ну не всем, правда?
Стан.: Одного поручика имеете в виду?
Г. Ч. Г.: Это вы сказали. Лебедь — многозначное слово. И историческое имя. Званием повыше.
Стан.: Да, все время приходится выбирать.
Г. Ч. Г.: И всегда существует угроза ошибки.
Стан.: Что ж, спасибо за рок-разговор.
Г. Ч. Г.: Взаимно.
Чего не сделает герой
Стан.: В прошлый раз, когда вопросы всё были про рок, вы говорили о том, чего не могут греческие боги и чего они хотят от человека. Теперь вопрос, чего не может сделать настоящий герой…
Г. Ч. Г.: Интересно было бы еще и понять, а почему эта древнегреческая перспектива кого-то сейчас интересует.
Стан.: Может быть, это в другой раз…
Г. Ч. Г.: А другого раза не будет. Вернее, это уже будет другой раз, другое всё. А герой отличается от негероя только тем, что приходит в единственно нужный момент. Ведь из древнегреческой, как раньше сказали бы языческой, перспективы, и Иисус — это не кто иной, как герой. А праздник Рождества — часть культа героя. Чего не смог сделать этот герой? Своим примером он не научил человечество любви — тому, что он хотел принести в мир.
Стан.: А установление культа героя? Разве это нельзя считать успехом?
Г. Ч. Г.: Хороший вопрос. Это побочный эффект подвига, который на самом деле позволил толпе остаться толпой. Герой — жертва толпы. Культ героя обязательно должен быть культом мертвого героя. Поэтому обстоятельствами жизни еще живой герой стремится как можно скорее очистить площадку. Герой, совершивший подвиг для общего блага, не может остановиться на этом пути. Он принужден либо отказаться от своего подвига, порвать с собственной славой, либо принести себя в жертву славе, дракону толпы.
Стан.: Значит, можно им перестать быть, как сходят с дистанции?
Г. Ч. Г.: Да, и такие примеры есть. Но толпа очень, очень этого не любит.
Стан.: Вы как-то не очень демократично о толпе говорите.
Г. Ч. Г.: Это не я говорю, это язык за меня говорит. Герой в античном смысле — это дитя божества (бога или богини) и простого смертного — мужчины или женщины, наделенное сверхчеловеческими способностями, а в дальнейшем — человек, наделенный даром недостижимо оторваться от остальных людей для достижения не всегда постижимого ими же блага. То, что определяет человека как героя, это единственный в своем роде поступок, совершаемый на фоне массового бездействия или, наоборот, массовой неспособности остановиться в абсурдном действии…
Стан.: Но ведь бывает, что героем становится самый обыкновенный человек. Что делает обыкновенного человека — вдруг — героем?
Г. Ч. Г.: Это очень интересная конструкция, оставшаяся нам в наследство от сталинской эпохи. Помните, «у нас героем становится любой». С одной стороны, героизмом объявлялось выживание в сложных метеорологических или социальных условиях (челюскинцы, стахановцы). Незаметно он превращался в рутину массовой жизни. Есть гениальная картина Ильи Кабакова «Вынос ведра». Ведь это что? Это расписание подвига выноса ведра с помоями, образовавшимися в результате жизнедеятельности соседей по коммунальной квартире. Подвиг главного древнегреческого героя-ассенизатора, очистившего конюшни Авгия, меркнет рядом с каждодневным подвигом простого советского человека, жившего в добровольно-принудительной неволе.
Стан.: Ну да, было такое советское словосочетание — «героика будней»…
Г. Ч. Г.: Золотые слова! Прибавим к этому наделение статусом героя целых городов, и что мы увидим? Совершенно верно, героем объявляется весь народ, сама толпа, сама готовность жить толпой, чтоб «общие даже слезы из глаз». Про общую парашу не писали, но подразумевали.
Стан.: А как же героизм на войне?
Г. Ч. Г.: Да, война всегда выручала и выручает пропагандистов массового героизма. Акт бескорыстной храбрости был перелит в тонкий инструмент социальной рихтовки. Блуд героизации войны превратил десятки миллионов людей в самых настоящих зомби. Они подвывали слезам знаменитой матери Зои Космодемьянской, которая снимала дожинки с подвига родной дочери аж до 70-х годов прошлого века. И те же зомби клеймили позором диссидентов, которые индивидуально и осмысленно пытались очеловечить жизнь своей страны.
Стан.: Другими словами, в обстановке принудительного массового героизма…
Г. Ч. Г.: …настоящий героизм — героизм несоучастия в преступлениях, героизм отказа от подвывания — воспринимается как душевная болезнь. Власти, отправляя в психушку, например, Владимира Буковского, действовали очень по-народному. Подкупленный пайкой потолще и должен считать альтруиста, человека более достойного, чем он сам, душевнобольным. Сейчас пока что еще последнее поколение невменяемых определяет если не политический строй, то политическую философию в России.
Стан.: Ну главные и как раз не героические завоевания 90-х годов пока не утрачены. Вряд ли все-таки кому-либо удастся убедить людей, вкусивших прелестей частной жизни, жевать портянку.
Г. Ч. Г.: Кто знает. Коллективный Скалозуб может и назначить кого-нибудь для совершения подвига, для жертвоприношения. Современный российский герой должен быть средним арифметическим из бен Ладена (он должен быть самым грозным для Америки) и принцессы Дианы (она должна быть доброй, красивой и несчастной в личной жизни)…
Стан.: То есть, если бы, скажем, Рамзан Кадыров и Ксюша Собчак…
Г. Ч. Г.: Ну нет, им уж не успеть. А героя с кондачка не изготовить. Тут нужен социальный инжиниринг. Беспомощность всех этих «наших», «мишек», «мышек», «мошек», или как они еще называются, вся от вытоптанной личности. Молодежь сегодняшняя — это все-таки маленькие электрические лампочки, а идеологию в них впендюривают стеариновые свечечки. Догорают и оплывают эти штирлицы совсем не героически. Но и для распространения политического электричества нужен не героизм, а представительная демократия. Герою ни в современном, ни в античном понимании просто нет в ней места.
Коварство женщин в древнегреческом мифе
Стан.: Женское и мужское в русском языке и в новой гендерной мифологии. Есть ли тут что-то новое? Вот в Живом Журнале ваших студентов мы прочитали претензии к греческой мифологии и даже лично к Гомеру, что к женщинам плохо относятся. Вы же и сами масла в огонь подлили. Неужели в самом деле есть какая-то сермяжная правда в женоненавистничестве древних греков?
Г. Ч. Г.: С каждым разом у нас с вами темы все труднее. Эта и вовсе — минное поле…
Стан.: Ну, так если правда, то почему, интересно, именно нынешние молодые люди, в основном студентки-филологини, конечно, эту тему почувствовали? Стала ли современная культура добрее к женщине?
Г. Ч. Г.: Ну, я же говорю. Вы на ответственно-безответственные заявления собеседника толкаете. Тут ведь что обиднее всего? Что мы по мелочам ответы знаем, то есть различаем некоторые нити, а главная проблема от нас вечно ускользает. Каждый раз культура как-то по-своему отвечает на вопрос о том, почему и зачем люди созданы такими разными. А разность эта, весь объем несходства «мужского» и «женского» в культуре воспринимаются острее по мере установления политического и социального равноправия.
Стан.: Значит, стоило России вступить в фазу политического равноправия, как обострился гендер?
Г. Ч. Г.: Не гендер обострился, а люди почувствовали, что что-то в языке стало чуть-чуть не так. Приведу вам пример. Некоторое время назад у меня возник спор в одной редакции, как называть главу политической партии, если она, голова эта, женщина, а не мужчина. Надо, говорю, писать «председательница». А мне отвечают, что нет такого слова. Как же, спрашиваю, нет, а зачем же я в седьмом классе выучил пушкинские строчки:
Пьяной горечью Фалерна Чашу мне наполни, мальчик! Так Постумия велела, Председательница оргий. Вы же, воды, прочь теките И струей, вину враждебной, Строгих постников поите: Чистый нам любезен Бахус71.Вместо того чтобы потрудиться понять Пушкина, подсовывают начетническое рассуждение из учебника о том, что у существительных в русском языке не бывает формы мужского и женского рода, а бывают только пары самостоятельных лексем. Поэтому, дескать, слова «председательница» в значении «женщина-председатель» быть не может.
Стан.: А по-вашему, значит, может?
Г. Ч. Г.: Да не по-моему, а по духу языка может. Дух языка любит пестроту, как женщина любит нарядиться. Бахус, Лиэй, Вакх, Дионис — все это один и тот же субъект. А сколько у него сладких имен. Когда шутя говорят «петушка» и «кукух», это, конечно, игра, но ее смысл и состоит в том, что в зародыше пары (или тройки) эти всегда в языке существовали. Виртуально в формообразовании существительных по родам нет никакой крамолы. Просто мужское и женское в аполитичных культурах мыслятся разными субстанциями. Человек — это мужчина. А женщина — его попутный ребропродукт.
Стан.: Ну вот не любят русские люди слова поэтесса, им кажется, что поэт, учитель, это да, это значительно, а учительница нет, тем более поэтесса, кентавресса, директриса.
Г. Ч. Г.: Так о том и речь, что норма из учебника есть лишь продукт маскулинного мира. Несколько лет назад я начал собирать досье на споры об этой теме. Люди очень болезненно переживают новизну. Между прочим, совсем не случайно, что к середине 1990-х годов в условиях, казалось бы, свободы женщин совершенно вытеснили в России из политики. Их много в СМИ, кое-кто есть в бизнесе, но в целом политически Россия пока гендерно неполноценное общество, особенно по сравнению с социально развитыми странами — Финляндией.
Стан.: А за всем этим стоит язык?
Г. Ч. Г.: Я бы сказал, не стоит, а следит язык. В сопротивленцах же гендерному обновлению ворочается политический урод, который и Пушкина готов принести в жертву засиженному мухами учебнику.
Стан.: Значит, настанет день, когда в слове «критикесса» не будет никакой иронии, а будет просто критик женского рода так называться?
Г. Ч. Г.: Совершенно верно. Именно так и будет, смею вас уверить. А то ведь что получается. Пока в язык не впускают обогащающих его критикесс и кентавресс, докториц и председательниц, поэтесс и доброволиц, миллионы людей стремительно утрачивают куда более важные навыки различения смысла частиц — отрицания, содержащегося в «не», и утверждения, содержащегося в «ни». Елена Григорьева, философиня из Тарту, очень хорошо сформулировала это. «Язык, — пишет она полушутя, — явно консервировал вековую обиду мужской части русскоговорящего человечества на женскую». Кто-то из ее собеседников проиллюстрировал это старой хохмой: «Хорошо известно, что испанец — человек, а испанка — грипп; американец — человек, а американка — бильярд; индеец — человек, а индейка — птица; кореец — человек, а корейка — еда; болгарин — человек, а болгарка — инструмент; финн — человек, а финка — нож; поляк — человек, а полька — танец; турок — человек, а турка — посуда; голландец — человек, а голландка — печка; венгр — человек, а венгерка — слива; ленинградец или сочинец — человек, а ленинградка или сочинка — преферанс; чехи и вьетнамцы — люди, а чешки и вьетнамки — обувь; китаец — человек, а китайка — яблоко; молдаванин — человек, а молдаванка — район Одессы. И только одно исключение: москвичка — человек, а москвич — ведро с гайками».
Стан.: Мрачная такая картина получается.
Г. Ч. Г.: Ну, могло бы быть и еще хуже. Если б˚ мы с вами в Древней Греции жили, мы бы и не такого наслушались. Женщина в мифе — страшное создание, опасное, коварное. Так называемый гендерный фокус этим всем как раз и интересен.
Стан.: Но людям кажется, что есть вот некая традиция — от домостроя до советской ячейки общества.
Г. Ч. Г.: Как у их бабушки с дедушкой было, это, дескать, все правильно? А как у их детей и внуков — это все неправильно, новомодные штучки и глупости? Совершенно точно.
Стан.: А языка это касается в той же мере, что и политики?
Г. Ч. Г.: Думаю, что да. Но это пройдет, ведь у нескольких поколений людей перетянули директивной ниткой какую-то штуку, ответственную за рост, за развитие, за спасительную изменчивость, за человечность.
Стан.: Но ведь советская эпоха началась как эпоха раскрепощения женщин? Правда, руководящие-то посты в государстве, партии, экономике занимали мужчины, но все-таки.
Г. Ч. Г.: Отчасти это связывали с женоненавистничеством Сталина, которое обострилось после самоубийства его жены в 1932 году. В потрясающей книге «Двадцать писем к другу» дочь Сталина Светлана Аллилуева очень подробно описала эту черту отца. Кстати, вы знаете, по чьему «заказу» была эта книга написана?
Стан.: Нет.
Г. Ч. Г.: Андрея Донатовича Синявского! Это ведь очень интересно. Книга о русской литературе из лагеря как письма жене, Марии Васильевне Розановой, и книга об отце в форме писем дочери другу и коллеге…
Г. З.: То есть в гендерном одиночестве ничего не получается?
Г. Ч. Г.: Совершенно с вами согласен! После 1953 года выяснилось, что антиженский дискурс, а по-русски говоря женоненавистничество, так вот женоненавистничество является главным пороком политической и гражданской России. Вы говорите СМИ, но было чисто формальное равноправие: в советском Верховном Совете доля женщин была выше, чем в современных демократических странах, а на фактической роли женщин в обществе это не отразилось.
Стан.: Может быть, этот парадокс и подтолкнул женщин к гиперактивности в массмедиа?
Г. Ч. Г.: Важно еще вот что: в правозащитном и диссидентском движениях стихийно установилось гендерное равноправие. Без Елены Георгиевны Боннэр не было бы правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова. А что касается СМИ, то тут не случайно: и как объект самой масштабной дискриминации, и как творческий субъект женщины постепенно взяли на себя основные сюжеты, связанные с неправовым характером советского государства и советского общества. К перестройке, после 1985 года, женщины стали если и не главным, то самым ярким лицом в российской журналистике. Просто навскидку: в 80-е годы Ольга Чайковская в «Литературной газете», Татьяна Иванова в «Огоньке», в 90-е годы — Галина Ковальская, Вероника Куцылло, Евгения Альбац, Анна Политковская, Светлана Алексиевич, Наталья Геворкян, Елена Масюк.
Стан.: Ну да, потом популярные и влиятельные тележурналистки были перестроечные — Светлана Сорокина, Татьяна Миткова.
Г. Ч. Г.: Между прочим, очень даже символично, что в августе 1991 года на пресс-конференции организаторов путча против Михаила Горбачева именно журналистка — Татьяна Малкина — спросила: «Вы понимаете, что совершили государственный переворот?» Это все вполне античная история. Интересно, какой будет развязка.
Стан.: Трагической или комической?
Г. Ч. Г.: Ну да, есть кое-что от Еврипида, но есть и от Аристофана.
Стан.: Просматривается вариант «Лисистраты»?
Г. Ч. Г.: Надо надеяться. Мужчины пока демонстрируют позорную мужскую глупость.
Стан.: В том числе и в отношении языка?
Г. Ч. Г.: Особенно по отношению к языку. Не будем забывать, что передача основных речевых навыков осуществляется по женской линии. Стран, в которых фактически, а не формально, как было в СССР, женщины поровну делят тяготы государственного управления с мужчинами, люди вообще живут лучше, относятся к друг другу и говорят друг с другом человечнее. Особенно там, где холодно и довольно пустынно, как на островах блаженных.
А вот и голос студентки, скрывшейся под псевдонимом landysh solitus:
«Удивительно, что все злодейства в мире начались с мужчины, а вот все коварства — с женщины. Первым жестоким тираном и негодяем был бог Уран — он всех своих детей запихивал обратно в их мать — Гею, так как боялся, что его власть свергнут (вот от него, наверно, и пошли тираны и цари, пытающиеся любыми способами удержать власть и ликвидировать всех настоящих и ожидаемых соперников). Зато Гея не уступила ему в коварстве, подговорив своих детей отомстить отцу за его злодейства. Ведь именно она тайно научила Крона оскопить Урана железным серпом, она же спрятала его, она же обворожила Урана, чтобы он пришел к ней на ложе и потерял бдительность. Отсеченный член Урана носился по океану, и от этого появилась пена, а из пены, как всем известно, — Афродита.
Еще одно открытие! Вы думали, мудрость Зевса — это его личное качество, данное ему с рождения? Увы и ах! На самом деле Зевс может отличить благое от злого и нехорошего потому, что в свое время проглотил (спрашивается, чем он отличался от своего отца, которого так жестоко поносил?) одну свою жену — Метиду, которая с тех пор говорила ему, что такое хорошо и что такое плохо. Кстати, совершил он сей жестокий поступок опять же из боязни предсказания, что Метида родит сына, который своим умом затмит и свергнет Зевса. А в результате из его головы родилась непередаваемо умная Афина, которой во время «пожирания» была беременна Метида.
Замечательны мысли Гесиода насчет женщин — тут просто целая философия! Значит, женщины — это прекрасное зло, созданное, чтобы терзать и мучить мужчин (читай — «человека», потому что женщины — не люди). Эта напасть была создана (из Пандоры) Зевсом в наказание, а точнее в возмещение ущерба, причиненного Прометеем, который украл у Зевса для людей огонь. Вроде как: ах, вы довольны, у вас есть огонь и жизнь прекрасна? — так вот вам женщин! И старость в придачу. Дальше идут потрясающие сравнения женщин с бессмысленно «жрущими» трутнями, от которых нет никакой пользы для трудящихся изо всех сил пчел. Затем этот мотив был использован Семонидом Аморгосским, где женщины тоже изображаются только способными есть и пить. Правда, у него в классификации типов женщин есть женщина-пчела, более или менее подходящая для роли жены»72.
Отдых — это смерть
Стан.: Начинается время летних отпусков, многие отправляются на отдых в Грецию. Для одних это просто отдых, для других, может быть, приобщение к древней культуре, познавательное путешествие. А как смотрели на это дело древние?
Г. Ч. Г.: Знаете, в каком значении в разговорном языке некоторые употребляют слово «отдыхать»?
Стан.: «Спать»?
Г. Ч. Г.: Да. А почему?
Стан.: Ну людям кажется, что «спать» — это слишком площадное слово, а вежливее сказать «отдыхать».
Г. Ч. Г.: А вместо «умер» — «уснул вечным сном», да? Вульгарный эвфемизм на мифологической подкладке, вот и весь сказ. Мифологически говоря, отдых — это просто смерть, переезд на острова блаженных.
Стан.: Но на отдых-то едут не спать, а, скажем, активно двигаться. Есть даже целая наука, правда, прикладная, про то, как правильно отдыхать…
Г. Ч. Г.: А с точки зрения мифологии, уж простите, отдых смертельно опасен. Нельзя останавливаться, делать пауз. Вот Тезей и Пирифой захотели украсть у Аида Персефону, но присели по дороге отдохнуть, да так и остались там сидеть.
Стан.: Вы хотите сказать, что отдых — источник несчастий?
Г. Ч. Г.: Мягко говоря. Ну вот почему Трою разрушили, помните? Вопрос по курсу истории античной литературы 25-летней уж давности? (Смеется.)
Стан.: Ну как забыть суд Париса?! Троянский царевич выбрал Афродиту, привез в Трою прекрасную Елену, а за ней потянулись ахейцы…
Г. Ч. Г.: Да, конечно, Елена — это пять. Но почему Троя? Илион? Мы с вами не должны забывать, что за каждой прекрасной женщиной у греков прячется какая-нибудь мифологическая корова. Основателя Илиона звали, как вы понимаете, Ил. Так вот этот Ил вышел победителем на состязаниях, учрежденных царем Фригии. В качестве награды оракул велел царю одарить Ила молодой трехцветной коровой. Самому же Илу было велено следовать за этой коровой до тех пор, пока та не выберет место для отдыха. Впридачу к корове Илу подарили еще 50 юношей и 50 девушек, и вот вся компания брела за священным животным. Наконец корова улеглась, как мы бы сейчас сказали, в шикарном курортном месте — на холме с дивным видом на море. Тут Ил и основал Илион.
Стан.: То есть трехцветная телка…
Г. Ч. Г.: Вот-вот, золотые слова! Не случайно на языке тех же трудящихся, которые говорят «отдыхать» вместо «спать», а себя называют «жеребцами»…
Стан.: «Лосями»…
Г. Ч. Г.: Или «быками», молодых ядреных женщин принято называть «телками». В Германии живет известный теоретик культуры из России Борис Гройс. В разгар войны за югославское наследство, за которой последовала война за советское наследство, Гройс высказал ценную мысль о том, что войны современности не случайно проходят в курортных местах, потому что на них сфокусировано внимание миллионов «отдыхающих» — людей, начинающих «двигаться» только в порядке движения в отпуск. Дубровник и Сухуми — это поле битвы отдыхающих.
Стан.: На наше счастье, Крым не попал в этот список…
Г. Ч. Г.: Только бы не сглазить! А то, знаете, советский тип слабоумного курортного балагура ради красного словца способен взорвать даже самую мирную ситуацию. Отдыхающие — вообще страшное племя. Есть некий комизм в том, как люди рассказывают о прекрасных курортных местах, где якобы было «совсем безлюдно». О, этот курорт, на котором в головах отдыхающих, как греки в Троянском коне, копошатся вооруженные тараканы-мечты о массовом убийстве всех этих галдящих потных толп, вытаптывающих кущи и выливающих в свои жадные глотки прохладный оранжад, к которому как раз потянулась нежная ручка моего перегревшегося чада, — что это, как не ад?
Стан.: А ведь и греки, засевшие в Троянском коне, поубивали троянцев спящими…
Г. Ч. Г.: Ну да, сон — страшная вещь.
Стан.: А как же вещие сны?
Г. Ч. Г.: А разве отдыхать едут за вещими снами? Впрочем, был такой известный античный турист Беллерофонт. Он как раз мечтал оседлать Пегаса — крылатого коня, верхом на котором хотел подняться на небо и собственными глазами убедиться в наличии или отсутствии богов. Ради этого он лег спать в святилище Афины, и во сне ему богиня дала уздечку для Пегаса…
Стан.: Припоминаю: у Еврипида Пегас потом роняет Беллерофонта, а сам пробирается к богам, звездам…
Г. Ч. Г.: Совершенно верно! Вот и вещий сон. Беллерофонт после этого падения охромел, потому что вопрос был не в том, как влезть, а в том, как слезть…
Стан.: А как в мифах с курортными романами?
Г. Ч. Г.: Пожалуй, покруче, чем у нынешних, покруче…
Стан.: Ну Одиссею, кажется, удавалось выходить из положения…
Г. Ч. Г.: Не самый удачный пример: его же убил собственный сын Телегон, зачатый Цирцеей, как раз когда Одиссей отдыхал на пути к Пенелопе. Но даже и гораздо более стойкие и одаренные невиданными способностями люди пали жертвой курортных страстей. Герой Орион — сын Посейдона! — влюбился на Хиосе в дочь главного местного винодела Меропу и посватался. Будущему тестю не понравилось, что Орион умел ходить по воде, аки посуху. Винодел напоил Ориона вином, а потом выколол ему глаза и бросил на берегу моря…
Стан.: Отдохнули…
Г. Ч. Г.: Вот именно.
Стан.: Но неужели не найдется у древних ни одного положительного примера полноценного отдыха? Постарайтесь уж для наших читателей!
Г. Ч. Г.: Полноценный отдых вечен. И он тем приятнее, чем меньше крови приходится пролить будущему отдыхающему на пути к Островам Блаженных, последнему курорту греческого мифа. Что нам в отдыхе Медеи и Ахиллеса?
Стан.: Но неужели совсем никого?
Г. Ч. Г.: Пожалуй, единственным отдыхающим, не успевшим перед своим «отдыхом» испытать горькой судьбы, был сын Зевса Эндимион. В него влюбилась богиня лунного света — Селена, сам же он влюбился в супругу собственного отца — Геру. И вот чтобы как-то выпутаться из этого противоречия, он умолил Зевса погрузить его в вечный сон, оставив при этом навеки молодым. Не это ли мечта каждого отдыхающего?
Охуляемое и охуляемые
Стан.: Почему-то мне из всех ваших античных смеховых сюжетов больше всего запомнилась история про служанку Ямбу, которая рассмешила Несмеяну, задрав подол и показав, так сказать…
Г. Ч. Г.: …свою ямбическую силу.
Стан.: Ну, можно и так сказать. Это греков с нами объединяет как-то? Вообще, вот это солёное, сквернословное смешное?
Г. Ч. Г.: Конечно. То, что вызывает смех в обществе, находится в постоянном движении. Когда официально господствует какая-нибудь разновидность пуританства, ханжеская мораль, смеховая реакция низовая, совершенно разнузданная. А когда всё более-менее либерально, когда нет идеологического или морализаторского насилия, то и массовый, так сказать, смех тоньше. Поэтому и в России ирония, мягкий юмор, интеллектуальная шутка обычно не были слишком заметны на фоне смеховой ярости, в котле фанатичного хохмачества.
Стан.: А что, анекдот только в России так популярен?
Г. Ч. Г.: Как малый жанр, история, пересказываемая, чтоб вызвать взрыв смеха, в такой степени, как у нас, он не распространён ни в одной из стран, где мне довелось побывать в последние полтора десятилетия. Разве что в «русском» или «восточноевропейском» Израиле дело обстоит похоже. От Америки до Германии в обиходе экспромт к случаю, эфемерная языковая шутка, как, кстати, и у многих молодых людей в России. Анекдотчик со стажем, признаюсь: на своей шкуре испытал реакцию на неуместность рассказывания анекдота как исполнения мини-скетча «к слову». Это воспринимается как заёмное остроумие, подмена живого общения муляжами.
Стан.: А есть общая платформа для смешного у представителей разных народов?
Г. Ч. Г.: Если совсем коротко, то эта платформа сексуальная и спиритуальная. Первая — по причине традиционной табуированности этой сферы в обыденном мире, а вторая — в силу естественной неприязни нормального человека к учителям жизни, которые лезут в душу, ну и в большинстве случаев врут при этом немилосердно. Сейчас уже мало кто помнит Ленина как главный молоток для отшибания мозгов, а в последние годы советской власти была частушка, которую я, для нужд слабонервных, несколько переиначу:
Шёл я мимо мавзолея,
Из окошка вижу — [приз: ]
Это мне великий Ленин
Шлет воздушный [скажем, kiss.].
Стан.: А разве такую частушку можно перевести на чужой язык, ну, и чтобы понятно было?
Г. Ч. Г.: Конечно, понадобится комментарий…
Стан.: Но под комментарий как-то не очень смешно.
Г. Ч. Г.: Вы правы, конечно. Но чем универсальнее смешное, тем ниже приходится опускать планку. На этом держится массовый телевизионный юмор, со смехом, записанным «за кадром», как физиологическое упражнение в эмоциональном борделе.
Стан.: Но на этом держался и смех старой аттической комедии.
Г. Ч. Г.: Так и я говорю это не в охуление, ибо это не менее уважаемый бизнес, чем всякий другой, а просто для ясности.
Стан.: Но какое-то неприятие такого смеха все-таки существует. Откуда оно идёт?
Г. Ч. Г.: От нежелания утраты самоконтроля. И — нежелания признавать, что тебе на самом деле вполне смешны, скажем, скабрезные шутки.
Стан.: Да сейчас и слово-то это совершенно не в ходу.
Г. Ч. Г.: Не на слуху, да.
Стан.: Потому что оно французское?
Г. Ч. Г.: Да нет, наверное. Поскольку это основной массовый поток производства смешного, мейнстрим, так сказать, то в его фокусе остается слепое терминологическое пятно. Скабрезное в чистом виде не может присутствовать в диалоге долго, а функция смешного «под фонограмму» — не выпускать вас из этой клетки, долго держать в плену. Людям, даже любящим посмеяться, тягостно попадать в плен даже одного анекдотчика.
Стан.: А есть ли другой смех, другое смешное, противостоящее такому физиологическому и все-таки, как ни крутите, охуляемому вами смеху?
Г. Ч. Г.: Ну, уговорили — охуляемому, так охуляемому. А разве всё принудительное не достойно хулы? Да, такое другое смешное тоже есть, оно как раз описывается двумя русскими словами — одним очень старым и одним относительно новым.
Стан.: Очень старое даже попробую угадать — глум? Глумление?
Г. Г.: Совершенно точно. А другое, конечно, — стёб.
Стан.: Это уже что-то граничащее с греческим сарказмом. И потом, оно ведь тоже бывает принудительным и, во всяком случае, агрессивным.
Г. Ч. Г.: Верно, конечно. Это совсем не то смешное, о котором говорят Аристотель — как о неопасном безобразии и Кант — как о мгновенной радости от превращения напряженного ожидания в ничто. Стёб и глумление — это и реакция на большое зло, которому удалось скрыться от возмездия. И человеку ничего другого не остается…
Стан.: …как поднять руку на святыни.
Г. Ч. Г.: Ну, не руку, а язык, кисть, резец, ну, там, что он может еще поднять? А смотрители святынь обычно вооружены, всегда готовы собрать кодлу на разгон глумливых. А ёрнику и стебарю только этого и надо. Помните, как у Пушкина Балда в поповском доме жил?
Стан.: «Яичко испечет да сам и облупит»?
Г. Ч. Г.: Вот-вот. (Смеётся.)
Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится,
Попёнок зовёт его тятей;
Кашу заварит, нянчится с дитятей.
Только поп один Балду не любит,
Никогда его не приголубит,
О расплате думает частенько…73
Стан.: Ну, это сейчас не модный такой Пушкин.
Г. Ч. Г.: Модный не модный, а только Пушкин в России — как в Турции армия: national institution. Его с разных сторон тщетно пробовали из самых серьёзных соображений сбросить с корабля современности.
Стан.: А трагикомедия пушкинского 1937 года?
Г. Ч. Г.: Да-да, это очень удачный пример комизма, не узнанного обществом в трагедии. Пушкина использовали, употребили, словно вторично «расстреляли» в СССР в 1937 году. От этой процедуры в общественном сознании осталось несколько нелепиц — так называемый Пушкин спросной…
Стан.: Типа — а сапоги кто будет чистить, Пушкин?!
Г. Ч. Г.: Ну да, и вот этот мрачный, смертельно серьёзный пушкинский юбилей, в 1937-м совпавший с новым витком трагедии русского народа, вдруг превратился в комедию ошибок. В разрешённом Пушкине начали находить и певца свободы, и тираноборца, и предтечу всех русских революционеров. И вот из двух трагедий — 1837 и 1937 годов — получилась сначала трагикомедия, а потом и комедия Пушкина-спросного, Пушкина, который «наше всё», гуттаперчевого Пушкина-Панурга.
Стан.: То есть смешное все-таки вторично? Это только реакция на серьёзное?
Г. Ч. Г.: Да нет, это — любой неожиданный сдвиг, любое свободное движение, позволяющее субъекту увидеть со стороны — в том числе, конечно, и себя. Пока нечто не увидено, его ведь и не существует, не существует в том смысле, что о нём нечего говорить. Пока Курёхин и Шолохов не увидели в Ленине гриба в кепке, при сколь угодно серьёзных намерениях десятков замечательных историков, у целого поколения не открылись глаза на историю советского общества.
Стан.: Грибоедов.
Г. Ч. Г.: Что Грибоедов?
Стан.: Ну, общества грибоедов.
Г. Ч. Г.: Вот видите, а говорите, вторично! А ведь трагедия. Помните пушкинское:» — Кого везете? — Грибоеда».
Стан.: Смех — первичная здоровая…
Г. Ч. Г.: …интеллектуальная и психосоматическая…
Стан.: …реакция на старое и новое?
Г. Ч. Г.: Да! Реакция на вызов. Смешное — это вызов. Вы знаете, в предыдущем нашем с вами разговоре на странице этого журнала появилась фантастически смешная опечатка.
Стан.: Как? Вы же вычитали текст!
Г. Ч. Г.: Вот именно: я говорил о сыне Зевса Эндимионе, а на странице 55-го июньского номера он превратился в «сына Зевса Мэрилина».
Стан.: Мистика какая-то!
Г. Ч. Г.: Ну да. Это же не может быть работой автоматического компьютерного редактора. Значит, стихийная шутка наборщика, объединившего в одной опечатке нашего спящего красавца, Мэрилина Мэнсона и Мэрилин Монро, эту вечную Ямбу гламура, ту самую Ямбу, которая развеселила хозяйку своим голым и невыбритым причинным местом и которая так надолго врезалась вам в память, самая, можно сказать, серьёзная героиня мифа.
Стан.: Но всё-таки она только служанка богини?
Г. Ч. Г.: Ага, Санчо Панса только слуга Дон Кихота, а Швейк — денщик своих офицеров!
Путешествия в античности
Стан.: Мне вот кажется, что путешествовали древние мало, во всяком случае — гораздо реже нашего…
Г. Ч. Г.: Не совсем правильно кажется. А почему мы решили говорить о путешествиях?
Стан.: Потому что не путешествовать сейчас это совсем уж дурной тон.
Г. Ч. Г.: А деловые поездки входят в список?
Стан.: Входят, входят вполне. Особенно если нехватка обыкновенных, в туристических целях.
Г. Ч. Г.: По прошествии некоторого времени цель даже самой деловой поездки может поменяться.
Стан.: Даже на противоположную?
Г. Г.: Именно!
Стан.: Но вот в античности путешествовали обычно с какой-то конкретной целью — за золотым руном там, за Еленой.
Г. Ч. Г.: Ну, это не совсем путешествие, а некая авантюра с последствиями. Но главное, что путешествия в античности совершались так, что они длятся как бы до сих пор.
Стан.: Это как?
Г. Ч. Г.: Все идет по кругу, по очень большому кругу, причем иногда путешественник просто проскакивает нужное место и делает еще один круг, да еще попадает в подземное царство, откуда выхода нет и где ты путешествие продолжаешь, но уже в виде тени!
Стан.: Это как?
Г. Ч. Г.: А так, что Ахиллес в загробном царстве сходится с Медеей, и они живут как муж и жена на краю света. И еще. Это как раз главное. Может быть, главный сюжет мировой литературы — возвращение Одиссея. Путешествие-то домой, но, так сказать, с заездами на много лет к потрясающим богиням и полубогиням, и зачатие нового сына, и все это — в ожидании гибели «от моря» и от рук собственного сына. Он не может оторваться от путешествия домой, сам оттягивает это возвращение. Осознанно-неосознанно.
Стан.: Вы хотите сказать, что все главное в античности…
Г. Г.: Да! Происходит в путешествии.
Стан.: А Сократ?
Г. Ч. Г.: Ну, с Сократом — по Розанову, который говорил, что путешественник должен обладать большим запасом тишины в душе, а тот, у кого много внутреннего движения, может и на одном месте сидеть. Кант не выезжал за пределы Российской, так сказать, федерации, а от его сидения двинулись миры. Так и Сократ. Даже в еще большей степени, чем Кант. Потому что главное путешествие производится внутри нас. Силами главного мигранта в нашем мозгу…
Стан.: Языка?
Г. Ч. Г.: Да, конечно. Ведь всякий мифологический сюжет, всякое раннее повествование — это документ о миграции слов, акцентов, языков. Путешественник движется по внешней поверхности некоего полупрозначного тела. И вот он вернулся со своими сувенирами, снимками, ресторанными счетами. И учреждает новую моду на дизайн, на форму.
Стан.: А к языку это как относится?
Г. Ч. Г.: Так язык все это и оформляет на самых дальних подступах. Откуда прилетело это или другое слово? Внутри человеческих сообществ таинственным образом мигрируют языки. Мы с вами пользуемся персидским словом «чемодан» для описания этой штуки, которую берут в путешествие, а к древним афинянам перекочевало, как показал филолог Освальд Семереньи, хеттское слово «таркувант» — «пляшущий человек», из которого по прошествии скольких-то веков возникнет «трагедия».
Стан.: Греки были первыми, кто начал думать об этих путешествиях слов внутри человеческих сообществ?
Г. Ч. Г.: Во всяком случае, первыми, кто начал об этом систематически писать, были греки и римляне. Именно поэтому вся географическая номенклатура на глобусе…
Стан.: А, кстати, тоже латинское слово…
Г. Ч. Г.: Конечно, греко-латинская — от диаспоры до Микронезии и Полинезии. И анатомическая, и мифологическая.
Стан.: Хотя не греки и не римляне ее открыли.
Г. Ч. Г.: Но они увидели и сформулировали связь между путешествием внешним — в большом космосе, и путешествием внутренним. Поэтому мир костей и камней отражается в мире растений или звезд.
Стан.: Каким образом?
Г. Ч. Г.: Одна из загадок — как переводить внутреннее во внешнее.
Стан.: Вы хотите сказать, что и вот этот перевод с греческого на латынь…
Г. Ч. Г.: Именно — не будем пугаться этого слова — Одиссей и Эней — культурная парадигма путешественника, средиземноморского человека, открывающего мир в трех направлениях, в трех плоскостях. Оба возвращаются — один к себе домой, другой — к своей миссии — строительству нового города.
Стан.: Так, это — внутрь себя, внутрь своей задачи.
Г. Ч. Г.: Да, конечно.
Стан.: И во внешний мир. И потом римляне буду строить свои дороги… Понятно. А какое третье измерение?
Г. Ч. Г.: В загробное царство. Потому что оно находится все-таки и не внутри, и не вовне.
Стан.: А в обыденной жизни этот промежуток — в театре. И отсюда — ваш любимый аристофановский сюжет — кого выводить из загробного царства — Эсхила или Еврипида?
Г. Ч. Г.: Совершенно верно! Путешественник — и любитель, и профессионал — отправляется в путь, всегда держа в голове две вещи: он идет туда, где говорят на другом языке, и он идет туда, откуда может не вернуться. Это все прикрыто так называемым любопытством, интересом к древностям, всякой мишурой. Но на самом деле путешественник сознательно рискует.
Стан.: Как-то мрачновато получается, нет?
Г. Ч. Г.: Да, мрачновато. Зато правда.
Театр истории
Стан.: Как древние делали театр из эпоса, Аристотель, да и сам Эсхил рассказывали. А вот как делали театр из истории, так что наука история как бы пошла в одну сторону, а театр, взяв то же самое, совсем в другую? И — кто научил делать из истории театр?
Г. Ч. Г.: Вот так вопросы у вас! Почти автоматический ответ: делали, конечно, филологи. Хотя и здесь есть загвоздка. Первые исторические драмы, поставленные в Афинах и нам не известные, это «Взятие Милета» и «Финикиянки» Фриниха. Они были созданы по таким горячим следам событий, что зрителям и судьям их было больно смотреть.
Стан.: И «Взятие Милета», кажется, отменили или даже запретили показывать. Но «Персы» -то Эсхила потом взяли свое.
Г. Ч. Г.: Это верно, и трагедия Эсхила оставалась предметом изучения в школах как образцовая и даже входила в число так называемых «византийских трагедий», допущенных к изучению в христианской школе. Но я о другом хочу сказать. Дело в том, что воображение, разбуженное драматургом, перехлестнуло возможности зрителей. Это был триллер, которому в тогдашней жанровой сетке не было места. В традиционном, заданном еще Аристотелем и остающемся в работе, так сказать, подразделении, описаны корни проблем, которые возникнут в театре через две тысячи лет. Когда Аристотель пишет, что «поэзия философичнее и ценнее истории» (или достойнее, у нас, по традиции, переводят «серьезнее», но это менее точно), он имеет в виду способность поэзии разбудить воображение, показать возможное как вероятное и…
Стан.: …и этим вывести зрителя из себя?
Г. Ч. Г.: Совершенно верно. При этом Аристотель показывает в «Поэтике», как драматическое искусство развивается в теории, его интересует каркас, и драматурги обычно могут получить от Аристотеля больше, чем режиссеры. А поскольку древние трагики были в одном лице и авторами текста, и постановщиками…
Стан.: А иногда, если сегодняшним языком говорить, и продюсерами?
Г. Ч. Г.: Да, так вот Аристотеля больше всего интересует все-таки текст произведения. Зато его последователей все больше и больше волнует как раз действенная сторона поэтического искусства. Что происходит в голове у читателя, когда в нее проникает выдающееся произведение, какая драма там разыгрывается, или, опять же, может, или даже могла бы разыграться.
Стан.: А пример какой-нибудь можете привести.
Г. Ч. Г.: Ну вот пример почти хрестоматийный.
Стан.: Почему почти?
Г. Ч. Г.: Потому что он мог бы быть, стать, считаться хрестоматийным, ведь его изучают в классических гимназиях испокон веку.
Стан.: Там, где изучают.
Г. Ч. Г.: Ну да. Так вот Дионисий Галикарнасский. Сочинение со скучным названием «О соединении слов». Оно было написано почти две тысячи лет назад в русском прекрасном переводе О. В. Смыки и с замечательнейшими комментариями А. А. Тахо-Годи — лет сорок лет назад, в конце 1970-х в университетском издательстве. Там есть одна маленькая глава, в которой Дионисий показывает, какие чудеса способен проделать и проделывает поэт и историк, которые организуют театр сначала в голове читателя.
Стан.: Но для этого и самого Дионисия надо, получается, как-то правильно читать?
Г. Ч. Г.: Да, в том-то и дело, что подготовка к квалифицированному чтению книги, главы, это специальная работа.
Стан.: Да, тут недостаточно закрыть глаза и все увидеть по наитию. И что Дионисий? Не томите уже.
Г. Ч. Г.: Да, так вот Дионисий говорит, что эпический поэт создает в голове читателя картину, которая начинает жить своей жизнью, в тот момент, когда он описывает самые простые мелочи, что-то абсолютно приземленное, понятное, близкое.
Стан.: Как Чеховское бутылочное стекло.
Г. Ч. Г.: Да, Дионисий в качестве примера приводит, конечно, не Чехова, а Гомера, описывающего в «Одиссее» завтрак у свинопаса Евмея, когда туда к ним приходит Телемах, и вот навстречу ему бегут собаки, виляющие хвостом, но без лая. Дионисий так упоен этой простой сценой, что даже не очень детально ее анализирует, но как бы булавкой прикалывает памятку, как мы прикалываем листок с домашним заданием, и говорит: вот, смотрите, никаких особенных слов здесь нет, а достигается эффект погружения в событие, как реально с нами бывшее, случившееся вот только что с нами самими, потому что этот чертов Гомер сумел так расположить слова в стихах, что наш умственный взор пронзил от земли до неба эту картину. Телемах не понимает, отчего это сторожевые овчарки не обращают внимания на шаги кого-то постороннего, а это, оказывается, вовсе никакой не посторонний, а сам Одиссей скрывается в хижине. Поэт нам все это показывает через мелкую бытовую деталь, вот эти виляющие хвостом и не лающие овчарки, вызвавшие любопытство своим поведением, — деталь, благодаря которой мы, слушатели или, точнее сказать, зрители вселяемся в этот миг в Телемаха и его глазами смотрим на сцену.
Стан.: Значит, слова Эсхила о трагедии, которая берет «крохи с пиршественного стола Гомера», это не просто фигура речи.
Г. Ч. Г.: Конечно, не просто, хотя трагедия берет не такие эпизоды, которые в эпосе даны необыкновенно сплоченными звеньями.
Стан.: Вы говорили, что «гармонию» правильно переводить именно как «сплоченность».
Г. Ч. Г.: Совершенно верно. А Дионисий в этой главе о «соединении слов» предлагает читателю и будущему режиссеру-постановщику еще один, хотя и контрастный, пример. Словно вопреки Аристотелю, который противопоставляет «конкретный частный случай» другому, «всеобщему и возможному», Дионисий берет пример из историка — Геродота. Причем делает это страшно интересно. Он переводит с ионийского диалекта на аттический фрагмент из «Истории», и этого мы с вами никак не можем, к сожалению, оценить, хотя это важно. История, которую рассказывает Геродот, произошла в своеобразном треугольнике, который до некоторой степени можно назвать любовным, потому что главный виновник и главная жертва случившегося — царь Лидии Кандавл — был поистине смертельно влюблен в собственную жену. Геродот пишет, что он был так влюблен, что — внимание! — считал, что она — прекраснее всех других женщин на свете. И вот, с одной стороны, желая получить от кого-то подтверждение этому, а с другой — сгорая от желания поделиться хоть с кем-нибудь этой великой истиной, он подговаривает своего телохранителя Гигеса увидеть ее обнаженной. У лидийцев, пишет Геродот, даже для мужчины показаться кому-нибудь обнаженным считалось страшным бесчестьем, а тут такое дело. Но Кандавл настоял на своем, пообещав, что царица вовсе ничего не заметит и вовсе никогда не узнает, что Гигес ее видел. Дальше известно — все царица увидела, но снести унижения не смогла. Так же легко, как Кандавл уговорил Гигеса увидеть ее обнаженной, и царица уговорила Гигеса убить Кандавла и вступить в права ее же нового мужа и нового царя Лидии.
Стан.: И в чем пойнт Дионисия?
Г. Ч. Г.: В том, что Геродот упаковал в сжатое прозаическое повествование целую драму — с завязкой, перипетиями, безупречными и многослойными мотивами. Пять лет назад мы со студентами филфака МГУ даже составили книгу под названием «Геродот и Голливуд», в которой несколько десятков параграфов из «Истории» Геродота развернуты как микросценарии для фильмов ужасов, мелодрам, вестернов.
Стан.: А где она вышла?
Г. Ч. Г.: Да нигде: был один издатель, который горячо взялся, но проводил за нос. Так что все еще впереди.
Стан.: Ничего, Геродот две с половиной тысячи лет ждал полного перевода на русский. А тут только пять лет. Чем это фрагмент важен для нас практически?
Г. Ч. Г.: Вот! Он жизненно важен практически, потому что объясняет, что с первого же исторического сочинения, а Геродота не зря называют «отцом истории», мы сталкиваемся с необходимостью, и очень острой, переводить язык исторической прозы (сообщений о частном конкретном событии) на язык драмы. Обычно в структуре таких громадных произведений, как «История» Геродота, подчеркивают их архитектонику. Это — целый город, целая страна, целая часть света. Но тут приходит такой квалифицированный читатель, как Дионисий, и говорит, а давайте-ка увидим за этим зданием или городом драматические эпизоды, развертываемые не по правилам прозы, а по правилам драмы. Он и в другом своем сочинении — «Римских древностях» — говорит, что прозу надо писать так, чтобы получалась драма. Пройдут и в самом деле две тысячи лет до тех пор, пока безлюдная история всех этих тухлых формаций и классов уступила под натиском человеческого. Не массы, но люди, их мотивы и интересы, представимые в драме, интересуют читателя и зрителя.
Стан.: Но и массу людей можно ведь превратить в таких людей со стертой личной идентичностью.
Г. Ч. Г.: Конечно, можно. Так и в театр их можно водить под конвоем. А вот научить видеть драму с действующими лицами и исполнителями и понять, что ты сам — не участник массовки, а вменяемое политическое существо, это как раз Дионисий и растолковывает на примере Геродота.
Стан.: Стало быть, театр — это самый философский способ понимания окружающей действительности?
Г. Ч. Г.: Совершенно верно. Причем, и в своих достижениях, и в своих провалах. А кроме того, это еще и театр памяти. Все то, что настоящий историк проделывает с сознанием квалифицированного читателя, он пропускает через память зрителей. Благодаря этому живой театр никогда не уступит своего места в обществе, которое хочет помнить. Потому что невозможно помнить пустой, безлюдный факт. Драма — это человеческое восполнение недостающих данных, или улик.
Стан.: В определенном смысле, это и ответ по Аристотелю: хочешь исторической достоверности, пиши трагедию.
Г. Ч. Г.: Ну да, или комедию. Главное — заставь своих персонажей действовать.
Чехов и античность
Стан.: Чехова называют и принято считать психологом, чуть ли не основателем психологического театра, без него бы и МХАТа не было, весь мировой театр перевернул… Без Агамеменона не обошелся и он. Но все-таки какого-то странного. Зачем Чехову античные герои, если он писал про людей обыкновенных, которые смерти боятся, коротко живут?
Г. Ч. Г.: Да, психологом. Но в античности вместо психологии — тело. Происходящее в душе в античности происходит в теле, на теле, с телом. Душа — просто крылатая невидимка, все происходящее происходит с телом.
Стан.: Получается, что в психологическом театре и в психологической прозе античные герои — это ружья, которые не стреляют? Но ведь и герои Чехова раскладываются на «элементарные» мифы? Ну, хорошо, узнаю в Аркадиной с Треплевым миф об Эдипе, там и Тригорин кстати, и то, что Тригорин с Ниной, как бы уже женою или полуженою Треплева сходится, в этом тоже что-то понятное — греческое — просматривается… А где не видно, с первого взгляда не видно, — где прячется у Чехова греческий миф?
Г. Ч. Г.: И Чехов, и его зрители — выпускники гимназий.
Стан.: И?
Г. Ч. Г.: А для них Агамемнон — как Петька и Василий Иваныч для читателей Пелевина.
Стан.: А латынь — как что?
Г. Ч. Г.: Ну он же врач, доктор. Она для него — как лозунги ЦК КПСС для Венедикта Ерофеева или Евгения Попова.
Стан.: И Чехов прямо вот так же играет с этой латынью?
Г. Ч. Г.: Ну да. Даже когда в письме пишет про людей, «nomina коих sunt odiosa», в этой вот остраняющей вставке «коих» — усмешка, предложение читателю, который усвоил латынь как набор крылатых слов для надувания щек, чуть-чуть задуматься над такими клише, чтобы потом отрешиться от них.
Стан.: Не слишком ли тонко?
Г. Ч. Г.: Знаете, когда таких случаев много или даже всего несколько набирается, понимаешь, что совсем не слишком. Этот модус работы с клише потом назовут стебом. Чехов помогает читателю разрушать привычные клише, раскалывать привычную и мешающую схему мысли.
Стан.: А может быть, у вас найдется еще какой-нибудь пример, чтобы нашему читателю стало не только понятно, но и смешно?
Г. Ч. Г.: Ну вот когда у Чехова кто-то задает риторический вопрос — «De mortuis nihil bene, так кажется?» Пропуск слова nisi — «кроме», разрушает эту привычную формулу — «О мертвых ничего кроме хорошего» — фразой «о мертвых ничего хорошего». Это просто шутка, конечно, но она особым образом вписывается в представление о цинике и меланхолике.
Стан.: Нынешний читатель и зритель не очень-то слышит это?
Г. Ч. Г.: Почему, может, и слышит иногда. Но ему эта гимназическая игра — все равно что солдату, который привык хлебать все одной ложкой, вынутой из-за голенища, перейти на японские палочки.
Стан.: Но это микроуровень, точечный такой, согласитесь, почти не заметный. Некоторые вон по-русски читать разучились. Сейчас вспомнил из «Чайки» пример, где вместо «вкусов, о которых не спорят», говорится, что «о вкусах либо хорошо, либо ничего». Да, это тонкая, почти выцветшая от времени нить.
Г. Ч. Г.: Если мы с вами взяли метафору ткани и нити, которая мне как раз очень нравится, то давайте пойдем дальше. Я вполне готов соответствовать…
Стан.: Ну, вы-то готовы, я знаю, а Чехов — готов?
Г. Ч. Г.: Чехов еще больше готов. Вот вам незаметный и малоизвестный рассказ «Калхант».
Стан.: Он «Калхас» называется, кажется.
Г. Ч. Г.: Это одно и то же. Вы посмотрите, как она сделана, эта крохотная пьеса. Там ведь эта, как вы говорите, потускневшая, античная мифологическая паутина все действие окутывает. Начинается с насмешки, с фельетонного совершенно зачина, который без наших с вами героев не понять. Вот вам первая сцена. Комик Светловидов, «крепкий старик 58 лет», как называет его Чехов, просыпается у себя в гримуборной в костюме Калханта и в окружении «хаотических» следов «недавней встречи Вакха с Мельпоменой»74. «Встречи тайной, — уточняет Чехов, — но бурной и безобразной, как порок». Светловидов-Калхант выходит на сцену и в зал, он впервые видит эту «зияюшую пасть» театра ночью.
Стан.: То есть повторение намека на то, что театр первобытного хаоса касается, да? Но в остальном-то все эти страсти Бахуса и Мельпомены — просто эмблема театра, иронически приведенные почти пустые слова, разве нет?
Г. Ч. Г.: То-то и оно, что Чехов сначала показывает весь свой таганрогский гимназический и театральный реквизит. Тут же оказывается, что это не совсем эмблемы, а какие-то ранее вступившие в половую связь персонажи, ведь не случайно Светловидов застигнут самим собой (и автором) врасплох в костюме Калханта.
Стан.: А «костюм Калхаса» — это просто цитата из Оффенбаха?
Г. Ч. Г.: Конечно! Вот и блудодейные Вакх и Мельпомена смещаются для читателя в ту же область театрального, опереточного, где находится Калхант. Похмелье главного героя описано необычайно подробно и искусно. Сквозь головную боль «58-летнего старика» сначала транслируется комедия. И снова все это названо прямым текстом: о Светловидове-Калханте мы просто читаем, что от — комик! Но уже через несколько слов или фраз пародия на комедию обернется трагедией.
Стан.: Старый прием пародии на Аристофана у Еврипида?
Г. Ч. Г.: Вообще на комедиографов. Тонкое покрывало, или сеть, сработанная из ветоши какой-то, да?..
Стан.: …становится двусторонней обманкой!
Г. Ч. Г.: Именно! Чехов обеспечивает встречу Сенеке и Оффенбаху. Причем рассказ-то не сильный совсем. А ведь Калхант там просто помрет в конце от последствий порочного союза музы Мельпомены с бражником Дионисом. Это рассказ о невозможности театра, искусства. А в центре всего суфлер уговаривает из мрака нашего Калханта, что тот большой мастер сцены и должен, дескать, выстоять в неравной борьбе с настоящим искусством.
Стан.: То есть и тут Чехов строит комический эффект на зрительской осведомленности, и получается, что прорицатель не справляется без суфлера.
Г. Ч. Г.: И что бы там ни было у Светловидова за спиной, а судьба Калханта ждет и его. При этом мы не можем забывать, что вся эта гимназическая античность у Чехова не ученая, а опереточная. «Прекрасная Елена» Оффенбаха, вот это его ставшее хрестоматийным отроческое переживание.
Стан.: Почему же Чехов все время над этой античностью глумится? За что он ее не любит?
Г. Ч. Г.: Он ее не любит одновременно за две вещи. Одна — это ее несносная, бесспорная способность повернуть читателя и зрителя, особенно зрителя, лицом к натуре как она есть. Приемами, которые драматург все время обнажает. Если Чехов — по Скафтымову ли, по Рейфилду ли — весь зиждется на подтексте, то полная телесная, фигурная выраженность, которую он видит в античности, писатель просто не может любить.
Стан.: Обнажение приема — это вторая вещь, которую он не любит?
Г. Ч. Г.: Нет, это просто часть дара Чехова. А вторая сторона античности, которую Чехов так не любит, это ее несносный аутизм, одержимость фальшивой гармонией.
Стан.: И кто у Чехова воплощает эту одержимость гармонией?
Г. Ч. Г.: Да Беликов же. Он же все хочет гармонизировать. В облике поющей украинские песни Вареньки Коваленко в селе появляется Афродита.
Стан.: Да, точно, «как из пены рожденная», уточняет Чехов!
Г. Ч. Г.: Вот. Беликов заявляет, что украинский язык по звучности приближается к древнегреческому.
Стан.: А самым красивым греческим словом он считал «антропос».
Г. Ч. Г.: И совершенно понятно, отчего этот «влюбленный антропос», как его обозвали гимназисты, так боится велосипеда, на котором катаются его невеста с братом. Неустойчивость этих колес фортуны его угнетает. На поверхности рассказа все оказалось свернуто к теме социальной духоты и прочего вздора, а «влюбленный антропос» видит страшную картину неотвратимости судьбы — мойры Атропос. И Беликов умирает от обиды, и Калхант, настоящий Калхант, который предсказал все про Троянскую войну, умер от обиды…
Стан.: А отчего умер Калхас?
Г. Ч. Г.: Встретился с более осведомленным прорицателем, Мопсом. И в «Калханте» Чехова не случайно повторяется мотив футляра с золотой булавкой. До трагедии его снова возвысит Пастернак в хрестоматийном стихотворении.
Стан.: «Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, в футляр»75. Т.е. эта традиция антирецепции античности идет от Чехова в 20-й век?
Г. Ч. Г.: У поколения Чехова античность вся еще на слуху — и школьная, и опереточная, ее художник и обязан взломать.
Стан.: Получается, что в этом пункте современный зритель лишен этого непосредственного понимания Чехова?
Г. Ч. Г.: Да нет, непосредственное понимание остается. Просто оно более плоское, чем могло бы быть. А вот для рельефного понимания Чехова нужны и Сенека, и латинская грамматика, и греко-украинское комикование.
Стан.: А ваши студенты это понимают?
Г. Ч. Г.: Вот как прочитают наш с вами разговор, так сразу и поймут.
Стан.: Калхас вы наш!
Г. Ч. Г.: Но-но! Я на два года моложе.
Станиславский в Риме
Аполлон с лирой фреска I век до н. э.
Стан.:: Гасан Чингизович, мы с вами находимся в Риме, а Станиславский и Рим — это такая история невстречи. Судя по письмам, Рим ему совсем не понравился: «Каюсь, и здесь я ждал большего. Форум Траяна — одни поломанные колонны торчат и валяются. Новый памятник Виктору Эмануэлю — ерунда. Старый цирк — кусочек стены… Храм (забыл, чей) — три колонки»76… Как-то даже трагикомично это звучит.
Г. Ч. Г.: В вашем исполнении прямо чеховский комедиант проглядывает.
Стан.: Ну так же и есть! Почему у Станиславского такое впечатление от Рима осталось?
Г. Ч. Г.: Великий исторический город, переживавший перед приходом фашистов свое третье архитектурное возрождение, Рим и строится, и теряет одну старину, и находит другую старину, которая должна символически подпитывать новые политические силы. Это совсем не то, что ожидал увидеть Станиславский. Давайте не забывать, что он приезжает в одну предреволюционную страну — Италию — прямо из России начавшейся эпохи революций. Пятый год, потом мировая война, потом февраль 1917, потом октябрь…
Стан.: Отсюда его ненависть к хаосу? «Я убедился, что в хаосе не может быть искусства»77.
Г. Ч. Г.: Ну да, и он продолжает: «Искусство — порядок, стройность».
Стан.: А разве это не античный порядок?
Г. Ч. Г.: То-то и оно, что полоса хаоса, пройденная на его глазах Россией, это не тот хаос, что был «до всего» и что дал жизнь будущему порядку, который начался с отделения неба от земли. Ненавидимый хаос Станиславского — творение рук человеческих — из руин, оставшихся после мнимого «порядка Аполлона». Намного понятнее неприятие Станиславского античности стало мне после поездки со студентами, которая подошла к концу. Приехав в ожидании цельной картины, вы вдруг обнаруживаете, что буквально от всего остались интереснейшие описания и пересказы, а все остальное — громадный мир — это только руины. Второй этап был — включение воображения.
Стан.: А третий этап?
Г. Ч. Г.: Третий этап у моих студентов или у Станиславского?
Стан.: У тех и у другого!
Г. Ч. Г.: На самом деле, он общий: они находят спасение от римских руин в живом средневековом или барочном городе. Станиславский — в классической драме, но и подсматривая, как работают всякие новые гистрионы. Помните, он рассказывает, как попал Италии в настоящий феодальный город, жителей которого содержал как массовку местный феодал. Все это должно было вот-вот рухнуть, и Станиславский сумел выхватить здоровенный кусок старой реальной истории, порядок, который в его системе летоисчисления предшествовал хаосу.
Стан.: Ну да, едва начав новое дело — Художественный театр, он в первую же встречу с Немировичем, в «Славянском базаре», обозначил свои античные интересы. Тут и «Юлий Цезарь» Шекспира, и «Антигона» Софокла… Зачем Станиславскому эти истории?
Г. Ч. Г.: Станиславский никогда не скрывал, что начальный репертуар берет знакомый зрителю. Пусть тебя оценят по классическому, известному зрителю-читателю образцу. И только закрепив успех, можно вообще надеяться на благосклонность публики.
Стан.: А не странно, что и «Цезарь», и «Антигона» у Станиславского проходят по историко-бытовой линии МХТ?
Г. Ч. Г.: Тут нам надо представить себе, как Станиславский понимает «историко-бытовое». Это все то, что мы знаем, минуя личный опыт. Знаете, гимназист «знает» историю древнего мира, он зубрит глаголы и должен уметь пересказать биографию Цезаря. Но он никак не соотносит это со своим прямым опытом. Это, если угодно, быт сознания, удобная корзинка, в которую Красная Шапочка сложила пирожки для бабушки и пошла в лес.
Стан.: И в этом лесу его настигает Брут?
Г. Ч. Г.: Вы про роль Брута в «Цезаре»?
Стан.: Ну да. И еще мечтал поставить Эсхила, думал, например, о «Прометее»… Поставил «Антигону» Софокла.
Г. Ч. Г.: И все это ведь совсем не так, как было принято в Европе, с постоянными жалобами, даже стенаниями, что вот, мол, впадаем в оперный пафос, повторяем скульптурные «античные» жесты. В 1925 году Станиславский писал Акакию Пагаве, что всякий понимает необходимость упражнения. «Только одно драматическое искусство, более чем какое-либо требующее систематического упражнения всего, не только телесного, а и духовного организма, пребывает в состоянии дилетантизма и базируется на вдохновении и какой-то особенной протекции у Аполлона. Античное здесь мыслится как голое упражнение без идеи. Такой же безголовый опыт, как у античных статуй с отбитой головой»78.
Стан.: Да, осталось его воспоминание, как в 1908 в Камерном театре Рейнгардта смотрел он «Лисистрату»… А в другой раз пишет в письме: «Вечером — в цирке смотрели „Царя Эдипа“ (Рейнгардта). Это так ужасно, что я опять застыдился своей профессии актера. Пафос, галдение народа, бутафорско-костюмерская роскошь». Зачем, как думаете, ему были нужны эти античные авторы, если он то и дело ругал саму манеру исполнения античных трагедий, да и комедий тоже? Может, сюжеты нравились?
Г. Ч. Г.: Сюжеты не могут не нравиться, просто потому, что к ним все в конечном счете сводится в международной репутации. А он хотел всемирной славы. Тут без античности никуда не деться никому и никогда. Тем более, в стране переживавшей гигантскую смену религии и социального строя. Порваны все якоря, корабль не только вышел из порта, но матросы перед отплытием сам этот порт разрушили.
Стан.: Да, так понятнее увлечения Станиславского йогой и то, как он отождествлял Рабиндраната Тагора и Эсхила. «Рабиндранат, Эсхил — вот это настоящее. Мы этого играть не можем, но пробовать надо».
Г. Ч. Г.: Мне кажется, самое важное — в этом осознании пределов и слабости. В критике. Для Станиславского «Аполлон» — лукавый. «От Аполлона» он и употребляет в письмах в значении «от лукавого». И при этом говорит, что любит придумывать «чертовщину», обманывать зрителя неожиданностями. Мы этого не умеем, но пробовать надо.
Стан.: А почему Станиславскому так не нравится античная пластика? Сорри за длинную цитату. «Разве актеры поднимают руки на сцене? Нет! Они их воздевают. Руки актера ниспадают, а не просто опускаются; они не прижимаются к груди, а возлагаются на нее, не выпрямляются, а простираются вперед. Кажется, что у актеров не руки, а руцы, не пальцы, а персты — до такой степени движения их обрядно-торжественны. Каждый жест и каждая поза актера нарочито-картинны и просятся если не на полотно, то на фотографию. Не подлежит сомнению, что прародителем ремесленной пластики актера была античная скульптура, но ее трудно теперь узнать на сцене. Позы Аполлона исправлены оперными тенорами, а жесты Венеры отзываются балетной танцовщицей. Дело в том, что время, привычки, рутина, хороший и дурной вкусы перемешали в одну общую массу весь материал, который попадался под руки ремесленникам при выработке ими общеактерской пластики. Образцы античной скульптуры слились с приемами балетного танца, с запыленными трафаретами старой сцены, с недоношенными принципами будущего искусства, с личными особенностями отдельных популярных артистов, с искаженными традициями гениев, с ремарками плохих авторов, с банальностью бульварных романов, с прочими образцами ремесленной красивости. Теперь все смешалось, перебродило веками, оселось, наслоилось и точно сплавилось в один неразъединимый сплав, холодный и бездушный. Тем не менее большинство по привычке любуется пластикой актеров. Любуется, но не верит ей»79.
Г. Ч. Г.: Это очень хорошее объяснение его знаменитого афоризма «если не заживет тело, не поверит и душа». Сломать холодную и бездушную корку статуи нужно, но не так, как делали первые христиане, которые отбивали у скульптур носы и члены. Актеры должны, наоборот, влезть в совсем чужое тело. Станиславский вспоминает, откуда взялась эта манера, эта «античная жестикуляция»: при постановке «Юлия Цезаря» они целыми днями ходили в военной форме и нарабатывали опыт тела. Мы, говорит Станиславский, научились владеть плащом и располагать его складки, собирая их в кулаке, закидывать его через плечо и на голову, на руку, жестикулировать, держа конец плаща с распущенными складками.
Стан.: А как думаете, Гасан Чингизович, Станиславский — ну, все-таки, когда начала складываться Система, думал ли, что в этот момент, в это самое время из Хаоса складывает Космос? То есть представал этаким демиургом… Ну, хотя он был очень серьезным — в том, что касается творчества, искусства (фактически повторял за Щепкиным — священнодействуй или пошел вон), был и человеком веселым, с чувством юмора…
Г. Ч. Г.: Про демиурга — это вряд ли. Вообще, пафос для него — всегда ложный пафос, актерство. В центре картины художественного мира для Станиславского — актер. При всей нелюбви и даже иногда не скрываемой ненависти, которая слышна, когда Станиславский вспоминает о греческой и латинской зубрежке в гимназии, есть один образ, который витает над всем, что написал Станиславский о работе актера. Это — демиург, но творец вселенной, а мастер, которому его тело и голос повинуются так, как Протею.
Диалог о поколениях
Стан.: Вообще-то я хотел поговорить о поколениях в античности. И немножко — о ваших студентах. А потом нашел у вас в ЖЖ рубрику под странным названием «Поколения: интеграция». Это такая рукопись, найденная в Сарагосе. В одной этой рубрике несколько десятков ссылок, а первая — 2005 года, кажется: Дмитрий Галковский спрашивает о Высоцком…
Г. Ч. Г.: Да, как об интеграторе нескольких поколений…
Стан.: Может быть, с этого и начнем? Сейчас ведь есть такая потребность в интеграторе поколений.
Г. Ч. Г.: Такая потребность есть всегда, но только не у всех, а у поколений, находящихся в кризисе.
Стан.: А какие это поколения?
Г. Ч. Г.: Например, мое (смеется).
Стан.: А почему вы-то в кризисе?
Г. Ч. Г.: Да потому что примерно к этому времени люди осознают, что наступили последние годы для осмысленного социального действия. Речь идет вовсе не обязательно о политике…
Стан.: …Но и об образовании, например. Но здесь ведь у вас есть полное взаимопонимание со студентами. Судя по античке. Правильно ли я понимаю, что вы в ней видите тоже интегратора поколений? Понимают ли это ваши студенты? Как вообще сделать своей для тех, кто родился в 1990-е годы, античность?
Г. Ч. Г.: Конечно, обе стороны что-то свое понимают, но вопрос, есть ли у нас общее понимание в главном. В тот момент, когда хотя бы часть студентов вдруг схватывает, что он у нас есть, этот общий способ строить мысль, вести спор, аргументировать, понимать, например, стихи, написанные две с половиной тысячи лет назад и переведенные на русский сто лет назад, и что этим способом аргументировать и понимать, в мельчайших деталях даже, а не только в целом, мы обязаны, например, Аристотелю, они начинают относиться к античной литературе не как к чему-то антикварному, а как вот к сегодня им нужному гаджету.
Стан.: Айподно-айпадному?
Г. Ч. Г.: Отпадному!
Стан.: И как этот гаджет работает?
Г. Ч. Г.: Начнем с того, что каждое поколение богов и людей ищет и находит для себя абсолютное оружие. У богов это были стихии и природные объекты. Человек противопоставил этой обожествленной природе свои изделия и находки.
Стан.: Но щит для Ахилла выковал разве не бог Гефест?
Г. Ч. Г.: Да, Гефест, без сомнения. А вот лабиринт — психиатрическую лечебницу для больного сына Пасифаи Минотавра — построил уже Дедал. Но это всё не гаджеты, правда? Это девайсы. Гаджет должен помещаться в руке.
Стан.: А какие гаджеты получают от вас студенты?
Г. Ч. Г.: Кое-какие у них есть и без нас. Они о них припоминают, совсем по Сократу. Стоит им взглянуть на пять пальцев собственной ладони, и они вспоминают пять частей риторики. А стоит им вспомнить «златую цепь» или «золотую веревку» Зевса, за которую тот предложил всем богам и людям попробовать ухватиться, чтоб стащить его с Олимпа, и они понимают, чему могут научиться…
Стан.: … если книжки прочитают.
Г. Ч. Г.: Ну да, если всего-навсего исправно прочитают десятка два-два с половиной произведений. И научатся упаковывать столько имен, сюжетов и мотивов, полученных от ушедших поколений, сколько им угодно будет для любого дела.
Стан.: Но ведь индивидуальная память пробивает всего на три-четыре поколения…
Г. Ч. Г.: Так она тоже историческая, но не считается таковой. Многим кажется, что историческая память устроена иначе, чем личная, и что она начинается гораздо глубже. А она начинается в тот момент, когда понимаешь, что ты сам — часть истории.
Стан.: Т.е. «златая цепь» — это такие как бы четки, полученные от Зевса?
Г. Ч. Г.: Примерно, да. Как виртуальное ожерелье Гармонии. В греческой мифологии из поколения в поколение переходит этот гаджет. Уменьшенная копия волшебного золотого пояса Афродиты, которая была теткой Зевса и вместе с тем его невесткой. Когда Кадм женится на Гармонии, дочери Афродиты и Ареса, невеста, внучатая племянница Зевса, получает от мужа в подарок золотое ожерелье, которое ему отдала сестра Европа — та самая, которую…
Стан.: …Зевс соблазнил в облике белого быка?
Г. Ч. Г.: Да-да, белого быка с перламутровыми рожками. Так вот, это ожерелье делало обладательницу его неотразимой. Но и превращало ее самое в звено цепи проклятий, сопутствовавших этой неотразимой красоте. Потому что ожерелье Гармонии каждому следующему поколению обладательниц приносило несчастье. Агаве, которая потеряла голову и растерзала собственного сына, ее сестре Семеле, которая не доносила Диониса, Иокасте, матери и жене Эдипа. Потом — через поколение — начало действовать и на потомков Эдипа. Потом оно досталось Эрифиле: сын Эдипа Полиник подкупил таким образом Эрифилу, чтобы та заставила мужа — Амфиарая — присоединиться к знаменитому походу «семерых» против Фив.
Стан.: А как они запоминают всю эту петрушку?
Г. Ч. Г.: А про петрушку нарочно спросили?
Стан.: Нет, а что?
Г. Ч. Г.: А то, что английская пословица такая есть — «петрушка гуще в огороде рогоносца», которую англичане тоже у греков взяли: петрушка считалась средством, провоцирующим выкидыш. Ее вплетали в венки на погребениях, поэтому я переспросил.
Стан.: Но все-таки это надо как-то запомнить! Как они запоминают? Тут же не голая мнемотехника получается, а такой вполне содержательный рассказ, повествование. Т.е. тут даже прочитать мало, нужно ведь понять, за что ухватиться.
Г. Ч. Г.: Так вот за гаджет и ухватиться. А потом это уже труднее забыть, чем запомнить. Когда Одиссей перечисляет тех, кого увидел в подземном царстве, и говорит, что видел Эрифилу, прельщенную ожерельем и предавшую любимого мужа, перед твоим взором сами проплывают тени, так сказать, пострадавших от этой золотой цепочки Гармонии.
Стан.: А когда эта цепочка прервалась?
Г. Ч. Г.: Да никогда она не прерывалась. В античности ее в последний раз видели на Кипре. При желании можно напридумывать всякого. Вот, во время крестовых походов, в конце 12 века, на Кипре высадится Ричард Львиное Сердце…
Стан.: Он заберет ожерелье?! И кому подарит?
Г. Ч. Г.: Дальше уже начинается фэнтези. Гарри Поттер с Фоменко наперевес. Давайте лучше вернемся к тем поколениям богов и тем простым вещам, которые очень легко запомнить, держа перед глазами главный гаджет (держит перед глазами раскрытую ладонь — Стан.).
Стан.: Давайте. Так что с этим гаджетом? Ваши знаменитые риторические приемы?
Г. Ч. Г.: Не угадали: пять поколений. Вот пять поколений богов и пять поколений людей. Иногда говорят, что они сменяли друг друга. Но то-то и оно, что они оставались друг при друге, сражались друг с другом, но так все и остались вместе до самого конца.
Стан.: Как пальцы на руке?
Г. Ч. Г.: Ну да. Из пасти Хаоса выбрались Гея и Эрот. Гея породила Урана и тут же взяла его себе в мужья. Это первое поколение. Они породили титанов и титанид. Это — второе. Ну, так представитель первого поколения, Эрот, сопровождает вообще всю античность и новое время — вплоть до злого мальчика Андерсена. Это все тот же несносный стрелок. Страшный одиночка. А титанида Мнемозина, богиня памяти и мать Муз? И она никуда не девается. А когда сын Урана и Геи Крон оскопляет Урана, можно сказать, в разгар попытки заставить ее рожать дальше, появляется целое новое божество любви — Афродита. И тогда греческое предание соединяет ее с Эротом в обратной перспективе — племянница делается в этой странной компании старшей, а дядя — глумливым маленьким мальчиком.
Стан.: Стало быть, миф умеет обращать поколения?
Г. Ч. Г.: Именно так он и делает. Ведь начиная со второго поколения богов начинается переплетение с поколениями людей. Их, по Гесиоду, пять. Причем поколение, предшествующее Зевсову, то, к которому принадлежал титан Прометей, идет на сговор с людьми, чтобы сместить более младшее поколение богов.
Стан.: Значит, если прочитать всю греческую мифологию как повествование о борьбе богов и людей, то получится беспрестанная борьба близких с близкими.
Г. Ч. Г.: Ну конечно, в этом вся драма. Каждое предшествующее поколение пророчит последующему, что, мол, придет более могучий сын, который тебя и убьет. Уран, оскопленный Кроном, прорычит это Крону, которого, в свой черед, зарежет внук Урана и собственный сын Зевс. Стало быть, смысл каждого следующего поколения — в отрицании предыдущего, но по соглашению с предшествовавшим тому.
Стан.: Деды и внуки сговариваются…
Г. Ч. Г.: Да, а дальше вмешаются людские поколения, причем первое поколение людей совпадает с Кроном. А потом наступают времена, когда боги и вступают в союз с людьми, и пытаются исправить людей, приспособив человека к своим потребностям и, если угодно, к своим представлениям о прекрасном.
Стан.: А люди отвечают им тем же?
Г. Ч. Г.: Вот именно. С тех пор, как Аполлон разрезал человека пополам и сделал нас такими, какие мы и по сию пору, только и слышно, что о безмерной слабости человека. Ничего-то он не может — ни время вспять повернуть, ни свою половину найти.
Стан.: Так что же такое идея поколения?
Г. Ч. Г.: Это человеческое измерение встречи времени и вечности. Как Зевс удалил Крона на острова Блаженных, так туда отправляются после смерти и дети богов и богинь от союза со смертными женщинами и мужчинами. Там и браки между ними по-новому заключаются. Например, Ахилл женится на Медее.
Стан.: Но в чем же тогда смысл первой жизни поколения?
Г. Ч. Г.: В том, чтобы предельно охотно исполнить волю судьбы!
Стан.: А как каждое поколение ее узнает?
Г. Ч. Г.: Вот, это и есть пророчество. В каждом поколении должен вырасти кто-то, кто, по слову Гоголя, готов «на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками».
Вместо послесловия. Популярная геополитика и новая мифология
В современном русском дискурсе термин «геополитика» понимается в нескольких пересекающихся значениях. Это не только фрагмент истории политической мысли первой половины XX века, но и политическая теория как идеологический инструмент пропаганды и контрпропаганды.
За сорок лет вектор понимания этого фрагмента менялся: в 1962 году геополитику определяли как «лженаучную фашистскую «теорию», призванную оправдать агрессивную политику империализма географическими факторами и возведенную в ранг государственной идеологии в Третьем Рейхе, а после войны — как идейное оружие западногерманских реваншистов.
В одном из самых либеральных изданий периода оттепели, «Философской энциклопедии» (1960), говорилось, что «современные американские геополитики […] пытаются перестроить немецко-фашистскую доктрину и использовать ее для обоснования агрессивных планов США. […] В последнее время наблюдается возрождение геополитики в Западной Германии. […] Новое в современных немецких геополитических теориях заключается в их „наднациональной“ космополитической окраске и в „гуманистической“ фразеологии. Немецкие геополитики требуют создания „единой Европы“, в которой Германия играла бы роль гегемона»80.
А в 1995 году геополитика — «политологическая концепция, согласно которой политика государства, в основном внешняя, предопределяется географическими факторами (положение страны, природные ресурсы, климат и др.)»81. Систематизацию географических факторов в политико-военных процессах геополитика осуществляет, рассматривая государства как надбиологические организмы, для существования которых требуются естественные границы и жизненное пространство.
Геополитический аспект был в той или иной мере присущ и советской политической теории. В соответствии с нею СССР являлся одновременно и продуктом естественно-географического развития (естественного прирастания государственной массы), и результатом сознательного продвижения идей нового общественного строя.
Противоречивость картины мира, которой оперировала официальная доктрина, состояла в необходимости сочетать естественно-научный детерминизм с иногда мистическим визионерством и вненаучным произволом оперирования с предметом (идеология).
Геополитика как публицистическая банальность
Геополитический подход представляет собой публицистический метод, с помощью которого определяется или стимулируется готовность большинства населения страны принять нынешнюю реальность государственного устройства и нынешнюю культурно-историческую фазу как результат естественно-исторического развития. С другой стороны, геополитика, продолженная в геостратегию и конспирологию, легитимирует возможную новую миссию для кардинально уменьшившейся в размерах страны.
Геополитический подход к стране и как «надбиологическому агенту», и как к естественно-научно определяемому и измеримому продукту не означает разрыва с идеологической картиной мира, сохраняя то же неустранимое противоречие между двумя претензиями идеологии — быть и наукой для объяснения конкретных причин всего сущего в материальном мире как единственной и неотменяемой реальности, и руководством для произвольного изменения этой самой реальности.
В этой точке всякая идеология граничит с мифологией, в которой законченная картина мира достигается тем, что нынешнее состояние мира объясняется в повествовании как последнее следствие предшествовавших метаморфоз (этиологические и генеалогические мифы). В идеологическом предписании противоречие между детерминизмом исторического процесса и идейно-политическим управлением этим процессом устраняется с помощью инструментализированных легенд (например, об истории формирования марксизма в России из «трех источников и трех составных частей»), мифологем (например, жертвенность и нравственная чистота чекиста) и даже тотемов (например, мертвые герои — от Ленина в мавзолее до Котовского, скачущего с «пробитым сердцем» в стихах М. Светлова).
Геополитика между идеологией и мифологией
Прежде чем анализировать мифологическую составляющую геополитики в постсоветский период, необходимо прояснить, как вообще соотносятся миф и идеология в политическом дискурсе.
Миф преобразует неясности, трудности, несовершенства мира в убедительные, хотя и не обязательно правдоподобные, но постоянно подтверждаемые в своей истинности смысловые единицы. Повествовательная природа мифа-слова обеспечивает необычайную гибкость, с какой один и тот же сюжет, образ или предмет может восприниматься и как явный вымысел (например, рождение Афродиты из семени оскопленного Урана), и как универсальный социальный закон (семейная жизнь богов, почитание родителей и т.п.), и как основа религиозного культа (например, Приапа).
Идеология приспосабливает те же многообразные внешние обстоятельства к определенной политической программе. Поскольку практическая политическая целесообразность является аналогом истинной картины мира, а настоящей реальностью идеолог считает лишь свою размещенную в более или менее неопределенном будущем социально-политическую цель, то характер пути к этой цели, или идеологический маршрут, имеет право меняться по мере изменения ландшафта.
Для того, чтобы эти изменения можно было представить как восстановление более «правильной», более «научной» картины мира, на основе которой была бы возможна рациональная, внятная политическая линия, политический мыслитель должен либо демонтировать идеологию, рационализировав весь наличный набор инструментов, либо обратиться к хорошо зарекомендовавшей себя в прошлом и настоящем мифологической картине мира.
Два пути эти не обязательно исключают друг друга в практической плоскости. Так, можно провозгласить деидеологизацию, на деле мифологизируя старые идеологические практики и выстраивая новые идеологические комплексы. Эта работа адресована не только узкому кругу политического класса, но и самому широкому кругу людей, которые пользуются СМИ. Авторы иной раз чрезвычайно экзотических концепций за последние несколько лет стали политическими советниками известных деятелей РФ, а административно-экономические решения нередко обосновываются именно геополитическими соображениями. Поэтому имеет смысл говорить о популярной геополитике.
Основные положения популярной геополитики
Прежде всего, популярная геополитика утверждает, что распад СССР был противоестественным. Судьба российского государства — предмет пограничной с геополитикой области, конспирологии, или эзотерического учения, реконструирующего историю как сеть заговоров для уничтожения этого государства. Особенно интересны три аспекта тривиального геополитического подхода к нынешнему статусу России: территориальный, популяционный и военный.
Популярная геополитика представляет нынешнее административно-территориальное устройство как источник опасности потому, что этно-конфессиональная неоднородность РФ, согласно распространенному мнению, подрывает укорененное в общественном сознании представление о ценности единства и однородности, или административный эгалитаризм.
Одна из главных забот популярных геополитиков — территориальные притязания сопредельных стран. Хотя на официальном уровне претензии к РФ имеют только дальневосточные соседи: Япония (четыре острова Курильской гряды) и Китай (три острова на Амуре и Аргуни), — однако популярная геополитика беспокоится обо всех проблемных областях, сложившихся в пограничье между Россией и другими странами. Часть этого пограничья лежит на территориях, которые в популяционном отношении воспринимаются как нуждающиеся в особой защите эксклавы России. Также страна переживает сложные миграционные процессы, политическое значение которых противоречиво, а в рамках популярной геополитики сводится к паре «утечка мозгов — натиск нежелательных мигрантов».
Эти представления можно рассматривать, либо проводя политологический анализ их компонентов, либо уходя к мифологическим процедурам обращения с предметом. Популярная геополитика позволяет двигаться в обоих направлениях.
Популярная геополитика: развилка политической науки и мифологии
По-видимому, даже самый сухой политологический анализ неизбежно будет содержать в себе мифологический субстрат: описание любого события как смены «начал», «рождений», «пробуждений» и «концов», «смертей», «распадов» с возможными «возвращениями», «возрождениями», «воскрешениями», а также принудительный характер сопоставления по многообразным осям сходства (мифологический изоморфизм), — одного этого достаточно, чтобы не требовать и от самого строгого научного анализа свободы от мифологических примесей.
В мифе средствами языка создается невидимая глазу сущность и наделяется признаками живого. Этой сущностью в геополитике является оживший образ страны. В тот момент, когда на место абстракции, территориально-государственного образования, подставляется сверхсубъект (ср. выше «надбиологический организм»), можно и нужно говорить о мифологии.
Влиятельный мифологический образ порождается тогда, когда большие группы людей согласны насчет самых общих черт образа и думают, что этот образ переживает непредвиденную трансформацию. Пока базовые представления популярной геополитики не пришли в движение, мифологический образ неподвижен. Он — часть психической природы человека. Когда же изменения в жизни общества приводят к заметным миграциям и к перечерчиванию границ, самодовлеющий образ вступает в противоречие с чередой происходящих событий.
При этом новизна происходящего воспринимается как противоестественность, как неспровоцированное насилие против естественного порядка вещей. Поскольку единодушие в таких условиях находится легче единомыслия, наиболее активные из популярных геополитиков могут поддаться добросовестному искушению предъявить мифологический образ как альтернативу аналитической картине, а исполнение разработанного ими сценария, социального действия выдать за естественное развитие событий.
Структуру возникающего в рамках этой процедуры мифологического образа рассмотрим на двух примерах, российском и узбекском.
Противоестественность нынешнего положения вещей и война как способ его преодоления
Итак, популярная геополитика видит противоестественным нынешний статус Российской Федерации как государства, не до конца выяснившего, где именно лежат его границы. Один из первых советников нынешнего президента РФ Владимира Путина, президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский, представляет одну из форм популярной геополитики — разновидность социал-дарвинизма. В инструктивном письме «Нужен субъект национального усиления» от 20 ноября 2002 года, Павловский, вспоминая 140-летний юбилей публикации «Происхождения видов» Чарльза Дарвина, отрицает возможность «спонтанного вырастания» политической линии, нужной стране. Предлагая рассматривать Россию как коллективный организм, или органическую среду, Павловский требует отказаться от «выстраивания наших стратегий от самих себя, от собственной идеологии, от собственных позиций, от собственного потенциала». Неважно, какая у вас идеология, — важно, что вы действуете, первым поднимаете лежащий на большой дороге мандат и начинаете операции над обществом, не спрашивая ни о чем бессильных членов этого общества.
Отталкиваясь от данности «среды», Павловский объявляет главными действующими лицами российской политики «инициативников». Само это слово Павловский, как он уверяет, впервые вычитал в мемуарах Путина. В интерпретации Павловского, «инициативник» — это человек, готовый быстро начать войну в отсутствие политических решений и структур для принятия таких решений. При этом образцом России («нашим образцом», по словам Павловского) должны выступить США, присвоившие себе мандат на проведение глобальной политики с единственной целью — чтобы проводить свои интересы во всем мире. «США, которые вечно оказываются не там, где мы хотели бы их видеть, первыми воспользовались мандатом. И воспользовались им со всей силой того потенциала, который и обнаружился-то только тогда, когда они стали действовать в рамках этого мандата», — пишет Павловский.
Сверхценной идеей Павловского является восстановление глобального поведенческого паритета с США. Поскольку времени и ресурсов для постепенного наращивания потенциала нет, необходимо сделать символическое усилие в этом направлении. Павловский утверждает, что у общества есть некий «силовой запрос», на который Путин ответил в 1999 году, фактически объявив Россию находящейся в состоянии войны. «Борьба идет на выживание, и война — это аспект мировой конкуренции сегодня», — рассуждает Павловский.
За прошедшие три года Россия, по признанию Павловского, не смогла «перестроить партийную систему в достаточной степени для того, чтобы она отвечала задачам конкурентоспособности России». Другими словами, сама Россия как единство общественных и государственных институтов до сих пор не сделалась полноценным политическим субъектом. Им по-прежнему являются только прорвавшиеся в Кремль «инициативники», остановившие формирование гражданского общества, начатое в первое постсоветское десятилетие.
Обращаясь к среде, которую он считает источником «субъекта национального усиления», Павловский предлагает ей «поставить и сформулировать политическое проектное задание и построить недостающее общественное лобби, недостающие инструменты и организации, которые смогут стать субъектами силы и помогут стать субъектами силы политическим организациям, объединениям предпринимателей и, в конечном счете, государству».
Субъект усиления, по его словам, «не может быть выстроен в бюрократическом пространстве, а также в сегодняшней конфигурации деловой среды». Где же находит Павловский субъекта усиления? Оказывается, таковым может быть только «гражданское общество, которое теперь, как черта с рогами, все бросились отрицать».
Мифологическое ядро популярной геополитики
Текст Глеба Павловского содержит лишь два образа, представляющие собой растолковываемые метафоры общественного процесса. В первом случае автор, поправляя «кого-то из политиков, кажется, Явлинского», говорит, что не так опасно устанавливать на старый автомобиль авиационный двигатель, как авиационные тормоза, да еще «такие, как на «Шаттле». После катастрофы американского корабля в феврале 2003 года метафора Павловского приобрела новую выразительность.
Однако сама по себе эта техническая метафорика не более мифологична по своей сути, чем в случае с уподоблением гражданского общества черту с рогами, само существование которого все бросились отрицать: здесь мы имеем дело даже с отрицанием такой образности как неуместной в политологическом разговоре. Иначе говоря, Глеб Павловский сделал все возможное для того, чтобы памфлет «Нужен субъект национального усиления» воспринимался как сугубо рациональный, научно-практический документ.
Между тем, этому документу присущи все основополагающие признаки мифологического трактата. Субъектом высшего порядка должна выступить «конкурентоспособная Россия», которой необходимо напрячь все силы, дабы встать вровень с главным геополитическим конкурентом, Соединенными Штатами Америки. Для этого нужно одно: взять мандат на войну, — подобно тому, как это делают во всем мире американцы. Этот волевой акт за Россию три года назад совершили заговорившие от ее имени «инициативники». Сделано это было в ожидании чудесного мифологического эффекта: «инициативники» должны были заставить «Россию» породить подобных им деятелей «в бюрократическом пространстве, а также в сегодняшней конфигурации деловой среды».
На практике «инициативники» ввергли страну в войну с пока не подсчитанными даже приблизительно людскими, моральными и материальными потерями. В своем нерасчлененном мифологическом пространстве Павловский предъявляет претензии за это не существующему пока, по его словам, гражданскому обществу и дает указание никак не определяемым «общественным организациям», «общественным субъектам» найти не существующего «субъекта национального усиления».
Миф открывает возможность для социального действия без обращения к политии
Опасность мифологического подхода к социальным процессам состоит не в том, что миф — менее точная оптика для изучения общества и государства, чем политическая наука. Наглядность, быстрая усвояемость мифологического образа, проницаемость для него всех общественных слоев, — это такой ресурс, которым политические активисты, называющие себя политтехнологами, воспользовались именно потому, что он обеспечивает возможность социального действия без какого бы то ни было обращения к политии. Миф о внеположном общественным структурам «субъекте усиления» — это альтернатива политического субъекта.
В конце 1980-х годов Глеб Павловский полагал, что альтернативой однопартийному государству могут стать миллионы субъектов самодеятельного хозяйствования, из которых сам собой вырастет сильный политический субъект. Когда выяснилось, что политическая субъектность в России зависит от «одного сильного человека», харизматически репрезентирующего политику, активисты заняли позиции на подступах к занимаемому сильным человеком месту. При этом общество, признавшее такой порядок вещей и принявшее мифологический образ за адекватное описание своего государственно-политического бытия, легко стало объектом манипуляции: отождествив харизматического лидера с «Россией», оно потом легко объявило его же «продавцом» и «предателем» России.
Несмотря на рациональное позиционирование, «субъект национального усиления» из меморандума Павловского оказывается в гораздо большей мере мифологическим персонажем, чем политическим концептом. В конце 1990-х Глеб Павловский думал, что альтернативой мощному политическому субъекту могут стать силовые ведомства, силовая бюрократия, из недр которой сам собой, по праву перехваченного у всех остальных мандата, в чудесном блеске встанет «сильная Россия». Мифологический элемент — гипостазирование страны как «надбиологического организма» — едва ли устранимая вспомогательная часть любой политической технологии, которая должна в простой и пластичной форме мобилизовать слабо рефлексирующее общество. Миф невозможен без сильного действующего сверх-лица. И «субъект национального усиления», откуда бы он ни пришел, чтобы налечь на нерасчлененное и деполитизированное общество, — это чистый продукт мифологии.
Новый Узбекистан, или что общего между Тимуром, Иоанном Безземельным и Бенджамином Франклином?
Другой пример практического применения мифологической геополитической модели на постсоветском пространстве — элементы новой политической доктрины в одной из южных стран-наследниц СССР. Основу учебника истории Узбекистана с древнейших времен до V в. нашей эры, вышедшего на русском языке в Ташкенте в 2001 году, составляют многочисленные сведения по археологии и древней истории той территории, на которой с 1991 года существует современный независимый Узбекистан. Механизм построения новой идентичности Узбекистана выглядит следующим образом:
«31 августа 1991 года Узбекистан провозгласил свою независимость. 1 сентября объявлено Днем независимости Республики Узбекистан. 18 ноября 1991 г. в республике принят закон „О Государственном Флаге“, а 2 июля 1992 г. — закон „О Государственном Гербе“. 29 декабря 1991 г. был избран первый Президент независимой Республики Узбекистан — Ислам Абдуганиевич Каримов. 8 декабря 1992 г. была принята Конституция нашего государства, а 10 декабря 1992 г. — закон „О Государственном Гимне“. Все это стало первыми шагами нашей независимой родины. Откуда же мы знаем о самой древней истории нашего края? Ведь письменности в те далекие времена еще не было. Самым распространенным источником по истории края древнего периода являются материалы, добытые при раскопках археологами. С появлением письменных источников становится намного легче восстанавливать события прошедших тысячелетий…»82.
Итак, основная задача учебника — сделать незаметным шов в той точке, где история современного Узбекистана, отсчитываемая от нескольких конкретных дат 1991—1992 года, сшивается с тысячелетней историей территории, объявляемой историей «наших предков»:
«Сегодня это страна с 22-миллионным населением, в которой проживают люди многих национальностей. Население Узбекистана прошло долгий и славный исторический путь. Люди осваивали пустыни, строили города и сражались с многочисленными врагами, возводили прекрасные здания и раскрывали тайны звездного неба… Изучая историю нашей республики, вы убедитесь, что народы Узбекистана оказали заметное влияние на всю мировую историю и внесли много нового и самобытного в общую историю народов всей планеты. Традиции и мечты наших предков воплощаются сегодня в реальные дела»83.
Итак, с самого начала уклоняясь от простейших вопросов, например, о том, независимость от кого или от чего обрел Узбекистан в 1991 году, авторы учебника внушают подросткам представление о поступательном историческом движении, о том, что нынешнее состояние и нынешний статус государства, в котором те живут, есть результат многих столетий борьбы «людей» с «многочисленными врагами».
Эмоциональная суггестия (мы — прямые наследники людей древности, наши предки — массагеты, саки и др. — успешно сражались с врагами) — вступает в противоречие с каждой следующей главой, а в центр повествования выдвигаются отдельные легендарные эпизоды (Томарис, засунувшая в бурдюк с кровью отрубленную голову Кира, пастух Ширак, казненный Дарием и т.п.). Ключевая тенденция при этом — как отрицательные оцениваются походы, в ходе которых та или иная область современного Узбекистана включалась в качестве провинции в состав большой империи, как положительные — формирование в том или ином регионе самостоятельного государственного образования. Соответствующим образом названы и разделы: «Развитие ранней государственности на территории Узбекистана», «Борьба народов Средней Азии против Александра Македонского», «Образование самостоятельных государств на территории Средней Азии».
С другой стороны, с удовлетворением указывается на достоинства воинов из числа саков, массагетов, хорезмийцев или бактрийцев, сражавшихся в составе персидского войска во время греко-персидских войн. Необычайная гетерогенность среднеазиатского региона и тот факт, что Узбекистан как государственное образование — это продукт прежде всего советской истории, вытесняются из поля зрения школьника двумя рядами символов, представленных как в тексте, так и в цветной вклейке в книгу. Первый ряд — символика современного Узбекистана, герб и флаг, затем следуют такие изображения: «На заре человечества», «Войско А. Македонского (sic!) в походе», «Спитамен», «Томарис», «Саки и массагеты перед боем», «Гончар за работой», «Кир Второй».
Таким образом, визиотипически история Узбекистана предстает как череда сменяющих друг друга правителей. В учебном пособии для 5 класса «Путешествие в мир Конституции» флаг республики, представленный на вклейке учебника истории, объясняется так: «Символика Государственного флага Республики Узбекистан продолжает лучшие традиции, свойственные флагам могущественных держав, существовавших на территории нашей страны. Небесно-голубой цвет на флаге — символ голубого неба, чистой воды. Лазурный цвет почитаем на Востоке, его избрал когда-то для своего знамени и Сахибкиран Амир Темур. Белый цвет — символ мира и чистоты и т.д.»84.
Имеющий место в Республике Узбекистан политический культ Тамерлана (1336—1405), основавшего в Самарканде, по-видимому, самое могущественное и опасное для всех своих соседей государство на территории Средней Азии, становится понятен именно в контексте геополитической концепции учебника истории. Не только скрепляющим государственное единство символом политической субъектности, но и закрепляющим статус Узбекистана как региональной сверхдержавы в бывшей советской Средней Азии, не могли бы стать ни Авиценна, ни Алишер Навои. Грузило государственнической легитимации ныне действующего руководства Узбекистана должно быть заброшено как можно глубже в историю — в те времена, когда Россия даже отдаленно не приблизилась еще даже к низовьям Волги и Кавказу, тогда как владыка Самарканда успел разорить Багдад, Дамаск и Алеппо.
Миф о прародителе нынешнего государственного устройства подан в «Путешествии в мир Конституции» не без изящества:
«В средние века в законодательстве некоторых европейских стран появляется новое понятие — «основной закон». […] В XIII веке английский король Иоанн Безземельный подписал «Великую хартию вольностей», которая утверждала, что власть должна опираться только на закон… И это происходит не только в Европе. В Средней Азии выдающийся полководец и государственный деятель Амир Темур в XV веке издает свое знаменитое «Уложение». […] Однако, это все еще были только сборники законов и правил. Первая конституция, написанная в виде единого основного закона, появилась в конце XVIII века в Соединенных Штатах Америки […], одним из создателей которой был американский государственный деятель и ученый Бенджамин Франклин (1706—1790)»85.
Следует сказать, что «Путешествие в мир Конституции» является в высшей степени полезным, хорошо написанным и приводящим рациональные аргументы в пользу законопослушного поведения пособием. Лишь там, где абстрактные рассуждения уступают место конкретным историческим лицам и событиям, становится ясно, что подмалевком картины мира является здесь новая политическая мифология.
Итак, учебные пособия Республики Узбекистан, формируют у школьников новую картину мира, в которой их страна должна быть центром политического мироздания. Эта картина содержит два мифологических в своей основе конструкта — телеологический и тотемический: уложенный в территориально-хронологическое русло поступательный путь развития увенчался созданием нового государства, завещанного «нашими предками»; мифическим прародителем современного Узбекистана объявлен Тамерлан. Отсылка к этому имени выводит государственность Узбекистана из российско-советского круга влияния и помещает в контекст англо-саксонских правовых ценностей. Таким образом, замещение советского мифа о происхождении СССР происходит с помощью другой мифологической конструкции, становление которой еще не закончилось.
2005 г.Примечания
1
Н. А. Заболоцкий Стихотворения и поэмы. — Ростов-на-Дону: Ирбис, 1999.
(обратно)2
лекции из этого раздела впервые были прочитаны для издательского дома ПН
(обратно)3
См. финал стихотворение Non satiatus (1912): Вновь я хочу все изведать, что было, И — чего не было — вновь! Руки несытые я простираю К солнцу и в сумрак опять! Руки несытые я простираю К струнам: им должно звучать! Руки несытые я простираю, Чтобы весь мир осязать! Руки несытые я простираю — Милое тело обнять!
(обратно)4
Гомер. Илиада. / Пер. Н. И. Гнедича. Л.: Наука, 1990
(обратно)5
Гомер. Илиада. / Пер. Н. И. Гнедича. Л.: Наука, 1990
(обратно)6
В. Ф. Ходасевич «Владислав Ходасевич. Стихотворения». — СПб.: Советский писатель. Лениградское отделение, 1989.
(обратно)7
Г. Р. Державин Последние стихи Державина // Сын Отечества. — 1816. — №30.
(обратно)8
Г. Р. Державин Последние стихи Державина // Сын Отечества. — 1816. — №30
(обратно)9
Breitenberger, Barbara M. Aphrodite and Eros: the development of erotic mythology in early Greek poetry and cult. — New York: Routledge, 2007.
(обратно)10
Eros in Ancient Greece / Chiara Thumiger, Christopher Carey, Nick Lowe, Nick Lowe; Ed. by Ed Sanders. — Oxford: Oxford University Press, 2013.
(обратно)11
Е. А. Евтушенко Звон земли // Юность. — 1975. — №6.
(обратно)12
Гомер. Илиада. / Пер. Н. И. Гнедича. Л.: Наука, 1990
(обратно)13
Заболоцкий Н. А. Стихотворения и поэмы. — Ростов-на-Дону: Ирбис, 1999 г..
(обратно)14
Там же.
(обратно)15
Толстой А. К. Вы всё любуетесь на скалы… // «Крымские очерки». — М.: Художественная литература, 1856—1858.
(обратно)16
Пушкин А. С. На перевод Н. И. Гнедичем «Илиады» // Литературная газета. — СПб.: 1830.
(обратно)17
Гомер. Илиада. / Пер. Н. И. Гнедича. Л.: Наука, 1990
(обратно)18
Егунов А. Н., Зайцев А. И. «Илиада» в России // — СПб.: Наука, 1990.
(обратно)19
Гомер; пер. Жуковского А. Н. Одиссея. — М.: Правда, 1984.
(обратно)20
Гомер. Илиада. / Пер. Н. И. Гнедича. Л.: Наука, 1990
(обратно)21
Гомер. Илиада. / Пер. Н. И. Гнедича. Л.: Наука, 1990
(обратно)22
Гомер. Илиада. / Пер. Н. И. Гнедича. Л.: Наука, 1990
(обратно)23
Гомер. Илиада. / Пер. Н. И. Гнедича. Л.: Наука, 1990
(обратно)24
William Butler Yeats Leda and the Swan // The Dial. — 1923.
(обратно)25
Йейтс У. Б. Леда и Лебедь. / Пер. Р. М. Дубровкина [Электронный ресурс]. — Режим доступа:. — Заглавие с экрана. — (Дата обращения (дата обращения: 25.10.2016)
(обратно)26
Гомер. Илиада. / Пер. Н. И. Гнедича. Л.: Наука, 1990
(обратно)27
Там же
(обратно)28
Или даже просто морской воды (αλμα).
(обратно)29
См., например: М. М. Кислов Типы «смешного» в «Пире» Платона // Вопросы классической филологии. — 1973. — №5, с. 158—159.
(обратно)30
Впрочем, Пикар-Кембридж полагает, что Феодект писал в манере Еврипида.
(обратно)31
(Σπουδογέλοιος) Александр, царь Македонский, мешая слезы и вино, осыпал эту статую цветами (Plut., Alex., 17).
(обратно)32
См. о нем также у Цицерона в «Ораторе».
(обратно)33
См., как развивает эту тему Платон в «Федре».
(обратно)34
«Ономастикон» Поллукса дошел в сокращении.
(обратно)35
В экфразе наоборот, описываемая вещь — нарочитая мнимость, чистая условность, а единственная реальность, устойчивый элемент произведения — записанный текст экфразы.
(обратно)36
Речь не идет о таких вещах, как, скажем, запечатлевшая весь сюжет «Илиады» мозаика на корабле, построенном Архимедом для Гиерона Сиракузского: чисто иллюстративный характер этого произведения, созданного в эпоху сформировавшейся книжности, выводит его за пределы нашей темы.
(обратно)37
О. Фрейденберг Миф и литература древности. — Москва: 1978.
(обратно)38
А. И. Зайцев, пер. Н. И. Гнедича Илиада Гомера. — Спб: Наука, 1990.
(обратно)39
Там же.
(обратно)40
Scholia Graeca in Homeri Iliadem / Ed. W. Dindorf — 3 изд. — Oxonii: 1875.
(обратно)41
Горго вообще играла в семье особую роль угадчицы в сложных ситуациях, о чем свидетельствует сам Геродот.
(обратно)42
О том, чтоб вовсе не истолковывать пророчество или знамение, не могло быть и речи. Гиппарх не просто «не обратил внимания» на вещий сон, но его «отговорили» (άπειπάμενος) от этого видения онирокритики, попросту не справившиеся с задачей. В этом же смысле нужно понимать слова Геродота о Писистрате, который, «овладев» предсказанием, «поняв» его (συλλαβών τό χρηστήρΐον), «сказал, что доволен таким прорицанием» (φας δέκεσθαι τό χρησθέν). Непризнание прорицания во всяком случае нуждается в предварительном истолковании.
(обратно)43
Разумеется, кроме тех случаев, когда сам прорицатель выступает в роли истолкователя своих предсказаний: так, Пифия объяснила лидийцам все пророчества, полученные из этого прорицалища за пять поколений и имевшие в виду судьбу Креза. Дельфийский оракул, обращения к которому составляют в «Истории» Геродота половину всех подобных случаев, был и старейшим прорицалищем и последней инстанцией толкований. См.: Fontenrose J. The Delphic Oracle, Its Responses and Operations, With a Catalogue of Responses. — Berkeley: 1978.
(обратно)44
Ср., как подобное прорицание («Ты одержишь пять великих побед в пяти агонах!») исполнял Тисамен.
(обратно)45
Разве что приводимый ниже сюжет заставит кого-нибудь увидеть в ослах символических, а не акцидентальных заместителей персов.
(обратно)46
Глубокий анализ всего мотива с точки зрения семантики животных и стрел в скифской культуре дан в кн.: Раевский Д. С. Модель мира скифской культуры: Проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тысячелетия до н. э. М., 1985, с. 60—71.
(обратно)47
Перед походом Ксеркса на Элладу кобыла родила зайца; сам Геродот так истолковал это знамение (пер. Г. А. Стратановского): «Ксеркс поведет свои полчища на Элладу со всей пышностью и великолепием, а возвратится в свою землю, спасаясь бегством».
(обратно)48
См.: Apld., III, 1, 4; Od., VIII, 493. Не случайно «деревянный конь» именуется в словаре Гесихия лодкой не дляплаванья (βαρινακεδα или βαρις άπέλαγος). См.: Latte К. Neues zur klassischen Literatur aus Hesych. — Mnemosyne. Leiden, 1941 — 1942, Ser. 3, vol. 10, S. 81—96. Епей также прославился как создатель деревянных статуй Гермеса и Афродиты в Аргосе.
(обратно)49
Так, о венке Миноса читаем у Аполлодора: «Когда известие о смерти сына (Андрогей был убит Марафонским быком. — Г. Г.) принесли Миносу, он совершал жертвоприношение богиням Харитам на острове Парос. Сорвав с головы венок, Минос бросил его на землю и дал знак флейтистам прекратить игру. Жертво приношение он, однако, совершил по обряду. Но на Паросе до сих пор Харитам приносят жертвы без музыки и венков» (пер. В. Г. Боруховича).
(обратно)50
Точнее, первые собственно греческие буквы: Φ, Χ, Ψ и т. д.
(обратно)51
Вздрогнули все мирмидонцы; не мог ни один на доспехи Прямо взглянуть….
(обратно)52
…Ахиллес же могучий Только взглянул — и сильнейшим исполнился гневом; ужасно Очи его из-под веждей, как огненный пыл, засверкали. В XXII 25—32 перед нами прямое отождествление Ахилла с Орионом: Первый старец Приам со стены Ахиллеса увидел, Полем летящего, словно звезда, окруженного блеском. Словно звезда, что под осень с лучами огнистыми всходит И, между звезд неисчетных горящая в сумраках ночи (Псом Ориона ее нарицают сыны человеков). Всех светозарнее блещет, но знаменьем грозным бывает; Злые она огневицы наносит смертным несчастным, — Так у героя бегущего медь вокруг персей блистала.
(обратно)53
Так, мотив изображенных на щите двух городов — мирного и осажденного — вновь возникает в речи Ахилла к Приаму: судьба самого Ахилла представлена в ней звеном, связующим мирный град Пелея и осажденную Трою.
(обратно)54
Укажем лишь на одну из очевидных параллелей (мотив жертвоприношения Ифигении): в войне между Афинами и Елевсином, изображенной, по Агаллию, на щите Ахилла, Эрехтею было предсказано, что он и Афины одержат победу над Евмолпом и Елевсином, если Эрехтей принесет в жертву свою дочь; сделав это, Эрехтей убил Евмолпа и взял верх над Елевсином.
(обратно)55
Принято сравнивать творенье гомеровского Гефеста с эпигонским щитом Геракла одноименной поэмы, которую приписывали Гесиоду, а современные исследователи датируют VI в. до н. э. Для сравнения приведу схему сюжетов, выполненную П. Фридлендером. См.: Friedländer Р. Herakles: Sagengeschichtliche Untersuchungen. В., 1907, S. 108—120: Новейший подход к проблеме архаической композиции см.: Гордезиани Р. В. Проблемы композиционной организации в раннегреческом эпосе. — В кн.: А. Ф. Лосеву к 90-летию со дня рождения. Тбилиси, 1983, с. 74—89.
(обратно)56
По следующей генеалогической схеме: Ойнопион ослепляет Ориона за насилие, совершенное сыном Посейдона над Меропой. О том, что изображения на щите воспринимались в античности как предмет отнюдь не для произвольного истолкования, астральные же мотивы — как карта звездного неба, свидетельствует Овидий в «Метаморфозах».
(обратно)57
Гомер. Илиада. / Пер. Н. И. Гнедича. Л.: Наука, 1990
(обратно)58
Мифология Дедала исследуется в кн.: Лосев, А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. — М.: 1957, с. 126—142, 212—234.
(обратно)59
Мотив Ориона — попутчика героя поколения Ахилла встречается в V песне «Одиссеи»: здесь Калипсо сравнивает судьбу Ориона с преследованиями богами ее возлюбленного: Боги ревнивые, сколь вы безжалостно к нам непреклонны! Вас раздражает, когда мы, богини, приемлем на ложе Смертного мужа и нам он становится милым супругом. Так Орион светоносною Эос был некогда избран; Гнали его вы, живущие легкою жизнию боги, Гнали до тех пор, пока златотронныя он Артемиды Тихой стрелою в Ортигии не был внезапно застрелен. (Пер. В. А. Жуковского) Созвездие Ориона называется затем среди главных ориентиров Одиссея; ср. также соседство Ахилла, Аякса (погибшего от горя, что не получил доспехи Ахилла, и похороненного Фетидою), Миноса и Ориона в загробном царстве. В духе солярно-метеорологической теории мифа следовало бы добавить, что курс Одиссея в пути к острову Феаков практически тождествен пути Ахилла, чей щит — еще и карта в дороге к островам Блаженных. Одиссей: Волопас — Большая Медведица — Телец (Плеяды — Орион; Ахилл; Сев. Корона — Большая Медведица — Телец (Плеяды и Гиалы) — Орион. Как известно. Волопас и Северная Корона — созвездия-соседи, расстояние между которыми (т. е. между α Волопаса, Арктуром, и α Северной Короны, Геммой) чуть больше 5 градусов. Итак, вместе с доставшимися ему доспехами Ахилла Одиссей на первых порах наследует и его маршрут. Ср. также миф об очищении Гефестом Пелопса у Океана. Любопытно, что в «Метаморфозах» Овидия Одиссей, оспаривая у Аякса право на щит Ахилла, заявляет, что Аякс «не понимает» (nonintelligit) изображенного Гефестом, а значит, щит ему и не нужен.
(обратно)60
Изобретатель пилы и циркуля, жертва Дедала и даже сын Ойнопиона, Талос — не только стоит на полпути от Дедала к Гефесту, но оказывается и важнейшим закадровым двойником Ахилла; мифограф Птолемей Перепел сообщает редкий вариант мифа об «Ахиллесовой пяте»: Хирон выкопал в Паллене тело гиганта Дамиса и, вырезав у того астрагал (лодыжку), снабдил им ногу Ахилла, умастив ее снадобьями. Преследуемый Аполлоном Ахилл потерял астрагал и этим погубил себя. Нельзя не упомянуть здесь и того обстоятельства, что мотив астрагала связывает Ахилла и с Патроклом: именно играя в бабки (в астрагал) с Клитонимом, сыном Амфидаманта, Патрокл в ссоре убил его и вместе с отцом бежал к Пелею, отцу Ахилла. Мы не ошибемся, если заявим, что «предметный» (астрагал) и «событийный» (судьба Ахилла) стержни мифа принадлежат различным стадиям оформления его в повествование. Господство письменной культурой традиции вытеснило тот способ повествования, который был преимущественно ориентирован на вещи Мнемозины.
(обратно)61
В качестве иллюстрации приведем фрагмент из V главы составленного Фотием конспекта сочинения Птолемея Перепела «Невероятные происшествия», рассказывающей о происхождении сказочного растения псалаканфы, увенчанные которым кони одерживают победы в ристаниях. «Говорят, нимфа Псалаканфа родилась на острове Икарии. Проникнувшись страстью к Дионису, она помогла ему сочетаться с Ариадной, чтоб за это самой сойтись с ним. Но так как Дионис не захотел этого, Псалаканфа стала злоумышлять против Ариадны. В гневе Дионис превратил ее в растение, но раскаялся в содеянном и почтил растение, увенчав им Ариадну, а венок, поместив на небо. Одни говорят, что растение это было похоже на полынь, другие — что на душистый донник. Как говорит эретриец Афинодор в восьмой главе своих записок, Фетида и Медея в Фессалии вели спор о том, кто красивее, а судьею выбрали Идоменея. Тот присудил победу Фетиде, а разгневанная Медея сказала, что критяне навеки пребудут лжецами, и Идоменею предрекла, что, солгав как третейский судья, он больше никогда не произнесет правдивого слова. Вот почему критян зовут лжецами». Источник Птолемея Перепела, к сожалению, установить не удается: выписки Фотия из его трактата носят довольно случайный характер. Но параллелизм Псалаканфа против Ариадны, Фетида против Медеи обогащает понимание местоположения Ахилла между фессалийской колдуньей и колхидской ведьмой.
(обратно)62
Wilamowitz-Moellendorff U. von. Kleine Schriften. В., 1937, V, 2, S. 58.
(обратно)63
Например, Сократ: «Глуп и тот, кто надеется запечатлеть в письменах свое знание, и тот, кто потом вознамерится извлечь это знание из письмен нетронутым и годным к употреблению».
(обратно)64
Процедура чтения, воспитания, порождения протекает, по Сократу, в соответствии с общей парадигмой.
(обратно)65
Так, Тезей соседствует с калидонскими охотниками и на некоторых других чернофигурных вазах (например, килик Главкита и Архикла, ок. 540 г. Мюнхен, Музей античного прикладного искусства), но отделить декоративные возможности сюжетов от их мифологических сцеплений поможет только статистический анализ.
(обратно)66
таком употреблении расписной посуды говорят надписи на вазах, в которых ученик видел только узор (ср. наличие ряда памятников греческой вазописи с узорами «под текст»), а грамотный учитель — подспорье. См.: Kretschmer Р. Die griechische Vaseninschriften. Güterloh, 1894. Со временем загадочность письма сойдет на нет, но одновременно будет утрачена и прозрачная значимость изобразительных элементов вазописного текста. Такова, например, судьба грифонов и сфинг, присутствие которых на вазах означало: «Отгадай!». Хотя вазописцы долго будут помнить это знаменование (из краснофигурных укажем на упоминаемую выше вазу Дуриса, где сфинга на шлеме Афины дразнит мифолога-традиционалиста, или на ненадписанную вазу художника Пентесилеи (ок. 460 г. Мюнхен, Музей античного прикладного искусства), где микроскопическое изображение сфинги на шлеме Ахилла стыдливо предлагает разгадать хрестоматийный сюжет), преобладать будут все-таки декоративные функции столь выразительного чудовища. Вазописных сфинг следует сопоставлять с теми, которых велел изваять в камне любитель загадок Амасис.
(обратно)67
Ср.: Detienne Μ. La territoire de la mythologie. — Classical Philology, 1980, vol. 75, p. 97—111.
(обратно)68
Диалоги Гасана Гусейнова с Григорием Заславским публиковались в журнале «Станиславский» с 2007 по 2016 год.
(обратно)69
Фет, А. А. Лирика. — М.: Художественная литература, 1966.
(обратно)70
Пушкин, А. С. Золото и булат // Собрание сочинений в 10 томах. — М.: 1956.
(обратно)71
Гай Валерий Катулл, пер. Пушкин А. С Мальчику // Собрание сочинений в 10 томах. — М.: 1956.
(обратно)72
Коварство женщин // Независимая газета URL: -03-01/48_kovarstvo.html (дата обращения: 25.10.2016).
(обратно)73
Сказка о попе и работнике его Юалде // Викитека URL: /Сказка_о_попе_и_о_работнике_его_Балде_(Пушкин) (дата обращения: 25.10.2016).
(обратно)74
Чехов, А. П. Калхас // Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. — М.: Наука, 1976.
(обратно)75
Пастернак, Б. Л. В больнице // Полное собрание сочинений в 10 томах. — М.: Слово, 2005.
(обратно)76
Станиславский К. С. Письма 1886—1917. — М.: Искусство, 1960.
(обратно)77
Там же.
(обратно)78
Станиславский К. С. Письма 1886—1917. — М.: Искусство, 1960.
(обратно)79
Там же.
(обратно)80
Семенов, Ю. Геополитика // Философская энциклопедия. — М.: 1960.
(обратно)81
Макаренко В. А. Краткий словарь современных понятий и терминов. М., «Республика», 1995.
(обратно)82
Сагдуллаев А. С., Костецкий В. А., Норкулов Н. К. История Узбекистана (с древнейших времен до V века нашей эры). Учебник для учащихся 6 класса. Ташкент, «Шарк», 2001.
(обратно)83
Сагдуллаев А. С., Костецкий В. А., Норкулов Н. К. История Узбекистана (с древнейших времен до V века нашей эры). Учебник для учащихся 6 класса. Ташкент, «Шарк», 2001.
(обратно)84
Костецкий В. А., Ташпулатова М. А., Тансыкбаева Г. М., Асадова Э. С. Путешествие в мир Конституции: учебное пособие для 5 класса. Ташкент, «Шарк», 2001
(обратно)85
Там же.
(обратно)


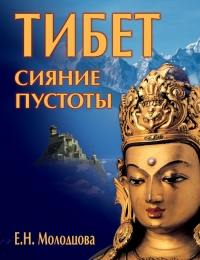





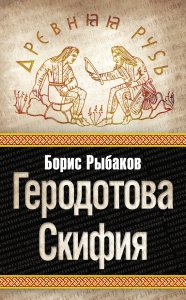
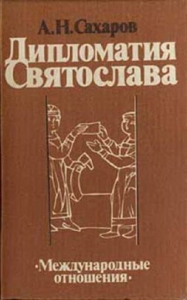
Комментарии к книге «История всего: лекции о мифе», Гасан Чингизович Гусейнов
Всего 0 комментариев