Петрухин Владимир Яковлевич Крещение Руси: от язычества к христианству
Cogito, ergo sum
Глава 1 Дохристианская Русь и славяне в Начальной летописи — «Повести временных лет»
Проблема выбора веры и первые шаги христианства — основная тема начальной русской истории, ибо сама история русского народа как единого целого начинается с крещения Руси. Первый русский писатель — киевский митрополит Иларион и первый русский историк — летописец Нестор писали о том, что после крещения возник новый русский народ. Это была не просто риторика, отражающая евангельскую притчу (о новых мехах, необходимых для того, чтобы принять новое вино божественной благодати). Это был реальный исторический итог христианизации: до крещения — принятия единого Закона — единого народа на Руси не существовало. Под властью призванных из-за моря в середине IX в. варяжских князей с их дружиной — русью — пребывали многочисленные славянские и неславянские (в основном финно-угорские — чудские) племена, следовавшие своим племенным — языческим законам и обычаям, которые были описаны Нестором во вводной, предысторической, части Начальной летописи — «Повести временных лет». Летопись остается главным источником по истории начального христианства на Руси, и мы последуем замыслу летописца, который не разделял судеб славян, Русской земли и христианской истории. Древнерусский язык летописи лег в основу развития русского литературного языка — он в общих чертах понятен и современному читателю, так что цитаты из летописи приводятся в книге лишь с небольшими изменениями и комментариями.
1. «Повесть временных лет» и история христианства на Руси
О расселении славян Нестор рассказывает в начале «Повести временных лет». Летописец был христианином — монахом Киево-Печерской лавры и составлял свою летопись в Киеве на рубеже XI–XII вв. Главной книгой, которая была настольной для всех средневековых историков Европы, была Библия. В этой «Книге книг», как ее называли в Средние века, ничего не говорилось собственно о славянах и Руси — ведь Библия была завершена еще в первые века нашей эры, а славяне и Русь появились на страницах древних хроник несколькими столетиями позднее. Но эта книга не случайно стала в Средние века главным источником изучения всемирной истории. В Библии история наделялась особым смыслом — пониманием Божьего замысла: всем народам должен был открыться этот смысл собственного существования, и все народы были равны перед Богом — ведь все они произошли от общего предка, праведного Ноя и его трех сыновей, которые спаслись после Всемирного потопа.
С этого библейского рассказа и начинает славянскую и русскую историю Нестор. Он повествует о том, как в гордыне своей люди стали строить Вавилонскую башню, чтобы достичь небес, и Бог разделил их языки, так что они не могли договориться о дальнейшем строительстве. Так появились разные народы (летописец так и называл их «языками») — потомки трех сыновей Ноя: Сима, Хама и Иафета. Они стали заселять землю, и в северных или «полунощных» странах — в Европе — вместе с другими потомками Иафета оказались славяне, которых летописец называл их общим древним именем — словене (что значило «владеющие словом», речью).
Не только Библию использовал Нестор для составления летописи. У него был перевод всемирной истории — византийской Хроники, или «Временных книг», Георгия Амартола (это имя означало, что византийский историк, как и Нестор, был монахом) и других греческих хроник. Образец «Временных книг» — повествований о царствах — воспринял Нестор, который тоже рассказывал о княжениях первых русских князей, но этот рассказ был разбит на погодные записи — лета, поэтому у русского летописца получилась «Повесть временных лет». Греческая хроника не во всем могла служить образцом для русского летописца. Георгий также рассказывал о расселении потомков Ноя, но среди них не называл ни славян, ни руси. Для византийского историка они оставались «северными варварами», врагами Византии, лишенными настоящей культуры и даже речи (слово «варвар» в античной традиции означает человека, лишенного членораздельной речи, способного лишь на невнятное бормотание — «бар-бар»). И конечно, к этим варварам не ходили апостолы: они оставались не просвещенными Божьим словом.
2. «Сказание о преложении книг на словенский язык»
Нестору самому пришлось искать место своего народа во всемирной истории. И для этого у него был особый источник, составленный на славянском (словенском) языке последователями славянских первоучителей Константина (в монашестве получившего имя Кирилл) и Мефодия. Это повествование было написано еще в Моравии, где учили сами просветители в IX в., а может быть позднее, в Чехии, в Сазавском монастыре, где кирилло-мефодиевская традиция сохранялась до конца XI в., и получило название «Сказание о преложении книг на словенский язык».
Там говорилось, что славяне расселялись среди 72 народов, разделенных во время Вавилонского столпотворения, и по прошествии «многих» времен сели на Дунае, где ныне расположены Болгарская и Угорская земли. Там их угнетали степняки авары, а затем пришедшие с запада при Карле Великом франки — волохи (так — волохами или влахами — в позднейших славянских традициях стали называть романоязычные народы — итальянцев, румын и др.). Тогда славянские племена стали расселяться по Средней и Восточной Европе, так что мораване поселились на реке Морава, рядом с ними расселились чехи, дальше ляхи, или поляки: одни из поляков прозвались полянами, другие — лютичами, мазовшанами, поморянами.
Составители «Сказания» не говорили ничего о славянах в Восточной Европе, ведь их интересовала прежде всего моравская миссия Константина и Мефодия в Центральной Европе. Летописцу самому пришлось дополнять историю расселения славян. На восток до Среднего Днепра дошли славяне, которые также назывались поляне (это сходство имен потом будет использовано летописцем), их предводителями — Кием, Щеком и Хоривом был основан Киев. Рядом в лесах поселились древляне, между Припятью и Двиной — дреговичи, по Десне — северяне, рядом с ними — радимичи, в верховьях Днепра, Двины и Волги — кривичи, на Оке — вятичи. Дальше всего от Дуная расселились славяне, достигшие Севера Восточной Европы, озера Ильмень, где ими был основан город Новгород. Там, пишет Нестор, они прозвались «своим именем» — то есть продолжали именоваться словенами («владеющие словом»), как на Дунае. Это не случайно: ведь здесь, на Севере, жили «чужие» по языку финно-угорские народы, которые в Древней Руси и звали чудь, «чужие».
Однако не просто этнография интересовала первого русского историка. Рассказ о расселении славян он завершил фразой:
«Так разошелся словенский язык» (славянские народы), и по их общему имени прозвалась «грамота словенская». Эта фраза явно относится к «Сказанию о преложении книг». Оно и повествует о том, как славяне жили на Дунае, будучи уже крещены. Кто крестил славян, здесь умалчивается — об этом в Сказании пойдет речь дальше. Но современные историки знают, что дунайские славяне были крещены франками — волохами, подчинившими их себе в начале IX в. Однако это крещение не вполне устраивало славянских князей, и они направили посланников в Византию к царю Михаилу III со словами: «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который дал бы наказ и поучал нас и истолковал святые книги. Ибо мы не разумеем ни греческого языка, ни латинского; одни учат нас так, а другие иначе. Мы же. не разумеем книжных образов и силы их. Пришлите нам учителей, которые могут растолковать книжные словеса и их значение»[1].
Здесь необходим исторический комментарий. Князья, отправившие послов к византийскому императору, правили в Великой Моравии, славянском государстве, которое вынуждено было лавировать между двумя великими державами раннего Средневековья — империей Каролингов, точнее — Восточно-Франкским, или Немецким, королевством, претендовавшими на роль распавшейся Западной Римской империи, и Восточной Римской, или Византийской империей. При этом в 860-е гг., когда происходили описываемые события, дело дошло почти до схизмы — разделения церквей: константинопольский патриарх Фотий враждовал с папой римским Николаем I. Это усугубило противоречия между церквами, следовавшими разным обрядам и языкам — греческому и латинскому, что заставило славянских князей искать учителей, которые упорядочили бы богослужение.
Михаил III передал слова славянских послов своим «философам», и те посоветовали царю обратиться в город Солунь — Фессалоники, где у некоего мужа по имени Лев было два сына — тоже «хитрых философа», знавших славянский язык. Царь вызвал к себе солунских братьев — Константина и Мефодия и «умолил» их отправиться в «Словенскую землю». Пришедши, те составили «письмена азбуковные словенские» и переложили ими Апостол и Евангелие и другие богослужебные книги. «И рады были словене, услышавшие о величии Божием на своем словенском языке». Но тут «некие» принялись хулить «словенские книги», заявляя, что никто не может иметь своих букв, кроме евре ев, греков и латинян. Однако римский папа (им был уже Адриан II), ссылаясь на слова Священного Писания о том, что «восхвалят Бога все языки», поддержал деяние солунских братьев, явившихся за поддержкой в Рим. Константин скончался в Риме, приняв монашеское имя Кирилл, Мефодий же стал епископом в Моравии.
Почему Константин и Мефодий отправились за поддержкой в Рим? Церковь Моравии находилась под властью Рима, и «некие» враги славянских учителей были немецкими епископами. Римский престол пребывал в сложных отношениях не только с Константинополем, но и с немецкими королями. Миссия солунских братьев вызвала сочувствие Рима, в отличие от немецких да и греческих церковных властей: ведь греки продолжали считать славян варварами — даже после их крещения; их язык напоминал им собачий лай — как можно было переводить Священное Писание на этот язык? Не случайно сама миссия Константина и Мефодия не упоминается византийскими источниками.
Русский летописец также не случайно подробно цитирует «Сказание о преложении книг» и рассказывает о поддержке, оказанной славянским учителям в Риме. В «Сказании» далее говорится о том, что Мефодий наследовал кафедру святого Андроника, ученика самого апостола Павла — ведь тот был епископом в римской провинции Паннония, там, где в Средние века возникла Великая Моравия. Значит, заключает «Сказание», учителем «славянскому языку» был и Андроник. Более того, и сам Павел приходил в Иллирик (римскую область, объединявшую несколько провинций, в том числе Норик и Паннонию), где расселились славяне, так что и Павел оказывается учителем славян.
Конечно, современный историк усмотрит в этой благочестивой легенде очевидное противоречие: славяне появились на Дунае в VI в. н. э., до этого они не известны историческим источникам, в том числе и источникам по истории раннего христианства. Но для средневековых славянских историков было не менее очевидно, что славяне должны были входить в число 72 языков, которых достигла апостольская проповедь. Понятно, почему летописец так сочувствовал этому построению — ведь его Русь пользовалась тем же словенским языком, а значит, Павел был учителем и для Руси… Но это летописное построение связано уже с иными — собственно русскими — историческими событиями, о которых еще пойдет речь. Рассказывая о расселении славян, Нестор осознавал, что Иллирик на Дунае слишком далек от русских центров — Полянского Киева на Днепре и словенского Новгорода на Волхове. Сама же изначальная Русь не была славянским народом — Нестор помещает ее среди скандинавских — варяжских — народов за Варяжское (Балтийское) море. Руси нужен был свой апостол.
3. Апостол Андрей на пути из варяг в греки
В летописный текст о расселении восточных славян летописец вставляет знаменитый рассказ о пути из варяг в греки и путешествии по нему «в варяги» и Рим апостола Андрея.
Поляне жили на днепровских горах, по Днепру же проходил путь из варяг в греки и из грек — до Ильменя и Волхова, Ладожского озера (Нево), откуда можно попасть в море Варяжское. По тому морю можно дойти до Рима (вокруг всей Европы) и от Рима к Царьграду — Константинополю, а оттуда — в Понт (как греки называли Черное море), куда впадает Днепр. Сам же Днепр течет на юг из некоего Оковского леса, а Западная Двина из того же леса течет на север в море Варяжское. Наконец, Волга течет из леса на восток и впадает в море Хвалисское (Хорезмское — Каспийское), и по Волге через земли волжских болгар можно дойти до «жребия Сима», через варяжские земли и Рим можно достичь «племени Хамова». На берегах же Понтийского моря, которое слывет также Русским, учил сам апостол Андрей.
Киевская Русь и путь из варяг в греки
Физическая география превращается у летописца в священную: Русь оказывается не на северной периферии, а в центре мира, ибо из ее центра — Оковского леса — можно попасть во все части света, поделенные по жребию сыновьями Ноя. Из Симова жребия, из Иерусалима, апостольская проповедь действительно достигла Понта, о чем повествовали, в частности, «Деяния апостола Андрея», цикл преданий, сформировавшийся во II–X вв. Русским книжникам были известны эти предания, популярные в Византии. Но редакция Нестора отлична от прочих вариантов христианских легенд.
Андрей учил в Синопе, на южном берегу Понта, и пришел в Корсунь — Херсонес (главный город Византии в Крыму, много значивший для Руси). Там он узнал, что близко расположено днепровское устье, и решил отправиться в Рим по Днепру. Дойдя до днепровских гор, апостол предрек благодать Божию, которая воссияет на этих горах, и грядущую славу Киева с его церквами. Андрей воздвиг крест на горе, где должен был возникнуть Киев, и пошел дальше к словенам, где ныне стоит Новгород. Там он увидел местный обычай мытья в бане, где люди хлещутся вениками. Через варягов апостол добрался до Рима, где рассказал о том, кого учил и что видел. Более всего апостола поразил обычай «Словенской земли»:
«Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до. того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят омовенье себе, но не мученье»[2].
Этнографические наблюдения апостола, переданные русским летописцем, породили немало интерпретаций. Чаще всего предполагали, что в рассказе о новгородской бане следует видеть издевку киевского автора над чуждым ему северно-русским обычаем: действительно, южная народная традиция не знает парной бани, да и бани как отдельного строения вообще. Но в этнографическом описании нет никакого осуждения или насмешки; более того, собственно в «Деяниях Андрея» присутствует мотив посещения апостолом бани — что естественно для человека, получившего античное воспитание. Правда, и в бане апостол изгонял бесов из одержимых. Но главный подвиг, который приписывают апостолу его деяния, — это проповедь в страшных варварских краях, на севере античной ойкумены, где, по древним легендам, обитали не только скифы или тавроскифы (как византийцы называли русских), но и людоеды. Даже Херсонес, древний греческий город в Юго-Западном Крыму, согласно греческому «Похвальному слову»[3] апостолу Андрею, расположен в Скифии, а его жители «проводят жизнь по-варварски и неразборчиво», они любят «во всем ложь, в вере нетверды по сей день»… Апостол воздвиг и крест, правда, не на киевских горах и даже не в Херсонесе, а в более цивилизованном Хараксе в малоазиатской Пафлагонии. Летописец использовал мотивы деяний апостола, и этнографический мотив парной бани был особенно важен для него, ибо должен был подтвердить достоверность происходящего.
Летописец добился своего — благочестивой легенде о его путешествии по пути из варяг в греки верили до недавнего времени.
Споры о реальности апостольской миссии на Руси начались еще в древности. Составители древнейших сводов, предшествовавших «Повести временных лет», утверждали, что в русской земле «не беша апостоли ходили». Однако сам византийский император Михаил VII Дука написал в конце XI в. письмо своему родственнику киевскому князю Всеволоду (чье крещальное имя было Андрей), сыну Ярослава Мудрого и внуку Владимира, крестившего Русь, в котором говорилось о «согласии в божественном обряде» (ведь Русь приняла христианство по греческому — византийскому обряду) и о том, что император узнал «из священных книг и достоверных историй, что наши государства Русь и Византия оба имеют один некий источник и корень, и что одно и то же спасительное слово было распространено в обоих, что одни и те же самовидцы божественного таинства и вещатели провозгласили в них слово Евангелия»[4]. «Самовидец божественного таинства» не назван здесь по имени, но сама церковная деятельность Всеволода Ярославина свидетельствовала, о ком идет речь: в 1086 г. князь заложил церковь Св. Андрея в Киеве и основал там монастырь. В отчине Всеволода Переяславле также была построена церковь Св. Андрея.
Яростный спор об исторической достоверности путешествия Андрея разгорелся еще во второй четверти XVIII в. между М. В. Ломоносовым и приглашенными в Петербург для занятий русской историей немецкими академиками Г. З. Байером и Г. Ф. Миллером. Они стремились очистить российскую историю от всего легендарного. Ломоносов — одна из самых противоречивых фигур в российской историографии. Знаменитый историк С. М. Соловьев писал, что Ломоносов «нисколько не был приготовлен заниматься русскою историею», и обнаружил тенденцию, которой следовал великий ученый XVIII в. «Всяк, кто увидит в Российских преданиях равные дела и героев, Греческим и Римским подобных, — писал Ломоносов, — унижать нас перед оными иметь причины не будет; но только вину полагать должен на бывшей наш недостаток в искусстве, каковым Греческие и Латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности»[5]. Здесь и содержится та самая максима риторического направления в исторической науке, ищущего в истории лишь славных подвигов, которое активно не принимал Соловьев.
Нужно заметить, что Ломоносов, литератор, один из реформаторов и создателей современного русского языка, болезненно реагировал на «глухоту» к русскому слову немецких профессоров истории Байера и Миллера. Но чтобы отстранить Миллера от написания российской истории, Ломоносов прибегал в своих «рапортах» и записках в канцелярию Академии наук к «аргументам», неприемлемым ни для Соловьева, ни для науки: о «святом Несторе летописце» не должно было писать, что тот ошибался; кощунством считал он утверждение Байера о том, что апостол Андрей, вопреки летописи, не бывал в России и не проповедовал Евангелия.
Не одна Русь стремилась отыскать благочестивые свидетельства дальних странствий Андрея. Летописец опирался на византийскую средневековую традицию, согласно которой Андрей получил по жребию Север Европы и прошел земли ивиров (Грузию), савроматов, скифов и «всякую страну и город, какие расположены к северу от Черного моря». В «Хронике пиктов», загадочных аборигенов Шотландии, составленной в XII в., как и «Повесть временных лет», рассказывается, как ангел Божий повелел апостолу покинуть Константинополь и двинуться в далекую страну. Он двинулся туда (практически по тому же пути из варяг в греки) с семью товарищами и божественное сияние окружало странников. Сам король пиктов с войском вышел ему навстречу, и войско пало ниц, не в силах выдержать сияния — семеро хромых и слепых обрели тогда исцеление, поэтому Андрей наиболее почитаем в Шотландии — той части северных пределов Скифии, где он учил.
Удивительно, но предреченная Андреем в русской летописи слава киевских гор действительно была запечатлена в истории, причем в истории дохристианской.
4. Киевская легенда
Уже упоминался сюжет о трех братьях — предводителях полян, пришедших с Дуная — летописной славянской прародины — на Днепр.
«И быша три братья: единому имя Кий, а другому Щек, а третьему Хорив, и сестра их Лыбедь. Седяше Кий на горе, где ныне увоз Боричев, а Щек седяше на горе, где же ныне зовется Щекавица, а Хорив на третьей горе, от него же прозвася Хоревица. И створиша град во имя брата своего старейшаго, и нарекоша имя ему Киев».
До сего дня, продолжает летописец, в Киеве живут поляне. Казалось бы, перед нами типичное топонимическое предание: наименования киевских урочищ — трех гор и речки Лыбедь — превращены в имена культурных героев, первопоселенцев. Более того, эти имена, по предположениям филологов, могут восходить к еще более глубокой мифологической архаике: во всяком случае, имя Кий в общеславянской ретроспективе может означать культурного героя — земледельца, кузнеца и богатыря, вооруженного палицей-кием — орудием для расчистки леса под поле и т. п.
Однако сам летописец (как и все русские книжники) далек от языческой фольклорной архаики; зато как историк он не может обойти альтернативного предания о Кие.
«Ини же, не сведуще рекоша, яко Кий есть перевозник был, у Киева бо бяше перевоз тогда с оноя стороны Днепра, тем глаголаху: на перевоз на Киев».
Разные варианты топонимических преданий легко уживаются в фольклоре, но летописца не устраивает образ Кия-перевозчика.
«Аще бо бы перевозник Кий, то не бы ходил Царюгороду; но се Кий княжаще в роде своем, приходившю ему ко царю, якоже сказають, яко велику честь приял от царя, при котором приходив цари. Идущю же ему вспять, приде к Дунаеви, и възлюби место, и сруби градок мал, и хотяше сести с родом своим, и не даша ему ту близь живущии; еже и доныне наричают дунайци городище Киевець. Киеви же пришедшю в свой град Киев, ту живот свой сконча; и брат его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь ту скончашася»[6].
Этот текст породил немало построений, относящихся уже к «научному» фольклору, — восприятию Кия как исторического князя, недавнему празднованию 1500-летнего юбилея Киева и т. п. Из летописи очевидно лишь, что составитель ее ссылается на «фольклорный» источник («якоже сказають»), не сохранивший имени «царя», при котором ходил к Царюгороду Кий. Традиционной для фольклора этиологической «реалией», которая призвана подтвердить истинность похода Кия, является городище Киевец на Дунае. Можно предполагать определенную «тенденциозность» летописца, занимавшегося разысканием того, «кто в Киеве стал первее княжити», и сделавшего Кия первым киевским князем.
Характерно при этом, что рассказ о кончине киевских братьев отличается от летописных рассказов о смерти первых киевских князей — Аскольда, Дира, Олега и др., где непременно говорится об их могилах в Киеве, известных «до сего дня». Таким образом, остается в силе заключение знаменитого историка летописания Шахматова то том, что «возникновение киевского предания едва ли не обязано этимологии географических названий» и имя культурного героя Кий оказывается производным от имени города Киев, как имя Щека восходит к имени горы Щекавица, а Хорива — к Хоревице.
Современные фольклористы обнаруживают сходство киевского предания с другими широко распространенными рассказами о первопоселенцах, которые изображаются великанами: они в состоянии перебрасывать единственный топор (и другие предметы, может быть, палицу — кий) на большие расстояния, чтобы не передавать их из рук в руки, и т. п. На первый взгляд представляется соблазнительным сближение Кия (с его «палицей») и героев с одним топором, необходимыми орудиями первопоселенцев. Однако Кий в летописи никак не соотносится с известными летописцу образами великанов доисторических времен (в том числе упомянутых обров): он и его братья считаются первыми правителями, культурными героями — предками полян.
Новый исторический комментарий к киевской легенде стал возможен после открытия Голбом древнейшего киевского документа: письма киевской еврейско-хазарской общины X в. Среди людей, подписавших этот документ, оказались носители «смешанных» славянских, тюркских и еврейских имен: это восприятие иноэтничных языковых традиций было свойственно еврейской диаспоре, переходившей на язык местного населения. В связи с этим открытием интересна гипотеза о происхождении имени Хоревица, высказанная еще в начале XX в. киевским любителем древностей Барацем: название киевской горы и одного из Полянских братьев он считал производным от священной библейской горы Хорев в Синае, где пророку Моисею была явлена неопалимая купина и даны 10 заповедей. Это был не единственный киевской топоним, связанный с иудейской традицией: согласно императору Константину Багрянородному, в середине X в. сама киевская крепость именовалась Самватас, что включало Киев в целую сеть поселений на окраинах диаспоры, носивших подобные имена. Имя Самватас, Самбатион и т. п. означало легендарную «субботнюю» реку, за которой обитают потерянные колена Израилевы и которая течет на краю ойкумены. Река эта бурлила шесть Дней в неделю, и переправиться через нее можно был лишь в субботний день — отсюда ее субботнее название. Поэтому фигура перевозчика была действительно символической.
Но Киев и в самом деле был краем ойкумены для иудейской Хазарии: по летописи, до прихода в Киев Вещего Олега в IX в. хазары брали дань со славян Днепровского Левобережья и с правобережных киевских полян — Киев был за рекой Днепр, границей Хазарского каганата. С этой точки зрения вариант киевской легенды, отнесенный летописцем к «несведущим», приобретает как раз исторический смысл: хазарам нужен был «перевоз» на другую сторону Днепра (славяне часто служили перевозчиками как по рекам Восточной Европы, так и через Дунай, перевозили не только хазар, но и авар).
Возникает вопрос, почему русский книжник, работавший на рубеже XI и XII вв. и опиравшийся на библейскую традицию, не распознал в имени Хорив названия библейской горы? Дело, видимо, было не только в том, что Библия была ему известна лишь в извлечениях — паремийных текстах и тексте его предшественника Георгия Амартола. Для еврейско-хазарской общины, говорившей по-славянски и оставившей название горы Хоревица в микротопонимии(Киева, этот город лежал на краю ойкумены, для летописца же он был центром наиболее «смысленого» племени полян, стал «матерью городов русских», столицей новой христианской Русской земли, «новым Иерусалимом» и Царьградом, а не «новым Синаем» (где располагалась гора Хорив). «Хорив» относился к хазарской предыстории Руси и русского христианства.
Глава 2 Начало христианства на Руси
Собственно история Руси началась тогда, когда Русь столкнулась с христианским миром. Первые известия об этом столкновении донесли до нас жития византийских святых — Стефана Сурожского и Георгия Амастридского. Свойственные житийному жанру стереотипы, в том числе описания чудес, не позволяют напрямую выявлять исторические реалии — исследователи до сих пор спорят, к какому времени могут относиться события, описанные в житиях.
1. Житие Стефана Сурожского
Житие сохранилось в русском переводе, включенном в агиографический сборник не ранее середины XV в. Греческое Житие традиционно датируется X в. и описывает события первой трети IX в. Содержит повествование, часто связываемое с событиями истории Руси. В Житии рассказывается, как на побережье Таврики напало войско новгородцев под командованием князя Бравлина (в некоторых вариантах вместо личного имени говорится о воителе — «князе бранливе»), которое после жестокой битвы завоевало территорию от Херсонеса-Корсуня до Керчи и подступило к Сурожу (Согдее, современный Судак). После десятидневной осады ворота были проломлены, город взят и начался его грабеж. Сам Бравлин попытался овладеть сокровищами местного Софийского собора, где находилась гробница св. Стефана, епископа Сурожского. Но у гроба святого, из которого он намеревался взять «царское одеяло», золото, жемчуг, драгоценные камни и сосуды, его разбил паралич: «обратилось лицо его назад», на губах выступила пена. Князь успел возопить о видении — некий «велики и святой муж» ударил его по лицу. Затем Бравлин приказал своим «боярам» прекратить разорение Сурожа и вернуть горожанам награбленное, Стефан же страшным голосом велел князю принять крещение, иначе не вернуться ему домой. «Если встану, — ответствовал пораженный недугом, — крещусь!» Тогда сурожские попы и епископ Филарет, преемник Стефана, сотворили над недужным молитву, и «снова обратилось лицо его вперед». Но окончательно исцелился князь лишь после того, как отпустил всех пленников. Устрашенная Русь не осмеливалась больше совершать набеги, безумцы же уходили посрамленными.
Ни ранние древнерусские, ни византийские источники, за исключением самого Жития, не упоминают о военной кампании Руси, которая должна была потрясти Византию. Считается, что в Житии отразилось позднейшее известие о походе Владимира Святославича на Корсунь в 989 г., где, согласно летописной Корсунской легенде, он разболелся и исцелился лишь после крещения. Об этом еще пойдет речь отдельно. Если доверять хронологии Жития Стефана, то поход Бравлина должен был состояться в первой четверти IX в., тогда это — первое упоминание Руси и крещения ее князя.
2. Житие Георгия Амастридского
Другое — уже греческое житие — повествует о нашествии на малоазийский город Амастриду (на юго-западном берегу Черного моря) «варваров росов — народа, как все знают, дикого и жестокого». Житие составлено в IX в., и описываемый поход должен был происходить до 842 г. Росы, «этот губительный на деле и по имени народ, начав разорение от Пропонтиды и посетив прочее побережье, достигнул наконец и до отечества святого (Амастриды, города Георгия), посекая нещадно всякий пол и всякий возраст, не жалея старцев, не оставляя без внимания младенцев… Храмы ниспровергаются, святыни оскверняются: на месте их нечестивые алтари, беззаконные возлияния и жертвы, то древнее таврическое избиение иностранцев, у них сохраняющее силу». Подобные бедствия, замечает агиограф, не раз испытывала библейская святая земля — Израиль. Но вот завоеватели вторгаются в храм в Амастриде, чтобы разграбить гробницу святого Георгия. В тот же момент они лишаются способности передвигаться и могут лишь говорить. Потрясенные варвары обещают отпустить на волю плененных христиан, если те походатайствуют за них перед Богом и святыми.
Тогда устраивается возжжение светильников и всенощное бдение. Исцелившиеся варвары клянутся более не осквернять святынь. Правда, об их обращении не говорится, но агиограф пишет, что те, что прежде поклонялись рощам и лугам (и приносили кровавые человеческие жертвы), стали почитать Божественные храмы благодаря заступничеству святого.
Упоминание губительного по имени народа вызывает библейские ассоциации с «князем Рос» пророка Иезекииля — о связи этого персонажа с именем Русь пойдет речь ниже. Не менее показательна и отсылка к таврическому обычаю убиения иноземцев — речь идет о знаменитом мотиве из трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде» — там говорится об обычае тавров убивать всех иноземцев. Описание опустошительного набега Руси напоминает сходные рассказы европейских авторов о пиратских рейдах викингов, грабящих побережье. Но ассоциации, порожденные составителем Жития Георгия, прочно закрепились за Русью: когда русский князь Святослав в 970-е гг. едва не завоевал Балкан, греческий историк Лев Диакон сравнивал его с князем Рос и русских называл тавроскифами за обычай человеческих жертвоприношений. Впрочем, эти восходящие к античности стереотипы описания «варварских народов» находят иногда соответствие в исторических реалиях. У языческой Руси действительно распространены были обычаи кровавых человеческих жертвоприношений. Неизвестный арабский автор, опирающийся на данные о Руси IX в., рассказывал о трех видах Руси: в главный из ее центров — город Арсу — не могут проникать иноземцы, ибо там их ждала смерть. Такие рассказы часто встречаются в средневековых описаниях труднодоступных и полуфантастических стран мира.
По поводу достоверности Жития у историков, естественно, есть сомнения. Зато историчность последующего известия о Руси подтверждается разными источниками. Эта Русь была «безбожной», то есть потрясения, вызванные предыдущими встречами с христианской цивилизацией, не привели к обращению.
Глава 3 Первый поход руси на Царьград
18 июня 860 г. русские ладьи неожиданно появились перед столицей Византии, и Константинополь, по словам оказавшегося в осаде патриарха Фотия, едва не был «взят на копье». Императора Михаила III не было в городе — он с войском выступил против арабов, и предполагают, что у Руси была хорошая разведка. Лишь чудо — вынесенный на стены покров Богородицы — спасло Царьград.
Языческая Русь невольно способствовала актуализации знаменитого православного гимна Богородице — Акафиста, который был сложен по поводу другого нашествия на Царьград — осаде его аварами и славянами в 626 г. Тогда патриарх с иконой Богородицы обошел городские стены, что избавило город от опасности. Гимн посвящен Богородице как «воеводе победительной». Эти функции Богоматери были восприняты и христианской Русью: в конхе собора Св. Софии в Киеве Богородица изображена как символ «Нерушимой стены». Образ «Владимирской Божией Матери» стал палладиумом средневековой Руси.
Внезапно поднявшаяся буря разметала корабли руси. Нестор приписывает этот поход Аскольду и Диру — обосновавшимся в Киеве варяжским дружинникам призванного в Новгород первого русского князя Рюрика. С этого похода он начинает русскую историю — погодные записи «Повести временных лет».
Греческие авторы-современники не знают предводителей похода, зато им известны его последствия, не упомянутые Нестором (ведь он составлял свою летопись в конце XI — начале XII в. и не знал всех греческих известий). Сам Фотий писал в своем «Окружном послании» 867 г. восточным патриархам, что не только болгары приняли крещение, но «прославленный в жестокости народ рос» переменил свою нечестивую веру на христианскую и принял епископа (об этом см. далее).
Император Константин Багрянородный, писавший в середине X в., вспоминал, что его дед Василий I Македонянин привлек раздачами щедрых подарков к мирным переговорам «народ рос» и убедил его принять крещение; тогда при патриархе Игнатии (но не при его противнике Фотии) в 70-е гг. IX в. к руси прибыл епископ, который продемонстрировал чудо с не горящим в огне Евангелием — пораженные чудом язычники стали принимать крещение.
Когда же, где и кем была крещена Русь? Едва ли сейчас можно ответить на этот вопрос однозначно. Исследователи некоторое время даже спорили о том, откуда пришла русь на Царьград: из Восточной Европы или, обогнув Европейский континент, из Скандинавии, то есть по тому самому пути, которым, по летописи, следовал Андрей. Для таких предположений есть некоторые основания: ведь имя русь имеет скандинавское происхождение и, согласно Нестору, относится к дружине князей, призванных рядить и править в Новгород как раз в 60-е годы IX в. В то время викинги действительно рвались в Средиземноморье, в 840 гг. обрушились на мусульманскую Испанию, а в 860-е достигли Италии, стремясь разграбить Рим. Во главе флота викингов, как и на востоке, стояли два вождя — Бьёрн (сын знаменитого викинга Рагнара Лодброка) и Хастинг; они долго плыли вдоль Средиземноморского побережья, пока не увидели прекрасный город. У викингов не было сил на штурм, и они отправили послов к горожанам, объявив себя беженцами из своей страны, предводитель их был при смерти и «беженцы» просили похоронить его по-христиански. Благочестивые горожане не могли отказать и пропустили похоронную процессию в город. Тогда умерший вождь «воскрес» с мечом в руке и убил доверчивого епископа. Начался грабеж, но коварных пиратов ждало разочарование — в их руках оказался не Рим, а городок Луна (Луни).
Итальянский автор Иоанн Дьякон в конце X в. называет русь, напавшую на Константинополь в 860 г., норманнами. Однако как раз историческая ономастика — наука об именах — убеждает, что русь совершила поход 860 г. из Восточной Европы. Дело в том, что само имя русь означает «гребцов» — «дружины, которые передвигаются на гребных судах», только так можно было пройти из Скандинавии в пролив Босфор через реки Восточной Европы. На западе скандинавы называли себя викингами: они ходили в морские походы — вики на длинных кораблях под парусами: в Западной Европе их называли северными людьми — норманнами. Но вот откуда из Восточной Европы они пришли, остается лишь гадать: в будущих «столицах» Киеве и Новгороде пока не открыты городские напластования IX в. Процветающим городом в IX в. была Ладога, откуда происходит обильный материал «эпохи викингов». Однако центром, куда были призваны скандинавские князья, Ладога именуется лишь в поздней версии летописной легенды о призвании варягов. Вместе с тем дружины на многих десятках ладей (а под Царьград они пришли на 200 ладьях) могли пройти по рекам Восточной Европы, минуя пороги и используя волоки, лишь при поддержке местного населения. Самыми опасными были пороги на Нижнем Днепре. Так что есть основания доверять летописи, утверждавшей, что первый поход руси на Царьград был совершен из Киева.
Историки спорят о том, сколько раз крестилась Русь в IX в.: один — при Фотии или дважды — при нем и его сопернике Игнатии. Известия из другой империи — Франкской — позволяют лучше понять источники, равно как и то, почему Начальная летопись молчит о древнем крещении Руси. Франкский император Людовик (814–840), не случайно прозванный Благочестивым, предпринимал активные попытки крестить норманнов — «северных варваров»: однажды во время раздачи крещальных даров один из викингов возмутился, заявив, что двенадцать раз принимал крещение, но ни разу подарки не были такими бедными…
Другой — уже восточный — свидетель ранних деяний руси, персидский географ Ибн Хордадбех, рассказывает (в 80-е гг. IX в.), что купцы ар-рус достигают со своими товарами Багдада, где выдают себя за христиан, чтобы их допустили на рынок столицы Халифата: у праведных мусульман не могло быть сношений с язычниками.
Нестор же, летописец, знал, что Аскольд и Дир, убитые захватившим Киев Вещим Олегом, умерли язычниками — в его время еще сохранялись их языческие могилы — курганы.
Глава 4 Иоакимовская летопись Позднесредневековая традиция о первом крещении Руси
Тем не менее и здесь историки готовы были увидеть свидетельства раннего крещения Руси: при Несторе могила Аскольда находилась рядом с церковью Николы. Первый русский светский историк Татищев (1668–1750) при составлении своей «Истории Российской», использовал не только древние летописные своды, но и позднейшую, не дошедшую до нас Иоакимовскую летопись, приписанную первому новгородскому епископу конца X в. Иоакиму (Акиму) Корсунянину. Ее анонимный составитель опирался на «Повесть временных лет», но приписывал поход Руси одному «Оскольду». Известие Нестора о том, что его могила располагалась у церкви Николы, позднейший летописец истолковал так, что Оскольд был крещен и получил при крещении имя популярного на Руси «Угодника». Но дело в том, что тот же Нестор говорит, что могила Дира располагалась у женского монастыря Ирины, и это уж никак не подходит для реконструкции христианской биографии другого варяжского вождя. Несмотря на это, позднейшая историография подхватила реконструкцию неведомого автора и историю «Аскольдова крещения Руси».
1. «Фотиево крещение Руси»
Если вернуться к древним источникам, то нельзя не признать, что исторические факты начального русского христианства с трудом распознаются в патетической риторике двух проповедей (гомилий) патриарха Фотия в описаниях бедствий, которые претерпела столица империи, обращается к библейскому плачу пророка Иеремии о потерянном Иерусалиме.
«Что за гнетущий и тяжкий удар и гнев? Откуда обрушилась на нас эта страшная гроза гиперборейская? разве не из-за грехов наших все это постигло нас? не знаменует ли ужас настоящего страшные и неподкупные судилища будущего? Из-за этого шум брани на земле нашей и великое разрушение; из-за этого выполз народ с севера, словно устремляясь на другой Иерусалим, и народ поднялся от краев земли, держа лук и копье»[7].
Из проповеди можно понять, что враги пришли на Царьград из гиперборейских северных пределов — далее Фотий именует русь «скифским народом», как греки именовали со времен Геродота «северных варваров».
«Горе мне, что я сохранен был для этих бед, — продолжает патриарх, — что мы сделались посмешищем у соседей наших и посрамлением у окружающих нас, что коварный набег варваров не дал молве времени сообщить о нем. Горе мне, что вижу народ жестокий и дикий, безнаказанно обступившим город и грабящим пригороды, все уничтожающим — поля, жилища, стада, жен, детей, стариков, юношей».
Описываемый Фотием набег действительно напоминает поход викингов, бессмысленно истреблявших все живое на захваченной земле. Но за описанием ужасов варварского набега скрывается и тревожная мысль политика о том, как это будет воспринято соседями! Это беспокойство дает себя знать и во второй гомилии на «нашествие росов»:
«Так подверглись мы бичеванию нашими беззакониями, опечалены страстями, унижены прегрешениями и ошеломлены злодеяниями, став посрамлением и поруганием у окружающих».
Это не случайно — соседи не вполне доброжелательно относились к имперским амбициям греков: Иоанн Дьякон описывал поход норманской руси как триумфальный. Но не сторонний наблюдатель волновал Фотия: патриарх получил престол, отстранив при помощи светских властей своего предшественника Игнатия, что дало повод папе Николаю I вмешаться в дела Православной церкви: это было естественно, ведь Фотий именовал себя «епископом Константинополя, нового Рима». Отнюдь не только каноны волновали главу Римской церкви — он мечтал о возвращении под свою юрисдикцию огромного диоцеза Иллирик на Балканах, а потом и о главенстве над недавно (864 г.) созданной болгарской церковью. Дело дошло до разрыва — так называемой Фотиевой схизмы — в отношениях между Римско-латинской и Греческой православной церквами. Николай не преминул в своих письмах напомнить о Божьем гневе, который постиг «богохранимый град»: в письме Михаилу III, отправленном в 865 г., он ехидно замечал, что «не мы, убив многих людей, сожгли церкви святых и предместья Константинополя». Враг ушел безнаказанным, но гнев империи обрушился на Рим, — возмущался папа.
Фотий ответил на эти претензии Рима не самому своему противнику, а в окружном послании патриархам Восточной церкви в 867 г. Перечисление успехов византийской церкви — крещение болгар (притязания Рима отвергались), возвращение в лоно православия армян — завершается главным достижением. «И ведь не только этот народ переменил прежнее нечестие на веру Христа, но и даже сам ставший для многих предметом многократных толков и всех оставляющий позади в жестокости и кровожадности, так называемый народ Рос, те самые, кто — поработив живших окрест них и оттого чрезмерно возгордившись — подняли руку на саму Ромейскую державу! Но однако и они переменили языческую и безбожную веру, в которой пребывали прежде, на чистую и неподдельную религию христиан, сами себя охотно поставив в ряд подданных и гостеприимцев вместо недавнего разбоя и великого дерзновения против нас. И при этом столь воспламенило их страстное влечение и к вере — вновь восклицает Павел: «Благословен Бог во веки!», что приняли они у себя епископа и пастыря и с великим усердием и старанием предаются христианским обрядам».
Помимо намеков на оппонентов, использовавших поход руси в целях пропаганды нечестия византийской церкви, в этом риторическом пассаже содержится известие о том, что русь перед походом поработила окрестных жителей. Если верить летописи, этими подданными руси оказались киевские поляне (хотя летописец не говорит о походе этих славян вместе с русью).
2. Князь Рос Септуагинты и имя Руси
В этом месте впервые в определенном историческом, а не агиографическом контексте упоминается византийское имя русских — рос (видимо, так называли себя оказавшиеся под стенами Царьграда «гребцы» скандинавского происхождения, в славянской передаче их имя звучало как «русь»). Но в патетическом изложении Фотия «пресловутый» народ рос вызывает еще одну ассоциацию, характерную для контекста военного набега. Словами пророка Иезекииля Господь угрожает забывшему о нем народу: «Обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Рос, Мосоха и Тувала». Несметные полчища наездников в полном вооружении, персов, эфиопов и ливийцев, «Гомера со всеми отрядами его, дом Тогарма, от пределов севера» по воле Господней накажут согрешивший Израиль. Эта конница, конечно, не похожа на русских гребцов, но похожи были имена. Еврейское неси-рош было воспринято переводчиками Септуагинты как «князь Рос». Имя Гомера, сына Иафета, отражает имя древних киммерийцев с причерноморского Боспора, чьи конные отряды действительно потрясли весь Ближний Восток в VII в. до н. э., за ними шли скифы — Ашкуз в библейской Таблице народов, жители крайнего севера с точки зрения обитателей Передней Азии. Тогарма ассоциировалась с Арменией и Кавказом — за этими горами и обитали страшные Гог и Магог, слухи о грядущем перед Страшным судом нашествии которых не раз потрясали Европу. Неточность переводчика — в греческом языке нет аналога для буквы «шин», и вместо Рош получилось Рос — стала основой для греческого имени северной страны — Руси и России: уже в X в. византийский император Константин Багрянородный называл Русь Росией. Библейские ассоциации на протяжении всего Средневековья сопровождали имя Руси: когда уже в XVI в. до Европы дошли слухи о зверствах Ивана Грозного, стало ясно — вот он князь Рос, Мосоха (великий князь Московский — к имени Мосоха возводили Москву и позднесредневековые русские сочинения); даже для Тувала нашлась русская аналогия — столица Сибири Тобольск.
Еще один риторический пассаж второй гомилии Фотия имеет непосредственное отношение к начальному русскому летописанию. «Народ незаметный, не бравшийся в расчет, народ, причисляемый к рабам, безвестный — но получивший имя от похода на пас, низменный и беспомощный — но взошедший на вершину блеска и богатства» и т. д.
3. Михаил III и начало Русской земли
«Повесть временных лет» начинается с вопроса «Откуду есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду Руская земля стала есть». Собственно «начало» Русской земли также описано в «Повести временных лет» дважды. Первый раз — под 852 г. (ошибочно вместо 842), открывающим историческую — датированную — часть летописи: «в лето 6360 (от сотворения мира) начал Михаил царствовать, начала прозываться Русская земля. О сем узнали, ибо при сем царе приходила Русь на Царьгород, как пишется в летописаньи греческом». Второй раз о начале государства — Русской земли говорится под 862 г. в легенде о призвании варяжских князей: «И от тех варяг прозвася Руская земля». Значимость царствования Михаила III для начальной летописной традиции заключалась не только в том, что при этом царе русь была впервые упомянута в хронографе — вошла во всемирную историю: это упоминание «безбожной руси», угрожающей Божественному граду, само по себе было малопрестижным. Само царствование и имя Михаила было знаменательно для начальной русской (и славянской) истории — имело, помимо «исторического», символический смысл, настолько самодовлеющий, что неточные расчеты времени этого царствования повторялись в разных списках летописи, и сетка «временных лет», которые начинались «от Адама» и доводились до правления Михаила и первых русских князей, «сбивалась». Символический смысл имени заключался в том, что Михаилом именовался (уже в ветхозаветном пророчестве Даниила) последний праведный князь, царство которого будет предшествовать концу света. Этот сюжет — последнее царствование Михаила — подробно трактуется в апокрифическом «Откровении Мефодия Патарского», одном из источников «Повести временных лет».
Византийские историки — сторонники императоров Македонской династии, основатель которой Василий I сверг Михаила III, — создали непритязательный портрет этого царя, несамостоятельного правителя, пьяницы и даже святотатца. Но для древнерусской традиции суть его царства была в ином: Новгородская первая летопись перед описанием похода руси 860 г. отмечает, что при Михаиле и матери его Ирине (ошибочно вместо Феодоры) было возобновлено православное «поклоняние иконам» — отвергнута ересь иконоборцев. Таким образом, действительно наступило праведное царство. Поход руси оказался как бы вписанным в эсхатологический контекст этого царства: народ рос явился под стены Царьграда, реализуя пророчество Иезекииля о Гоге в стране Магог, князе Рос — таким этот народ предстает в посланиях патриарха Фотия, свидетеля похода 860 г. Но в летописной традиции этот эсхатологический контекст обернулся началом истории нового народа, и это была не просто «инверсия» византийских эсхатологических мотивов: при Михаиле III были призваны в славянские земли Кирилл и Мефодий — славяне обрели христианское просвещение.
В «Повести временных лет» это событие опять таки связано со «сбоем» в хронологии — миссия, начавшаяся ок. 863 г., описана под 898, и этот «сбой» непосредственно связан с общей концепцией летописца. Ему нужно было увязать дунайскую (моравскую) историю славян, получивших Священное Писание от Кирилла и Мефодия, с историей Руси, «прозвавшейся» с приходом Олега в Киев в 882 г. (по летописной датировке): в качестве естественной «связки» днепровской истории Руси и дунайской истории славян было использовано известие о походе угров-венгров из Поднепровья в Паннонию. Сама дата — 898 г. — могла быть связана с венгерским походом 899 г. в Италию — Влашскую землю, что согласовывалось с летописным преданием об изгнании франков (волохов-влахов) уграми из Подунавья. Но для летописца важнее были собственно древнерусские реалии. Здесь не всуе упоминалось и урочище Угорское, на котором стоял Олег, а потом угры под Киевом. Результатом этого построения стало включение еще «безбожной» Руси в ход священной — христианской — истории, в которой Мефодий — первоучитель славян — оказывался наследником Андроника, посланного епископом в Паннонию (Иллирик) самим апостолом Павлом. «Так что и нам Руси учитель есть Павел (вспомним цитату из послания Фотия), понеже Учил есть язык словенский и поставил есть епископа и наместника по себе Анроника словенскому языку. А словенскый язык и русский одно есть, от варяг прозвались Русью, а сначала звались словене», — повторяет летописец слова варяжской легенды.
Хотя повествование о походе руси на Царьград в царствование Михаила III и призвании варяжских князей относится к «исторической» — датированной части летописи, оно не лишено библейских реминисценций. Давно обнаружены библейские мотивы в варяжской легенде: усобицы, предшествовавшие призванию, напоминают о неурядицах в Израиле эпохи судей, когда сыновья Самуила «не ходили путями его», и старейшины Израиля просили Самуила поставить над ними царя. Более того, последовательность сюжетов расселения славян, обретения ими своей земли и призвания правителя повторяет композицию Библии. В итоге композиция «Повести временных лет» воспроизводила традиционное деление библейских книг на Пятикнижие Моисеево (в частности, сюжеты Бытия и Исхода — заселения славянами своих земель) и «исторические» книги. Царствование Михаила не просто отмечало этот «исторический» рубеж: подобно тому, как русские князья стали наследниками Хазарии, Русская земля претендовала на свое место в христианском мире — и отнюдь не на то место «северных варваров», которое было уготовано Руси византийской («ромейской») традицией. В летописном изложении уже победитель Олег под стенами Царьграда представлялся грекам не как языческий князь, а как святой Димитрий: это характерное для древнерусской традиции замещение (в греческой традиции покровительство св. Димитрия спасло Солунь от осаждавших город славян) ставила «новый народ» (так уже принявшие христианство русские именуются в «Повести временных лет»), наделенный благодатью, выше «ветхого», чье царство — даже священное царство Михаила — было преходящим.
Наконец, в послании Фотия крещеная русь объявляется подданными и гостеприимцами ромеев — греков. Это традиционное для имперских амбиций ромеев отношение к народу, принявшему крещение из Константинополя, как к своим подданным, сильно осложняло и без того не слишком успешную миссионерскую деятельность Византии. Русь не считала себя подданной империи, что ясно показали последующие через 40 лет события — поход Вещего Олега на Царьград.
4. Чудо с неопалимым Евангелием
Последствия внутренних конфликтов Византии были не менее трагичны, чем набеги неприятеля. Осенью 867 г. император Михаил III был свергнут Василием, а Фотий вынужден был уступить патриарший престол изгнанному им Игнатию. Хронист — «Продолжатель Феофана», сосредоточенный на Деяниях представителя новой, македонской, династии — Василия I, приписал ему усмирение руси. Правда, он писал: «Щедрыми раздачами золота и серебра и шелковых одеяний он (Василий) склонил к соглашению неодолимый и безбожный народ росов, заключил с ними мирные договоры, убедил приобщиться к спасительному крещению и уговорил принять рукоположенного патриархом Игнатием архиепископа, который, прибыв в их страну, стал любезен народу»[8] явленным им чудом. Князь росов собрал своих подданных и вместе со старейшинами стал рассуждать о христианской и прежней вере. На теологический диспут явился и епископ, который, ссылаясь на принесенное с собой Евангелие, повествовал о чудесах Ветхого и Нового Заветов.
Таков был обычай катехизации — рассказа о содержании Священного Писания, и росы, привычные слушать саги и рассказы о чудесном, были поражены рассказом о трех отроках Эфесских, ввергнутых в горящую печь, но уцелевших. Но слушатели стали требовать въяве демонстрации чуда, чтобы они смогли поверить рассказанному.
Епископу пришлось бросить в костер Евангелие, уповая на Божью помощь. И чудо свершилось — Евангелие осталось лежать невредимым в пепле, не был опалены даже украшавшие застежки кисти. Варвары были поражены и позволили себя окрестить. Где происходило крещение, равно как и имя архиепископа, остается неизвестным (сам текст, описывающий чудо, был составлен лишь в середине X в.).
По-иному писалась история обращения шведов — свеонов в Житии латинского миссионера Ансгария, отправившегося в Швецию в 829–830 гг. в правление франкского императора Людовика Благочестивого гг. несколько ранее неведомого византийского епископа. Он достиг Бирки — главного шведского города на пути из варяг в греки. И там конунг свеонов Бьёрн радушно принял миссионеров и позволил им проповедовать Евангелие на собрании всех жителей Бирки. Правда, среди населения Бирки были пленники-христиане, оказавшиеся в городе после набегов викингов на земли империи Каролингов. Они были рады наконец получить причастие. Но крещение приняли и многие свеоны — среди них градоначальник (префект) и другие знатные люди. Новой пастве нужен был пастырь, и Ансгарий попросил гамбургского архиепископа рукоположить епископа для свеонов. Им стал Гаутберт, которого снабдили всем необходимым для богослужения (миссионерство было дорогостоящим предприятием). Археологи, раскопавшие некрополь Бирки, выяснили, что миссия Ансгария не прошла бесследно, с IX в. у свеонов стал распространяться обряд трупоположения в христианских могилах.
Что касается византийских источников, то неясно, пыталась ли историография Василия и Игнатия приписать себе славу крестителей руси, или, может быть, сама русь, прельщенная крещальными Дарами, готова была не раз принимать миссионеров, возвращаясь затем к своим обычаям.
Глава 5 Вещий Олег и Игорь Старый: языческие князья
1. Поход князя Олега на Царьград
Олег, совершивший следующий, победный поход на Царьград (907 г.), клялся вместе со своей русской дружиной и славянским войском Перуном и Волосом, языческими богами, что будет соблюдать мир с греками. В Царьграде русским послам показывали церковную красоту, но о попытках крещения ничего не говорится. Монах-летописец вслед за греческой хроникой перечисляет зверства, чинимые русью под стенами Царьграда, убийства и сожжение церквей, но добавляет при этом, «елико же ратьнии творят» — списывая разбой на обычаи войны. Когда «льстивые греки» вынесли Олегу отравленные «брашно и вино», тот не принял отравы, чем устрашил греков: «То не Олег, а св. Димитрий, которого послал против нас Бог», — решили греки. Мотив вражеского нашествия как знамения Божьего гнева был здесь своеобразно истолкован русским летописцем. Святой воин Димитрий, который должен был защищать греческий город (как он защитил свой город — Фессалоники) против аваров и славян, был, скорее, На стороне Руси.
Одержав победу, Олег не забыл своих воинов, прежде всего он позаботился о гребцах: сначала он взял дань «на ключ» — на каждую уключину. Богатство и удача — главные достоинства языческого героя, поэтому в глазах народа Олег был провидцем — Вещим. Монаху Нестору пришлось рассказывать легенду о таинственной смерти Олега от коня, чтобы убедить читателей в том, что он не был Вещим — не мог предугадать своей собственной смерти. Это — едва ли не единственный мифологический рассказ в русской литературе, древнейшего периода: христианские книжники не пересказывали мифов — ведь для них это были деяния бесов, которых воплощали языческие боги. Летописцу важно было продемонстрировать, что Олег не был Вещим — то был предрассудок языческой толпы, сам же князь не мог предвидеть даже собственной смерти (каковую ему предсказал наделенный бесовской силой языческий волхв).
О походе Олега ничего не говорится в византийских источниках. Но мы уже знаем, почему греки предпочитали умалчивать об успешных военных предприятиях варваров — они заботились о престиже Богохранимой державы. Зато в 911 г. был заключен мирный договор между греками и Русью. Интересно, что в преамбуле договора стороны обозначаются как «христиане» (это — ромеи-греки) и «вся русь», князья и дружина. «Варвары», однако, силой оружия добились уважения и неслыханных торговых и имущественных льгот в отношениях с империей. Немаловажно, что договор был написан на славянском языке — значит, русские послы (а также князь Олег и княжич Игорь), еще носившие скандинавские имена, уже пользовались славянским — иначе и быть не могло, ведь славяне были не только подданными русских князей, но и союзниками в их войске. Значит, Нестор не случайно писал, что «русский язык и словенский — один есть» — ведь именно он нашел договор с греками в княжеском архиве и включил его в летопись.
В преамбуле договора о греках говорится просто как о «христианах» (но не ромеях — ведь русь звала византийцев «греками»), они противопоставлены «всей руси», которая находится под рукой Олега. Это противопоставление, хоть и в неявной форме, но все же очевидно давало понять, что русь для греков остается «безбожной» — варварской. Летописное предание о походе Олега содержит характерную реакцию на это противопоставление. В войске Олега, в отличие от дружины Аскольда и Дира, были многочисленные славянские «федераты», «вой»: летопись причисляет к ним едва ли не все известные летописцу славянские племена Восточной Европы, платившие дань русскому князю. Очевидно, это предопределило успех самого военного предприятия. Но на обратном пути Олег, заботившийся прежде всего о своих «гребцах» — они первыми получили от греков дань на «уключину», дал руси драгоценные паруса из прочных шелковых паволок, а словенам — из непрочных тканей, так что тем пришлось менять эти паруса на старые — из простой холстины, сетуя на свой низкий статус. Княжеская дружина не могла смириться с тем, что ее, победительницу греков, те по-прежнему считают варварами. Князь продемонстрировал, что у Руси есть собственные варвары, которые не заслуживают богатой экипировки.
Означает ли это, что все опыты общения с христианским миром и крещения прошли без последствий для начальной Руси? Летопись свидетельствует, что это не так. После очередного похода на Царьград, совершенного уже Игорем, в 944 г. языческая русь клянется соблюдать мир на языческом капище в Киеве Перуном, а христианская — в церкви Ильи. Этот летописный фрагмент подвергся в последнее время детальному анализу: Нестор, считал, что русь клялась в церкви, расположенной в Киеве на Подоле, в урочище Козаре (Хазары). Раскопки показали, что церкви Ильи до XI в. там не существовало; анализ договора 944 г. с греками прояснил, что церковь Ильи находилась в Константинополе — в ней клялись послы Игоря, явившиеся в столицу Византии.
2. Языческое право. Игорь — князь-волк
Наследник Вещего Олега стал продолжателем его деяний — он подчинял себе славянские племена, в том числе древлян, которых Нестор описывает как дикое племя, живущее в лесах «зверинским образом». Совершил Игорь и поход на Царьград. Но этот поход не был таким успешным, как победоносное предприятие Олега. И договор с греками, который заключил Игорь в 944 г., не был таким выгодным, как договор Олега.
Дружинники Игоря — русь — также клялись перед идолом Перуна, но часть дружины уже ходила на присягу в церковь Ильи в Царьграде. Обещая соблюдать мир с греками, русские дружинники произносили характерное заклятье: нарушивший мир будет поражен собственным оружием.
Но дружину Игоря заботило другое — она вернулась из похода, не приобретя тех богатств, о которых рассказывали легенды, связанные с именем Вещего Олега. Чтобы утолить алчность дружины, Игорь отправился за данью к древлянам. Князь уже долго кормился в их земле и дважды собрал дань, но ему было мало. Древляне прислали послов к князю с напоминанием, что он уже взял все, что ему полагалось. Но Игорь, распустив большую часть дружины по домам, с малой дружиной решил собрать еще дани. Тогда древляне поднялись с оружием и напали на князя. Греческий историк Лев Диакон рассказывает, как они казнили захваченного в плен Игоря: его привязали к двум согнутым деревьям и, отпустив их, разорвали князя на части.
Затем восставшие отправили послов в Киев к вдове Игоря княгине Ольге: ее скандинавское ийя означало то же, что и имя Олега — «Священная, Вещая», и эта дама во многом оправдала свое прозвание. Послы обратились к ней со словами:
«Мы убили русского князя, потому что он, как волк, похищал и грабил наше имение. Наши же князья — добрые пастыри, они «распасли» Древлянскую землю. Пойди замуж за нашего князя».
Современному читателю такое предложение покажется диким. Но Ольга, хотя и строила коварные замыслы, не подала виду, что она оскорбительна. «Моего мужа уже не воскресить», — сказала она и велела древлянам готовить сватов.
Вспомним, что древляне жили племенным строем и по племенным обычаям должны были возместить русской княгине нанесенный ущерб. Они не считали себя подлыми убийцами — ведь они сами заявили о том, что казнили Игоря. И эта казнь произошла после своеобразного судебного разбирательства, когда древляне постановили, что Игорь — не законный князь, а волк — преступник. Волком именовался изгой — живущий в лесу, вне человеческого общества. Волками становились и берсерки — неистовые воины, сражающиеся без правил убийцы.
3. Месть Ольги
Но иным представление о праве было у киевской княгини Ольги. Она лишь прикидывается, что следует племенным обычаям. Древлянам же говорит, чтобы наутро явились к ней с почестями. Когда она пришлет за ними к их ладье, пусть скажут ее людям, что не желают идти ни пешком, ни на конях, но их должно нести на княж двор прямо в ладье. Сама же княгиня велит тем временем копать глубокую яму возле ее Теремного двора. Когда киевляне пришли к древлянским сватам и сказали, что княгиня зовет их на великую честь, те заставили жителей Киева нести их в ладье, и горожане стенали, притворно сетуя на свою неволю. Но когда гордых послов низринули в яму, Ольга подошла к ним и спросила, довольно ли с них чести. Те отвечали, что хуже им, чем было Игорю принимать смерть. Ольга же велела закопать их живыми.
Но княгиня не насытилась местью и послала в Древлянскую землю. Она потребовала к себе следующего посольства, иначе не пустят ее киевляне за древлянского князя. И снова древляне отправляют своих лучших мужей к киевской княгине. Ольга же велела истопить баню, и когда древлянские сваты отправились мыться, заперла двери и сожгла их в бане.
Княгиня же вновь послала к древлянам и приказала им сварить меду, чтобы она могла прийти и справить тризну по Игорю. Древляне приготовили много питья — они знали русский поминальный обычай. Ольга пришла с малой дружиной и плакала у могилы Игоря в Древлянской земле. Тут древляне заподозрили недоброе и спросили, где сваты, которых они посылали прежде. «Идут с дружиной моего мужа», — спокойно отвечала Ольга. Древляне тоже успокоились и перепились на поминках. Тогда княгиня приказала своим отрокам-дружинникам перебить древлян — так погибло пять тысяч человек.
Ольга же вернулась в Киев и собрала там войско: малолетний сын Игоря Святослав со своим дядькой и воеводой сопровождали княгиню в походе на древлян. Святослав начал битву, бросив копье в сторону врагов — так посвящали противников в жертву богу войны. Но князь был еще мал, и копье упало у ног коня. Русская дружина ринулась на древлян, те были разбиты и заперлись в своем городе Искоростене. Тут их ждала последняя месть Ольги. И осажденные, и осаждавшие изнемогали от войны, и Ольга обратилась к древлянам с притворной речью. Она уже трижды отмстила за мужа — теперь княгине нужна лишь малая дань. Она просит у древлян лишь по три голубя да по три воробья от каждого двора, — ведь больше имущества у осажденных и нет. Древляне порадовались малой дани, но Ольга велела раздать птиц воинам и привязать к каждой горящую ветошь. Птицы полетели к знакомым крышам, и Искоростень запылал.
Так Ольга отмстила за мужа и покорила древлян, возложив на них тяжкую дань. Государственное право приходило на смену племенному. Но летописные легенды о мести Ольги напоминают нам сюжеты архаического эпоса. Ольга использует для отмщения погребальные ритуалы — погребение в ладье и тризну, а также сожжение врагов, правда, не в пиршественной палате (как в германском эпосе), а в бане.
Глава 6 Крещение княгини Ольги и язычник Святослав
1. Крещение Ольги
1.1. Поездка Ольги в Царьград
Игорь, как и Олег, оставался язычником — его смерть у восставшего славянского' племени древлян, языческая тризна (и могила — курган) подробно описаны Нестором. Совершившая страшные языческие поминки по мужу вдова Игоря Ольга, расправившись с древлянами (принеся их в жертву на похоронах), осознала необходимость не только правовых реформ, но и реформ религиозных. Религия и право не были разделены в архаический период истории — недаром религия именовалась в Начальной летописи Законом. Ольга отправилась в Царьград не только для того, чтобы уладить отношения с Византией после смерти мужа: там, по летописи, она приняла крещение от самого императора Константина Багрянородного. Дата этой поездки вызывает споры, летописный рассказ окрашен легендами: по летописи, Ольге должно было быть не меньше 60 лет, но император прельстился ее женской красотой, предложив ей брак. Константина можно было заподозрить здесь во «льстивости» (в чем постоянно упрекали греков и русские, в том числе сам летописец, и латыняне) — ведь император был женат. Но Ольга не прельстилась столь престижным замужеством: она настояла, чтобы император сначала крестил ее. Константин выполнил просьбу, но когда он напомнил об ожидаемой благодарности, Ольга ответила «каноническим» отказом: брак между крестными отцом и дочерью был запрещен. Сластолюбцу пришлось признать, что его крестница «переклюкала» (перехитрила) царя; тому пришлось отпустить Ольгу со многими дарами и благословением патриарха. Благочестивое хитроумие свойственно многим библейским героям. Авраам, укрывшийся от голода в Египте, вынужден был отдать в дом фараона красавицу Сарру, выдав ее за свою сестру: Господь поразил фараона, и тот призвал Авраама, упрекая его во лжи — ведь Сара была женой праотца. Но Авраам не лгал: Сарра была и сестрой ему. Так или иначе, при крещении Ольга получила христианское имя жены Константина — Елены.
В истории отношений Востока и Запада, особенно в истории дипломатических браков, возраст партнеров не играл решающей роли. Карл Великий, короновавшийся императорской короной в Риме в 800 г., стремился обустроить свои отношения с восточной Ромейской империей, предложив брак правившей тогда в Византии императрице Ирине: предполагаемым партнерам было за 50. Утопическому плану единения двух империй не суждено было сбыться: Ирина была свергнута и отправлена в ссылку.
В книге «О церемониях византийского двора», составленной Константином Багрянородным, подробно рассказывается, как Ольге и ее придворным дамам, послам и купцам дважды был устроен торжественный прием императором и императрицей. Оказанные Ольге почести не были случайными: Византия нуждалась в поддержке Руси, ей нужны были опытные воины, привычные к далеким походам. Ольга, очевидно, стремилась подтвердить мирный договор 944 г., дававший торговые и иные льготы Руси в Византии. Но о крещении княгини ничего не говорится.
Из книги следует при этом, что в свите Ольги был священник (княгинин духовник?) Григорий, в императорском дворце уже несли службу крещеные росы, а погребения первых христиан, датируемые серединой X в., археологи находят не только в Киеве, но в Гнёздове под Смоленском — крупнейшем русском погосте, контролировавшем переход с Днепровского речного пути на Волховский. Сходные погребения середины X в. с такими же «греческими» равноконечными крестами обнаружены в начале великого пути из варяг в греки — в скандинавском городе Бирка в Средней Швеции. Интересно, что большая часть таких крестов найдена в богатых женских погребениях, часть которых могла принадлежать дамам, сопровождавшим Ольгу в Царьград. Это не свидетельствует, конечно, о «феминистическом» начале христианства в Восточной и Северной Европе: кресты входили в состав женских ожерелий, мужчины могли не носить крестов-тельников. Хотя предполагают, что у знатных дам было особое стремление покончить с языческим прошлым, ведь по варварским обычаям руси и варягов (восходящим к индоевропейской древности) верная жена должна была последовать на тот свет за мужем. Однако для истории начального христианства на Руси это разделение «мужского» и «женского» оказывается все же симптоматичным.
1.2. Между Константинополем и Римом
Хитроумная Ольга осталась, однако, недовольной визитом в Царьград. Летопись сообщает, что когда в Киев к княгине явились греческие послы, она не велела сразу принимать их, но оставила стоять в киевской гавани, как и ей пришлось дожидаться приема в Константинополе. Послы напоминали Ольге о дарах, полученных в Царьграде, а в обмен просили воев в помощь — о боеспособности руси греки знали не понаслышке. А конфликты с арабами требовали привлечения все новых воинских контингентов, способных драться на море и на суше. Видимо, от Византии Ольга ждала большего, ибо не преминула обратиться к дипломатической игре.
«Продолжение хроники Регинона Прюмского», составлявшееся в Немецком королевстве, сообщает под 959 г. о том, что «послы Елены, королевы ругов (немцы по созвучию отождествляли русь с германцами-ругами, обитавшими на Дунае в середине 1-го тыс н. э.), крестившейся в Константинополе при императоре константинопольском Романе, явившись к королю, притворно, как выяснилось впоследствии, просили назначить их народу епископа и священников». То, что не сделали Константин Багрянородный и его сын Роман, правивший с ноября 959 г., должен был сделать Оттон I, благо он претендовал на то, чтобы восстановить Западную Римскую империю, подобно Карлу Великому. Епископ Адальберт (который, возможно, и был автором «Продолжения хроники Регинона») отправился на Русь лишь на следующий год, и Оттон «снабдил его всем, в чем он нуждался»[9].
Эти сведения вызвали длительную дискуссию о времени и обстоятельствах крещения Ольги. Летописная дата ее поездки в Царьград — 955 г. — не удовлетворяет историков, ибо если верить дате, вычисляемой на основании греческого трактата (обрядника) «О церемониях», то Ольга была принята в Царьграде 9 сентября 957 г. В литературе распространилась гипотеза о двух поездках Ольги в Константинополь: одна состоялась в 946 г., когда княгиня сразу после смерти мужа должна была подтвердить условия мира, продиктованные Игорем грекам в результате похода 944 г., но первая поездка была не вполне удачной, а во время второй Ольга приняла крещение. Но в таком случае почему в ее свите, согласно византийскому обряднику, уже был священник? Кроме того, в том же обряднике Ольга названа еще своим скандинавским языческим именем — Хельга. Наконец, немаловажным для церемониала обстоятельством было устройство стола во время приема — с единоверцем можно было делить трапезу, иноверцу нужен был отдельный стол. Ольга была удостоена совместной трапезы с самой императрицей, значит, по крайней мере на момент приема она была крещена. «Официальным» же именем правящих русских князей и в христианское время оставалось «светское» — языческое.
1.3. Немецкие миссионеры
Когда же могла креститься Ольга? Предположительно ответить на этот вопрос позволяет история с крещением ее внука — Владимира Святославича, о котором речь пойдет ниже. Уже в древнерусской традиции не прекращались споры о времени и месте его крещения. Дело, видимо, было в том, что сам акт принятия христианства в Средние века проходил две стадии, первая из которых — «оглашение», намерение принять крещение после катехизации и следовать христианским обычаям; «оглашенные» могли присутствовать на богослужении, но не допускались к участию в литургии. Вероятно, Ольга заявила о своем намерении креститься перед поездкой в Царьград, благо в Киеве был священник — ведь в среде русской дружины Игоря уже была христианская община.
Христианка Ольга, удостоившись чести стать «дщерью» императора, однако, не смогла крестить всю Русь, ибо ее сын Святослав, князь-воин, не препятствуя крещению отдельных семей, намеревался продолжить завоевательную политику предков. Не случайно немецкие миссионеры сетовали на то, что намерения Руси принять христианство оказались притворными — епископу Адальберту едва удалось бежать от преследования язычников.
Почему Ольга обратилась к королю Оттону, а не к папе? Очевидно, на Руси знали о зависимости папского престола от возвышающихся немецких королей, равно как и о деятельности миссионеров Гамбургской архиепископии, которая не прекращалась после упомянутой миссии Ансгария на Севере и Востоке Европы.
Казалось бы, стремление Ольги к введению христианства на Руси должно было встретить сочувствие в Царьграде, но, по летописи, Ольга осталась недовольной результатами визита. Недаром поначалу она отказала прибывшим в Киев греческим послам в отправке «воев» на помощь Византии. Более того, она отправляет в 959 г. послов к германскому королю Оттону I, сопернику Византии, с просьбой прислать на Русь епископа и священников. Вероятно, греки не усердствовали в устройстве самостоятельной русской церкви, и не только потому, что греческая церковь (в отличие от латинской) вообще не усердствовала в миссионерской деятельности среди далеких от ее границ «варваров». Сама Ольга, наследница той правовой традиции, которая основывалась на договорах Руси с греками — с позиции силы, явно не готова была признать себя вассалом империи, занять то место, которое отводила Русскому государству и другим «варварским» государствам официальная византийская доктрина «содружества народов».
Германская миссия епископа Адальберта (961 г.), однако, закончилась неудачей, которая не в последнюю очередь могла быть предопределена политическими амбициями германской церкви и имперскими амбициями короля — видимо, у автора «Продолжения хроники Регинона» были основания упрекать Ольгу-Елену в лицемерном намерении назначить ее народу епископа. Русь в. политическом, экономическом и культурном отношении оставалась ориентированной на Византию: возможно, поэтому усилия немецких миссионеров встретили сопротивление не только среди языческой части русской дружины, но и среди киевских христиан, придерживавшихся восточнохристианского обряда.
2. Воинственный князь Святослав
2.1. Нехристианские нравы
Христианство с проповедью мира было чуждо князю и его дружине: Святослав разгромил Хазарию и собирался утвердить центр своей новой державы на Дунае, взимая дань с Византии и окрестных христианских земель. Формально поход 968 г. начинался в интересах Византии: Святослав атаковал Болгарию, находившуюся в конфликте с империей. Одновременно эта кампания задевала и интересы формирующейся Западной Германской империи — главной геополитической соперницы Византии.
Византийский историк Лев Диакон, описывающий войны Святослава на Балканах, с ужасом рассказывает о жертвоприношениях, которые совершали тавроскифы или скифы, как называл он русь: ночью после битвы с ромеями «скифы» вышли из укреплений, чтобы подобрать и похоронить своих мертвецов; «они нагромоздили их перед стеной, разложили много костров и сожгли, заколов при этом по обычаю предков множество пленных, мужчин и женщин». Этот воистину варварский обычай известен у многих народов мира: убитые на похоронах должны были сопровождать умерших на тот свет в качестве слуг. Поэтому сами русские предпочитали смерть на поле боя плену, чтобы не оказаться рабами в загробном мире. Истребление пленных напоминает описание (начиная с Фотия) убийств, чинимых росами под стенами Царьграда.
Смысл последующих обрядов, столь же жутких, менее ясен: русские задушили несколько младенцев и петухов, утопив их в Истре — Дунае. Сходный обычай описывал ученый император Константин Багрянородный в другом своем трактате — «Об управлении империей», рассказывая о пути русй из Киева в Константинополь. Миновав днепровские пороги и угрозу печенежского набега, росы устрайвали жертвоприношение на острове Хортица, чтобы выяснить, насколько удачным будет путешествие: там рос огромный дуб, вокруг которого росы втыкали стрелы (ритуал, связанный с громовником Перуном), а потом бросали жребий о жертвоприношении петухов — зарезать их и съесть или отпустить живыми. Видимо, с гаданием о грядущем были связаны и страшные ночные жертвоприношения не только петухов, но и младенцев («чистая» жертва) на Дунае.
«Тавроскифы и теперь еще, — заключает Лев Диакон, — имеют обыкновение разрешать споры убийством и кровопролитием. О том, что этот народ безрассуден, храбр, воинствен и могуч, он совершает нападения на все соседние племена, утверждают многие: говорит об этом и божественный Иезекииль: Вот я навожу на тебя Гога и Магога, князя Рос»[10].
Сама смерть разбитого на Дунае греками князя (описанная Нестором) показала, насколько он следовал своей воинской максиме: «Мертвые сраму не имут». Он принял героическую смерть на днепровских порогах, отправившись в печенежскую засаду, — так этот князь, следовавший обычаям викингов, мог достигнуть воинского рая (Вальхаллы).
Ольга не смогла уподобиться своей святой патронессе — Елене, матери Константина Великого, крестившего Римскую империю: для Руси вторым Константином стал не ее сын — закоренелый язычник, а внук — Владимир.
Ольга, став первой христианской правительницей Руси, отказалась от традиционных языческих «ценностей». Княгиня, расправившаяся с древлянами на тризне по мужу и насыпавшая курган над его могилой, после крещения «заповедала не творити трызны над собою». В раннем списке Жития Ольги (XIII–XIV вв.) княгиня завещает Святославу «погрести ся с землею равно» — не насыпать кургана по языческому обычаю.
2.2. Упорство Святослава
Русь не стала христианской, но внешняя политика Ольги была успешной — великие державы стали соперничать, претендуя на союз с Русью, как с равной христианской страной. Но серьезные трудности с распространением христианства возникли у Ольги внутри Руси, в самом Киеве и даже в собственной семье.
Попытка Ольги обратить в христианство сына Святослава встретила отпор у князя, воспитывавшегося дружинниками отца: Святослав ссылался на сопротивление дружины, которая «смеятися начнуть», если князь один примет новую веру. В летописном рассказе Ольга находит исторически верный аргумент: «Аще ты крестишися, вси имуть то же створити». Действительно, дружина, ориентированная на социальные («вассальные»), а не родоплеменные связи, быстро усваивала новые ценности, особенно если их придерживался сюзерен — так было с крещеными «росами», служившими императору в Константинополе, так повела себя дружина и при Владимире Святославиче. Однако Святослав предпочитал традиционную систему воинских ценностей, которая соответствовала его целям не менее традиционной для Руси экспансии — разгрому Хазарского каганата и вторжению на Балканы. Во время балканских походов Святослава Ольга оставалась правительницей Руси и воспитывала трех своих внуков: Ярополка, Олега и Владимира. Крестила ли их Ольга тайно от отца, сказать трудно, но гипотезы, особенно относительно христианства старшего, Ярополка Святославича, распространены в современной историографии.
Ольга умерла 11 июля 969 г. Летописец помещает посмертный панегирик Ольге, которую разрешил по-христиански похоронить ее сын, вернувшийся с Балкан, чтобы отогнать осадивших Киев печенегов. «Радуйся, русское познанье к Богу, — обращается к почившей княгине Нестор. — Си первое вниде в царство небесное от Руси, сию бо хвалят русские сынове аки началницу: ибо по смерти моляше Бога за Русь».
Но жизнь Русской земли продолжалась, и Святославу, не желавшему сидеть в Киеве, а мечтавшему о новой столице — Переяславце на Дунае, которая должна была стать центром его новой земли, нужно было сначала урядить Русскую землю. Старшего сына Ярополка он оставил в Киеве, среднего — Олега — отправил в Древлянскую землю, где погиб его отец Игорь, младшего, сына Ольгиной рабыни ключницы Малуши Владимира, уговорили пойти к себе новгородцы, угрожая призвать князя со стороны. Новгород, первая столица Руси, стала периферией Русской земли.
2.3. Первые княжеские усобицы
После смерти Святослава в 971 г. между наследниками князя на Руси начинается распря. Дружинник Ярополка — сын воеводы Свенельда — вторгается во владения Олега, и древлянский князь велит убить его. Тогда Ярополк ради мести нападает на брата, и Олег погибает. Испугавшийся Владимир бежит из Новгорода за море к варягам, а Ярополк отправляет своих посадников в Новгород и остается править один на Руси.
Но Владимир возвращается с варягами, идет из Новгорода с войском из варягов, словен, кривичей и чуди сначала на Полоцк, потом на Киев и в 978 г. овладевает им. Варяги убивают Ярополка и требуют у нового князя «откупа» с захваченного ими Киева. Владимир же не дает им денег, а отправляет в Царьград на службу к византийскому императору (предупреждая его о злокозненности наемников): варяги становятся на Руси враждебными чужаками.
Владимир не случайно пошел на Полоцк перед тем, как двинуться на столицу Руси. Ведь Полоцк был городом кривичей, а земля кривичей, участвовавших в призвании варягов, должна была подчиняться русскому — новгородскому князю. В Полоцке правил самостоятельно варяг Рогволод, и Владимир хотел решить дело миром, посватавшись к его дочери Рогнеде. Но Рогнеда мечтала о браке с Ярополком: она помнила, что Владимир был сыном ключницы, и не желала «разуть робичича» — снимать обувь с сына рабыни перед брачной ночью (таков был древнерусский свадебный обычай). Владимир взял Полоцк силой, убил Рогволода и принудил Рогнеду к замужеству. В позднейшей летописи рассказана красивая легенда о Рогнеде, прозванной Гориславой, которая, уже родив княжича Изяслава, не могла простить Владимиру насилия — она хотела убить спящего князя. Владимир хотел было расправиться с гордой женой, но та дала меч в руки младенцу Изяславу, чтобы он заступился за мать. По совету бояр князь вернул Рогнеде ее «отчину» — Полоцк, но с тех пор, пишет летописец, Рогволодовы внуки поднимают меч против потомков Владимира.
Глава 7 Был ли христианином Ярополк Святославич
1. Бруно Кверфуртский — миссионер
Хотя русские источники ничего не говорят о христианстве при Ярополке, история христианской общины на Руси при Игоре и Ольге вдохновляет на поиски свидетельств ее существования в 970-е гг. Назаренко обратил внимание на составленное в первой трети XI в. латинское Житие блаженного Ромуальда о явлении миссионера на Русь, где правили три брата. Этот миссионер — Бруно (Бонифаций) Кверфуртский, прославленный своей поездкой к печенегам при Владимире Святославиче в начале XI в. (о которой еще пойдет речь), но в Житии Ромуальда ему приписывается крещение русских. И хотя еще знаменитый историк русской церкви Голубинский считал этот рассказ «баснословным», традиции отечественной историографии, часто усматривающей за литературным мотивом «исторические факты», позволяют и мотив трех братьев соотнести с летописным известием о трех Святославичах[11].
Итак, Бруно в монашеской одежде является к «королю Руси» и проповедует Слово Божие, стремясь повторить подвиг мученичества епископа Войтеха-Адальберта, принявшего смерть во время миссии у язычников-пруссов; «король» же, увидев нищего монаха, подозревает его в том, что он просто попрошайка, и предлагает ему богатство, лишь бы тот отказался от своего «суесловия». Монах тогда облачается в епископские одежды. Переодевание лишь усугубляет подозрения язычника и тот велит устроить миссионеру испытание — разжечь два костра, усадив его между ними. Если огонь не причинит Бруно вреда, русь уверует в его Бога. Миссионер в облачении и с кадильницей обошел пламя, затем ступил в огонь, но при этом не опалился ни один его волос. Потрясенные язычники бросились к ногам святого мужа.
Желающих креститься было так много, что миссионеру пришлось погружать целую толпу в близлежащее большое озеро. Сам же король решил оставить все королевство сыну и последовать за Бруно, чтобы слушать его проповеди. Живший с королем его брат не пожелал принять крещение, и король убил его, лишь Бруно покинул двор. Третий же королевский брат разгневался на миссионера и, когда тот явился к нему проповедовать христианство, велел схватить Бруно и обезглавить его. Злодей намеревался убить и брата вместе со свидетелями его обращения. Убийцу немедленно настигла кара — он ослеп, а видевшие преступление окаменели. Так и застал их король: прежде чем творить суд, обращенный решил помолиться Богу. Молитва помогла, и вновь обретшие чувства убийцы обратились к истинной вере. Над телом мученика была воздвигнута церковь.
Житие было составлено под влиянием миссионерских подвигов Войтеха-Адальберта. Расхожие сюжеты агиографических повествований уже знакомы читателю: огонь не опасен святости, врагов святого поражает внезапный недуг и т. п. Вражда двух русских правителей-братьев, один из которых — неофит, а другой — упорствующий язычник, не находит соответствия в летописной истории. Интересны при этом собственно «языческие» мотивы повествования. Очистительная сила огня известна всем народам мира, в том числе языческой Руси: недаром там господствовал обряд трупосожжения — очищения от смерти. Широко был распространен и обычай «очищать» подозрительного чужеземца, пропуская его через огонь. Этого требовали и первые ордынские ханы, когда они принимали явившихся на поклон русских князей. Но более всего история о двух испытательных кострах напоминает текст одной из песен скандинавской дохристианской традиции.
2. Испытание проповедника: Речи Гримнира и языческий катехизис
В знаменитой песни «Речи Гримнира», включенной в сборник мифологических песен «Старшая Эдда», рассказывается, как супружеская пара высших богов — Один и Фригг — покровительствовала двум братьям-конунгам. Фригг очернила перед Одином его любимца Гейррёда, обвинив его в скупости (мотив богатства присутствует и в Житии). Один не может смириться с этим и бьется об заклад с женой, что это — клевета. Он сам берется испытать гостеприимство своего питомца, прикинувшись гостем-незнакомцем.
Тем временем Фригг отправляет свою служанку Фуллу предупредить Гейррёда, что к нему явится злой колдун, и распознать его можно по тому, что собаки не станут нападать на него. Конунг был радушен и гостеприимен, но колдуна, явившегося к нему в синем плаще (мотив убогого убранства), Гейррёд велел схватить. Когда же тот назвался колдовским именем Гримнир — «Скрывающийся под маской» — и не пожелал о себе рассказывать более, конунг приказал пытать его, посадив между двух костров — подвергнув очистительной силе огня — и не давая пищи и питья. Так Гримнир провел восемь ночей, а Гейррёд поневоле подтвердил обвинение Фригг.
У конунга был юный сын, которого Гейррёд назвал Агнаром в честь брата. Мальчик дал Гримниру напиться из полного рога и сказал, что отец поступает плохо, ибо пытает невинного — уже плащ гостя стал тлеть от огня.
Тогда Гримнир заговорил, предрекая счастье Агнару за глоток влаги — он будет властителем воинов. Далее скрывающийся под колдовским плащом бог начинает повествовать об открывающемся ему видении — он видит священную землю богов-асов и духов-альвов и чертоги богов, собственную Вальхаллу и мировое дерево Иггдрасиль со всеми их обитателями, колесницу Солнца, которую тащат усталые кони, Имира, из тела которого создан мир, все лучшее, что есть в мире богов — воспроизводит языческий «катехизис».
Среди сокровенных знаний, которыми владеет только Отец всех богов, Один называет число асов и альвов, а также прозванья богов, описывает свой рай — Вальхаллу и грядущий конец света. Этот «катехизис» воспроизводил старик-нищий на пиру у Гейррёда, и слышать его мог только пожалевший измученного старика юноша Агнар. Удачлив тот, кто моясет разобрать эти вещие слова, и обречен тот, кто не смог распознать Одина.
Для христианского жития огонь костра — не средство достижения шаманского транса, к которому был склонен Один, а способ продемонстрировать чудо истинной веры.
В деяниях трех Святославичей нет ничего христианского: они ведут себя как все раннесредневековые правители, которые забывали о братской любви, когда речь шла о дележе владений. А. В. Назаренко видит в брате короля, который живет в отдалении, Владимира, сидящего в далеком Новгороде. Тогда ближний брат — Олег, сидящий в древлянском правобережье Днепра и убитый Ярополком во время распри. Летописец, однако, рассказывает и о могилах Ярополка и Олега, как он рассказывает о курганах языческих князей. Правда, в то время князей уже не сжигали, ни на Руси, ни на севере Европы: под курганом устраивают просторные покои (погребальную камеру) с многочисленным инвентарем: нам известно об этом, потому что в 1044 г., по летописи, Ярослав Мудрый велел раскопать кости своих предков и окрестить их. Значит, князья Ярополк и Олег Святославичи не были христианами. Зато рассказ о крещении толпы язычников в озере напоминает летописное повествование о крещении киевлян в Днепре в 988 г.; очевидно, сюжет Жития Ромуальда сложился уже после крещения Руси при Владимире.
Голубинский справедливо усматривал в этом и подобных ему сюжетах отражение знакомого нам соперничества между латинской и греческой церквами: «латыняне» претендовали на первенство в обращении Руси, связывая его с известными и бывавшими на Руси миссионерами — Бруно или Олавом Трюггвасоном (о котором речь пойдет ниже).
3. Язычник или христианин?
Тем не менее в историографии интенсивно обсуждается проблема крещения Ярополка, его христианского имени и т. п. Основанием для этого служит информация, содержащаяся в поздней Никоновской летописи, составленной в XVI в., когда летописцы стремились дополнить древнее летописание на основании известных им средневековых хроник. Иногда сведения о событиях, происходивших в княжение, скупо освещенное древними летописями, составлялись по аналогии с деяними князей, описанными более подробно. Так, о княжении Ярополка под 979 г. говорится, что к нему пришли послы от греческого царя «и яшася ему по дань, якоже и отцу его и деду его». В то же лето, говорится дальше, к Ярополку пришли послы из Рима от папы. Ни об этих посольствах, ни о крещении Ярополка не говорится в других источниках. Правда, в генеалогии швабского рода Вельфов сохранилось смутное предание о браке дочери графа Куно и некоего «короля ругов» — Руси. Куно был свойственником Оттона I и Оттона И, современника Ярополка: если считать, что его дочь вышла за Ярополка и в связи с этим прибыло посольство из Рима, то естественно полагать, что русский князь принял крещение (по римскому обряду) и христианское имя (Петр, как полагает в недавней работе Назаренко). Тогда в геополитическом раскладе 970-х гг. киевский князь оказывался естественным союзником императора Оттона, его же новгородский соперник Владимир должен был тяготеть к союзу с противником Германской империи, Чехией: это тем более правдоподобно, если учесть, что среди жен Владимира, перечисленных «Повестью временных лет», упоминается чешка. Но если состоялся «дипломатический» брак между союзными династиями, то и Владимир должен был принять крещение лет за 15 до крещения Руси (иначе за него не отдали бы «чехиню»). Это заставило бы переписывать всю летописную историю русского христианства.
Еще более сомнительный источник, чем Никоновская летопись, представляет собой «История Российская» Татищева. Там историк, основывающийся на упомянутой Иоакимовской летописи, утверждает даже, что Ярополк «нелюбим есть у людей, зане христианом даде волю велику». Официозный историограф стремился продемонстрировать легитимность захвата Владимиром княжеского стола у брата, не любимого народом. Теми же словами он описывает вокняжение Владимира Мономаха в 1113 г., только его предшественник киевский князь СвятопоЛк якобы дал волю уже не христианам, а евреям[12]…
Иоакимовская летопись вообще опускает описание языческого периода в деятельности Владимира, рассказывая лишь о крещении Руси и Новгорода.
Но Владимира до знаменитой женитьбы на царевне Анне нельзя было заподозрить в заключении христианского брака. Летописец сетовал, что князь был одержим похотью и держал множество жен и наложниц в подвластных ему городах и селах — их число было равно числу наложниц библейского Соломона. Среди них были болгарыня и даже греческая монахиня, которую привел с Балкан Святослав и сделал наложницей Ярополк: от нее родится зачатый Ярополком Святополк Окаянный (греховный сын двух отцов). Гарем Владимира напоминает о рассказе о правителе Руси, переданном Ибн Фадланом:
«Русский князь не имеет никакого другого дела, кроме как сочетаться с девушками, пить и предаваться развлечениям. У него есть заместитель, который командует войсками, нападает на врагов и замещает его у его подданных».
Здесь же арабский дипломат описывает и быт хакана, или «большого хакана» хазар, который является на глаза подданным лишь раз в четыре месяца и обитает со своими женами и наложницами во дворце, доступ в который открыт лишь для его заместителя, именуемого хакан-бех. Очевидно, языческие русские правители подражали быту восточного владыки (поскольку они претендовали на его власть) и брали в наложницы женщин покоренных ими народов.
Владимир Святославич присоединяет к своему гарему полоцкую Рогнеду и наложниц убитого брата Ярополка. Добившись единовластия в Русской земле, князь приступает к ее внутреннему обустройству. Первой задачей, согласно летописи, оказывается поиск религии, которая могла бы объединить разноплеменные земли. В 980 г. князь учреждает в Киеве языческий пантеон из шести разноплеменных богов.
Глава 8 Что такое язычество
Язычеством древнерусские книжники называли верования разных племен — «языков», не знавших библейского учения о едином Боге. Другое древнее название язычников — «поганые». Князь Владимир установил в Киеве деревянные статуи многих богов: Перуна с золотым усом и серебряной головой, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла (Семаргла) и Мокошь. Для христианского летописца они, конечно, не были богами — это были лишь деревянные идолы, в которые могли вселиться бесы. Поэтому летописец ничего не рассказывает об этих богах, а русские книжники не пересказывают языческих мифов: для них все это — бесовщина.
1. Ибн Фадлан об обычаях Руси
Поэтому о древнерусском язычестве мы можем судить по преимуществу по свидетельствам иностранных авторов (хотя и те любили сравнивать обычаи руси с обычаями других язычников — вспомним отождествление росов и тавроскифов). Арабский путешественник, отправившийся в Восточную Европу — на Волгу — с посольством самого багдадского халифа, чтобы обратить в ислам волжских болгар, Ахмед Ибн Фадлан встретил недалеко от столичного города Болгара людей, прибывших по торговым делам и зовущихся русами. Он с изумлением описал поразившие его языческие и варварские обычаи.
Его изумление вызывали не только религиозные обряды, но и быт этих русов. Он видел, как целой дружине молодцов сопровождавшая их девица подносила одну лохань, и те по очереди умывались и вычесывали туда волосы, не меняя воды. «Воистину, они — грязнейшие из тварей Аллаха!» — восклицал обязанный блюсти чистоту мусульманин.
Рассуждения о чистых и нечистых народах (поганых) народах свойственны средневековым авторам. Иноверцы кажутся нечистыми, и русский летописец упрекает в «нечистоте» как раз мусульман.
Конечно, для жителя Багдада, унаследовавшего древнюю традицию использования бань с паровым отоплением, это казалось дикостью. Но современные этнографы отмечают, что этот обычай — умываться «снизу» — из таза — не свойствен народам Восточной Европы, в том числе славянам — они использовали рукомойник, но присущ народам Европы Северной. Мы уже говорили о том, что русью (русами) называли себя на Востоке норманны-викинги, «гребцы», плававшие там по рекам. На своих ладьях русы приплыли и в Болгар, чтобы торговать.
Чтобы заручиться помощью в торговле, русы стали приносить жертвы — поначалу мелкие приношения: хлеб, мясо, лук, молоко и некий алкогольный напиток, который араб называл набизом, но мы можем догадаться, что это было любимое скандинавами пиво. Все это, пишет Ибн Фадлан, купец подносит к длинному воткнутому в землю бревну, увенчанному подобием человеческого лица; вокруг длинного бревна воткнуты более мелкие изображения — и таких групп несколько на капище. Эти идолы русы именуют своими господами, окружающие их болванчики — их детьми и женами. Перед главным кумиром купец отчитывается в том, зачем он прибыл и сколько товара — рабынь и мехов — привез с собой, и просит послать ему богатого купца с динарами, который был бы сговорчивым при торговле.
Если наступает затруднение в торговле, русы второй и третий раз делают подношения идолам, если не помогает и это — отправляются на поклон к их «женам и детям», чтобы те повлияли на богов. Так они и переходят от одного божка к другому, униженно кланяясь и прося их о содействии. Когда же выгодная сделка удается, рус считает необходимым отблагодарить «господина». Он закалывает овец и коров, часть мяса раздает участникам жертвоприношения, остальное кладет между «господином» и его «детьми», головы же принесенных в жертву животных вешает на специальные столбы, высящиеся позади капища.
И вот ночью, рассказывает араб, приходят собаки и съедают все это. Жертвователь же наутро бывает доволен — ведь «господин» принял его жертву, съев мясо.
Это открытое капище с семьями идолов не похоже на тот храм, что стоял в Упсале — древней столице шведов, хотя мы знаем из песен Эдды, что у скандинавских богов были жены и дети. Но может быть, святилище, описанное Ибн Фадланом, и не принадлежало самим русам — ведь они прибыли в чужую страну, подвластную чужим богам, от которых и зависела удача. Скандинавы стремились заручиться поддержкой чужих богов настолько, насколько это позволяла этика викингов. В исландской «Книге о взятии земли» рассказывается о том, что первые поселенцы снимали со штевней своих ладей устрашающие головы драконов, чтобы не испугать духов-хранителей новой земли. Дружинники первых русских князей — Олега и Игоря, заключая мирные договоры с греками, клялись по своим обычаям — на оружии и кольцах — но именами славянских богов Перуна и Волоса: ведь они пришли из славянских земель.
Ибн Фадлан не назвал нам имен тех идолов, которых молили об удаче в торговле русы. Он описал их мирные жертвы — не те, что приносились во время военных походов, когда пленники посвящались Одину, и викинги не оставляли вокруг себя ничего живого — ни человека, ни скота. Ибн Фадлан, привычный к скромному и быстрому ритуалу погребения, принятому у мусульман, с изумлением описывал те многодневные действа, которые исполняли русы, прежде чем разжечь погребальный костер. Ибн Фадлану довелось побывать на похоронах русского вождя, и он видел, как сначала все его имущество делится на трети, и одна из них идет его семье, другая — на шитье дорогих погребальных одеяний, третья же — на приготовление алкогольного напитка, набиза, как он его назвал. Этот набиз русы пьют, не переставая, десять дней до похорон, так что иные из них сами умирают от перепоя прямо с кубком в руке. Пьянство на поминках долго оставалось, несмотря на обличения церковников, обычаем на Руси.
После смерти вождя, рассказывает ученый араб, его семья обращается к его девушкам и отрокам с роковым вопросом: кто из них хочет умереть вместе с господином? И когда находится тот, который скажет «да», ему нельзя уже передумать: за будущей жертвой неотступно следуют специально приставленные стражи, и ей остается только наряжаться, пить и ублажать себя вместе со всеми, кто принимает участие в погребальном пире.
Чаще всего за своим господином следуют девушки, и это не случайно. Красивые девушки, на которых заглядывались арабские купцы, сопровождали дружины русов: они не только прислуживали своим господам во время их трапез, были их наложницами, но прежде всего — товаром, который ценился во много раз дороже, чем ворохи мехов, которые привозили русы на восточные рынки. Участь рабыни на Востоке, конечно, не была страшнее смерти, но ведь русские девушки были язычницами и верили, что окажутся после смерти в «раю» вместе со своим господином — недаром избранная жертва пила и веселилась, радуясь будущему.
Но вот наступил день похорон, и корабль умершего вытащили на берег, поместив на специальный деревянный помост. Покойник же находился тем временем в вырытой в земле могиле, с ним были набиз, какие-то плоды и лютня — думали, что он должен веселиться вместе со своими сородичами.
Затем на корабле был устроен шалаш, убранный кумачовыми тканями, туда же принесена скамья, покрытая стегаными матрацами и подушками из византийской парчи. Всем этим убранством и шитьем одеяний руководила старуха-богатырка, мрачная и здоровенная: она должна была убить девушку, согласную отправиться за хозяином на тот свет — недаром ее именовали «ангел смерти» (умершего должна была сопровождать на тот свет дворовая девушка — джария, или отрок-гулям). Конечно, «ангел смерти» — это арабская интерпретация прозвания старухи, но мы узнаем, на кого из персонажей скандинавской мифологии она походит более всего: это великанша Хель, воплощение смерти.
Настал черед доставать умершего из временной могилы, и араб увидел, как почернел труп от холода той страны. Покойного обрядили в парчовые одежды с золотыми застежками, соболью шапку и поместили в шалаш, подперев парчовыми подушками. Ему опять принесли набиз, и фрукты, и ароматические растения, а с ними — хлеб, мясо и лук: умерший продолжал пировать, как и живые.
Настал черед жертвоприношений, и первой принесли собаку, рассекли ее пополам и бросили в корабль. Потом принесли оружие умершего и положили рядом с ним. Затем привели двух лошадей и принялись гонять их вокруг ладьи: конские состязания устраивались и во время календарных действ, но конь и собака — обычные проводники на тот свет у многих народов. Поэтому и коней убили у погребальной ладьи, а мясо их бросили внутрь корабля. Затем настала очередь двух коров, а также курицы и петуха.
Тогда к погребальному кораблю собираются все родственники умершего. Поставив вокруг свои шалаши, они играют на сазах — лютнях. Девушка же, что согласилась быть убитой, в роскошном уборе ходит из шалаша в шалаш и там занимается любовью с родственниками покойного. При этом каждый из родичей просит ее передать своему господину, что он совершил это из любви к нему.
Затем вновь убивают собаку и отрубают голову петуху, бросая ее по одну сторону корабля, а тушку — по другую. Приносимые у корабля руса жертвы должны были достичь того света и там ожить (недаром петухов, как мы знаем, приносили в жертву на водных магистралях — реках).
Но вот в пятницу, в день похорон, когда солнце стало клониться к закату, девушку подводят к подобию ворот и русы трижды поднимают ее к этим воротам, чтобы она заглянула сквозь них, и та говорит что-то на своем языке. Любопытный араб спросил у переводчика, что она сказала, и узнал, что девушке открылись видения иного мира. Первый раз она увидела своих отца и мать, второй — всех умерших родственников, наконец — своего господина. Он сидел в прекрасном саду, и с ним были его мужи и отроки — старшая и младшая дружина, он звал к себе девушку, и та велела вести ее к нему. Она взяла курицу и также отрезала ей голову, швырнув за «ворота».
Мы знаем из скандинавских мифов, что за ворота вели в загробный мир: они назывались Вальгринд, и за ними была Вальхалла. Там и сидел со своей дружиной умерший рус, а вечнозеленое мировое древо Иггдрасиль, с которого текли медвяные потоки, могло и у араба вызвать ассоциации с райским садом. Вообще мусульманский рай был в чем-то близок чертогу Одина: это тоже был воинский рай — в нем наслаждались в первую очередь праведники, павшие за веру Аллаха, и их услаждали вечно юные гурии, подобные валькириям Отца павших.
Но вот настало время отправляться к хозяину, и сопровождавшие девушку дочери «ангела смерти» повели ее на корабль. Та отдала два браслета страшной старухе, а два ножных кольца — своим спутницам. Русы подставили свои ладони, чтобы девушка взошла на погребальную ладью. Туда же пришли русские мужи со щитами и палками и подали девушке кубок с набизом. Та запела над кубком и выпила его, а переводчик сказал Ибн Фадлану, что она прощается со своими подругами. Ей поднесли другой кубок, и она долго пела песню, чтобы оттянуть время, старуха же торопила ее войти в шалаш к своему господину.
Наконец старуха втолкнула девушку в палатку, и за ней последовали шесть родичей покойного. Там, прямо перед трупом, повествует изумленный араб, они осуществили свои права любви, а затем уложили девушку рядом с господином, держа ее за руки и за ноги. Тогда настал черед ангела смерти, и она затянула веревку на шее несчастной, велев двум мужам взять ее концы, сама же стала ей вонзать кинжал меж ребер. Тем временем другие мужи били палками о щиты, чтобы не слышно было предсмертных стонов и другие девушки не боялись стремиться за своими господами.
Приближался конец церемонии, и ближайший родственник умершего, раздевшись донага и пятясь задом к кораблю, зажег факелом все погребальное сооружение: обряд был связан со стремлением обмануть мертвеца — он не должен был видеть лица того, кто поджег костер, и не должен был найти дороги к живым — ведь следы вели только от костра. Затем появились люди с вязанками дров, которые принялись разжигать костер, и все запылало — корабль, и умерший рус, и принесенная в жертву девушка. Тут налетел ветер, раздувший пламя, и соседний рус сказал переводчику пытливого араба:
«Вы, арабы, глупы, ибо берете самого любимого вами человека, и оставляете его в прахе, так что едят его насекомые и черви. Мы же сжигаем его, так что он немедленно входит в рай».
И в подтверждение этого радостного события он рассмеялся «чрезмерным» смехом. Действительно, не прошло и часа, как все обратилось в золу и мельчайший пепел. И на месте этого кострища русы насыпали курган, а на вершине его установили деревянный столб, на котором написали имя умершего и имя царя русов[13].
Нас не удивляет «чрезмерный» смех, которым сопровождал участник похорон завершение ритуала. Этот смех в эпоху викингов означал не только достижение умершим рая, но и презрение к смерти. Легендарный датский викинг Рагнар Лодброк, согласно «Речам Краки» — погребальной песни «Ворона», перед смертью на поле боя уже видит носящихся над битвой духов дис — валькирий, посланных Одином: весело уходит он пить мед с богами-асами на почетном сиденье и смехом встречает смерть!
Непривычней для нас то, что пьяное веселье на похоронах перерастает в настоящую оргию, когда девушка вступает в любовную связь со всеми родичами умершего, которые, оказывается, таким образом намерены почтить покойного. Но таков весь образ жизни дружин русов: тот же Ибн Фадлан с не меньшим изумлением рассказывает, что даже во время торговли рабынями русы не воздерживаются от любовных утех — прямо на глазах купцов. «Девушки», сопровождавшие дружины руси не только в торговых, но и военных предприятиях, были настоящими «валькириями» — ведь они следовали за избранными ими хозяевами и на тот свет, в Вальхаллу, или к богине плодородия Фрейе, делившей с Одином воинов и девушек, умерших до замужества. Должно быть, сам мифологический образ валькирий, воительниц Одина, призванных выбирать на поле боя павших героев для его загробной дружины, восходит к этим девам, скрашивавшим своей любовью воинский быт дружин германцев.
Действительно, воплощением княжеского воинского культа в середине X в. и в эпоху Святослава стали т. н. большие курганы, известные в Гнёздове под Смоленском, в Чернигове и других центрах, подвластных русским князьям (в Киеве княжеские курганы были снивелированы в процессе роста города и при перезахоронении княжеских останков). Скандинавский по происхождению обряд сожжения в ладье с многочисленными (в том числе человеческими) жертвами, ритуальной пиршественной посудой, оружием воссоздавал обстановку «воинского рая» наподобие Вальхаллы.
2. Черная могила
Самый большой древнерусский княжеский курган в Чернигове находился за валами окольного города, именовался Черная могила. Раскопан Д. Я. Самоквасовым (1872–1873). Высота около 11 м, диаметр основания около 40 м, окружность 125 м, ширина рва, окружавшего насыпь, 7 м. На первоначальной песчаной подсыпке (высота 1–1,5 м, диаметр 10–15 м) при разборке инвентаря, снятого с обширного кострища, были обнаружены ладейные заклепки, что позволяет предполагать сожжение в ладье, помещенной на гигантский погребальный костер. Судя по расположению вещей, на кострище было три покойника: взрослый воин, женщина (по правую руку от него) и юноша-воин (между ними), положенные головой на запад. На кострище по левую руку от старшего воина обнаружена груда оружия, в том числе два меча второй половины X в.
В процессе реставраций сплавившейся массы железных вещей выявлены обломки еще не менее трех мечей. Здесь же найдены сабля, копье (всего на кострище обнаружено десять наконечников копий), обрывки кольчуги (всего найдено три кольчуги с декоративными каймами из медных колец в плетении), остатки деревянного щита с бронзовой обшивкой, прикрепленной железными заклепками. У ног воина были положены два взнузданных коня: найдены кости коней, кольца от удил, две пары стремян округлой формы. Обнаружены два сфероконических шлема. К предметам вооружения относятся боевой топор, стрелы, вероятно, лежавшие в колчане (двенадцать наконечников), от которого сохранились железные накладки, скандинавские однолезвийные боевые ножи-скрамасаксы (их также два, поэтому можно предполагать, что в погребальной ладье были сожжены два воина или князь со своим дружинником-отроком).
В восточной части кострища в ногах покойников находились железный сосуд с пережженными костями, шкурой и головой барана (или козла), бронзовая жаровня с углем, бронзовый сосуд с бараньими астрагалами для игры в бабки (свыше ста бабок и бронзовая «битка» к ним — принадлежность «отрока»?); западную часть кострища занимали железные оковки-обручи и дужки от деревянных ведер (около двенадцати ведер). К орудиям труда относятся скобель (в груде оружия), долота; у ног женщины лежало десять серпов, здесь же были кости быка или коровы, зерна злаков. Находки замка и ключей у предполагаемого входа в домовину, возможно, связаны с языческим ритуалом «замыкания» покойника на месте погребения, Из женских вещей сохранились височные кольца, обломки костяных гребней, глиняное пряслице, бронзовая и костяная проколки, два глиняных горшка. На кострище найдены также пять ножей, в том числе с костяными рукоятками; оселки; поясные кольца и бронзовые наконечники пояса; игральные кости; полусферические костяные фигурки для игры; бронзовая весовая гирька. Золотая византийская монета из кострища (945–959) позволяет отнести сооружение кургана к 960-м годам.
После совершения трупосожжения с кострища извлекли оба шлема, кольчуги с прикипевшими к ним костями, два скрамасакса. Затем возвели насыпь высотой ок. 7 м, на вершине которой сложили останки покойников вместе с доспехами, снятыми с кострища. К ним присоединили два рога-ритона с серебряными оковками, бронзовую статуэтку скандинавского сидячего божка, железный котел, наполненный пережженными бараньими и птичьими костями, поверх которых лежал череп барана — остатки поминального пира (сходный обряд известен в больших скандинавских курганах Гнёздова и в соседнем кургане Гульбище). Серебряные оковки турьих рогов (вокруг устья) украшены в технике чеканки, гравировки, позолоты и черни. На оковке одного из них растительный орнамент «венгерского стиля», на другом — тератологические мотивы и изображение двух лучников. Вслед за совершением тризны курганную насыпь досыпали до высоты 11 м. Устройство этого кургана напоминает похороны, описанные Ибн Фадланом, возможно, и на его вершине был столб с именем неизвестного русского князя. Видимо, этого князя на тот свет, помимо животных жертв, сопровождали не только девушка, но и «отрок», младший дружинник. Котел с костями жертвенного козла или барана, которые были завернуты в сохраненную шкуру, — символ воскресающего зверя, неизбывного источника пищи; такой котел, по описаниям скандинавской Эдды, был в Вальхалле. Там же размещался трофей — доспехи с оружием. Обстановка древнерусского погребения напоминала устройство воинского рая.
3. Пантеон Владимира. Киевское капище
Но вернемся к пантеону, установленному в Киеве Владимиром. Варяги давно уже клялись славянскими богами, и скандинавских богов не было в этом пантеоне. Ученые, занимающиеся славянским языкознанием, смогли разгадать значение основных имен богов Владимирова пантеона. Имя главного бога — Перуна, которым клялись еще дружинники Олега, означает «гром». Громовержец был главой пантеона у многих народов. Имя следующего божества, Хорс, — неславянское: близкие слова известны в иранских языках — им родственно русское слово «хороший». Дажьбог — это божество, дающее благо; в другом месте «Повести временных лет» Дажьбог назван богом солнца. Стрибог — бог, распределяющий богатство и участь; в «Слове о полку Игореве» ветры названы Стрибожьими внуками: правда, там они веют стрелами, но и стрелы в традиционных верованиях могут воплощать болезнь — поветрие. Симаргл (Семаргл) также признается существом, имеющим иранское происхождение: его имя напоминает имя Сэнмурва или Симурга, фантастического четвероногого существа с птичьими крыльями, иранского вестника богов. Единственной богиней Владимирова пантеона является Мокошъ. Ее имя родственно словам, означающим влагу («мокрый»). Это не случайно: Мокошь была богиней плодородия, плодоносящей земли, которая в русской народной традиции именовалась мать сыра земля.
Пантеон Владимира отражал языческие представления о космосе: его возглавлял небесный воин — громовник, далее следовали солнечные божества, следующим был «атмосферный» бог ветров, ниже всех располагалась богиня — воплощение земли, и посредником между всеми сферами языческого мироздания был химерический Семаргл.
Но в пантеоне Владимира не оказалось бога Волоса, который в договорах с греками именовался «скотьим богом» — богом скота и богатства. Его культ был распространен на Севере, в словенском Новгороде, но в Новгород Владимир отправил Добрыню, чтобы тот установил там идол Перуна. Это значит, что князь, желавший объединить в общем пантеоне божества всех племен — «языков», населявших Русскую землю, даже подвластных ей ираноязычных степняков — аланов, хотел заменить племенной культ новгородцев, привыкших самостоятельно призывать к себе князей, киевским княжеским культом Перуна. Это стремление было безнадежным: для каждого племени при племенном строе его бог оставался главным. Деревянные идолы славянских богов, как и их святилища, не сохранились — они были уничтожены при христианизации: на месте киевского капища князем Владимиром была построена церковь Св. Василия.
Открытие в 1975 г. в черте «города Владимира» «загадочного сооружения» — фрагментов кладки из плинфы, кирпича, использовавшегося для церковного строительства в домонгольскую эпоху, рва с шестью (или пятью) выступами-лепестками и ямы с прослойками золы и костями крупного рогатого скота — позволили интерпретировать сооружение как остатки капища Владимирова пантеона. Его напластования прорезывает могила конца X в., в заполнении — строительный мусор, свидетельствующий о том, что неподалеку строилась (или была разрушена) церковь. Значит, археологами могло быть открыто само капище Владимира, где тот поставил кумиры шести богов, главному из которых — Перуну — приносили в жертву быков, как свидетельствовал еще в VI в. Прокопий Кесарийский[14] такой обычай почитания громовержца существовал еще в праславянский период. Капище было уничтожено при крещении, на его месте или рядом построена церковь. Правда, выступов рва могло быть и пять, но и среди богов Владимира оказывался Семаргл, в интерпретации Рыбакова — химерическое существо, собака-птица, не заслуживавшая кумира.
Л. С. Клейн, которому принадлежит последний критический анализ археологических памятников славянского язычества, с полным основанием предположил, что все заполнение рва в «капище Владимира» может относиться к строительному мусору[15]. Недавно была уточнена датировка «жертвенника» — обнаруженные при его исследовании гончарная керамика и стеклянные браслеты относятся к XI–XIII вв., к христианской эпохе, в заполнении «столпа», также обнаружены материалы Х — ХII вв. Несмотря на это, последний интерпретатор комплекса Орлов настаивает на его «языческом» характере: следы огня, обнаруженные при раскопках «жертвенника», должны свидетельствовать о культе Дажьбога или Хорса; это культ должен был сохраняться даже после крещения Руси в княжеской среде, в непосредственной близости от дворца и Десятинной церкви, возле которой Владимир поместил (по летописи) также «языческую» квадригу, трофей, привезенный из Корсуня; все это объясняется характерным для Руси «двоеверием», постулируемым древнерусскими христианскими книжниками в поучениях против язычества.
4. Збручский идол
Каменная статуя славянского божества была найдена в середине XIX в. в реке Збруч, притоке Днестра. Четырехгранный столб из серого известняка высотой 2,67 м увенчан изображением четырехликого и четырехтелого божества под одной шапкой. На одной стороне женский персонаж держит в руке кольцо, на другой — питьевой рог, на третьей — мужской персонаж с саблей у пояса (оружие, не характерное для древних славян) и изображение коня, на четвертой божество лишено специальных символов. Средний фриз изображает хоровод из двух женских и двух мужских фигур, держащихся за руки; нижний фриз несет изображения трех фигур, поддерживающих руками верхние ярусы; к свободной от изображений стороне нижнего фриза мог примыкать жертвенник. Идол олицетворял славянский пантеон — высших мужских и женских богов верхнего — небесного мира, духов и людей среднего, земного, мира, поддерживающих землю существ преисподней.
Збручский идол
5. Судьба Владимирова пантеона
Но все-таки, почему в летописном пантеоне, возглавляемом Перуном, не было «скотьего бога» Волоса? Эту недостачу стремились восполнить другие (более поздние) средневековые авторы. Шахматов считал сведения проложного (Пролог — сборник кратких житий) Жития князя Владимира о низвержении идола Волоса в Почайну, где затем были крещены все киевляне, достойными доверия (известны позднейшие легенды о Волосовом капище на Оболони — месте выпаса скота, где в христианские времена была поставлена церковь Власия), а историк язычества Аничков, в свою очередь, предположил, что идол Волоса стоял на Подоле, а не на холме (Горе) с прочими богами, и поэтому не попал в их летописный список. В Житии Волос, сброшенный во время крещения киевлян прямо в Почайну, опять-таки противопоставляется Перуну, которого велено было с особыми ритуалами «транспортировать» за пороги (об этом пойдет речь дальше).
В языческом культе Древней Руси громовержец Перун оказывался богом княжеской дружины — руси, а Волос — покровителем «близкого к земле» рядового населения, а возможно, в еще более узком смысле — племенным богом словен новгородских: следы его культа, сниженного в фольклоре до демонического уровня, характерны для севера восточнославянской территории. Вероятно, поэтому стремящийся к единовластию Владимир, утвердившийся в Киеве при поддержке тех же словен, посылает своего дядьку Добрыню в Новгород, где тот ставит одного кумира над Волховом — идол Перуна. Княжеский культ, казалось бы, торжествует над племенным, но торжество это не могло быть полным — ведь «скотий бог» Волос с его специальными функциями не мог быть вытеснен громовником Перуном.
В русском фольклоре «волос» — демон болезни. Лишь происхождение его имени может напоминать о связи со скотом и скотьим богом: чаще всего считают, это червь, происходящий из конского волоса. Легко проникая в тело, этот тонкий червь возбуждает болезнь. Иногда демона еще могут именовать «волосатик-бог», но чаще он ассоциируется с косматой нечистью, населяющей леса (леший) и реки (водяной).
Учрежденный Владимиром в Киеве пантеон едва ли мог представлять собой действенное средоточие религиозного культа, собрание богов с дифференцированными функциями. Действительно, судя по лингвистическим реконструкциям, основанным на значении теонимов, функции божеств этого синкретического пантеона дублировались и пересекались — Хоре и Дажьбог воплощали солнце, Дажьбог и Стрибог давали и «простирали» благо (бог — праславянское заимствование из иранского языка со значением «доля, благо» — ср. богатство, убожество). Симаргл, если сопоставлять его с Сэнмурвом, вообще «выпадал» из высшего «божественного» уровня, будучи химерическим существом, собакой с птичьими крыльями, вестником богов, но не персонажем одного с ними ранга. Показательно вместе с тем, что Симаргл замыкает список мужских «божеств» — далее следует единственный женский персонаж пантеона, Мокошь, чье имя определенно связано с представлениями о плодородной влаге, матери сырой земле; таким образом, находит себе объяснение и место «посредника» Симаргла между небесными богами и богиней земли. Летописный список богов, очевидно, не был конструкцией древнерусского книжника — летописные списки имен (этнонимов, антропонимов) вообще отличались особой точностью передачи традиции и особой структурой, когда список начинался с главного (обобщающего) персонажа и т. д.
Холм, на котором стояли идолы, окрасился кровью приносимых им жертв, сетует христианин-летописец.
6. Первые мученики — киевские варяги
Несмотря на синкретический характер, пантеон призван был служить средоточием государственного культа, причем в его самых крайних и жестоких проявлениях, свойственных культу варварских государств: успехи этих государств, в первую очередь воинские победы, отмечались кровавыми жертвоприношениями, что должно было происходить и в Киеве. Под 983 г. летопись упоминает победу Владимира над ятвягами в Литве. Князь «иде Киеву и творяше требу кумиром с людми своими» («с бояры о победе» — более определенно говорится в проложном Житии варягов-мучеников, тексте, как считают, более раннем, чем летопись). «И реша старци и бояре: Мечем жребий на отрока и девицу; на него же падет, того зарежем богом». Жребий, видимо, не случайно выпал на «чужого» — сына варяга, вернувшегося на свой киевский двор из Царьграда и тайно исповедовавшего христианство: варяг был чужим уже и в этническом, и в конфессиональном смысле (немецкий хронист Гельмольд рассказывает о ежегодном принесении в жертву богу Свентовиту христианина, на которого укажет жребий, у полабских славян). Варяг, естественно, воспротивился языческому обычаю, но государственная «треба» — жертва — должна была быть сотворена: отец и сын — варяги-христиане — стали первыми русскими мучениками, убитыми язычниками. Летопись помещает двор варяга на том месте, где Владимир, крестившись, воздвигнет Десятинную церковь Богородицы: с точки зрения исторической топографии Киева летописец был неточен — Десятинная церковь была построена на месте раннего киевского некрополя; но с точки зрения канона такая конструкция летописца понятна — первая церковь была заложена на крови мучеников.
Конечно, повествование о мученической смерти варягов-христиан принадлежит раннему агиографу и христианину-летописцу, составлявшему еще Начальный свод 1095 г. (или вообще относится к самым ранним пластам русского летописания — предполагаемому Лихачевым «Сказанию о распространении христианства на Руси»). Слова варяга о Владимировых богах — «не суть то боги, но древо», самый традиционный довод против язычников, — были особенно верны по отношению к синкретическому киевскому пантеону. Такой взгляд был присущ не только киевской христианской общине — разноплеменный пантеон как целое, очевидно, был чужд и славянам-язычникам, ориентированным на культ «своего» племени, и не принимавшим «чужих» богов; это способствовало скорому падению Владимирова пантеона.
На месте двора, где жили варяги, Владимир, согласно летописи, построил Десятинную церковь. Там же, где князь крестил киевлян на Почайне, была поставлена «Турова божница». Тур — имя скандинавского громовержца Тора, сходного с Перуном; вероятно, именем «Туры» звали старшего варяга, христианским именем которого было Феодор, младший был крещен с именем Иоанн.
Во всяком случае, когда через два года Владимир совершил очередной поход уже на болгар-мусульман, князю, по летописи, пришлось не праздновать победу по-язычески, а обратиться к поискам новой веры.
Глава 9 Выбор веры
«Выбор веры» в племенном обществе был невозможен. В отличие от христиан, «язычники» — последователи племенных культов — не сомневались в «реальности» иноплеменных богов, но они были заведомо враждебны, покровительствовали «чужим» народам и землям. Варяги Олега и Игоря могли клясться Перуном, но не в силу «выбора» и не в силу предпочтения его Одину и Тору, а потому, что он был богом той славянской земли, где они жили, и богом славянского войска, которое возглавляла русская княжеская дружина. Выбор веры стал возможен тогда, когда Русская земля «стала есть» — Русское государство обрело свое место в мире раннесредневековой цивилизации, столкнувшись с соседями — христианами и мусульманами.
Сказание о выборе веры князем Владимиром — прениях с болгарами-мусульманами, немцами-латынянами, хазарскими иудеями, помещенное в «Повести временных лет» под 986 г., по-разному и не без противоречий трактуется в историографии. В первую очередь исследователи обращают внимание на то очевидное обстоятельство, что «выбор веры», или, в более широком смысле, диспут о вере — это распространенный средневековый исторический и книжный сюжет с достаточно явными византийскими истоками (обнаруженными еще дореволюционным историком церкви Голубинским) и даже предполагаемым иудейским влиянием (летописный сюжет сопоставляется с «выбором веры» хазарским каганом в еврейско-хазарской переписке — прениями иудея с мусульманами и греками).
В этом отношении более существенной для древнерусской книжности была, конечно, кирилло-мефодиевская традиция, в данном случае — прения о вере Константина-Философа с представителями тех же конфессий: мусульманами-агарянами, иудеями в Хазарии, латинянами в Венеции. Недаром произносящий при дворе Владимира завершающую вероучительную речь грек именуется Философом: еще поздними русскими летописцами XV в. он был отождествлен с самим Константином. Было бы, однако, поспешным сводить сам летописный сюжет «выбора веры» только к византийскому, древнеславянскому или хазарскому литературному влиянию.
1. Посольства представителей различных религий
Дело в том, что сам сюжет вводится летописцем в реальный исторический контекст. Под 985 г. рассказывается о походе Владимира с Добрыней на волжских болгар. Поход рисуется победным, Владимир заключает мир с болгарами и возвращается в Киев. И здесь вместо положенных жертв по случаю победы описывается приход болгарских послов: «Придоша болъгары веры бохъмиче (Бохмит — Мухаммед. — В.П.), глаголюще, яко: «Ты князь еси мудр и смыслен, не веси закона; но веруй в закон наш и поклонися Бохъмиту». Установление договорных отношений с Болгарией Волжско-Камской имеет свое продолжение: болгарские послы проповедуют ислам (веру Бохмита — Мохаммеда, как обзначил ее летописец на греческий манер). Владимир для них действительно не ведает «закона», ибо закон — это Писание, строго регламентированный религиозный культ: только с «людьми писания» (к каковым относились в исламе иудеи и христиане) возможны были правовые договорные отношения — язычники подлежали обращению в «истинную веру», при сопротивлении их ожидал джихад — священная война.
Вопросы Владимира к болгарским послам об их законе соответствуют контексту летописи: язычник Владимир рисуется «побежденным женской похотью» — помимо многочисленных жен, ему приписываются сотни наложниц (в этом он уподобляется летописцем библейскому Соломону). Князя прельщает картина мусульманского рая с гуриями, но отвращают обрезание, запрет есть свинину и особенно пить вино. Он ссылается на обычай пировать с дружиной: «Руси есть веселие пити…» Ссылка на этот обычай — отнюдь не риторическая фигура: пиры с дружиной действительно были важной чертой государственного быта и формой распределения доходов («корма») — недаром урегулированию конфликтов на пирах посвящены и многие статьи древнейшего письменного законодательства, Русской Правды, а побежденные древляне обязаны были доставлять мед — напитки для тризны по Игорю.
Само посольство болгар соответствует и общеисторическому контексту традиционных внешнеполитических связей Киева в X в.: через Болгар со времен Вещего Олега поступает на Русь (в обход Хазарин) восточное серебро и осуществляются связи с исламским Востоком, среднеазиатской державой Саманидов и Хорезмом. Характерно для летописных прений о вере, что посольство приписывается не неким «абстрактным» агарянам или измаильтянам, но имеет конкретный этноконфессиональный адрес — как и последующие посольства в исследуемом сюжете.
«Потом же, — продолжает летописец, — придоша немцы от Рима, глаголюще: Придохом послании от папежа (папы). И реша ему (Владимиру): Рекл ти тако папежь. Земля твоя яко и земля наша, а вера ваша не яко вера наша. Вера бо наша свет есть. Кланяемся Богу, иже створил небо, и землю, звезды, месяць, и всяко дыханье, а боги ваши — древо суть. Володимер же рече: Кака заповедь ваша? Они же реша: «Пощенье по силе. Аще кто пьеть или ясть, то все в славу Божью, — рече учитель наш Павел». Рече же Володимер немцем: Идите опять, яко отцы наши сего не прияли суть».
Вероятно, что слова «немцы от Рима» отражают ту реальную историческую обстановку, которая сопутствовала времени выбора веры и крещения Руси, когда германские императоры, начиная с Оттона I (962 г.), овладели Римом, подчинили своему влиянию пап (немцы пришли из Рима от папы — «папежа») и вступили в конфликт с Византией: в этом конфликте они стремились заручиться поддержкой Руси. «Папеж» — слово, появившееся с первыми немецкими миссионерами у западных славян в Моравии, и оттуда попало в древнерусский язык. Назаренко усматривает в летописном известии о немцах из Рима отражение сведений о посольстве от Оттона II (которое датирует 982/983 г.) и даже в самом летописном диалоге с немцами видит намек на неудачную миссию Адальберта, присланного епископом на Русь еще при Ольге в 961 г., — недаром Владимир отсылает послов со словами, что «отцы наши сего не прияли суть». Едва ли можно, впрочем, рассматривать летописный сюжет вне греко-латинской, греко-мусульманской и греко-иудейской полемики, которая представлена в последующей речи греческого посла — Философа: Философ упрекает латинян, что они «не исправили веры» — причащаются опресноками, а не хлебом, и не творят причастия вином.
Не вполне ясно из летописного текста, чего именно «не прияли» предки Владимира — «заповеди» в целом или обычаев поста — «пощенья». В недавних комментариях к этому мотиву предполагалось даже, что речь в первоначальном летописном тексте («Древнейшем своде») вообще не шла о посте, а имелось ввиду «потщенье» — посильное усердие в служении Богу, цитата же из Павла была приведена редактором Начального свода, переиначившим исходный смысл фразы. Однако структура самих прений о вере — слов, произносимых послами, — предполагает описание пищевых запретов: они приводятся в речах болгар и иудеев и относятся к числу обязательных объектов полемики с иноверцами в древнерусской литературе. В полемике с латинянами наиболее остро переживались как раз расхождения в области пищевых запретов и поста. Вообще, требование ритуальной чистоты было свойственно начальному русскому христианству, в том числе княжеским церковным уставам — вопрос о сути Божества, равно как о добре и зле, по летописи, не затрагивался в прениях о вере при дворе Владимира. Но, скорее, речь в отповеди князя немцам идет все же о латинском «законе» в целом: летописец, естественно, не мог приписать язычнику Владимиру антилатинские аргументы, употреблявшиеся в «Речи Философа», поэтому вынужден был глухо сослаться на неприятие латинской веры «отцами». Ответные посольства князя к болгарам, немцам и грекам призваны испытать их «закон», и отсутствие «красоты» в богослужении отвращает послов, пришедших «в Немци». Тогда послы идут далее «в Греки» и возвращаются на Русь, пораженные «небесной» красотой греческого богослужения: «не свемы, на небе ли есмы были, ли на земли».
Показательно, что летописный маршрут русского посольства не включает Рим — послы не следуют по пути из варяг в греки, а идут напрямую «в Немцы», а затем в Царьград, в чем также можно усматривать отражение в летописи исторических реалий второй половины X в. — они следуют путем немецких миссионеров. Как уже говорилось, эти реалии погружены в контекст традиционной полемики (доходящей в «Речи Философа» и последующей Корсунской легенде до религиозных наветов в отношении как мусульман, так и латинян), но историческая актуальность самого выбора веры — греческого или латинского обряда, «обретение» веры в Византии или крещение от немецких миссионеров — в начальной истории христианства на Руси и в начале княжения Владимира представляется достаточно очевидной.
Пристального внимания заслуживает и конкретно-историческая характеристика иудейского посольства — «жидове козарьстии»: характерно, что это едва ли не единственный случай в древнерусской (и византийской) литературе, когда говорится об иудаизме хазар. Испытание Владимиром их веры сводится в летописи к риторическому и вместе с тем важному для выбирающего государственную религию князя вопросу: «То где есть земля ваша»? Князь (и летописец) не мог не знать, что земля хазар разгромлена его отцом Святославом. Попытка хазарских иудеев объявить, что земля их — «в Ерусалиме», была немедленно разоблачена, и когда те признали, что за грехи Бог «расточи» их по странам, Владимир обвинил их посольство в злонамеренности: «Еда и нам тоже мыслете прияти?» (мотив злонамеренности иудеев характерен для византийской и древнерусской литературы).
Признание иудеев в том, что «их земля» — Иерусалим — «предана хрестеяном», было воспринято исследователями как свидетельство позднего происхождения всего мотива иудейского посольства: действительно, Иерусалим был захвачен христианами-крестоносцами в результате Первого крестового похода в 1099 г. Это соображение, однако, не может быть принято по двум причинам. Во-первых, прения о вере включены не только в «Повесть временных лет», но и в Новгородскую первую летопись и, стало быть, имелись уже в Начальном своде 1095 г. Во-вторых, город был отвоеван не у иудеев, а у мусульман. Скорее, в летописных прениях о вере речь идет о традиционных «имперских» притязаниях Византии на Святую землю: в «Речи Философа» (равно как и в идейно близком Речи «Слове о Законе и Благодати» Илариона) и говорится о том, что иудейской землей завладели «римляне» — ромеи. Греки Византии продолжали считать себя ромеями — гражданами Римской империи. Значит, в мотиве о хазарских иудеях летопись следует ранней традиции, а не конструкции начала XII в.
Ныне, после открытия письма еврейско-хазарской общины г. Киева, датируемого X в., представляются очевидными местные киевские истоки летописной традиции о посольстве хазарских иудеев. Иногда считаются даже не случайными слова летописца об иудеях, которые заявляют, что сами слышали о приходе болгар и немцев к Владимиру. Это, конечно, свойственный летописным прениям о вере риторический прием, ибо по летописи следом за иудеями является Философ, которого присылают греки, и также говорит о дошедших до них слухах. Правда, Философ «слышал» лишь о немецком и болгарском посольствах — тогда Владимир сообщает ему о посольстве иудеев и в ответ выслушивает «Речь Философа», содержащую антииудейскую полемику. Вопреки распространенному мнению, активность иудеев не могла сравниться с миссионерской деятельностью латинян и мусульман уже потому, что миссионерство не было свойственно иудейской традиции (что верно отмечал еще Татищев), а желающих обратиться в иудаизм необходимо было первым делом предупредить о гонениях, которым подвергается за веру еврейский народ (а не выдавать желаемое за действительное) — мотив рассеяния евреев за грехи присутствует в еврейско-хазарской переписке и других иудейских сочинениях. При этом евреи могли (и даже были обязаны) способствовать распространению т. н. заповедей сыновей Ноя, которым должны были следовать «языки» — потомки библейского праотца (запреты идолопоклонства, богохульства, кровопролития, воровства, прелюбодеяния), но в число этих заповедей не входили собственно иудейские Моисеевы законы, в том числе обрезание и соблюдение субботы. К историческим «реалиям» X в., таким образом, можно относить упоминание в летописи самих «жидов козарьстих», даже их участие в «диспуте» при дворе Владимира, но едва ли их посольство — «миссию».
Речь не идет, конечно, об исторической реальности прений о вере в Киеве накануне крещения Руси (хотя отрицать возможность такого диспута также нет прямых оснований). Можно, однако, утверждать, что «прения о вере» относятся к раннему пласту русской летописной традиции: Лихачев реконструировал «Сказание о начальном христианстве на Руси», и эта реконструкция соотносится с шахматовской гипотезой о Древнейшем своде 1039 г., предшествовавшем «Повести временных лет» и Начальному своду.
В целом историческая информация, содержащаяся в прениях о вере, достаточно достоверно характеризует геополитическую позицию Древней Руси в конце X в., ее положение между Византийской и Германской империями, отношения с Волжской Болгарией и представляемым ею мусульманским Востоком, хазарское наследие и преобладающую ориентацию на Византию. Отношение к различным конфессиям, явленное в летописных речах Владимира, конечно, определялось взглядами летописца и предшествовавших ему русских книжников, основанными на византийских традициях[16].
2. «Запона» с «судищем Господним»
Сюжет Страшного суда. «Речь Философа» — греческого миссионера, явившегося к князю Владимиру, в «Повести временных лет» (под 986 г.) завершается обязательным для катехизации повествованием о грядущем Страшном суде. Однако заключительный акт этой катехизации представлял собой в летописи необычный пример «наглядной агитации»: Философ «показа Володимеру запону, на ней же бе написано судище Господне, показываше ему о десну праведный в весельи предъидуща в рай, а о шююю грешники идуща в муку. Володимер же вздохнув, рече: Добро сим о десную, горе же сим о шююю. Он же Философ рече: Аще хощеши о десную с праведными стати, то крестися. (До сих пор у христиан бытует представление о том, что ангел-хранитель стоит справа — одесную от верующего, черт же скрывается слева: принято плевать на него через левое плечо — ошую.) Володимер же положи на сердци своем, рек: Пожду и еще мало, хотя испытати о всех верах». Князь отпустил Философа с честью, дав ему многие дары. Далее следует мотив испытания вер и свидетельство русских бояр, посетивших Царьград, о том, что при греческом богослужении «Бог с человеки пребываеть»; тогда Владимир решает креститься.
«Наглядная агитация» — демонстрация запоны, как показал Грабар, уходит в далекое и даже нехристианское прошлое: пророк Мани, основатель манихейства, и его последователи демонстрировали картины Страшного суда с торжествующим добром и наказанным злом, изображением престола судии и т. п. Об оснащении византийских миссионеров свидетельствует относительно позднее (VIII в.) Житие Св. Панкратия, согласно которому сам апостол Петр дал миссионерам «весь церковный чин, две книги божественных таинств, два Евангелия, два апостола, которые проповедовал блаженный апостол Павел, два серебряных блюда — дископотира, два креста и украшения церкви, то есть образ Господа нашего Иисуса Христа, (изображения) из Ветхого и Нового Заветов». «Толкуя все притчи, Панкратий объяснял все, находящееся в Евангелии все это он показывал на картинках», в том числе «страсти, крест, погребение, воскресение и все до того времени, когда Он вознесся в небеса с Горы Елеонской»[17].
Собственно иконография Страшного суда, каким он изображен в летописном повествовании, складывалась тогда же, когда и начальное русское летописание — в XI в., но и здесь известны значительно более ранние опыты создания подобных композиций, самый известный из которых — т. н. терракота Барберини начала V в.
Терракота Барберини
В верхней части терракотового диска — благословляющий Иисус на престоле с сидящими апостолами; у подножия престола с правой стороны — таблички с монограммами Христа, воплощающие «книги Жизни»; с левой — кнут и сумы, символы наказания. В нижней части терракоты — маленькие фигурки людей, отделенных от престола некоей решетчатой оградой из двух створок — то, что по-древнерусски можно было бы назвать «запоной» или «споной» (преградой — препоной). По-гречески алтарная преграда и именовалась «решеткой», и в античную эпоху такая решетка действительно отделяла в общественных зданиях — базиликах — помещение для судей. Оно сохранялось в алтарных преградах ранних церквей (базилика IV в. Локриде), что еще раз указывает на связь терракоты Барберини с атрибутами судебного разбирательства. Кроме того, алтарная преграда окаймляла виму (биму), алтарное пространство перед престолом; в греческой традиции слово бима означало не только седалище, кафедру, но и возвышенное место суда (судьи). Очевидно, эта античная традиция воздействовала и на раннюю синагогальную традицию (на биму возводили обвиняемых в ереси), и на манихейскую: специальный праздник Бема был связан с воспоминанием о смерти Мани — для этого воздвигали престол судии, на котором незримо присутствовал Мани. В христианской традиции вима — место, символизирующее грядущее Второе пришествие.
Мотив Небесного судии оказывается центральным и для христианской иконографии — Деисуса, в том числе для алтарной преграды Св. Софии Константинопольской: на завесе алтарного кивория, в описании Павла Силенциария (563 г.), Христос изображен передающим Закон (Завет в сюжете Traditio legis) апостолам, подобно судье, передающему судебное постановление исполнителям в римской правовой процедуре, происходившей в экседре базилики. Летописный текст о выборе веры вводится словами, приписанными послам волжских болгар — мусульман: «Ты князь еси мудр и смыслен, не веси закона». Показательно, что иллюстрировавший Начальную летопись миниатюрист XV в. изобразил не «запону», а икону с Христом, восседающим на престоле с книгой в левой руке.
В тексте Начальной летописи «запона» — это не икона, а завеса. Исследователи истории алтарной преграды отмечают, что в XI в. в византийских храмах распространяется монастырский обычай завешивать алтарную часть сплошной завесой, причем задергивание завесы (катапетасмы), по интерпретации одного из византийских канонистов (Николая Андидского), соотносится с приведением Христа на ночной суд Синедриона, раздвинутая завеса означает утреннее приведение Иисуса на суд Пилата.
И здесь, однако, известны более ранние примеры (помимо приведенного в описании Павла Силенциария) использования златотканых завес, предназначенных для украшения алтарной преграды, в том числе представлявших собой тканые иконы с изображениями Страстей и Воскресения (Сошествия во ад): они упоминаются в латинском источнике IX в., недавно использованном Лидовым. Исследователь предположил, что подобные вышитые иконы в алтарной преграде были широко распространены и в восточнославянском мире[18]. Правда, источники не сообщают о сюжете Страшного суда в связи с ткаными завесами, но шитые иконы Страстей и особенно Сошествия во ад вплотную подводят и к этому сюжету.
Давно указанной ближайшей параллелью летописному рассказу остается византийская хроника — «Продолжатель Феофана», относящаяся к середине X в., повествующая о крещении болгарского князя Бориса, которое имело место в 864 г. Как и Владимир, воспитывавшийся христианкой Ольгой, Борис успел познать некоторые основы христианского вероучения благодаря усилиям его благочестивой сестры, вернувшейся из византийского плена, однако закоснел в язычестве. Будучи страстным охотником, князь заказал в одном из своих домов «картину», чтобы она услаждала его глаз. Борис заказал ее византийскому монаху-художнику по имени Мефодий, причем велел Мефодию «писать не битву, мужей, не убийство зверей и животных, а что сам захочет, с условием только, что эта картина должна вызывать страх и ввергать зрителей в изумление». Ничто не внушает такого страха в переживаемый канун второго тысячелетия христианской эры, знал художник, как Второе пришествие, и потому изобразил именно его, нарисовав, как праведники получают награды за свои труды, а грешники пожинают плоды своих деяний и сурово отсылаются на предстоящее возмездие. Увидел Борис законченную картину, через нее «воспринял в душу страх Божий, приобщился божественных наших таинств и глубокой ночью сподобился божественного крещения».
Показательно, что в позднейшей славянской православной традиции монах Мефодий византийского хрониста соотносится с Мефодием Солунским, как и Философ Начальной русской летописи — с Кириллом (Константином) Философом, миссионерами — первоучителями славян. А. А. Шахматов (вслед за В. Н. Татищевым и др.) считал, что рассказ «Продолжателя Феофана» о крещении Бориса стал источником летописного рассказа; скорее, перед нами распространенный раннесредневековый сюжет. При этом интерес представляет то, какие «наглядные пособия» использовались в приведенных исторических эпизодах при катехизации. Попытку интерпретации летописного текста, как уже говорилось, предпринял миниатюрист, иллюстрировавший Радзивилловскую летопись XV в., и изобразивший икону с Христом, восседающим на престоле с книгой (что вполне соотносится с иконографией Страшного суда), а не «запону», являемую Владимиру. Другой, более поздний интерпретатор, составитель Густынской летописи XVII в., «уточнил» текст «Повести временных лет» — Философ продемонстрировал князю Владимиру «запону златотканую».
Действительно, речь может идти о неких литературных реминисценциях в Начальной летописи, иногда уводящих и современных интерпретаторов достаточно далеко от летописного текста. А. А. Архипов напрямую сопоставил запону Начальной летописи с паргод (мистической завесой) еврейской Книги Еноха и т. п., в контексте предполагаемого им «еврейского измерения древнерусской культуры», поисков хазарского наследия и т. д.
Впрочем, это сопоставление закономерно возвращает нас от мистической завесы паргод, перед троном Господним, к Храмовой завесе (парохет) перед Святая Святых в Иерусалиме, а стало быть, к тексту Начальной летописи.
Собственно в летописном тексте запона, поразившая Владимира, явно соотносится с Храмовой запоной — завесой, о которой рассказывает Владимиру тот же Философ: после распятия «церковная запона раздрася надвое, мертвии всташа мнози, им же» — дополняет евангельский текст летопись — [Иисус] «повеле в рай ити» (ср. Матфей, 27: 51–52).. Связь этого мотива разорванной запоны с темой Страшного суда еще более очевидна в славянском (древнерусском) «Слове о сошествии Иоанна Крестителя во ад», где завеса Храма определенно ассоциируется с разбитыми вратами преисподней — ада, откуда Христос выводит в рай пророков; Сошествие во ад в христианской традиции — прообраз Второго пришествия и Страшного суда, охватывающего весь космос: Сошествие во ад (Воскресение) имелось и среди «картинок», которые демонстрировал св. Панкратий, согласно уже упоминавшемуся Житию.
Можно предполагать, что картина Страшного суда была вышита на запоне, которую демонстрировал Владимиру греческий Философ, но это не снимает проблемы литературных реминисценций в летописном тексте. Космологическая символика христианского храма, включая символику алтарной преграды, царских (святых) врат, открывающих путь в Святая Святых и в Царство небесное (а одновременно и к Гробу Господню, который символизировал алтарь), была хорошо известна древнерусской литературе: показательно, что уже в древнерусском переводе «Иудейской войны» Иосифа Флавия (XII в.) рассказывается, что вышивка на храмовой завесе (греч. катапетасма — др. — рус. запона) несла символы четырех космических стихий и «всяко небесное видение», кроме 12 знаков зодиака («Иудейская война»). Разорванная в миг смерти Иисуса завеса воплощала не только раскрытие адских врат, но и грядущую апокалиптическую гибель и обновление всего творения в день Страшного суда: в толковании Симеона Солунского «Христос проложил путь через завесу плоти, через Него нашли мы вход во Святое»[19]. Современные исследователи показали, что на Руси с XI в. распространенным было эсхатологическое толкование божественной литургии в целом, при котором алтарная преграда воспринималась как видимый образ грядущего Суда и Спасения — в этот образ «вписывалась» и летописная запона с «судищем Господним».
Эсхатологические ожидания усилились во всем христианском мире к концу первого тысячелетия христианской эры: они были актуальны и для Византии X–XI вв., откуда исходила проповедь летописного Философа, — особенно это относилось к мотивам Сошествия во ад и Воскресения из мертвых. Очевидно, князь Владимир не случайно построил в 996 г. Десятинную церковь — первую русскую каменную церковь, аналог Иерусалимского храма, на месте киевского некрополя X в., где были похоронены и язычники, и первые киевские христиане (см. ниже). Сам храм, видимо, был посвящен Успению Богородицы: Успение, естественно связанное с погребальным культом, воспринималось в христианской традиции как перемещение Богоматери к Божьему престолу, «во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус» — цитирует в связи с этим апостола Павла Иоанн Дамаскин. Десятинная Богородичная церковь призвана была объединить, в соответствии с православным каноном, всех «верных» — живых и мертвых. Там упокоился не только сам князь Владимир; согласно «Повести временных лет», в 1044 г. из языческих курганов были эксгумированы останки его братьев — Олега и Ярополка; их кости (вопреки запрету Карфагенского собора) были крещены и перезахоронены в Десятинной церкви — князья, таким образом, были «выведены из ада».
Увиденное на запоне Владимир «положи на сердци своем», признав, что хорошо праведникам, тем что «о десную», и горе тем, что «о шую». Философ отвечал князю, что если он хочет стать с праведными, пусть крестится. Ответ был неожиданным: «Пожду и еще мало».
Ф. И. Буслаев предположил, что задержка князя с крещением произошла не только потому, что ему нужно было время для испытания вер. Он приводит в качестве параллели эпизод с крещением фризского короля Радбода (ум. 719) святым Вольфрамом: король уже ступил одной ногой в купель, но вдруг спросил, где пребывают его предки — между праведниками или в аду? Проповедник вынужден был ответить, что язычники погубили свои души; Радбод (по дьявольскому наущению, — добавляет агиограф) отказался креститься, желая разделить загробную участь с сородичами. Владимир, согласно летописным прениям о вере, особенно интересовала загробная жизнь: о гуриях мусульманского рая он «послушаше сладко», ибо «сам любя жены и блуженье многое». Показательно, что наказание женолюбца известно в раннесредневековой западной традиции: при Людовике Благочестивом в Сен-Галленском монастыре было создано «видение» загробного мира, согласно которому сам Карл Великий должен был претерпевать за женолюбие муки в преддверии ада — некое чудовище терзало там его половые органы. Владимиру было о чём поразмыслить во время катехизации.
В контексте летописи самая пространная из речей послов — греческая «Речь Философа», завершающая прения о вере, являет не только «катехизис», проповедь, излагающую основы христианского вероучения для «оглашаемого» — готовящегося принять христианство, но и методологию истории. Ветхозаветные «исторические» события — события «временных лет» — есть прообраз событий новозаветных, когда «исторический» первородный грех человечества был искуплен жертвой Христа, и смысл истории стал заключаться в восприятии всем человечеством — «языцами» — этой спасительной Благой вести (в конкретном историческом воплощении — христианского учения, распространяемого греками). Крещеная Русь переставала быть северным варварским народом — наоборот, именно она выполняла промысел Божий, ибо слово Божие достигло краев ойкумены, о чем писал в первой трети XI в. Иларион. В этом отношении сюжет «выбора веры» составил основу не только начальной истории русского христианства, но и древнерусской истории вообще.
3. Испытание вер и Корсунская легенда
Выбор Руси, как уже отмечалось, был в общем предрешен — столетие регулярных межгосударственных отношений Руси с Византией на пути из варяг в греки, осевой магистрали Руси, и крещение в Константинополе «росов» и их архонтиссы Ольги во многом предопределяли «выбор веры», культурную и государственную ориентацию Руси в целом. Очевидно, что русских князей (как и крестителя болгар Бориса) устраивала византийская традиция главенства «светского» правителя над церковным владыкой при видимом взаимном дополнении двух властей в самой Византии. Но в самом акте принятия крещения обращают на себя внимание собственно русские традиции: князь принимает решение, созвав «бояр своих и старцев градских» — дружину.
Согласно летописи бояре побывали сначала у болгар-мусульман и немцев-латинян, а затем — у греков. Исламский намаз не приглянулся послам:
«Ходихом в болгары, смотрихом, како ся поклоняют в храме, рекше в ропати (мечети — В.П.), стояще бес пояса; поклонився сядет и глядит семо и овамо, яко беше и несть веселья в них, но печаль. Несть добр закон их». Суровая обрядность латынян также не впечатлила послов: «Видехом в храмах многи службы творяща, а красоты не видехом некоеяже».
Услышав о прибытии русских послов, сам греческий царь велел патриарху отслужить службу в святительских ризах. На этот раз — в отличие от прецедента с язычниками Олега — грекам удалось впечатлить посольство, «показающе красоту церковную»: пораженные красотой их церковной службы, послы советуют князю принять «закон греческий», как сделала его бабка Ольга.
«И придохом же к греки, й ведоша ны, идеже служат Богу своему, и не свемы, на небе ли есмы были, ли на земли, токмо то вемы яко онъде Бог с человекы пребывает, и есть служба их паче всех стран».
Действительно, считалось, что во время православной литургии небеса соединяются с землей. Тогда Владимир спрашивает бояр: «Где крещение приимем?» — и получает ответ: «Где ти любо».
Это совещание с дружиной (старшей дружиной — боярами) и «старцами градскими» предшествует Корсунской легенде — повествованию, приведенному в «Повести временных лет» под 988 гг., о походе Владимира на Херсонес и крещении в этом греческом городе. Вопрос о том, где следует принять крещение, обычно связывают с последующим летописным известием о противоречивых преданиях: «не сведуща право» говорят, что князь крестился в Киеве, Василеве или других местах. Василев — один из городов на Стугне, в системе крепостей, построенных Владимиром после крещения Руси: город носит крещальное имя самого князя — очевидно, это и повлияло на сложение самого предания о крещении там Владимира.
Сложнее обстоит дело с Корсунской легендой о крещении Владимира. «Повести временных лет» противоречит «Память и похвала князю Владимиру» Иакова Мниха, который (без достаточных оснований) отождествляется иногда с монахом Киево-Печерской лавры, упомянутым в летописи под 1074 г. Датировка этого произведения и его соотношение с летописным текстом неясны (предполагается, что в житийной части «Памяти» Иаков использовал летопись — не случайно упомянутые там же Перун и Хоре представляют лишь начало летописного списка Владимировых богов). Вместе с тем «Память» предлагает несколько отличную от летописи последовательность и хронологию событий, отчасти подтверждаемую иными источниками: так, Владимир действительно вокняжился в Киеве не в 980 г. (по летописи), а в 978 г. Согласно этой хронологии, князь принял крещение в самом Киеве в 987 г., на следующее лето — ходил на днепровские пороги, на третье лето (989 г.) — взял Корсунь.
Можно присоединиться к тем исследователям, которые считают, что предание о крещении князя в Киеве отражало практику упомянутого prima signatio, «оглашения» — готовности принять христианство, которую «огласил» Владимир в Киеве после прений о вере и катехизации («Речь Философа»). Предполагают, что князь крестился в Киеве собственно на праздник Крещения 6 января 988 г. Более того, учитывая, что эта практика была принята у скандинавов и ей последовал, согласно исландской саге, норвежский конунг Олав Трюггвасон, принявший оглашение в Константинополе, исследователи летописного сюжета (начиная с Голубинского) предположили, что и Владимир принял оглашение под влиянием варягов — христиан, община которых была известна в Киеве с середины X в., до похода на Корсунь: саги об Олаве повествуют о том, как этот норвежский конунг склонил и «конунга Гардарики» (Руси — «Страны Гардов») — Владимира — к крещению.
И вместе с тем вопрос Владимира к дружине о месте, где следует принять крещение, в летописном контексте мог одновременно означать и иное: Ольга, согласно «Повести временных лет» (и «Памяти и похвале князю Владимиру»), приняла крещение в самом Царьграде. Здесь нельзя не вспомнить о летописном известии, относящемся именно к этому эпизоду: Ольга, согласно этому известию, была недовольна приемом в Царьграде как унизительном для нее. Не суть важно, насколько была унижена княгиня в действительности; ясно, что крещение в Константинополе так или иначе демонстрировало зависимость вновь обращенного от Византии (на что справедливо указывал еще церковный историк XIX в. митрополит Макарий). По древнерусским памятникам, Владимир выбрал иной — традиционный для Руси — путь: военную кампанию. Он захватывает Корсунь — крупнейший византийский город в Крыму, связанный, по традиции, с апостольской деятельностью Андрея Первозванного. В «Памяти и похвале князю Владимиру» приводится его молитва: «Господи Боже Владыко всех, сего у тебе прошю: даси ми град, да прииму и да приведу люди Кристианы и попы на всю землю, и да научать люди закону кристианскому». В захваченном городе князь берет церковную утварь, иконы, мощи священномученика Климента и иных святых, затем просит у царей Константина и Василия сестру в жены, «да бы ся болма на кристианский закон направил»; императоры дают князю сестру с многими дарами и мощами святых.
В «Повести временных лет» князь гораздо более агрессивен: он требует у царей сестру Анну в жены, иначе, грозит Владимир, он захватит ц Царьград. Эти действия соответствуют принципам русской военной дипломатии X — первой половины XI в.: так и Игорь во время реванша 944 г., и Святослав во время вторжения в Болгарию, угрожали грекам походом на Царьград. В Корсунской легенде и проложном Житии Владимир, взяв Корсунь, обращается к «цесарю гречьскому» теми же словами, что некогда его отец Святослав: «Дай за мя сестру свою. Аще ли не даси, то створю граду твоему, якоже и сему створих». Но требование руки багрянородной принцессы было беспрецедентным для Руси (предположения о попытках сватовства, якобы предпринятых Ольгой, стремившейся женить своего сына Святослава нализантийской принцессе, остаются весьма гипотетическими). У греков был готов ответ на подобного рода претензии, и Константин Багрянородный в середине X в. поучал своих наследников:
«Если когда-либо народ какой-нибудь из этих неверных и нечестивых северных племен попросит о родстве через брак, т. е. либо дочь его получить в жены, либо выдать свою дочь, василевсу ли в жены или сыну василевса, должно тебе отклонить и эту их неразумную просьбу, говоря такие слова: «Об этом деле также страшное заклятие и нерушимый приказ великого и святого Константина начертаны на престоле вселенской церкви христиан Святой Софии: никогда василевс ромеев не породнится через брак с народом, приверженным к особым и чуждым обычаям, по сравнению с ромейским устроением, особенно же с иноверным и некрещеным, разве что с одними франками»».
Видимо, военно-дипломатические аргументы Владимира были достаточно сильны, чтобы разрушить ромейскую предубежденность. Цари требуют, чтобы Владимир крестился в обмен на руку их сестры, и князь добивается, таким образом, сразу двух преимуществ: он становится свойственником царей и получает крещение как победитель, а не как проситель. В историографии давно было предложено объяснение такому экстраординарному шагу в политике Византии, наиболее убедительно аргументированное польским историком Поппэ: власть Василия II (и его соправителя Константина) оказалась под угрозой после мятежа Варды Фоки, который в 987 г. овладел Малой Азией, а к лету 988 г. подошел к Константинополю. Лишь при помощи шеститысячного «росского» корпуса мятежников удалось разбить 13 апреля 989 г. Из скупых сообщений ближайших современников событий — армянского историка Степана Таронита (Асохика) и христианского сирийского автора Яхьи Антиохийского (ок. 1066 г.) следовало, что военную помощь Византия получила после соглашения о браке между Владимиром и Анной и крещения Руси. Согласно «Истории» Яхьи, мятеж Варды Фоки привел к тому, что Василий II вынужден был
«послать к царю русов, — а они его враги, — чтобы просить их помочь ему в настоящем положении. И согласился он на это. И заключили они между собой договор о свойстве, и женился царь русов на сестре царя Василия, после того как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ его страны, а они народ великий. И не причисляли себя русы тогда ни к какому закону и не признавали никакой веры. И послал к нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов, и они окрестили царя и всех, кого обнимали его земли, и отправил к нему сестру свою, и она построила многие церкви в земле русов»[20].
Предполагается, что уже летом 987 г. в Киев должно было явиться посольство во главе с митрополитом Феофилактом (вынужденным до того оставить Севастию в захваченной мятежниками Малой Азии) с предложением Владимиру руки принцессы Анны в обмен на крещение и предоставление военной помощи империи. Крещение Владимир, как уже говорилось, мог принять в Киеве на рождественские праздники, включавшие и день Василия Великого (1 января) — святого покровителя императора и новокрещеного князя, принявшего царственное имя «Василий», — и собственно праздник Крещения, до прибытия Анны. Предлагаемая Поппэ дата (6495 мартовский год от сотворения мира) соответствует дате, содержащейся в «Памяти и похвале князю Владимиру»; киевлян могли крестить на Пятидесятницу, что соответствует и традиционной летописной дате крещения Руси в 988 г.
Вопрос заключается в том, что во время военной кампании в Малой Азии другое русское войско — во главе с Владимиром — должно было осаждать византийский Херсонес, взятый летом 989 г. Анджей Поппэ предложил гипотезу, согласно которой акция русского князя была направлена не против византийских императоров, а против Херсонеса, якобы поддержавшего мятеж, — такая возможность предполагалась еще договором руси с греками 944 г. Город с древними традициями античного полиса не раз пытался проводить независимую от столицы политику. Возможно, ситуацию с двумя параллельными русскими кампаниями до некоторой степени проясняют упомянутые саги об Олаве Трюггвасоне, где говорится, что норвежский конунг, вдохновленный (как и Владимир) видением загробного мира и повелением ангела, рассказывает о видении Владимиру (в саге — Вальдамару), отправляется из Руси (Гардарики) в Грецию со своим флотом и там принимает оглашение. Варяги и росы не различались в византийской книжности до начала XI в. — возможно, именно этот конунг-викинг со своей дружиной и участвовал в подавлении мятежа. Согласно «Большой саге об Олаве Трюггвасоне», сам конунг на обратном пути убедил князя креститься и даже призвал из Греции некоего епископа Павла (Палла), но это скорее всего — традиционное для поэтики саг преувеличение роли главного героя, оказывавшегося центральной фигурой всех основных событий.
Как уже говорилось, собственно древнерусские источники содержат отличную от «внешних» интерпретацию событий: инициатива там принадлежит самому Владимиру. Шахматов справедливо писал, что Корсунь заменил для Владимира недостижимую (идеальную) цель военных предприятий первых русских князей — сам Царьград. Зачин летописного описания похода Владимира на Корсунь дословно совпадает с началом описания легендарного похода Олега на Царьград. Мотив женитьбы на царевне в покоренном городе также можно считать «архетипическим» для древнерусской традиции, особенно для преданий о Владимире — сравните его женитьбу на княжне Рогнеде в покоренном Полоцке. Власть над правительницей воплощает власть над покоренной землей, но Владимир добивается от греков иных благ.
Князь не смог сразу взять укрепленный каменными стенами город. Осажденные сопротивлялись, несмотря на то, что припасы их иссякали. Не помогла и «приспа», которую велел насыпать кйязь у стен, чтобы по ней ворваться в город: осажденные ответили подкопом, и «приспа» оседала, а не росла. Но нашелся предатель, именем Настас, который пустил в стан врага стрелу с запиской: там говорилось о месте, откуда по водопроводу в город поступала питьевая вода. Узнав об этом, Владимир дал небу обет креститься, если он возьмет город. После того как водопровод был перекопан, изнемогшие корсуняне сдались. Владимир с дружиной вошел в город и потребовал у византийских соправителей Василия и Константина их сестру в жены, в случае отказа князь грозил пойти на Царьград. Правители ответили, что «не достоит христианам выдавать своих женщин замуж за поганых». Если же Владимир крестится, то получит жену и царство небесное. Князь дал обещание, греки же стали собирать в дорогу сестру императоров Анну: Владимир, однако, предупредил, что лишь пришедшие с Анной священники смогут крестить его. Анну пришлось уговаривать, чтобы она отправилась в русскую землю, иначе русь сотворит много зла грекам. Со слезами та распрощалась с близкими, вступив на корабль. Корсуняне с почетом приняли Анну, усадив ее в «палате». Владимир же внезапно ослеп. Тогда «царица» отправила к нему послов, велев передать, что если князь хочет исцелиться — пусть примет крещение. Тогда корсунский епископ с царицыными попами крестил киязя, и только он возложил руку на его голову, Владимир прозрел. Тогда князь прославил Бога и возгласил, что познал Бога истинного. Это произошло в церкви возле царицыной палаты, что стоит до сего дня, подтверждает истинность своих слов летописец.
Легенда о крещении Владимира напоминает мотивы житий Георгия Амастридского и Стефана Сурожского, где русские князья, захватившие греческие города, оказываются поражены внезапным недугом и исцеляются после крещения или возвращения разграбленных святынь. Но в агиографической традиции, связанной с Владимиром, этот князь сопоставляется с самим апостолом Павлом, ослепшим после явления ему Иисуса, когда тот собирался устроить гонение против христиан, и обретшим зрение после крещения. Мотив болезни Константина Великого, от которой тот избавился благодаря крещению, приведен у Георгия Амартола; согласно Саге об Олаве Трюггвасоне и сообщению миссионера Бруно Кверфуртского князь склоняется к христианству благодаря увещеваниям благочестивой жены.
Согласно летописной Корсунской легенде, женившись на прибывшей в город Анне, князь возвращает Корсунь Византии в качестве свадебного дара — вена. Конечно, политическая реальность была более сложной, чем это изображалось летописцем, следующим собственным установкам христианского просвещения. Вместе с тем сама Корсунская легенда основывается, конечно, на исторической традиции — предании: в Херсонесе, по свидетельству летописца, сохранились церковь Василия, в которой князь принял крещение, «палаты», в которых пребывали Владимир и Анна; с собой и царицей из Корсуня князь взял Настаса Корсунянина, предавшего ему город во время осады и игравшего затем значительную роль при княжеском дворе, корсунских попов с мощами св. Климента и его ученика Фифа, даже бронзовые статуи и квадригу — трофеи, стоявшие во времена составления летописи за построенной Владимиром церковью Богородицы (Десятинной). Исследователи, начиная с А. А. Шахматова, полагают, что сама Корсунская легенда, предание об основании Десятинной церкви и др. были составлены корсунским клиром Десятинной церкви. Христианские святыни, клир, а возможно, и славянские книги, который Василий II мог прислать с Анной из завоеванной им Болгарии, были необходимы для основания новой церковной организации.
Кроме того, удачный поход должен был продемонстрировать языческой Руси силу христианского Бога, к которому обратился ее «оглашенный князь»: дарованные крестом победы над врагом убедили самого Константина Великого в необходимости обращения Римской империи.
Как бы то ни было — древнерусское представление о крещении как о политическом и культурном завоевании Руси имело глубокий исторический смысл.
Глава 10 Христианство становится государственной религией
1. Низвержение Перуна
Заслуживает особого внимания еще один летописный рассказ, который также традиционно относится к литературным стереотипам. Когда, согласно летописному повествованию, приводимому под тем же 988 г., Владимир вернулся с царицей и греческими попами в Киев и велел креститься в реке всему народу, «людье с радостью идяху, радующееся и глаголюще: «Аще бы се не добро было, не бы сего князь и боляре приняли»». Летописи вторит «Похвала Владимиру» в «Слове о законе и благодати» Илариона:
«И не бе ни единого же противящася благочестивому его повелению, да аще кто и не любовию, но страхом повелевшаго крещаахуся, понеже бе благоверие его с властию сопряжено».
Естественно предполагать, что христианство было принято прежде всего в интересах и по настоянию правящих верхов Русского государства, и радость по этому поводу «людей» — риторическое преувеличение. Но два обстоятельства заставляют понимать взгляды русских книжников как конкретноисторические, а не просто «книжные».
Во-первых, отказ князя и бояр от языческих культов — разрушение капища и низвержение кумиров — практически лишало эти культы смысла, т. к. князь в славянской дохристианской религии был и верховным жрецом. Владимир сам «учредил» пантеон, который затем ниспроверг. А во-вторых, очередное обращение социальных верхов к новому культу, очевидно, было не столь уж необычным для киевлян (тем более что христианская община уже с середины X в. существовала в Киеве). Низвержение кумиров, однако, описывается в «Повести временных лет» как церемониальный государственный акт, символизирующий отказ от прошлого.
Когда князь вернулся в Киев из Корсуня,
«повеле кумиры испроврещи, овы исещи, а другие огневи предати. Перуна же повеле привязати коневи к хвосту и влещи с горы по Боричеву на Ручай, 12 мужа пристави тети жезльемь. Се же не яко древу чюющю, но на поруганье бесу. Влекому же ему по Ручаю к Днепру, плакахуся его невернии людье, еще бо не бяху прияли святого крещенья».
Владимир повелевает спустить Перуна вниз по Днепру и не давать идолу пристать к берегу, пока он не достигнет порогов — покинет пределы Русской земли. В историографии это действо сравнивается с уничтожением календарных чучел-фетишей типа масленицы и Костромы (или кострубоньки — чучела из «коструба», соломы): чучело, воплощающее зиму, смерть и т. п. «почиталось» в течение праздника, а потом уничтожалось, устраивались его потешные похороны — его разрывали, сжигали или топили в реке. Если сравнивать низвержение Перуна с этими действами, то значит, последние «погребальные» почести воздавались Перуну, вопреки интерпретации летописца, не как обрубку дерева, а как божеству. Действительно, «пускать по воде» в фольклорной традиции означало отправить на «тот свет», но едва ли плач «неверных» по Перуну можно сравнивать с карнавальным оплакиванием фольклорного Кострубоньки и прочих фетишей. Трудно сказать, отразила ли летопись проявление первобытного фетишизма в рассказе о наказании Перуна. Пережитки такого рода сохранялись в восточнославянском быту и в отношении к иконописным образам святых покровителей скота и т. п., которых «наказывали», если они не справлялись со своими обязанностями покровителей. Скорее, описанное в летописи действо следует сопоставлять с традиционными демонстративными актами христианизаторов. Так, немецкий хронист XII в. Гельмольд рассказывает (под 1168 г.), как датский король, захвативший Рюген, велел вытащить «древний идол Святовита, который почитался всем народом славянским, и приказал накинуть ему на шею веревку и тащить его посреди войска на глазах славян и, разломав на куски, бросить в огонь». Это была демонстрация идолопоклонникам бессилия деревянного истукана.
В целом источник летописи и, стало быть, того пафоса, с которым низвергал кумиров Владимир (и датский конунг), очевиден: это Священная история, Ветхий Завет, деяния пророков и праведных царей. Сравните с летописным зачином деяния праведного библейского царя Асы: «И изрубил Аса истукан ее, и сжег у потока Кедрона». Двенадцать мужей, бьющих жезлами кумира, напоминают о двенадцати апостолах — равноапостольной считалась и миссия Владимира, «апостола среди князей», но последующая акция представляется в летописи отражением некоего реального действа. О том, что Перун был пущен по воде, летописец знает из топонима у порогов — Перунова рень, отмель, на которую ветер «изверг» Перуна.
Предание о низвержении верховного божества, очевидно, жило в фольклорной памяти: в позднейших летописях, в частности, упомянут воинский обычай привязывать пленных к хвосту для поругания (так, согласно Никоновской летописи, поступил с пленной литвой Александр Невский). Но в летописном низвержении кумиров присутствует вполне книжный мотив. В популярных в Древней Руси «Словах» Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского говорится о мучителях христиан: «мужии же им 12 жезльем би» (древнерусское «жезленикъ» означало «палач»).
Однако «жезленики» упомянуты и в тексте, который послужил основным источником «Повести временных лет» — в Хронике Георгия Амартола. В главе 20 Хроники приводится эпизод из римской истории, где узурпатор Февралий (Феврарий) был схвачен стратигом Маллием: тот «связав врага своего Февроуалия…и нага обнажив… и повеле жезльником бити» со словами: «изиди, Февруарье!» Узурпатор был изгнан и убит — короткий месяц февраль был назван в его память. Характерно, что в историзованной римской мифологии даже воплощение календарных обрядов превращалось в «исторического» персонажа: февруи, очистительные обряды, проводившиеся в феврале, превратились во врага Рима Февралия (предполагают, что божеством очистительных обрядов был Феврий — Februus, бог преисподней, имевший этрусское происхождение). Неясно, сопровождались ли эти очистительные обряды уничтожением ритуального чучела или символическим изгнанием раба, как во время сатурналий, но понятно, почему в обряде, равно как и в казнях христиан, принимали участие «жезленики», а число их равнялось 12: таковым было число ликторов, носителей фасций, которые выметали зло во время февруй (Овидий, «Фасты») и обязаны были присутствовать во время казней. Ясно также и то, почему византийский хронист привел этот сюжет: греческий монах не описывал здесь собственно языческих, бесовских обрядов. Летописец воспринял эпизод с «жезлами» как этикетный мотив, связанный с поруганием, и включил его в свое описание низвержения древнерусских кумиров: этим он отделял князя Владимира от «неверных людей», оплакивавших Перуна, но не толковал бесовских обрядов — «выдумок обманщиков» (к чему призывал и Амартол).
Очередная государственная реформа, естественно, должна была сопровождаться распространением новой государственной религии. По летописи, Владимир ставит церковь Святого Василия на месте киевского капища на холме. «И нача ставите по градом церкви и попы, и люди на крещенье приводити по всем градом и селом». Князь опирается при христианизации населения именно на грады — центры государственной власти. Не случайно политическая реформа была осуществлена Владимиром, согласно летописи, сразу после крещения Киева. Он сажает двенадцать своих сыновей, «просвещенных крещением», в подвластных ему городах и волостях всей Русской земли. Историческая достоверность всех двенадцати сыновей вызывала оправданные сомнения у историков, тем более что трое из них — Станислав, Судислав и Позвизд — не получили волостей и не названы ранее среди потомков Владимира при перечислении жен князя (вместо них упомянуты две дочери). Очевидно, что летописец стремился соотнести число сыновей равноапостольного князя с числом самих апостолов. Более того, в контексте самой «Повести временных лет», где начало славянской истории связано с расселением после Вавилонского столпотворения, а начало русской истории — с избавлением от хазарской дани как от египетского плена (в библейской книге Исход), число славянских племен, расселившихся в Русской земле, также соотносится с двенадцатью библейскими коленами. В исторической реальности сыновья Владимир действительно заняли волости, некогда относившиеся к «племенным» княжениям (и далекую Тмутаракань на Тамани): контролировать обширные земли, в том числе и процесс их христианизации, можно было, лишь опираясь на власть целого княжеского рода.
2. Крещение Новгорода мечом и огнем
В «Повести временных лет» отсутствуют сведения о крещении первоначальной «столицы» Руси — Новгорода: их восполняет, с ориентацией на Повесть временных лет (а может быть, как считал А. А. Шахматов, и на предшествующие своды), новгородская традиция. Под 989 г. Новгородская первая летопись повествует:
«Крестися Володимер и вся земля Руская; и постави в Киеве митрополита, а Новуграду архиепископа, а по иным градом епископы и попы и диаконы; и бысть радость всюду. И прииде к Новуграду архиепископ Аким Корсунянин, и требища разруши, и Перуна посече, и повеле влещи в Волхово; и поверзъше ужи, влечаху его по калу, биюще жезлеем; и заповеда никому же нигде же его не прияти. И иде пидьблянин (житель новгородского пригорода) рано на реку, хотя горънци (горшки) вести в город; сице Перун приплы к берви (бревенчатому плоту), и отрину их шистом: ты, рече, Перушице, Досыти еси пил и ял, а ныне поплови прочь».
Отнести текст в целом к начальному летописанию затруднительно; время учреждения архиепископии в Новгороде неясно, тем более что эта единенная древнерусская архиепископия оставалась титулярной — почетной: новгородский архиепископ подчинялся не прямо константинопольскому патриарху, а киевскому митрополиту и не имел подчиненных епископов. Тем не менее имя первого архиепископа Аким и его корсунское происхождение (он был из тех священников, которых вывел Владимир из Херсонеса) едва ли могло быть вымышлено. При этом не названо имя киевского митрополита, что, как уже говорилось, заставило предполагать, что им мог быть Феофилакт Севастийский (в поздних летописях называются имена Михаила, Леона). Интересно и новгородское предание о гончаре из новгородского пригорода Пидьбы: в его словах можно усматривать отражение непопулярности насажденного в Новгороде киевским князем культа Перуна (которого должны были «до сыта» кормить, то есть содержать служителей культа, новгородцы).
С именем Акима (Иоакима) связана приводимая у Татищева и составленная в духе позднейших летописных сводов XVII в. Иоакимовская летопись, подробно повествующая о сопротивлении новгородцев крещению, которое было навязано Добрыней и киевским тысяцким Путятой: что приводимой там поговорке новгородцев «Путята крести мечем, а Добрыня огнем». Новгородские и другие поздние летописи продолжили рассказ о низвержении Перуна, приписав вселившемуся в идол бесу сетования: «Ох, ох мне, достахся немилостивым сим рукам». Но бес оказался хитер и, проплывая по Волхову сквозь великий мост, бросил палицу свою (т. е. Перунову) на мост, «ею же ныне безумнии убивающеся, утеху творя бесом». Речь идет о вечевых схватках между сторонами Новгорода, разделенными Волховом. По другой версии один из новгородцев бросил палицу в проплывающего Перуна, тот же ответил магическим «бумерангом», после чего новгородцы стали биться на мосту.
Иоакимовская летопись приводит собственную версию крещения Руси: согласно ей, Владимир идет в поход на болгар, побеждает их, заключает мир и принимает крещение сам со своими сыновьями и всей Русской землей. Болгарский царь Симеон присылает иереев и книги. Владимир же посылает в Царьград к императору и патриарху, прося на Русь митрополита. Те отправляют митрополита Михаила, болгарина родом, а с ним епископов, иереев, диаконов и певчих «от славян». Очевидно, что позднейший составитель летописи, используя раннюю традицию, заменил волжских болгар — мусульман, с которыми воевал и договаривался о мире Владимир, на дунайских болгар — христиан. Эта замена была не случайна — составитель Иоакимовской летописи понимал, что Руси необходимы для богослужения славянские книги и славянские священники. Вероятно, эти книги и были присланы, но греками, которые захватили при Василии II в подчиненной ими Болгарии библиотеку болгарских царей.
Само крещение летописец изображает более «рационально» с его точки зрения: священники «шедше по земли с вельможи и вой владимировыми, учаху люд и кресчаху всюду стами и тысячами». Это представление о насильственном крещении с применением «воев» продиктовано ему последующей вслед за Начальной летописью книжной традицией, где постоянно идет речь о борьбе с язычеством, якобы сохраняющимся на Руси. В соответствии с этой тенденцией он пространно излагает и свою версию крещения Новгорода. Там новгородцы, заслышав о походе на них Добрыни, учинили вече и поклялись не пустить его в град и не дать низвергнуть кумиры. Язычники во главе с верховным жрецом Богомилом, за сладкие речи прозванным Соловей, укрепились на Софийской стороне, разобрав мост через Волхов. Сторонники новой религии пытались обратить народ на Торговой стороне, но сумели крестить лишь «неколико сот». Тем временем новгородский тысяцкий Угоняй призывал горожан умереть, но не давать богов на поругание. Рассвирепевшая толпа разорила усадьбу Добрыни, избив его родичей. Владимиров тысяцкий Путята с дружиной ростовцев ночью переплыл на противную сторону и захватил нескольких главарей мятежа. Но мятежники стремились уже «разметать» церковь Преображения (значит, в Новгороде уже была христианская община!) и разграбить дома христиан. Добрыне пришлось приказать зажечь дома мятежников, чтобы те бросились тушить пожар. Затем «предние мужи» восставших пришли к Добрыне просить мира.
Прекратив мятеж, Добрыня ниспроверг кумиров, насмехаясь над оплакивающими их язычниками — те сожалеют об идолах, которые сами себя оборонить не могут! Посадник же Воробей, воспитанный при дворе Владимира, уговаривал всех на торгу принять крещение. Многие шли добровольно, сопротивляющихся же воины волокли к Волхову, так окрестив новгородцев — мужей выше моста, а жен ниже. «Сего для людие поносят новгородцев, — заключает Иоакимовская летопись, — Путята крести мечем, а Добрыня огнем».
Действительно, в новгородских слоях, соответствующих времени крещения, обнаружены следы пожара, что наводит на мысль об исторической основе позднейшего предания; не менее существенны для изучения процессов христианизации находки ранних крестов-тельников в тех же слоях[21]. На рубеже X–XI вв. возникает христианский могильник в Ладоге — «пригороде» Новгорода; полагают, что рядом с кладбищем располагалась деревянная церковь Климента (культ которого на Руси имеет корсунские истоки; каменный собор был построен здесь в 1153 г.): по данным антропологии, большая часть погребенных имеет скандинавские черты — вероятно, могильник принадлежал варяжским дружинникам и их семьям.
3. Христианское просвещение
Не менее важной, чем низвержение кумиров и распространение власти просвещенного крещением княжеского рода на всю Русскую землю, задачей княжеской власти была подготовка клира для проведения службы. Летопись свидетельствует под тем же 988 г., что когда Владимир «нача поимати у нарочитые чади дети, и даяти нача на ученье книжное», матери «чад сих плакахуся по них, еще бо не бяху ся утвердили верою, но акы по мертвеци плакахся». Ситуация с уходом из мирской жизни представителей «нарочитой чади», видимо, остается достаточно драматической и в середине XI в.: в составленном Нестором Житии Феодосия Печерского говорится, как увлеченный рассказами паломников мальчик стремится к христианским святыням и вынужден терпеть побои матери, желающей, чтобы ее сын продолжил отцовскую карьеру княжеского дружинника. Дело здесь не только в нетвердости веры первых русских христиан и тем более не в «языческой реакции» — дети «нарочитой чади» действительно должны были уйти из мира, стать священниками: в «народном православии» всегда сохранялось отношение к клиру как к существам иного мира. Панченко сравнивает оплакивание детей «нарочитой чади» с традиционными в народной культуре плачами по рекрутам и г. п. Свидетельством «книжного учения» в первой четверти XI в. стала сенсационная находка в Новгороде летом 2000 г. церы — навощенных дощечек, на которых читаются, судя по предварительным сообщениям, не только канонические псалмы, но и неизвестные по другим источникам апокрифические тексты: эта древнейшая «хрестоматия» дает представление о разнообразных источниках, которыми питалась начальная русская христианская книжность.
Результатом общегосударственного акта крещения Руси на рубеже X–XI вв. стал своеобразный «культурный переворот». На всей территории государства развернулся процесс трансформации традиционной языческой культуры. Этот процесс затрагивал не только естественные центры христианизации — города, но и сельскую глубинку, о чем свидетельствует прежде всего изменение погребального обряда. На смену древнему обычаю трупосожжения приходит христианский обряд ингумации покойного лицом — на восток — туда, откуда должен появиться Спаситель. Конечно, столь быстрая трансформация не могла произойти лишь благодаря проповеди захожих миссионеров — погребальный обряд было легко контролировать государственным властям (дружине), так как дым погребального костра служил для них хорошим сигналом, обнаруживающим отправление языческого культа. На протяжении XI–XII вв. в сельских некрополях усиливаются христианские нормы обряда: первоначально умерших хоронят не в могиле, а на поверхности земли (на горизонте) под курганом, позднее появляются неглубокие могильные ямы, наконец — настоящие могилы. Очевидно, случаи крещения «огнем и мечом» имели место не только в самом начале христианизации; они зафиксированы и археологически: так интерпретируются скелеты со следами рубленых ран, обнаруженные при раскопках кривичской курганной группы в с. Каблуково (Подмосковье); после расправы, произведенной над «язычниками», местные жители стали хоронить своих умерших не на поверхности земли под курганом, а в могильной яме, по-христиански. Но в принципе «спланировать» эволюцию обряда с нарастанием христианских черт насильственными методами было невозможно.
Очевидно, что неофитами достаточно активно воспринимались обряды, связанные с индивидуальной эсхатологией, спасением души, Страшным судом и т. н.: впечатление, произведенное сценами Страшного суда, — традиционный мотив, связанный с обращением языческих князей, в том числе Владимира, которому грек Философ продемонстрировал некую «запону» со сценой Страшного суда. Ближайшей параллелью летописному рассказу оказывается приведенное выше повествование «Продолжателя Феофана»[22], относящееся к середине X в., о крещении болгарского князя Бориса: византийский монах-художник Мефодий создал «картину» Страшного суда, после чего Борис «воспринял в душу страх Божий». Можно лишь гадать, какие «наглядные пособия» использовались при катехизации: с IX в. (как уже говорилось) известны были шитые иконы, в частности, с изображениями Страстей и Воскресения, вплотную подводящих к сюжету Страшного суда. В уже упоминавшихся исландских сагах об Олаве Трюггвасоне этот норвежский конунг также принял крещение (оглашение) после того, как ему явилось видение Страшного суда; согласно саге, именно он уговаривал Владимира креститься. Оба мотива — древнерусский и скандинавский — восходят к византийским реалиям: для оглашенных — готовящихся принять крещение — отводилось место в западной части храма, где росписи воспроизводили сцены Страшного суда и адских мук. Хотя иконография Страшного суда еще не была разработана в X в., крещение Руси (равно как и Норвегии) происходило в знаменательном для Средневековья историческом контексте — на рубеже первого и второго тысячелетия христианской эры повсеместным стало ожидание Второго пришествия. Интересно, что в самой Византии на рубеже тысячелетий актуализировались старые ассоциации Руси с народом (князем!) «рос» Иезекииля, который в конце времен должен разрушить Святой Город (Константинополь — Новый Иерусалим). Эсхатологические ожидания, видимо, активизировали миссионерскую деятельность и церковных, и светских властей как в Византии, так и на Руси[23].
Как уже говорилось, после крещения киевлян князь Владимир и его сыновья должны были предпринять миссионерские усилия по обращению всей Русской земли. По археологическим данным прослеживаются регионы, где эта деятельность была наиболее активной. Помимо Русской земли в Среднем Поднепровье, где вокруг Киева и Чернигова распространение христианского погребального обряда прослеживается уже во второй половине X в., погребения с ранними крестами-тельниками встречаются в ареалах, связанных с процессами «окняжения» и древнерусской колонизации в конце X — начале XI в. Тельники, неточно названные «крестами скандинавского типа», в действительности имеют вполне очевидные византийские аналогии; самые ранние из них обнаружены в самом Киеве, Гнёздове на Верхнем Днепре и Тимерёве на Верхней Волге, к началу XI в. относятся находки из дружинных погребений в Плеснеске на, Волыни и Гочеве в бассейне Десны. Скопления этих крестов «отмечают» землю радимичей за пределами этой «Русской земли», окняженную при Владимире Святославиче (в 984 г., согласно «Повести временных лет»), и Владимирское ополье, зону интенсивной колонизации XI в. с центрами в Ростове и Суздале, будущую Ростово-Суздальскую землю. Можно предполагать, что в XI в. здесь завершился процесс этнической и религиозной ассимиляции иноплеменников-автохтонов — финно-угорских племен мери; в меньшей степени это коснулось веси и муромы. В восточных землях чуди — эстов — в XI в. под предполагаемым русским влиянием распространились христианская обрядность и предметы культа. В прибалтийских землях — на территории Финляндии, Эстонии, куршей, ливов, земгалов (по летописи, плативших дань Руси) — с XI в. христианское влияние распространяется как с Востока, так и с Запада. Сложнее обстояло дело с христианизацией финно-угорских племен на севере (водь, ижора) и на востоке, не включенных непосредственно в состав Древнерусского государства, а платящих дань Руси (летописные черемись — марийцы, пермь — коми, мордва и др.) — их традиционная культура практически не была затронута христианским влиянием в XI в.
Процесс христианизации в отдаленных от Киева Ростовской и Муромской землях, наконец, у вятичей (после походов на них Владимира Мономаха) не был бесконфликтным, о чем свидетельствуют, помимо упоминаемых в летописи «восстаний волхвов» (см. ниже), гибель миссионеров — епископа Леонтия Ростовского, Кукши — у вятичей. Характерно, что в ближней к Киеву земле печенегов миссионерскую деятельность продолжили «немцы»: дело здесь, видимо, не только в предполагаемой веротерпимости Владимира, и после выбора веры разрешившего эту деятельность у своих границ, и не только в том, что епископ Бруно Кверфуртский, получивший разрешение на нее у князя в 1008 г., мог рассматриваться как представитель Руси и подчиняться к киевскому митрополиту. Миссионерская деятельность у кочевников значительно осложнялась их бытом (христианство было религией городов), что, очевидно, осознавал Владимир. Бруно изумлялся тому упорству, с которым Владимир отговаривал его от безуспешного, с точки зрения крестителя Руси, предприятия:
«Государь Руси в течение месяца удерживал меня против моей воли, как будто я по собственному почину хотел погубить себя, и постоянно убеждал меня не ходить к столь безумному народу, где, по его словам, я не обрел бы новых душ, но одну только смерть, да и то постыднейшую».
Зато в границах собственного государства у княжеской власти были все возможности продемонстрировать востребованность христианских и особенно эсхатологических идей. При этом восприимчивость неофитов к этим идеям, сценам и мотивам Страшного суда объясняется не только силой государственной власти. Язычество, особенно первобытные племенные культы, было в принципе ориентировано на посюстороннее благополучие коллектива (племени), циклическое воспроизводство рода и природы, но с разрушением традиционного племенного быта, становлением государства, включением индивида в совершенно иные социальные связи, проблема индивидуальной судьбы, в том числе загробной, становилась все более актуальной. Ответ на вопрос об этой судьбе давали князь и его дружина, епископ и христианство, а не «волхвы» и язычество: недаром в летописном повествовании почитаемый «невегласными» язычниками Вещий Олег не мог предугадать даже собственной судьбы. При этом погребальный культ воплощал те религиозные тенденции, которые были свойственны Русскому государству в дохристианский период. В связи с этим важными государственными актами, наряду с основанием церквей, было перенесение останков Ольги (ок. 1000 г.), умерших в Полоцке Рогнеды и ее потомков в Десятинную церковь (1007 г.), где были похоронена Анна (1011) и сам Владимир (1015); описанное под 1044 г. христианское перезахоронение там же останков князей Ярополка и Олега при Ярославе Мудром и последующее (1072) перенесение в Вышгород останков (мощей) Бориса и Глеба — первых святых князей, покровителей Русской земли при Ярославичах и т. д. Традиционный «родовой» княжеский культ, известный по большим княжеским курганам, утверждался на новых — христианских — основаниях.
Само основание церквей в древнерусской книжности изображалось как воплощение победы над язычеством. Так, в зачине к Новгородской первой летописи говорится: «Куда же древле погании жряху бесом на горах, ныне же паки туды святыя церкви златоверхия каменнозданные стоят» и т. д. Считается, что речь здесь идет о Киеве, а не о Новгороде, расположенном не на горах, в отличие от Киева, а на плоской равнине. Но на упомянутом киевском «холме», где Владимир поставил свой языческий пантеон, он основал после крещения деревянную церковь Св. Василия. Скорее, в упоминании церквей на месте языческих капищ можно видеть общее место раннехристианской литературы: болгарский Козма Пресвитер восклицал: «Кто ли не веселит ся, видя кресты на высокых местех стояща, на них же прежде жряху бесом человеци» (вспомним о легендарном деянии Андрея Первозванного). Показательно, что Десятинную церковь князь возвел на месте старого Киевского некрополя, как о том свидетельствует археология, но «Слово на обновление Десятинной церкви» повторяет ту же фразу: «идеже бо жертвицы бесом беша, ту святыя церкви». В «Повести временных лет» это деяние князя Владимира ассоциируется со строительством Иерусалимского Храма — летопись воспроизводит библейские тексты.
Глава 11 Церковная десятина
1. Десятинная церковь
Священное Писание являло для Древней Руси, как и для всякого формирующегося раннесредневекового государства, те исторические образцы, на которые ориентировались создающие государственную идеологическую традицию книжники. Это относится и к древнерусским текстам, описывающим деяния князя Владимира Святославича, в том числе — в «Повести временных лет». Там князь — основатель христианского государства прямо сопоставляется с Соломоном и одновременно противопоставляется ему: мотив женолюбия и идолопоклонства в летописи приурочен к началу княжения Владимира-язычника, Соломон же предался греху после совершения им главного подвига — строительства Храма. Соломон «мудр же бе, а наконец погибе»; Владимир же «бе невеголос, а наконец обрете спасенье».
Этому зачину христианского Жития Владимира соответствует и описание последующих его Деяний, где сопоставление деяний князя с деяниями библейского царя продолжается в связи со строительством первого соборного храма крещеной Руси — церкви Богородицы, или Десятинной, входившей в комплекс княжеского дворца. Монументальный храм, мало уступавший по размерам будущей киевской Софии, естественно, не был предназначен лишь для нужд княжеского «двора»: он должен был вмещать значительное число недавно крещеных киевлян. Храм, заложенный, согласно «Повести временных лет», в 989 и освященный в 996 г., не случайно был посвящен Богородице (вероятно, Успению) — Десятинная церковь была предшественницей Софийской и аналогом главного собора Константинополя — Св. Софии; одновременно Десятинная церковь оказалась «преемницей» христианских святынь покоренного Владимиром Херсонеса — туда были помещены захваченные князем мощи Климента Римского и другие реликвии. Освящение произошло 12 мая — в воскресный день, связанный с предшествующим праздником «обновления Царьграда», освящения новой столицы империи — «второго Рима» — Константином Великим в 330 г. В «Повести временных лет» строительство Десятинной церкви — как в свое время и строительство Св. Софии в Константинополе — естественно ассоциируется со строительством первого (Соломонова) Храма в Иерусалиме. На совпадение отдельных мотивов в описании этих деяний Владимира и Соломона (начиная с Н. И. Костомарова) давно обращали внимание многие исследователи.
Десятинная церковь. Реконструкция Н. А. Холостенко
Киевский любитель старины Г. М. Барац отметил совпадение определенной последовательности мотивов в сюжете строительства Храма в Ветхом Завете и русской летописи: призвание мастеров из Тира и «от грек», строительство храмов на горе, украшение и снабжение их обрядовой утварью. Время, отведенное на строительство (семь лет) — обстоятельство, само по себе существенное для изучения летописной хронологии) и др. По освящении храма Владимир «створи праздник велик в тот день боляром и старцем градским, и убогим роздал имения много» (3-я Царств — «и сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним»). Показательно, однако, что при этом естественном для средневековой хронографии следовании библейскому образцу летописец избегает поминать самого Соломона, очевидно, памятуя его судьбу: тот не только «погиб» сам — погибло и его царство, распавшееся при его наследниках.
В библейском и летописном сюжетах строительства первого храма есть и еще одно существенное для нас различие: мотиву жертвы, принесенной Соломоном после освящения храма, и молитвы в летописи соответствует мотив десятины, пожертвованной храму. «Даю церкви сей святей Богородици от именья моего и от град моих десятую часть», — говорит Владимир. «И дал десятину Настасу Корсунянину». Поэтому сама церковь Богородицы была прозвана Десятинной.
2. Исторические истоки церковной десятины
Византийские истоки древнерусской церковной организации, равно как и византийское происхождение текстов, относящихся к сюжетам распространения христианства на Руси в летописи, традиционное и для Византии соотнесение Константина Великого с Соломоном, а для Руси — Владимира с Константином, на первый взгляд, делают очевидным происхождение и древнерусской десятины. Однако ни в Византии, ни в Западной Европе, где, как и во всем средневековом мире, была известна десятина, этот налог не был централизованным, а в Византии десятина вообще не шла церкви.
Ближайшие параллели десятине как централизованному налогу, идущему церкви от князя, как показал Б. Н. Флоря, известны в западнославянских землях. Это позволяло исследователям предполагать общеславянское и даже языческое происхождение десятины — клиру полагалось то, что некогда шло на содержание «волхвов»; языческое «наследие» кажется очевидным в описании «Повестью временных лет» того деяния Владимира, которое следовало сразу за крещением:
«Повеле рубити церкви и поставляти по местом, иде же стояху кумири. И постави церковь святаго Василья на холме, иде же стояше кумир Перун и прочий, иде же творяху потребы князь и людье».
В Киеве церковь Василия действительно была построена на месте капища: князь стал отправлять новый культ. Однако, как уже говорилось, в контексте древнерусской христианской литературы строительство церквей на месте капищ — общераспространенный символический мотив прославления победы христианства над язычеством.
Собственно древнерусские тексты указывают на иной, отнюдь не языческий, источник традиции взимания десятины в пользу церкви. Во всяком случае, мотив передачи десятины Владимиром Настасу (Анастасу) Корсунянину соответствует тому ветхозаветному сюжету, где также впервые упоминается десятина: праотец Авраам дает Мелхиседеку, «первому священнику (иерею) Всевышнего», десятую часть «от всего» (Бытие, 14: 20; см. также о десятине жреческому сословию — левитам, от которой десятая часть должна идти первосвященнику — Числа, 18: 21–32; в новозаветной традиции — К евреям, 7). Может быть, этот мотив несколько проясняет загадочную роль Настаса Корсунянина, наделяемого «книжной» функцией первожреца — не случайно в «Повести о Николе Заразском» он именуется епископом и крестит князя Владимира в Корсуни, а в Новгородской летописи Настас назван «иереем»; едва ли, вопреки некоторым предположениям, он был первым русским митрополитом или даже епископом — приписываемые ему в источниках «хозяйственные функции» явно заслоняют предполагаемые «иерейские». Впрочем, экономическое обеспечение церкви должно было сопутствовать и даже предшествовать ее созданию.
Введение ветхозаветного обычая десятины было связано также, со спецификой русского «феодализма». В Византии и Западной Европе церковь обеспечивалась земельными пожалованиями: при Карле Великом десятина представляла собой десятую часть того или иного земельного владения с его угодьями. На Руси не было развитой земельной собственности: содержание церкви могло обеспечиваться из государственных доходов — даней, «уроков», судебных пошлин и т. п.
3. Влияние библейских образцов на древнерусских летописцев
Существенно, что древнерусские тексты, повествующие о пожертвовании князем десятины «от всего имения» и т. п., ориентированы на ветхозаветный образец. В полном виде предписание десятины дано во Второзаконии:
«Егда же совершиши одесятити всю десятину плодов земли твоея в лето третье, вторую десятину да даси левиту и пришельцу и сироте и вдове, и ядят во градех твоих и насытятся».
Передача Владимиром десятины «от имения моего и от град моих» тяготеет к тому же библейскому контексту. В «Памяти и похвале Владимиру» Иакова Мниха упоминание о десятине, данной церкви Богородицы, прямо продолжается цитатой из Второзакония: князь дал десятину для того, чтобы «тем попы набдети и сироты и вдовича и нищая». Поппэ полагает, что первоначально Владимир следовал ветхозаветной заповеди и дал десятину только одной — княжеской — церкви. Еще Голубинский подчеркивал, что и впоследствии десятина шла епископам. При этом централизованная княжеская десятина, конечно, отличалась от ветхозаветной, которую должны были платить все праведные иудеи (к последней ближе десятина, взимавшаяся со всех свободных дворовладельцев в империи Каролингов).
На Руси в X–XI вв. именно княжеская власть, в руках которой сосредоточивались государственные доходы, должна была обеспечивать содержание церкви. Но эта древнерусская специфика не снимает вопроса о том, насколько летописный дар Владимира был «историческим актом» и насколько — данью книжному «этикету»: действительно ли в десятину шла «десятая мера всякого произраставшего хлеба и десятая голова всякого прибывавшего скота»? Ведь и слова т. н. Устава Владимира Святославича, составленного не ранее рубежа XI–XII вв., о десятине, которую князь дал церкви «из домов на всякое лето десятое от всякого стада и от всякого жита», и т. п. древнерусские установления нельзя рассматривать без учета устоявшейся библейской традиции (ср. о царской дани — десятой части от посевов и от мелкого скота — Ι-я Царств, 8:15 и т. п.).
Эта естественная для Руси ориентация на Ветхий Завет создает дополнительные сложности для различения «книжного», и реального в ранней русской истории. На первый взгляд кажется, что сами древнерусские тексты такого рода не дают возможности, во всяком случае напрямую, обнаруживать связь с «реальной» историей, и древнерусских книжников заботит больше соотнесение русских реалий с историей «идеальной», чем сами эти реалии. Но собственно акт наделения церкви Богородицы, прозванной Десятинной, десятиной и сведения о грамоте, которую дал князь церкви, относятся, конечно, к русским реалиям, а не к переиначенным библейским цитатам — цитаты были «приспособлены» К этому акту, совершенному Владимиром. Историческая конкретизация этого акта — уточнение источников десятины в том же Уставе Владимира, основой которого, возможно, и послужила грамота, данная Десятинной церкви. Там говорится, что князь «создах церковь святую Богородицю и дах десятину к ней во всей земли Руской ис княженья от всего суда десятую векшу, ис торгу десятую неделю, из домов на всякое лето десятое всякого стада и всякого жита» — это свидетельствует об исторической действенности ветхозаветной традиции на Руси, включении в десятину судебных и торговых пошлин. Соответственно первоначальная летописная десятина, данная Владимиром «от имения и от град моих», могла означать ту часть княжеских доходов, которые шли от княжеского хозяйства и из городов «Русской земли» в узком смысле — в Среднем Поднепровье, которые князь не раздал своим сыновьям. Более того, десятина от княжеского «имения», видимо, освобождала от нового побора только что крещеное население Руси.
Очевидно, библейский образец был действенным и влиял на реальную жизнь раннесредневековых правителей, особенно в эпоху «выбора веры», кардинальных перемен как в культовой, так и в бытовой сфере. Можно заметить, что Владимир был в этом отношении к «внешним требованиям» наиболее последовательным: таким его изображает летописец, но ему вторит сторонний и почти современный наблюдатель — Титмар Мерзебургский, писавший сразу после смерти князя. Упоминая «врожденную склонность» короля Владимира «к блуду», немецкий епископ заключал все же, что «услыхав от своих проповедников о горящем светильнике (евангельская заповедь — Лука, 12:35), названный король смыл пятно содеянного греха, усердно творя щедрые милостыни». Ср. слова Иакова Мниха:
«Князь же Володимер поревнова святых мужь делу и житию их, и возлюби Аврамово житие и подража странолюбию его, Иаковлю истину, Моисееву кротость, Давыдово безлобие, Костянтина, царя великого, перваго царя кристианского, того подражая правоверие, боле же всего бяше милостыню творя князь Володимер. И в градех, и в селех, везде милостыню творяше, нагыа одевая, алчныя кормя и жадныя напаяя, странныя покоя милостью; церковники чтя, и любя, и милуя, подавая им требование, нищая и сироты, и вдовица, и слепыя, и хромыя, и трудоватыя, вся милуя и одевая, и накормя, и напаяя»[24].
Летописное и житийное нищелюбие, равно как и былинные пиры, Владимира оказываются не просто литературными и фольклорными стереотипами.
Естественная ориентация на библейский образец приводила к тому, что реалии русской истории подвергались христианской интерпретации без «насилия над фактами». Нестор в «Чтении о Борисе и Глебе» обыгрывает языческое имя Владимир, противопоставляя его христианскому имени князя — Василий:
«Бысть бо, рече, князь в тыи годы, володый всею землею Рускою, именем Владимер. Бе же муж правдив и милостив к нищим и к сиротам и ко вдовичам, Елин же верою».
«Елин» — эллин — обозначение язычника в древнерусской традиции. После обращения он стал «исполнь благодати: како вчера заповедал всем требу принести идолом, а днесь повелевает хрьститися вчера Елин Владимир нарицаяся, днесь крьстьян Василий наричется. Се вторый Костянтин в Руси явися». Само византийское имя князя «вело» к ветхозаветному и параллельному византийскому образцу праведного царя: «василевс» Василий — Соломон — Константин; язычник («эллин») Владимир оказывался прообразом христианина Василия, как «ветхий» Соломон был прообразом Константина Великого. Эта историософия, как уже говорилось, была явлена летописцу (и русской раннесредневековой культуре) в «Речи Философа», где события ветхозаветной истории служили прообразом истории христианской — и русской. Парадигматическим для русской истории являлся и византийский христианский образец: в «Памяти и похвале князю Владимиру» говорится, что тот стал подражать «бабе своей Олзе, нареченей в святом крещении Елене, такоже и святыя царици Елены, матере великаго царя Коньстантина житию ревнуя во всем».
Христианская история Руси составила основу («Сказание о распространении христианства на Руси», по Лихачеву) начального летописания, но, несмотря на внушительный объем «религиозных» сюжетов — крещения Руси, истории Печерского монастыря и др., о Несторе нельзя сказать (как о других раннесредневековых историках), что его «рассказы о мирских делах» представляют собой лишь «добавления» — глоссы на полях церковной истории. История Руси и история русской христианской церкви объединены общим библейским всемирно-историческим контекстом и деяниями князей, строителей этой Церкви, как и отдельных церквей — храмов.
Для практики начального церковного строительства характерно описанное «Повестью временных лет» под тем же 996 г. основание Владимиром церкви Преображения в Василеве в память чудесной победы над печенегами. Церковь, очевидно, была «обыденной» — деревянной, построенной за один день; князь праздновал победу 8 дней после 6 августа, но к Успению св. Богородицы вернулся в Киев, чтобы продолжить празднование там: Богородица становилась покровительницей Русской земли и ее князей. Полагают, что при Владимире была построена и деревянная кафедральная церковь Св. Софии, сгоревшая во время пожара 1018 г., как о том сообщает Титмар Мерзебургский; тот же автор свидетельствует, что в Киеве имелось более четырехсот церквей: число храмов в крупных городах часто подвергалось «эпическому» преувеличению в средневековых источниках, однако можно думать, что в начале XI в. в Киеве уже имелась сеть приходских и даже «домовых» церквей знати. Сходные процессы церковного строительства должны были происходить и в других городах (Нестор в Житии Феодосия Печерского рассказывает, как юный подвижник заслужил покровительство некоего «властелина града», который позволил юноше «пребывать у него в церкви»), хотя археология не располагает прямыми данными о приходских церквях в X–XI вв.
Глава 12 Христианское и обычное право на Руси
1. Смертная казнь и «страх Божий»
Очередной задачей внутренней политики после религиозной реформы — крещения Руси — была реформа правовая. Смешение северных и южных племен, характерное и для юга (Киев и пограничные крепости), и для севера (Новгород, Ростов и другие города, где стояли дружины сыновей киевского князя) создавало не только новые социальноэкономические и этнические связи для нового — крещеного — русского народа. Очевидно, что это смешение создавало и новые проблемы, в том числе правовые. Летописное известие о разбоях, умножившихся в правление Владимира, выглядит парадоксальным в контексте того панегирического тона, в котором выдержаны летописные пассажи, посвященные христианскому периоду этого правления: Разбои, очевидно, были связаны с введением дополнительного налогообложения, десятины, равно как и с тем, что в соответствии с тем же Второзаконием вероотступник, вернувшийся к отправлению языческих обрядов, подлежал смертной казни. Разложение патриархально-общинного строя приводило и к появлению многочисленных убогих и «сирот», нуждавшихся в милостыне государства. Епископы советуют князю казнить разбойников, и тот сначала отказывается, так как «боится греха» — мотив, кажется, призван проиллюстрировать предшествующее утверждение летописца о том, что Владимир жил в «страхе Божием».
Смертная казнь всегда была проблемой в цивилизованном мире, в том числе — христианском. Казнимый не только лишался жизни — он лишался и возможности спасти свою душу: жизнь — Божий дар, она не может быть отнята человеком. Церковникам приходилось разъяснять, что земным властителям не зря дан меч — они должны поддерживать Божий закон на земле и казнить преступников.
«Страх Божий» в данном случае имел, однако, определенный правовой контекст. Еще по нормам «закона русского», сохранившегося в договоре с греками 911 г., допускалась материальная компенсация «ближним» убитого в случае, если убийца скроется и не будет убит на месте; разбойников же, по византийскому праву, следовало казнить на месте преступления. Князь уступает требованиям епископов, когда те говорят о «казни с испытанием» — судебным расследованием, — он отменяет виру, денежный выкуп, который платили князю за убийство свободного человека, и начинает казнить разбойников. Судебное новшество длится недолго — денежные поступления нужны для борьбы с печенегами, «на оружье и на коних», поэтому вира, судебная пошлина, восстанавливается.
Сходная тенденция обнаруживается Оболенским уже в первом славянском законодательном памятнике, составленном во время моравской миссии Константина и Мефодия на основе византийской Эклоги. В «Законе судном людем» лица, повинные в тяжких преступлениях, не подвергались «казни» (ослепление, отрезание носа) в соответствии с византийским законом, а подлежали продаже в рабство. Однако ближе к летописному тексту сентенция Жития св. Вячеслава (т. н. Легенда Никольского): чешский князь, прославленный своей христианской жизнью, «и людем себе порученым противу съгрешению казнити стыдяшеся, аще ли достойнаго закона лютость не твори, любы греха в том блюдяшеся». Эта чешская житийная традиция оказала большое влияние на древнерусскую словесность — не только на Жития Бориса и Глеба, но и на летопись. Но нельзя не заметить, что те же проблемы волновали ранее крестителя Болгарии Бориса: позволяет ли требование любви к ближнему и милосердия карать и казнить преступников, — спрашивал тот у папы Николая. Папа отвечал, что правосудие необходимо смягчать милосердием. Переход от традиционного (обычного) права к государственному и церковному законодательству порождал общие проблемы у правителей этих славянских государств.
Очевидно, что судебная реформа была необходима — обычное племенное право с вирой-откупом воспринималось уже как архаизм и, видимо, было недейственным, если не сдерживало «разбоев»: это естественно, если учитывать интенсивное разрушение племенных структур, происходившее как раз в силу реформ Владимира и крещения Руси. Но византийское право, которое рекомендовали ввести на Руси греческие епископы, не учитывало специфики русской государственности, прежде всего — княжеского суда и источников пополнения княжеской казны. Правовая реформа Владимира в этом отношении была обречена, и продолжатели государственного правотворчества — Ярослав Мудрый и Ярославичи — в Русской правде стремились к тому синтезу традиционных и византийских правовых норм, который был характерен уже для «прецедентного» права договоров руси с греками («закона русского»).
Это творческое отношение к византийскому образцу становится характерным для древнерусской традиции и выглядит даже «дуалистичным», когда декларируемый образец остается далеким от живой реальности. «Двойственным» оказывается и «имидж» самого Владимира: по летописи он — христианский просветитель, оказывающийся одновременно носителем традиционных для княжеской власти ценностей. Он творит пиры для своей дружины по воскресеньям («по вся неделя»), приспосабливая к христианским обычаям дружинный быт, раздает милостыню убогим, а дружине богатства: «бе бо Володимер любя дружину, и с ними думая о строе земленем, и о ратех, и о уставе земленем» (ПВЛ). В Начальной летописи — «Повести временных лет» — не говорится, однако, о той коллизии, которая непременно должна была стать последствием неудавшейся правовой реформы Владимира: в первой же статье Русской правды, данной уж Ярославом Владимировичем, сохраняется языческий обычай кровной мести, неприемлемый для церкви.
«И живяше Володимер по устроенью отьню и дедню», — завершает традиционной фразой этот пассаж летописец. В действительности, однако, внутренняя и внешняя политика Владимира была далека от «отнего и деднего устроенья».
2. Княжеская власть и византийский образец
Уже говорилось, что поход Владимира на Византию, точнее — на Корсунь, не ставил целью «придать» Руси новые владения. Поход ставил целью обретение христианского просвещения, а в политическом аспекте — женитьбу на багрянородной принцессе. Его христианская супруга Анна, именовавшаяся в летописи царицей (цесарицей), была сестрой Василия II, дочерью императора Романа и внучкой того самого Константина Багрянородного, который решительно отвергал в своем наставлении детям все претензии «варваров» на регалии и родство с императорским домом. Подобно Петру Болгарскому, русский князь мог претендовать на царский титул (каковым его наделяли поздние русские источники). Введший византийское богослужение, построивший рядом с Десятинной церковью дворец по примеру императорского дворца с храмом в честь Богородицы в Константинополе X в., Владимир увековечил свой официальный «имидж» еще одним нововведением, где он также, на первый взгляд, прямо следовал византийскому образцу. Князь стал чеканить собственную золотую и серебряную монету, где он изображался в императорском венце с нимбом и крестом в руке на престоле: легенды на монетах гласили: «Владимир на столе, а се его злато (сребро)», или «Владимире серебро, святого Василя», — то есть упоминали княжеское и крещальное имя князя. Такая русская легенда, использующая старославянский язык «болгарского извода», явно опиравшаяся на местные, а не византийские традиции, призвана была продемонстрировать легитимность власти. Владимира и его право на собственную чеканку монеты. На реверсе златников Владимира уже в соответствии с византийской традицией (свойственной, впрочем, императорским печатям, но не монетам) изображен Пантократор, на сребрениках — традиционный «знак Рюриковичей», трезубец). Показательно, что первые русские монеты не были обычным средством платежа — чекан был «престижным», призванным продемонстрировать равенство русского княжеского дома византийскому императорскому.
Претензии Владимира очевидны — он считал себя принадлежавшим к семье византийских императоров. Из источников неясно, претендовал ли он на титул кесаря и получил ли из Царьграда тот венец, который был изображен на его монетах: показательно, что на монетах изображен венец не кесаря, но самого василевса, императора — титул кесаря-«соправителя» едва ли мог устроить русского князя «единодержца» (монарха). Но Владимир, видимо, носил титул кагана, традиционный для политических притязаний русских князей с IX в.: каганом и «единодержцем земли своей» именует Владимира Иларион в «Слове о законе и благодати», которое явно испытало влияние панегириков византийским императорам. Князь действительно имел право на этот хазарский титул, ибо сохранил под своей властью часть территории Хазарского каганата — Тмутаракань, но там сидел его сын Мстислав, а в других городах — прочие сыновья, и единодержавие Владимира было весьма относительным: кальки с греческих титулов «монократор» и «автократор» — «единодержец» и «самодержец» — не вполне соответствовали древнерусским реалиям, ибо византийский самодержец не делил власти с сыновьями, тогда как сыновья киевского князя хоть и были его посадниками, но сидели со своими дружинами в собственных «волостях».
Литаврин отметил, что при всех претензиях на «самодержавие» киевские князья не присовокупили к своему титулу «автократора» императорский титул василевса — царя: только это сочетание могло бы свидетельствовать о настоящих имперских притязаниях Владимира. Вместе с тем титул «самодержец» означал независимость, суверенитет своей страны — в противоположность византийским представлениям о «содружестве» народов под эгидой императора ромеев[25]. Действительно, царем в древнерусской традиции именовался первоначально император ромеев; Иларион в «Слове» сравнивает Владимира с Константином: «он в елинех и римлянех царьство Богу покори, ты же — в Руси: уже бо и в онех и в нас Христос царем зовется». Таким образом, царем на Руси и даже в Византии оказывается не земной правитель, а Царь небесный: Владимир хотя и не именуется царем, но оказывается равным императору Константину. В древнерусской книжности князья могли наделяться «царским» достоинством, но это был церковно-литературный, а не государственно-правовой этикет: «царями» князья именовались тогда, когда они совершали богоугодные деяния.
Тем не менее сыновья Владимира унаследовали от отца его амбиции, ставшие государственной традицией, — свои монеты продолжали чеканить Святополк и Ярослав, последний также именуется у Илариона каганом. Но иная, более древняя «родовая» княжеская традиция вкупе с активизирующейся позицией городов (волостей) препятствовали воплощению «имперских» амбиций и византийского государственного образца на Руси.
Глава 13 Борис и Глеб — первые русские святые
1. Святополк Окаянный. Убийство Бориса и Глеба
После смерти Владимира в 1015 г., отмеченной в летописи панегириком с именованием Владимира «новым Константином великого Рима», крестившим себя и свой народ, разразилась усобица между сыновьями, сидевшими в своих волостях. Поппэ усматривает истоки этой усобицы в том, что князь назначил преемником законного сына от брака с Анной, каковым он считал Бориса, названного в крещении Романом, в честь византийского деда. Царское крещальное имя — Давид — носил и Глеб, другой предполагаемый сын Анны: Поппэ считает, что Борис и Глеб оказались в летописи сыновьями болгарыни в результате тенденциозного изложения их Жития после победы Ярослава в усобице (сравните, впрочем, болгарское имя Бориса, напоминающее о князе, крестившем Болгарию). Уже говорилось, однако, что слова агиографа в церковной службе о том, что Борис-Роман «цесарьскыим веньцемь от уности украшен», едва ли можно переносить в область политических реалий — не случайно далее в той же службе о Борисе и Глебе говорится, что они предпочли Царство Небесное:
«Крест в скипетра место в десную руку носяща, с Христом царствовати ныне сподобистася»[26].
Согласно летописи, Борис был любим «отцемь своимь паче всех» и врзглавлял отцовскую дружину в походе против печенегов — то есть мог считаться реальным соправителем, подобно «кесарю» при византийском императоре — «василевсе» (в своих молитвах, приводимых в «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора, Борис — как и Глеб — именует Владимира его царским христианским именем — Василий). Но византийский образец сталкивается с русскими реалиями, и когда Владимир умер, по старшинству киевский стол занял Святополк (сын Ярополка, усыновленный Владимиром), оказавшийся, по «Сказанию о Борисе и Глебе», в Киеве и тайно похоронивший Владимира в Десятинной церкви. Более того, Святополк, продолживший «престижный чекан» Владимира и поместивший на монеты свое изображение (с императорскими инсигниями, в нимбе и с крестом в руке), на реверсе монет велел изобразить свой собственный княжеский знак — не трезубец, а двузубец с крестом, явно восходящий к знакам Святослава и Игоря и, стало быть, демонстрирующий принадлежность Святополка к старшей ветви княжеского рода — ведь он был сыном Ярополка (по монетам с этими знаками стало известно и христианское имя Святополка — Петр).
Три произведения, повествующих о Борисе и Глебе, — летопись, Несторово «Чтение о Борисе и Глебе» и древнерусское «Сказание о Борисе и Глебе» — едины в описании исторических событий, следующих после захвата Святополком престола: Борис не внемлет призывам «отней» дружины следовать отцовскому замыслу и занять киевский стол, ибо не может поднять руки на старейшего брата. «Се да иду к брату моему и реку: «Ты ми буди отец — ты ми брат и старей. Что ми велиши, господи мой?»». Традиции «братнего рода» возобновляются на новой идейной основе: Борис помнит о поступках отца «преже святого крещения», но для него эти деяния «славы ради и княжения мира сего хуже паучины» (суетных мирских связей). Предвкушение мученической смерти противопоставляется здесь «мирской суете» Святополка — его стремлению к власти. Захват власти Святополком завершается убийством оставленного дружиной Бориса на р. Льте — там Ярослав позднее (1019) совершит отмщение и разгромит Святополка. Бориса тайно хоронят в Вышгороде — пригороде Киева — старом княжеском граде, поддержавшем Святополка, в церкви Святого Василия. Следом убивают Глеба, который также не посмел ослушаться старшего брата и отправился на его зов: Глеб был погребен под Смоленском на Смядыни «меж двумя колодами» — оттуда его велел перенести в Вышгород уже вокняжившийся в Киеве Ярослав, и тело Глеба, согласно «Сказанию» и «Чтению», чудесным образом оказалось нетленным.
В противоположность княжеским могилам, окруженным, по летописи, почитанием (вне зависимости от последующей канонизации), о могиле Святополка, разгромленного Ярославом и бежавшего в «пустыню» между «чехами и ляхами», говорится, что она издает зловоние (Святополк «бес памяти погыбе», гласит церковная служба Борису и Глебу). Сам Святополк, прозванный Окаянным, сопоставлялся агиографами с библейским Каином и Юлианом Отступником (также бесславно погибшим на чужбине), то есть изображался гонителем христиан, пришедшим на смену «второму Константину» — Владимиру.
Исследователь культа русских святых Г. П. Федотов предостерегал против «увлечения ближайшей морально-политической идеей… послушания старшему брату», хотя сам Нестор заканчивает ею свое «Чтение». Он пишет о чудесах, явленных святыми:
«Видите ли, братие, коль высоко покорение, еже стяжаста святая к старейшу брату. Си аще бо быста супротивилася ему, едва быста такому дару чюдесному сподоблена от Бога. Мнози бо суть детескы князи, не покоряющеся старейшим и супротивищася им, и убиваеми суть: ти не суть такой благодети сподоблены, яко же святая сия».
По Федотову, Борис не вдохновлялся древней традицией старейшинства, ее сформулировал устами святого князя летописец. Действительно, мы можем лишь предполагать глубину этой традиции — предание, донесенное до летописцев киевскими князьями и их дружинниками, обходило проблему отношений внутри княжеского рода при Рюрике, Олеге и Игоре: киевский князь должен был быть единовластным. на Руси — подобным кесарю (как на монетах Владимира, Святополка и Ярослава). С победы в княжеских распрях начинается правление Владимира, и он был младшим среди братьев. Тот же Федотов отмечает, что «династии, популярные на Руси, династии, создавшие единодержавие, были все линиями младших сыновей: Всеволодовичи, Юрьевичи, Даниловичи». Итальянский филолог Пиккио полагает, что мученичество Бориса и Глеба — это опыт христианизации политических обычаев Киевской Руси.
Возможно, формирующаяся при Владимире традиция «десигнации» или даже минората, передача стола (и отцовской дружины) младшему, остающемуся при родителе сыну, вызвала протест прочих братьев, рассчитывавших на традицию «старейшинства». Помимо открытого братоубийства в политике Святополка обращает на себя внимание то подозрительное (с точки зрения многих исследователей) поведение Ярослава, при котором «замалчивается» судьба Бориса и Глеба (в том числе в «Слове о законе и благодати «Илариона). Их имена не становятся княжескими именами Ярославичей, напротив — именем Святополка («Окаянного») Изяслав Ярославич нарекает своего сына (в 1050 г. — при жизни отца). Подозрения в отношении Ярослава, однако, не вполне основательны: нет прямых оснований подвергать сомнению историчность традиции, донесенной «Чтением о Борисе и Глебе», согласно которой чудеса над могилами святых были явлены еще при Ярославе и митрополите Иоанне I — до 1039 г. (под которым в летописи упомянут уже другой киевский митрополит — Феопемпт).
Показательно при этом, что Ярослав называет одного из своих младших сыновей именем Вячеслава — Вацлава, первого чешского святого, культ которого был популярен на Руси. Это было антропонимическое новшество: Вацлав — не представитель русского княжеского рода, а чешский христианский князь, павший от руки родного брата; его Житие оказало непосредственное влияние на формирование агиографического цикла, прославляющего Бориса и Глеба, о чем прямо свидетельствует «Сказание»: Борис сопоставляется там с мучениками Никитой, Вячеславом и Варварой.
Почему же Ярослав не назвал детей именами почитаемых братьев? Дело здесь, очевидно, в древнерусской антропонимической традиции: дети носили имена дедовского, а не «отнего» поколения, недаром Ярослав назвал своего старшего сына именем Владимир. Здесь «родовая» традиция совмещается с христианской, и имена даются детям вне прямой зависимости от того, чем прославился носитель того или иного имени: у следующего поколения князей распространяются «дедние» имена, в том числе Глеб (Святославич), рожденный при жизни Ярослава, и Борис (Вячеславич).
2. Канонизация Бориса и Глеба
Характерно, что сами Борис и Глеб были канонизированы под своими княжескими — «русскими» — именами (как впоследствии Ольга и Владимир), хотя вопрос о времени канонизации остается дискуссионным — не в последнюю очередь потому, что восточная (греческая) церковь, в отличие от латинской, не имела формализованной процедуры канонизации, предполагавшей на Западе (с X в.) обязательную санкцию папы. Не случайно летописное сказание (под 1072 г.) о перенесении мощей Бориса и Глеба в новую церковь отдельно повествует о «нетвердости веры» митрополита Георгия в святость князей-мучеников: лишь после отверзания раки Бориса и благоухания, которым исполнилась церковь, митрополит «ужаснулся», признал их святость и отслужил литургию (что может считаться формальной канонизацией).
Существенно, что Борис в «Чтении» Нестора, едва ли не впервые в русской литературе, являет свой патриотизм, предпочитая умереть на родине:
«Не отъиду, не отбежю от места сего, ни пакы супротивлюся брату своему, старейшому сущю; но яко Богу годе, тако будеть. Уне ми есть еде умрети, неже во инои стране».
Этот мотив важен для формирования культа «местных» святых — покровителей Русской земли. Чудеса, явленные при перезахоронении Глеба на Смядыни, на месте убиения Бориса на Льте, наконец, в Вышгороде, где огненный столп был виден над местом погребения мучеников, и многие другие чудеса (в том числе традиционные для средневековой агиографии исцеление немощных, освобождение из темницы невиновных), заставившие митрополита Иоанна переместить раку с мощами из недр земных в саму церковь, не просто демонстрировали святость князей-мучеников. Возникала целая «сеть» почитаемых в связи с деяниями и чудесами русских святых мест, главным из которых стала созданная Ярославом (согласно «Чтению») «во имя святых» деревянная церковь в Вышгороде (ее освящение сопровождалось праздником для «всех людей» и пожертвованием десятины от дани, которую должен был выплачивать, по княжескому повелению, «властелин града»). В «Сказании» Вышгород именуется вторым Солунем — сравнивается с Фессалониками, прославленными культом святого Димитрия: но Димитрий был покровителем лишь одного града, пишет агиограф, обращаясь к Борису и Глебу, «а вы не о едином бо граде, ни о дъву, ни о вьси селении — веси попечение и молитву въздаета, но о всей земли Русьскей!»
Формирование культа Бориса и Глеба как покровителей Русской земли связано с видимым парадоксом. Борис был сыном Крестителя Руси, который упокоился с «праведными», и он избрал самый высокий для христианина сыновний образец. Его предсмертная молитва в «Чтении о святых мучениках Борисе и Глебе» уподобляет его смерть жертве Христа: «Благодарю Тя, Владыко Господи, Боже мой, яко сподобил мя еси недостойного съобыцнику быти страсти Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Посла бо единочадного Сына Своего в мир, его же беззаконьнии предаша на смерть; а се аз послан бых от Отца Своего, да спасу люди от супротивяшихся ему поган, и се ныне уязвен есмь от раб Отца Своего». По словам Федотова, «подвиг непротивления есть национальный русский подвиг, подлинное религиозное открытие новокрещеного народа»[27]. Но тот же исследователь отметил и парадокс культа страстотерпцев — святые «непротивленцы» по смерти становятся во главе небесных сил, обороняющих землю Русскую от врагов: «Вы нам оружие, земля Русская забрала и утверждение и меча обоюду остра, има же дерзость поганьскую низлагаем» («Сказание о Борисе и Глебе»). Этот парадокс свойствен христианской историософии в целом: человеческая «история», начинавшаяся с грехопадения, отменяется добровольной жертвой Христа — грядет Царствие Божие; русское «княжение мира сего» хуже «паучины» для следующего Христу Бориса. Но земная история продолжается, и это объясняет актуальность для авторов житий и летописцев «ближайшей морально-политической идеи»: по смерти святые осуществляют те деяния, которые не смогли исполнить при жизни — ведь Борис должен был вернуться из похода против «поганых». Вместе с тем святые — покровители княжеского рода. «Сказание» начинается с цитаты из Псалма 111: «Род правыих благословится, и семя их в благословолении будеть» — и продолжается повествованием о русском княжеском роде: «самодержце» Владимире, просветившем крещением русскую землю, сыне Святослава, внуке Игоря, и о его двенадцати сыновьях. Борис и Глеб — небесные воины — «вмешиваются» в земную русскую историю, приходят на помощь своим «сродникам»-князьям, первым из которых был их брат Ярослав. Борис и Глеб не оставили потомков — они были «сродниками», а не предками русских князей: им суждено было стать воплощением единства русского княжеского рода. При их брате Ярославе и его детях создавался культ святых князей, и традиционное наследование от брата к брату, которое признавал «законным» Борис, сам Ярослав заповедовал своим сыновьям.
Конечно, христианская русская агиография изначально была привержена ценностям Нового Завета: князья Борис и Глеб стали добровольной жертвой — жертвой братской любви, которую церковь древней Руси хотела сделать государственной идеологией. Показательно при этом, что паремийные чтения о Борисе и Глебе включены в контекст чтения отрывков из Ветхого Завета — и здесь русская история соотносилась со Священной. Успенский обратил внимание на то, что паремийные чтения о Борисе и Глебе замещали сюжет о Каине и Авеле (с Каином сравнивали Святополка и этнографы) — начальная русская история соотносилась с началом Священной — всемирной истории[28].
Глава 14 Ярослав Мудрый
Ярослав унаследовал от Владимира ориентацию на византийский образец в сфере государственной эмблематики: он так же, как и отец, чеканит монету, причем, по некоторым предположениям, выпуск «Ярославля сребра» он начал в Новгороде при жизни отца, заявляя таким образом о претензиях на самостоятельность. Показательно, что на монетах изображен уже не Пантократор[29], а святой покровитель Ярослава, Георгий (на реверсе — княжеский трезубец, унаследованный от отца); обнаруженная при раскопках в Новгороде печать Ярослава, видимо, относящаяся ко времени его вокняжения в Киеве (1019), запечатлела облик самого князя в коническом шлеме (но не в императорских регалиях); на обороте — св. Георгий. Очевидно, что «этикетный» византийский образец просвечивает и в тексте ПВЛ, повествующем о вокняжении Ярослава в Киеве; «Ярослав же седе Кыеве, утер пота с дружиною своею, показав победу и труд велик». «Золотой пот» государя, пролитый во благо своих подданных, — общее место в панегириках византийским императорам. Но и здесь русская княжеская традиция не оставляла возможностей для утверждения византийского образца единовластия.
Младший брат Ярослава Мстислав, княживший в отдаленной Тмутаракани, в 1024 г. сел в Чернигове — втором по значению городе Русской земли в Среднем Поднепровье. Через два года, по летописи, братья заключили мир и «разделиста по Днепр Русьскую землю: Ярослав прия сю сторону (Правобережье с точки зрения киевского летописца), а Мьстислав ону». Напомним вслед за А. Н. Насоновым, что Русская земля — первоначальный домен киевских князей в Среднем Поднепровье — сформировалась на основе той территории, с которой брали дань хазары. Наследник хазарских владений Мстислав претендовал на традиционную податную территорию, будучи уже христианским правителем: в 1022 г. в Тмутаракани он построил церковь Богородицы, в Чернигове заложил Спасский собор, где и был погребен. Этот сохранившийся до наших дней четырехстолпный храм с обширными хорами для княжеской семьи, характерными для княжеского церковного строительства, так же воспроизводит константинопольские (корсунские и солунские) образцы, как и предшествовавшая ему Десятинная церковь. Лишь после смерти Мстислава, не оставившего наследников, в 1036 г. «перея власть его всю Ярослав и бысть самовластець в Русьстей земли».
1. Создание единой русской митрополии
Распри между князьями — потомками Владимира Святославича (равно как и дальнейшие княжеские усобицы) — не могли не сказаться на становлении церковной организации на Руси, в том числе единой русской митрополии. Яхья Антиохийский в цитированной «Истории» писал, что Василий II послал к Владимиру «митрополитов и епископов» для крещения «царя» и всей его земли, но не сообщал прямо об учреждении митрополии. Есть лишь косвенные основания для предположений, что митрополия, подчиненная Константинопольскому патриархату, была основана в Киеве после 996 г., когда с основанием Десятинной церкви была создана материальная база для обеспечения церковной организации.
В списке епископий Константинопольского патриархата митрополия Росии заняла свое место перед митрополией Алании до 997 г. В позднейшем (XIV в.) византийском трактате «О перемещении» говорится, что в царствование Василия II (976–1025) в Росию из Севастии был переведен митрополит Феофилакт. Упомянутый Устав князя Владимира, архетип которого восходит, видимо, к рубежу XI–XII вв., и поздние русские летописи называют первыми митрополитами Михаила или Леона, но сведения о них апокрифичны согласно им, первый митрополит был взят «на Киев и на всю Русь» при патриархе Фотии. Предположительно, митрополичьей церковью стала не дворцовая Десятинная, а деревянная Св. София, сгоревшая, согласно Новгородской первой летописи, в 1017 г. и заново отстроенная при Святополке в 1018 г. Описывающий события этих лет Титмар Мерзебургский сообщает, что польский король Болеслав послал для переговоров к разбитому Ярославу «архиепископа» захваченного поляками и Святополком Киева. Древнерусские «Чтение» и «Сказание» о Борисе и Глебе именуют архиепископом и митрополитом Иоанна I, занимавшего кафедру при вокняжении Ярослава в Киеве. Однако в «Сказании о перенесении мощей Бориса и Глеба» в Вышгород (1072 г.) упоминаются два митрополита — киевский и черниговский, что дает основания предполагать сосуществование двух митрополичьих кафедр в Среднем Поднепровье после того, как Ярослав и Мстислав поделили по Днепру Русскую землю.
Много спорных вопросов содержит и начальная история епископских кафедр, хотя летописи и Иларион свидетельствуют о деятельности епископов на Руси и при Владимире, и при Ярославе. Уже упоминавшаяся Новгородская первая летопись, а за ней и более поздние летописные своды именуют первым новгородским епископом Акима (Иоакима) Корсунянина, привезенного. Владимиром из Корсуня, — он умер в 1030 г.; есть основания полагать, что при нем была срублена первая новгородская София по образцу деревянной киевской. Она сгорела, согласно Новгородской первой летописи, в 1049 г., уже после закладки в 1045 г. на другом месте каменной Софии.
Новгородская I, а за ней Новгородская IV и Софийская I летописи говорят о рассылке Владимиром епископов и диаконов и «по иным градом», но конкретные кафедры не называются. Позднейшая Никоновская летопись приписывает сменившему первого (якобы присланного Фотием) митрополита Михаила Леонту (Леону) доставление в 992 г. епископов Новгороду, Чернигову, Ростову, Владимиру (на Клязьме — в летописи его строительство тенденциозно приписывается Владимиру Святославичу, а не Мономаху) и Белгороду — древнему городу в Киевской земле. В этой «реконструкции» церковной истории действительно перечислены древнейшие русские кафедры, но предполагать учреждение Владимиром Святославичем епископии можно лишь в Белгороде под Киевом: грамота об основании епископии в Турове (список XVII в.) относит это событие к 1005/06 г. Вероятно, крупным церковным центром в середине XI в. стал Переяславль, где вокняжился (до 1054 г. — при жизни отца) Всеволод Ярославич.
Определенно можно говорить о ранней истории митрополии в Киеве после 1036 гг. — достижения Ярославом единовластия в Русской земле. В Новгороде он сажает своего старшего сына Владимира и ставит епископа — Луку Жидяту (сочетание «языческого» славянского — Жидислав, в уменьшительной форме Жидята — и крестильного имен сохраняется не только в княжеском роде, но и в среде высшего духовенства). Под 1039 г. «Повесть временных лет» повествует о вторичном освящении Десятинной церкви греком-митрополитом Феопемптом: известны две его печати. Видимо, не случайно Новгородская I летопись именует первым митрополитом русским именно Феопемпта.
2. Строительство храма Святой Софии в Киеве и других соборов
Укрепление единой государственной власти при Ярославе сопровождалось интенсивным церковным строительством. Под 1037 г. в «Повести временных лет» говорится о заложении князем нового «великого» города в Киеве с Золотыми воротами и надвратной церковью Благовещения, монастырей Святого Георгия и Святой Ирины, носивших имена патронов князя и княгини Ингигерд-Ирины (здесь князь также следовал византийскому имперскому образцу), наконец — Святой Софии — «русской митрополии». «Русская митрополия» — грандиозный храм Святой Софии не имеет аналогов в современной ему византийской архитектуре, но символически воспроизводит давний образец, Святую Софию в Царьграде (соответственно устав Святой Софии был положен в основу богослужения в Древней Руси). Недаром прославляющий деяния Ярослава Иларион пишет, что Софии нет равных «во всем полунощи земнем, от востока дъ запада» — киевский собор сопоставим лишь с константинопольским. Двенадцать малых глав Софии с центральным куполом символизировали апостольскую миссию князей — крестителей Руси и основателей церкви: ср. летописное предание о двенадцати сыновьях Владимира. Как уже говорилось, монументальность ранней русской церковной архитектуры имела и вполне прагматический смысл: при отсутствии развитой сети приходских церквей приходилось строить здания, способные вместить всех желающих присутствовать на богослужении. По летописи, Ярослав стремился решить и проблему приходских церквей:
«И ины церкви ставляше по градом и по местом, поставляя попы и дая им от имения своего урок, веля им учити люди и приходити часто к церквам. И умножишася прозвутери и людье хрестьяньстии».
Киев Ярослава воспроизводил на Днепре Константинополь — даже планировка города с пересекающимися перпендикулярно главными улицами соответствовала античной традиции. Кафедральный собор Св. Софии с образом Богоматери-Оранты и надписью (на греческом) в апсиде над алтарем, именующей Богоматерь «Нерушимой стеной» — покровительницей города; Золотые ворота с церковью, также посвященной Богородице, — все эти сообружения свидетельствовали о восприятии византийской идеи о Богородице как покровительнице города-митрополии («матери городов русских», как Киев именуется в летописи еще Вещим Олегом).
Но строительная деятельность Ярослава, как уже говорилось, не ограничивалась одним Киевом: в 1045–1050 гг. «свершена бысть святая Софея в Новегороде, повелениемь князя Ярослава и сына его Володимера и архиепископа Лукы».
Уступающий размерами киевской Софии храм воспроизводил, однако, пятинефный киевский образец и, очевидно, был построен теми же греческими мастерами. Более того, по тому же образцу был возведен и Софийский собор в Полоцке, построенный в середине XI в., хотя княжил там (с 1044 г.) соперник Ярослава и его потомков Всеслав: это обнаруживает единые тенденции в развитии христианской культуры разных древнерусских земель, вне Зависимости от их политической ориентации. Показательна в этом отношении и городская строительная деятельность Ярослава. Два города, основанные князем в крайних пределах Русской земли, — Юрьев у подвластной Руси чуди и Юрьев на р. Рось, на границе со степью (Ярославль, получивший «княжеское» имя, был основан в третьем важнейшем «пограничном» регионе — Верхнем Поволжье) как бы передавали всю Русь под покровительство святого Георгия.
3. Развитие «книжности»
«Повесть временных лет» содержит панегирик князю, любившему «церковные уставы», попов и черноризцев, о которых еще не было речи при Владимире Святославиче и которые стали «множиться» при Ярославе. Князь днем и ночью читал книги и собрал писцов, «прекладавших» книги «от грек на словеньское письмо». Его отец Владимир «землю взора и умягчи, рекше крещеньемь просветив. Се же насея книжными словесы сердца верных людий; а мы пожинаем, ученье приемлюще книжное» (ПВЛ). Любовь Ярослава к книгам, в том числе покровительство деятельности переводчиков, — деяния, благодаря которым князь заслужил в позднейшей русской традиции прозвище «Мудрый», — не были, конечно, простыми проявлениями «библиофильства». Безусловно, потребность в книгах, и не только богослужебных, была насущной для Древнерусского государства.
Каковы бы ни были источники славянских переводов, о которых в современной литературе ведется обостренная полемика, очевидно, что древнерусская литература в первый век своего христианства интенсивно впитывала и синтезировала самые разнообразные тексты. Этот факт подтверждает не только упомянутая выше находка в Новгороде церы с каноническими и апокрифическими текстами, но и начальное летописание, использовавшее, помимо «фольклорных» сказаний о первых русских князьях и церковных легенд о начале христианства, библейские тексты, византийские хроники, кирилло-мефодиевскую традицию, фрагменты еврейской книги «Иосиппон».
При Ярославе, по гипотезе Шахматова, стал составляться Древнейший летописный свод, включавший сказания о первых русских князьях — историческое обоснование становления Русского государства (при этом включение в свод собственно княжеской исторической традиции не позволяет считать его «митрополичьим»); тогда же, по предположению Лихачева, формировалось летописное «Сказание о распространении христианства на Руси» — тексты о крещении и житии Ольги, крещении Владимира, объединенные стилистически и сюжетно, составившие основу гипотетического Древнейшего свода. Видимо, при Ярославе переводятся или переписываются на Руси болгарские переводы византийских хроник, в том числе Хроника Георгия Амартола, положенная в основу начального русского летописания, — деятельность русских книжников была организована Ярославом и направлена на создание государственной идеологии, отраженной Начальной летописью.
Глава 15 «Слово о законе и благодати»
1. Обоснование единовластия
Общегосударственные задачи, стоявшие перед первыми русскими книжниками, явствуют уже из первого русского литературного произведения — «Слова о законе и благодати». Его составил будущий митрополит Иларион. До 1051 г., он был, видимо, пресвитером церкви Св. Апостолов в княжеском селе Берестово; летопись характеризует его как книжника и постника — он первым «ископа печерку» для уединенной молитвы, где затем возник Киево-Печерский монастырь. Русский по происхождению, Иларион получил редкое для русских книжников риторическое образование и опирался в своем творчестве на образцы византийского красноречия. Время (между 1037 и 1050 гг.) и повод, по которому было составлено и произнесено «Слово», даже самый его жанр остаются предметом дискуссии. Судя по последним наблюдениям, «Слово» представляет собой гомилитическое произведение, трактующее читаемый при богослужении пассаж из Послания к галатам апостола Павла. Центральной идеей проповеди Илариона оказывается, однако, не просто комментарий к библейским богослужебным текстам: ведь благодати в «последние времена» сподобилась Русская земля, «яже ведома и слышима есть всеми четырьми конци земли». Этой благодати Русь сподобилась благодаря просветительскому подвигу князей — Владимира и Ярослава.
Иларион наделяет Ярослава, как и его отца Владимира, традиционным для Восточной Европы высшим хазарским титулом — каган, отмечая при этом его «благоверие». Мотив «единодержавия» киевского князя оказывается одним из главных в проповеди Илариона. Именно «единодержец» князь, чье «благоверие» сопряжено с властью, обращается от «идольской лести» к познанию «единого Бога» и обращает весь народ не только «любовью», но и «страхом», подобно тому, как покоряются князю другие страны — «овы миром, а непокоривыя мечем».
Иларион превозносит славу «нового народа» и вновь крещенной Русской земли, которая для него превыше славы древних, как новая Благодать выше «ветхого» Закона, ибо русские князья «не в худе и неведоме земли владычьствоваша, но в Руське, яже ведома и слышима есть всеми четырьми конци земли». «Все четыре конца земли» — это не просто метафора вселенской славы: Русь оказывается наследницей ушедшей славы древнего Израиля — ср. пророческие слова Иезекииля «Земли Израилеве конец прииде, конец прииде на четыри край земли» — и даже преходящей славы Царьграда. Русский книжник унаследовал и продолжил эту традицию, но новым центром нового народа, откуда распространяется «благая весть», для него становится не Иерусалим и не Константинополь, а Киев: туда из Константинополя — нового Иерусалима — переносят крест на Русь Владимир с бабкою своею Ольгою. Более того, из подтекста «Слова» следует, что внове призванный к Благодати русский народ — «работники одиннадцатого часа» — выше не только ветхого (и хазарского) иудейства, которое «расточено по странам», но и самих греков. При этом нет оснований усматривать в «Слове» антивизантийскую (равно как и антииудейскую) политическую направленность (против этих популярных в современной историографии идей справедливо возражают Мюллер и другие исследователи) — уже говорилось, что и сюжет, и риторика Илариона основываются на константинопольских образцах красноречия.
При этом Иларион не использует византийской традиции о божественном происхождении власти. Впрочем, в «Слове», обращенном к крестителю Руси Владимиру, говорится о сыне его Ярославе-Георгии:
«Его же сътвори Господь наместника по тебе твоему владычьству не рушаща твоих устав, нъ утверждающа. Иже недоконьчаная твоя наконьча, акы Соломон Давыдова, иже дом Божии великыи святыи его Премудрости създа на святость и освящение граду твоему».
Правда, здесь речь идет о наследовании и следовании ветхозаветному образцу: город Ярослава и Св. София сменяют город Владимира и дворцовую Десятинную церковь как Храм Соломона — град Давида и скинию Завета. Не менее определенно о божественной санкции власти говорится в завершающем «Слово» обращении к Владимиру:
«Паче же помолися о сыне твоемь, благовернемь кагане нашемь Георгии. бег блазна же Богом даныа ему люди управивша».
Отсутствие собственно византийской теории о божественном происхождении государственной власти представляется естественным и в контексте «Слова» — «похвал» Владимиру и Ярославу, и в контексте собственно русской истории. Действительно, власть, которую наследовал сам Владимир от деда и отца, Игоря и Святослава, «мужьством и храборъством прослуша в странах многах», никак не могла быть божественной, ибо принадлежала язычникам и имела «земное» устроение — призвание новгородцами рода варяжских князей: злополучный конец языческих князей в летописи противопоставлен тем панегирикам, которые заслужили там же Владимир и Ярослав, а также Борис и Глеб, вообще отказавшиеся от этой власти. Вместе с тем государственная власть, прежде всего — единодержавие — имела для русских книжников провиденциальный смысл. Язычник Владимир «единодержець быв земли своей. И тако ему в дни свои живущю и землю свою пасущю правдою, мужьством же и смыслом» («Слово») — еще до крещения (подобно Константину Великому); но земная правда и смысл противопоставлены Иларионом Божественному промыслу, которому приобщился единодержец Владимир, не видевший ни апостола, ни чудес (вопреки Корсунской легенде), но «токмо от благааго смысла и остроумия» (разгадавший Божественный промысел подобно библейскому Аврааму).
В «Похвале» Илариона Владимир-Василий именуется «во владыках апостолом», учителем и наставником, повелевшим славить Святую Троицу «во всех градах», прославляется за нищелюбие и «милость на суде» (освобождение должников и «работных»). Князь прямо уподобляется Константину Великому — «с епископы сънимаяся чясто, съвещаваашеся, како в человецех сих ново познавшиих Господа закон уставити». Подобно Константину и Елене Владимир с бабкою своею «Ольгою принесъша крест от новааго Иерусалима, Константина града, и сего по всей земли своей поставивша, утвердиста веру». С этого момента, когда к мужеству и смыслу добавилось благоверие (сопряженное с властью), когда Владимир стал Василием, его образ приблизился к имперскому образцу, а его власть обрела божественную санкцию.
Действительно, титул кагана, которого добивались и судя по всему добились русские князья к концу X в., не предполагал «божественной» санкции с точки зрения Илариона: напротив, в соответствии с идейным замыслом «Слова», этот титул — титул главы иудейского государства — прямо отсылал к «ветхому» Закону, но не к новой Благодати. «Сьвлече же ся убо каган нашь (Владимир) и с ризами ветъхааго человека съложи тленнаа, отрясе прах неверия и вълезе в святую купель, и породися от Духа и воды, в Христа крестився». Вместе с тем и этот титул, и проводимая Иларионом генеалогическая линия — от деда Игоря Старого к внуку и правнуку — свидетельствовали о той тенденции, пути к единовластию, которая пробивала себе дорогу в русском княжеском роде, начиная с того времени, когда русские князья стали претендовать на хазарский титул. Очевидно, что Иларион следует здесь той же княжеской традиции, которой следовал летописец, составлявший «сказания» о первых русских князьях (предполагается даже участие самого Илариона в начальном русском летописании). Он руководствуется не только политическими амбициями русского княжеского рода, с языческих времен претендовавшего на этот титул, но и общей для древнейшей русской книжности тенденции. В начальном летописании избавление от хазарской дани со славян воспринималась как освобождение из египетского плена богоизбранного народа, призванного властвовать над другими: «Володеють бо козары русьскии князи и до днешнего дне», — заключает летописец.
Но в летописной традиции само призвание князей в Новгород не есть «божественный акт», а связано с «земным» рядом. При этом упор делается на прямую генеалогическую линию — мотив князей-братьев, в том числе упоминание Бориса и Глеба, и братнего согласия внутри княжеского рода отсутствует у Илариона и остается периферийным в летописных — древнейших — сказаниях о первых русских князьях вплоть до рассказа о братьях Ярославичах, наследниках Ярослава Мудрого. «Каганы» Владимир и Ярослав стремились всеми средствами утвердить идею «самовластия», в государственной идеологии осуществлялся синтез славяно-русской, хазарской и византийской традиций, но «родовая» княжеская традиция также сохраняла свое значение в том же «Слове о законе и благодати».
2. Слово и образ
Иларион обращается к Владимиру:
«Виждь чадо свое Георгия, виждь красящааго стол земли твоей, — и продолжает: — Виждь благоверную сноху твою Ерину, виждь вънукы твоа и правнукы»…
Это обращение к покойному «кагану» как бы воспроизводит словесно знаменитую ктиторскую фреску Софийского собора, изображавшую членов семьи Ярослава Мудрого (известную по рисунку Вестерфельда). Предполагалось даже, что само «Слово» было произнесено Иларионом при освящении киевской Софии (хотя существует гипотеза Мюллера о том, что «Похвала» Владимиру была произнесена у его гроба в Десятинной церкви). Наблюдения современного филолога С. Сендеровича выявляют глубинный смысл, связующий историософию Илариона с храмом и храмовой литургией: «Литургический цикл имеет трехслойный характер: он представляет события и формулы еврейской истории в качестве пророчеств о Христе, в центре его находится цикл жизни Иисуса, и третий его слой составляют службы святым пост-евангельским, т. е. самой новой истории. Этому соответствует и трехъярусный принцип декорирования храма. Лихачев когда-то говорил о монументальном принципе древнерусской культуры. Это он и есть. Храм был центральным феноменом, воплощавшим этот монументальный принцип, определявший строительное религиозное сознание. Космологический план храма не должен заслонять его исторической основы. Можно сказать, что историческая парадигма Илариона — это проекция литургико-храмовой концептуальной структуры на историческую ось»[30]. Новая русская история у Илариона венчает историю христианскую, пришедшую на смену ветхозаветной, — княжеское семейство на ктиторской фреске Софии предстоит Христу.
Там были изображены сам Владимир и Ярослав, подносящий храм Христу: он носит императорский венец — стемму, но показательно, что здесь же изображено все семейство Ярослава — жена Ирина, его сыновья и дочери, что не характерно для византийских ктиторских композиций. Огромные хоры Софийского собора были построены для того, чтобы вмещать это многочисленное княжеское семейство, а тринадцать глав Софии не только напоминали о Христе и его апостолах — они призваны были освещать просторные хоры: архитектура Софии, как и других первых русских храмов, включая Десятинную церковь и Спасский собор, построенный Мстиславом в Чернигове, учитывала специальный «княжеский заказ» — размещение княжеского рода.
Глава 16 Была ли Древняя Русь «двоеверной»?
1. Христианство и традиционный быт
Как уже говорилось, «могилы» последних языческих князей были раскопаны в 1044 г. при Ярославе Мудром: «Выгребоша два князя, Ярополка и Ольга, сына Святославля, и крестиша кости ею, и положиша я в церкви святыя Богородица» — Десятинной. Неканоничность этого акта Ярослава Мудрого — крещение умерших было запрещено Карфагенским собором, нельзя было даже молиться за умерших в язычестве предков — до сих пор является предметом обсуждения: допускают, что Ярополк и Олег приняли «оглашение» при жизни их бабки Ольги. Но возможно, задачи создания усыпальницы всего княжеского рода имели и более прагматический и специфически «древнерусский» характер: Ярополк и Олег, равно как Борис и Глеб, погибли в распрях между братьями — членами княжеского рода, тех распрях, главным участником (и даже инициатором) которых был победивший и добившийся единовластия в Русской земле Ярослав. Так или иначе, он устранил своих соперников-братьев, но не отменил родового характера княжеской власти на Руси: единственное, что могло сохранять порядок и целостность Русской земли — это братняя любовь и подчинение старшему брату, киевскому князю; такой «завет» Ярослав, по летописи, оставил своим сыновьям-наследникам. Ярослав «объединил» в усыпальнице Десятинной церкви распадающийся княжеский род — инициаторов и жертв первой усобицы. И последующие (в частности, в Киевском своде 1200 г.) посмертные летописные панегирики говорят о кончине князей, используя ветхозаветный фразеологизм — «и приложися к отцем своим и дедом своим»: русский княжеский род уподоблялся роду праведных царей.
«Повесть временных лет» свидетельствует о еще одном акте «единодержавного» князя: под 1051 г. говорится: «Постави Ярослав Лариона митрополитомь русина в Святей Софьи, собрав епископы». Уже в Никоновской летописи приводится каноническое обоснование этого акта избрания епископами, и сам Иларион в ставленнической записи, завершающей список полной редакции его «Слова», свидетельствует, что он был «священ и настолован» «от богочестивыих епископ». Из летописи очевидно при этом, что Ярослав стремился проводить независимую от Византии церковную политику, поставив (подобно византийскому императору) русского митрополита не в Константинополе, а в Киеве.
Ярославу и митрополиту Иларйону уже в древнерусский период приписывался «Устав о церковных судах» — сложный по составу памятник церковного права, формирование которого большая часть исследователей относит к домонгольской поре. Существенно, что этот устав, определявший категории лиц и преступлений, неподсудных князю, его боярам и судьям, дополнял «государственное» (точнее корпоративное — дружинное — и обычное, сохранявшее в «Правде Ярослава» даже неприемлемую для христианства кровную месть) право и изымал из сферы обычного (общинного) права регуляцию брачных норм, семейных отношений и конфликтов и т. п. Показательно также, что штрафные санкции за пережитки традиционных обычаев: умыкания (приравниваемого к изнасилованию), обрядовых действ — «игрищ» — включали не только (и не столько) каноническую (византийскую) епитимью, но и систему денежных штрафов, сходную с «Русской правдой». При этом они шли преимущественно в пользу епископов, а не князя — тот лишь исполняет приговор — «казнит». Характерна в этом отношении статья Устава об убийстве, произошедшем во время свадебного обряда — видимо, речь шла об увозе невесты и ритуальном бое между свадебными дружинами родичей невесты и жениха. Убийство это не считалось просто уголовным, и вира шла пополам — князю и епископу.
Исследователи церковных уставов, приписываемых древнерусской традицией Владимиру и Ярославу, обратили внимание на то, что «усилия их составителей направлены почти исключительно на утверждение христианских норм семейно-брачных отношений. Здесь не названы такие актуальные для законодательства иных раннефеодальных государств меры, как санкции за совершение языческих обрядов, нет норм, направленных на принуждение населения к участию в христианской литургии и на выполнение других обязанностей в отношении церкви»[31]. Действительно, лишь в отдельных редакциях уставов можно обнаружить древнерусскую специфику — подсудность церкви тех, кто «молиться под овиномь, или в рощеньи, или у воды», наряду с «каноническими» преступлениями, к каковым относились в уставах (вслед за византийским правом) «ведьство (ведовство), зелииничьство (изготовление зелий), потвори (колдовство, отрава), чародеяния, волхования», магические узлы-«наузы» и т. п., равно как кощунственное поведение в церкви, воровство церковного имущества, общение (в том числе трапеза) с иноверцами и т. п.
Участие государственной власти, наряду с церковью, в распространении христианских обычаев очевидно уже из приведенных данных о смене погребального обряда на всей контролируемой Древнерусском государством территории к началу XI в. Очевидно и существование на Руси княжеских установлений, обязывающих прихожан, в частности, «приходити часто к церквам», как это заповедовал, по летописи, Ярослав: сходные законы принимались Стефаном Венгерским и Бржетиславом Чешским (на что внимание автора обратил Б. Н. Флоря). Отсутствие подобных требований в церковных уставах, по-видимому, связано со спецификой древнерусской правовой традиции, ориентированной на воспроизведение норм византийского церковного права. Во всяком случае, новгородский епископ Лука Жидята в «Поучении к братии» также заповедал «не ленитися к церкви ходити, и на заутреню, и на обедню, и на вечернюю». Актуальность этой заповеди подтверждал летописец, составлявший «Повесть временных лет»:
«Но сими дьявол лстить и другыми нравы, всячьскыми лестьми пребавляя ны от Бога, трубами и скоморохы, гусльми и русальи. Видим бо игрища утолочена, и людий много множьство на них, яко упихати начнуть друг друга, позоры деюще от беса замышленаго дела, а церкви стоять пусты».
Направленность древнерусских церковных уставов на оцерковление традиционных семейно-брачных отношений естественна: ведь именно традиционная «семейная» обрядность, сохранявшая родоплеменные пережитки, была основой внецерковных, как «семейных», так и «календарных», праздников. Отношение составителей «Устава о церковных судах», равно как и «Устава князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных» и русских книжников в целом — начиная с «Повести временных лет» — к народным обычаям как к языческим «игрищам» во многом повлияло на сложившиеся в древнерусской книжности и современной историографии представления о «двоеверии», парадоксальном сочетании языческого и христианского в древнерусской и традиционной народной культуре. Между тем христианская и традиционная культуры взаимно дополняли друг друга во всех европейских странах, включая и Византию: более того, почитание христианских святых на Иванов, Ильин, Юрьев и другие «отмеченные» дни — то есть структура календаря, наряду со многими другими обычаями (в том числе упомянутыми русалиями, купальем — Купалой) и суевериями, были восприняты на Руси из христианской Византии.
Показательно, что летописец обличает игрища и скоморохов как нехристианские — языческие действа: но эти действа и ряженые находят место в новой христианской культуре, в росписях Софии Киевской. Правда, эти фрески размещаются отдельно от канонических иконописных сюжетов, на лестницах, ведущих на хоры, — их могли рассматривать представители княжеской семьи. Видимо, с княжескими пристрастиями связано и единственное оставшееся от домонгольских времен произведение «светской» древнерусской словесности — «Слово о полку Игореве», где русичи могут изображаться солнечными «Дажьбожьими» внуками (для церковников Дажьбог — бес, у него не может быть земных потомков).
Календарные и семейные праздники оставались, как показал еще Е. В. Аничков, главным объектом непримиримой церковной полемики против «двоеверцев», которые «отай» якобы поклоняются идолам. Следует отметить, вслед за большинством исследователей, что культы языческих божеств были вытеснены почитанием христианских покровителей: Перуна заместил пророк Илья, Волоса — св. Власий, Мокошь — Параскева Пятница. Более того, усилия церковников, объявлявших языческих богов бесами, увенчались успехом — в русском фольклоре демон болезни волосатик или вредящий нерадивым пряхам злой дух мокошка лишь по имени напоминают богов древнерусского пантеона.
2. Восстание волхвов — «языческая реакция» или богомильская ересь?
Свидетельством «языческой реакции» обычно считаются описанные в летописи под 1024 и 1071 г. «восстания волхвов». В 1024 г. во время голода «въсташа волъсви в Суждали, избиваху старую чадь по дьяволю наущенью и бесованью, глаголюще, яко си держать гобино (урожай — В. П.)». В Ростовской земле и Белозерье во время голода 1071 г. два волхва — смерды князя Святослава Ярославина обвинили в голоде знатных женщин, которые якобы прятали припасы, и магическим образом доставали из тел этих женщин «любо жито, любо рыбу».
Когда волхвы и их сторонники, расправляясь с «лучшими женами», погубили много народу (в том числе «попина» воеводы), воевода князя Святослава — среднего сына Ярослава — явился со своими дружинниками в Белоозеро и пригрозил, что если они не выдадут волхвов, то он будет кормиться у них целый год. Белозерцы схватили волхвов, и воевода начал разбирательство: он сказал, что человек не может колдовством отобрать урожай, но волхвы настаивали на своем, заявляя, что им известна природа человека. Они рассказали воеводе миф о сотворении человека: Бог мылся в бане, отерся ветошкой и бросил ее с небес на землю. Сатана сотворил из нее человека, Бог же вложил в него душу. Это — едва ли не единственный миф, пересказанный русским летописцем: монахи, составлявшие летописи, не могли рассказывать о деяниях бесов, каковыми считались языческие боги.
Но миф о сотворении человека, рассказанный волхвами, нельзя считать языческим: такая дуалистическая мифология, где сатана принимал участие в сотворении материального мира, характерна для движения еретиков-богомилов, распространившегося в Болгарии, а затем и во всей Европе в XI в. Недаром воевода обличал волхвов не в язычестве — те поклоняются не Богу, а сатане.
Волхвы рассчитывали на то, что воевода не сможет расправиться с ними — ведь они были смердами самого князя и подлежали его суду. Но тот помнил о нормах Русской правды — он позволил казнить волхвов родичам тех женщин, которые были убиты восставшими, осуществить право кровной мести. Гибель волхвов должна была показать восставшим, что они были лжепророками, ибо не могли предвидеть даже собственной смерти, как некогда языческий князь Олег, хоть он и был прозван «Вещим».
Можно усматривать в этой расправе социальные мотивы — «старая чадь» держала у себя запасы продуктов; вместе с тем для традиционных верований характерно представление о ведьмах и т. п. персонажах, которые виновны в неурожае. Против этих представлений, по летописи, и ополчился расправившийся с волхвами Ярослав: «Бог наводить по грехом на куюжду землю гладом, или мором, ли ведромь, ли иною казнью, а человек не весть ничтоже». Волхвы, указывавшие на предполагаемых злодеев, отождествляются с языческими жрецами, чему находят подтверждение в Ипатьевском списке летописи: там некий волхв, чье явление в Киеве описано под 1071 г., пророчествует от имени пяти богов: через пять лет Днепр потечет вспять, а земля Русская «переступит» на землю Греческую. Этих богов пытались соотнести с божествами древнерусского пантеона, для чего нет оснований ни в летописи (где богов шесть или семь), ни в русской книжности вообще: византийские истоки пророчества очевидны — пять богов, которых упоминал волхв, означали пять планет, названных именами античных божеств (русским книжникам они были известны по Хронике Амартола и Хронике Малалы), — на их расположение и ссылался предсказатель (астролог) — волхв. Еще меньше оснований соотносить с «языческой реакцией» движение волхвов во время очередного голода в Ростовской и Белозерской землях в 1071 г. Летописец приписывает волхвам дуалистическое мировоззрение, аналогичное дуалистическим ересям, распространившимся в Европе в XI в. (в том числе богомильству), но никак не славянскому язычеству. Следует напомнить, что «волхование» и в упомянутых церковных уставах не соотносилось с язычеством: оно было свидетельством суеверия, но не двоеверия.
Сам термин «двоеверие» возник (и продолжал существовать) в существенно ином контексте и означал отнюдь не тайное идолопоклонство: Феодосий Печерский поименовал так (в соответствии с византийской традицией) тех, кто после разделения церквей (1054 г.) колебался между греческим и латинским обрядами. Не ранее XII в. этот термин был воспринят «Словами» (в основе заимствованными, опять-таки, из Византии и святоотеческого наследия), обличающими «язычников»: «двоеверие» этих поучений оказывается, скорее, риторической фигурой древнерусских «ригористов», чем отражением реальной «раздвоенности» древнерусской культуры.
Заключение
Крещеная Русь, объединившая славянские племена — «языки» в новый народ, уже не противопоставляла себя грекам, как это было свойственно древним словенам на дунайской границе Византии и языческой руси в договоре Олега 911 г. с греками. Напротив, возникает тенденция к сближению и даже отождествлению Руси и Греции в скандинавской литературе на основе их общей религии — греческого православия. Характерно прорицание волхва в «Повести временных лет»: «Стати Гречьскы земли на Руской, а Руськей на Гречьской». В «Повести», однако, подробно описывается и многократно упоминается европейский «поганый» (языческий) народ, не отнесенный в космографическом введении к потомкам Иафета, но постоянно противопоставляющийся христианской руси. Это половцы, обычай которых «нечист», как и происхождение от Измаила: они — «безбожные сыны Измаиловы». Обретающая христианское самосознание Русь имела на границах собственных безбожных варваров.
Единству этой новой культуры, в том числе древнерусской церковной организации, казалось бы, угрожала грядущая после смерти Ярослава «феодальная раздробленность». Завещание Ярослава Мудрого — «ряд», оставленный князем сыновьям, между которыми он разделил всю Русскую землю, обнаружил, на взгляд современных английских исследователей, то обстоятельство, что «фасад» единого государства, возведенный Ярославом, оказался с «трещинами». Ситуация не представляется столь однозначной: князь не мог остановить процессы разделения волостей, но эти процессы не были только процессами «распада». Летописец приписал Ярославу заповедь братней любви и подчинения старейшему брату — киевскому князю, который должен быть младшим «во отца место», хотя эта «борисоглебская» политическая идея сопровождалась в летописном изложении характерной исторической ремаркой, адресованной Ярославичам: «Вы есте братья единого отца и матере». Однако единые тенденции развития пронизывали древнерусскую культуру вне зависимости от политических обстоятельств: как говорилось выше, уже в параллельном возведении в трех древнерусских городах — Киеве, Новгороде и Полоцке одного и того же символа Благодати — соборов Софии Премудрости Божией — формирующаяся идея равноправия трех центров выражалась едиными символическими средствами. Киевская митрополия (после короткого периода существования «титульных» митрополий в Чернигове и, возможно, Переяславле) оставалась единым центром древнерусской церковной организации на протяжении всего домонгольского периода.
В этнокультурном и конфессиональном отношении крещеная Русь даже не оставалась, а именно становилась единой, единой в большей мере, чем она была до Ярослава. Память о Киевской Руси ласкового князя Владимира Красно Солнышко как о Святой Руси сохраняется в русском былинном фольклоре и проникло глубоко в самосознание народа; в русской традиционной культуре христианами стали звать себя сельские жители — крестьяне.
Библиография
Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. М., 2003.
Бибиков М. В. Byzantinorossica. Свод византийских свидетельств о Руси. М., 2004. Т. 1.
Васильев М. Л. Язычество восточных славян накануне крещения Руси. М., 1999.
Введение христианства на Руси. М., 1987.
Голубинский Е. Е. История русской церкви. М., 1997. Т. 1–2.
Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под. ред. Е. А. Мельниковой. М., 1999.
Из истории русской культуры. Древняя Русь. М., 2000. Т. 1.
Как была крещена Русь? М., 1989.
Клейн Л. С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб., 2004.
Кузенков П. В. Поход 860 г. на Константинополь и первое крещение Руси в средневековых письменных источниках // Древнейшие государства Восточной Европы. 2000. М., 2000.
Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. М., 2001.
Петрухин В. Я. Христианство на Руси во второй половине X — первой половине XI в. // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. М., 2002.
Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237). СПБ., 1996.
Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. М., 1988.
Сказания о начале славянской письменности. Вступ. ст., пер. и коммент. Б. Н. Флори. М. 1981.
Шахматов А. А. История русского летописания. СПб., 2002. Т. 1.
Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси. Х–ХIII вв. М., 1989.
Примечания
1
Повесть временных лет (далее — ПВЛ). 2-е изд. СПб., 1996. С. 15.
(обратно)2
ПВЛ. С. 9.
(обратно)3
См. в кн.: Деяния апостола Андрея / Предисловие, перевод и комментарии А. Ю. Виноградова. М., 2004.
(обратно)4
Васильевский В. Г. Труды. Т. 2, СПб., 1909. С. 3–55.
(обратно)5
Ломоносов М. В. Записки по русской истории. М., 2003. С. 28.
(обратно)6
ПВЛ. С. 10.
(обратно)7
См. Кузенков П. В. Поход 860 г. на Константинополь и первое крещение Руси в средневековых письменных источниках // Древнейшие государства Восточной Европы. 2000. М. 2003. С. 38.
(обратно)8
Продолжатель Феофана / Издание подготовил Я. Н. Любарский. СПб., 1992. С. 142.
(обратно)9
Назаренко А. В. Западноевропейские источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников/ Под ред. Е. А. Мельниковой. Мм 1999. С. 303–304.
(обратно)10
Лев Диакон. История / Под ред. Г. Г. Литаврина. М., 1988. С. 79.
(обратно)11
Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. М, 2001. С. 339–340.
(обратно)12
Татищев В. Н. История Российская. М., 1995. С. 129. Ч. II.
(обратно)13
Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн Фадлана о его путешестии на Волгу в 921–922 г. Харьков, 1956. С. 42–43.
(обратно)14
См. Свод древнейших письменных известий о славянах / Под ред. Л. А. Гиндина и Г. Г. Литаврина. М, 1994. Т. 1. С. 183.
(обратно)15
Клейн Л. С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб., 2004.
(обратно)16
См. Петрухин В. Я. Христианство на Руси во второй половине X — первой половине XI в. // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. М. 2002. С. 60–132.
(обратно)17
Иванов С. А. Византийское миссионерство. Можно ли сделать из «варвара» христианина? М., 2003. С. 314–315.
(обратно)18
Лидов А. М. Иконостас: Итоги и перспективы исследования // Иконостас: Происхождение — развитие — символика. М., 2000. С. 18.
(обратно)19
См.: Шалина И. А. Вход в «Святая святых» и византийская алтарная преграда // Иконостас: Происхождение — развитие — символика / Сост. А.М. Лидов. М., 2000. С. 63
(обратно)20
Коновалова И. Г. Восточные источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 1999. С. 232.
(обратно)21
Янин В. Л. Средневековый Новгород. М, 2003. С. 130–144.
(обратно)22
См. с. 45.
(обратно)23
См.: Патрик де Лобье. Эсхатология. М., 2004.
(обратно)24
См.: Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1. С. 320.
(обратно)25
См.: Литаврин Г. Г. Византия и славяне. СПб., 1999.
(обратно)26
Абрамович Д. И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пб. 1916. С. 136–137.
(обратно)27
Федотов Г. П. Святые древней Руси. М., 1990. С. 49.
(обратно)28
Успенский Б. А. Борис и Глеб: восприятие истории в древней Руси. М., 2000.
(обратно)29
Вседержитель (греч.) — один из основных типов изображения Христа, представляющий Его в виде Небесного Царя и Судии.
(обратно)30
Сендерович С. Слово о законе и благодати как экзегетический текст. Иларион Киевский и Павлианская теология // Труды Отдела древнерусской литературы. Вып. 51. СПб., 1999. С. 43–57.
(обратно)31
Литаврин Г. Г., Флоря Б. Н. Общее и особенное в процессе христианизации стран региона и Древней Руси // Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. М., 1988. С. 249.
(обратно)
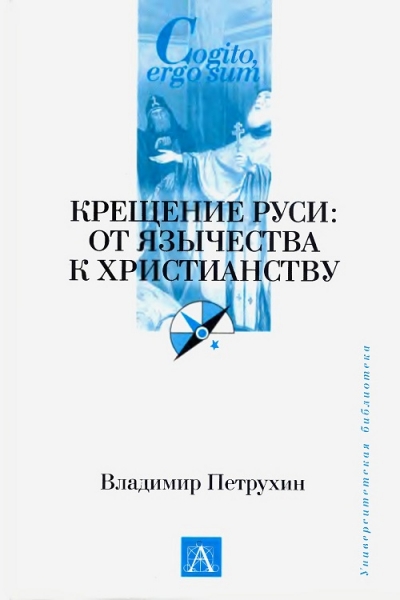





Комментарии к книге «Крещение Руси. От язычества к христианству», Владимир Яковлевич Петрухин
Всего 0 комментариев