Александр Ли Безобразный Ренессанс: Секс, жестокость, разврат в век красоты
Посвящается Джеймсу и Робин О'Коннор, Питу Пепорте и Мариан ван дер Мелен с большой любовью и наилучшими пожеланиями на совместное будущее
Alexander Lee
The Ugly Renaissance
Sex, Greed, Violence and Depravity in an Age of Beauty
ЭТА КНИГА РОДИЛАСЬ ИЗ МОЕЙ ДАВНЕЙ ЛЮБВИ К ИСТОРИИ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ. ЧТОБЫ НАПИСАТЬ ЕЕ, МНЕ ПРИШЛОСЬ БЕСЧИСЛЕННЫЕ ДНИ ПРОВОДИТЬ ЗА ПЫЛЬНЫМИ КНИГАМИ БИБЛИОТЕК ВСЕГО МИРА. НО ПОЧВОЙ ДЛЯ НЕЕ СТАЛО НЕЧТО БОЛЕЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ. СКОЛЬ БЫ ПРОСВЕЩАЮЩИМИ НИ БЫЛИ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, НО ИСТИННУЮ ЛЮБОВЬ К ЭТОМУ ПЕРИОДУ МНЕ ПРИВИЛИ ВОСТОРГ И ПОДДЕРЖКА ДРУЗЕЙ И СЕМЬИ. ОНИ ОТКРЫЛИ МНЕ ГЛАЗА НА БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «БЕЗОБРАЗНОГО» РЕНЕССАНСА. БЕЗ МНОЖЕСТВА ДОЛГИХ РАЗГОВОРОВ, БЕЗ СМЕХА И СЛЕЗ, БЕЗ ЛЮБВИ И СКОРБИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ Я НИКОГДА НЕ ЗАДУМАЛ БЫ ЭТУ КНИГУ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ТОМ, ЧТОБЫ ДОВЕСТИ ЕЕ ДО КОНЦА. И Я БЕСКОНЕЧНО БЛАГОДАРЕН ГЛУБОЧАЙШЕЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ ТЕХ, С КЕМ Я ДЕЛИЛ ЖИЗНЬ В ЭТИ ГОДЫ.
МОЯ СЕМЬЯ БЫЛА ДЛЯ МЕНЯ НЕСОКРУШИМЫМ СТОЛПОМ И ПОСТОЯННЫМ ИСТОЧНИКОМ БЕЗГРАНИЧНОГО ВДОХНОВЕНИЯ. КРИС И ИНГРИД ЛИ, МОЙ БРАТ ПИРС, ШИНДО СКАРРОТТ, ДЖО И СОФИ, И АННА ЭДВАРДС, НАВЕРНОЕ, НИКОГДА НЕ УЗНАЮТ, СКОЛЬ МНОГИМ ЭТА КНИГА ИМ ОБЯЗАНА.
МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ИМЕТЬ САМЫХ БЛИЗКИХ И ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ, О КАКИХ ТОЛЬКО МОЖНО МЕЧТАТЬ. ДЖЕЙМС О’КОННОР, ПИТ ПЕПОРТЕ, КРИСТИНА РЕЙТЕРСКЬОЛЬД, АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР, ЛЮК ХОГТОН И ТИМ СТЭНЛИ ЧИТАЛИ ПЕРВЫЕ ЧЕРНОВИКИ ОТДЕЛЬНЫХ ГЛАВ С НЕВООБРАЗИМЫМ ТЕРПЕНИЕМ. ОНИ БЕСЧИСЛЕННОЕ МНОЖЕСТВО РАЗ ОБСУЖДАЛИ СО МНОЙ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ И ДЕЛАЛИ ЭТО С ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТОЙ И СЕРДЕЧНОСТЬЮ. ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СОВЕТЫ БЫЛИ БЕСЦЕННЫ. В ЭТОЙ КНИГЕ НЕТ НИ ОДНОЙ СТРАНИЦЫ, КОТОРАЯ НЕ НЕСЛА БЫ НА СЕБЕ СЛЕДА ИХ МУДРОСТИ. НО ЧТО ГОРАЗДО БОЛЕЕ ВАЖНО, ВСЕ ОНИ ПОМОГЛИ МНЕ ПЕРЕЖИТЬ САМЫЕ МРАЧНЫЕ МОМЕНТЫ МОЕЙ ЖИЗНИ. БЛАГОДАРЯ ИМ Я ВИДЕЛ СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ, КОТОРЫЙ КАЗАЛСЯ МНЕ БЕСКОНЕЧНЫМ. ОНИ ПОКАЗАЛИ МНЕ, ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА, И ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ БЕСКОНЕЧНО МНОГО.
МНЕ НЕВЕРОЯТНО ПОВЕЗЛО – ЗАВЕРШАЯ ЭТОТ ТРУД, У МЕНЯ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ В УНИВЕРСИТЕТАХ ЛЮКСЕМБУРГА И УОРВИКА. Я МОГ ОБСУДИТЬ СВОИ АРГУМЕНТЫ С ПОИСТИНЕ ВЕЛИКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО РЕНЕССАНСУ. ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫРАЗИТЬ СТИВЕНУ БОУДУ, КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ КТО-ЛИБО ДРУГОЙ РАСШИРИЛ МОИ ЗНАНИЯ ОБ ЭТОМ ИНТЕРЕСНЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ, И ЛЮКУ ДЕЙЦУ, ЧЬИ ДОСКОНАЛЬНОСТЬ И ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ ДУХ ТОВАРИЩЕСТВА СТАЛИ ДЛЯ МЕНЯ ИСТИННЫМ ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ.
ХОТЯ ОН И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО РЕНЕССАНСУ, НО МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ ПОЛА ЛЭЯ, ЧЕЙ ЭНТУЗИАЗМ В ОТНОШЕНИИ «ПУБЛИЧНОЙ» ИСТОРИИ И НЕСРАВНЕННОЕ УМЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ЛИТЕРАТУРНОЙ НАУЧНОЙ И ПОПУЛЯРНОЙ ЯВИЛИСЬ ДЛЯ МЕНЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ ПРИМЕРОМ.
ГОТОВЯ ЭТУ КНИГУ К ПУБЛИКАЦИИ, Я ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ СО МНОЖЕСТВОМ ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ, ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ЛЮДЕЙ. ЛЕАНДА ДЕ ЛИЗЛ ПЕРВОЙ ДАЛА МНЕ
«ТОЛЧОК» К РАЗРАБОТКЕ ЭТОГО ПРОЕКТА. ОНА ЛЮБЕЗНО ПОЗНАКОМИЛА МЕНЯ СО МНОГИМИ, КТО ПОМОГ В РАБОТЕ НАД КНИГОЙ. РЭЧЕЛ КОНВЕЙ И РОМИЛИ МАСТ ИЗ АГЕНТСТВА «CAPEL & LAND» БЫЛИ ТРОГАТЕЛЬНО ТЕРПЕЛИВЫ И ПОТРЯСАЮЩЕ ЭФФЕКТИВНЫ В КАЖДОМ СВОЕМ ШАГЕ. А В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «RANDOM HOUSE» МНЕ НЕВЕРОЯТНО ПОВЕЗЛО СОТРУДНИЧАТЬ С УИЛЬЯМОМ ТОМАСОМ И КОРАЛИ ХАНТЕР, РЕДАКТОРАМИ, ОБЛАДАЮЩИМИ НЕСРАВНЕННЫМ МАСТЕРСТВОМ И ВКУСОМ. ИХ ТЕПЛАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОЛЕЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СДЕЛАЛИ ПОДГОТОВКУ КНИГИ К ПЕЧАТИ ИСТИННЫМ НАСЛАЖДЕНИЕМ. НИ ОДИН АВТОР И МЕЧТАТЬ НЕ МОЖЕТ О БОЛЕЕ ЧУТКИХ И ДРУЖЕЛЮБНЫХ РЕДАКТОРАХ. И НАКОНЕЦ, Я ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ МОЕГО ПОТРЯСАЮЩЕГО АГЕНТА ДЖОРДЖИНУ КЭПЕЛ. У МЕНЯ НЕТ СЛОВ, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ ЕЙ МОЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ИЛИ РАССКАЗАТЬ О ЕЕ ДОСТОИНСТВАХ. УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ КОЛОССАЛЬНОЙ ДОБРОТЫ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БЫЛИ ДЛЯ МЕНЯ И ЦЕННЕЙШИМ СТИМУЛОМ, И ПОСТОЯННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ. ЕЕ ДОБРОТА И ОГРОМНАЯ ЩЕДРОСТЬ ДУХА ПОМОГЛИ МНЕ ПРЕВРАТИТЬ РАБОТУ НАД ЭТИМ ПРОЕКТОМ В СУЩЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ – ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА.
Вступление Возвышенное и земное
Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494)1 прожил непростую жизнь, но сумел получить от жизни все. Не было ничего, что не интересовало бы его и не повергало в восторг. В поразительно юном возрасте он овладел латынью и греческим языком. В Падуе он изучал еврейский и арабский языки, хотя был еще очень юн. Ему не исполнилось еще и двадцати, но он уже считался специалистом по философии Аристотеля, каноническому праву и тайнам каббалы. Он жил в окружении творений Брунеллески, Донателло и Пьеро делла Франческа во Флоренции и Ферраре. Он был близким другом самых знаменитых философов и художников того времени. Пико делла Мирандола был кузеном поэта Маттео Марии Боярдо. Он был хорошо знаком с чрезвычайно богатым литератором Лоренцо де Медичи, ученым Анджело Полициано, пионером неоплатонизма Марсилио Фичино и страстным проповедником Джироламо Савонаролой. Более того, он и сам был выдающимся писателем и потрясающе оригинальным мыслителем. Помимо сочинения множества очаровательных стихов он мечтал об объединении различных течений философии в единое целое. А главная его мечта заключалась в объединении всех религий мира.
Во многих отношениях Пико – это хрестоматийный пример человека эпохи Возрождения. За свою короткую жизнь он воплотил в себе самую суть этого периода итальянской истории (ок. 1300 – ок. 1550), который характеризовался беспримерным взлетом духовной изобретательности, художественных и интеллектуальных достижений. Истинный uomo universal («универсальный человек», «энциклопедист») он воспринимал мир с безграничным любопытством и восторгом. Античное искусство и литературу он изучал с тем же энтузиазмом, с каким пытался создать новое, поистине блестящее будущее для человечества, исполненное безграничных надежд и возможностей. Он беседовал с художниками, которые устремлялись к звездам. Он общался с богатыми и влиятельными покровителями, которые жили ради искусства и культуры. Он жадно впитывал новые знания разных культур и народов.
Поэтому неудивительно, что главный труд Пико – «Речь о достоинстве человека» (1486) – стала неофициальным манифестом Ренессанса в целом. Это краткое резюме всего философского проекта Пико, и главное в этом труде – абсолютная вера в возможности человека. Труд Пико делла Мирандолы начинается словами:
Я прочитал, уважаемые отцы, в писании арабов, что когда спросили Абдаллу Сарацина, что кажется ему самым удивительным в мире, то он ответил, что ничего нет более замечательного, чем человек. Этой мысли соответствуют и слова Меркурия (Гермеса Трисмегиста): «О Асклепий, великое чудо есть человек!»[1]2
Человек, по мнению Пико, это действительно чудо. Он считал, что человечество обладает уникальной способностью вырваться за пределы земли и воспарить к чему-то более высокому, лучшему и необыкновенному. И способность эта поддерживается поэзией, литературой, философией и искусством.
Оказавшись в любом из великих центров Ренессанса, трудно не поддаться ощущению, что Пико поразительно точно отразил дух эпохи. В одной лишь Флоренции произведения искусства, неразрывно связанные с этим периодом, свидетельствуют о поистине волшебном расцвете человеческой души. «Давид» Микеланджело, купол Брунеллески, «Рождение Венеры» Боттичелли и «Троица» Мазаччо говорят о том, что жизнь была окутана красотой, что меценаты и художники стремились к чему-то большему, чем мелкие заботы повседневного существования, что с каждым днем горизонты воображения становились шире и неохватнее. И действительно, чувство восторга, которое вызывают эти шедевры, настолько велико, что порой бывает трудно не поверить в то, что эти мужчины и женщины были чем-то большим, чем обычные люди. Настолько далеко они ушли от повседневной суеты, что оказались в некоем запретном, божественном мире. И нам часто хочется назвать их творчество «чудесным», «сверхъестественным», «божественно прекрасным».
Однако, если «Речь о достоинстве человека» Джованни Пико делла Мирандолы дает нам краткое резюме того блеска, который окутывает Ренессанс в представлении обычного человека, то жизнь его показывает нам, что в этом блестящем периоде не все было так прекрасно. Хотя ум Пико вознесся до немыслимых высот, сам он был человеком с обычными, довольно низкими желаниями и страстью к изнанке жизни. Его не только арестовывали по подозрению в ереси после высказываний в пользу религиозного синкретизма. Он попадал в весьма сомнительные ситуации, причем исключительно в результате своей неумеренной похоти. Вскоре после первого приезда во Флоренцию он соблазнил жену одного из кузенов Лоренцо де Медичи, а когда был пойман, попытался сбежать с влюбленной в него женщиной, был тяжело ранен и брошен в тюрьму. Стоило ему поправиться, как он завел роман с новым, совершенно другим человеком. Выяснив, что у него много общего с Анджело Полициона, Пико завязал с ним тесную дружбу, которая переросла в страстную сексуальную связь. Они были отравлены (предположительно по приказу Пьеро де Медичи), но их любовь была увековечена посмертно: их похоронили рядом друг с другом в церкви Сан-Марко – и это, несмотря на то что церковь категорически запрещала гомосексуальные связи.
На первый взгляд, может показаться, что это заставляет усомниться в человеческих качествах Пико и в том, что он воплощает собой архетипический образ человека эпохи Возрождения. Однако все не так, как кажется. В «Речи о достоинстве человека» есть фрагмент, который объясняет сочетание божественного интеллекта и абсолютно земных желаний.
Рассуждая о человеке, Пико изобразил Бога, который с поразительной откровенностью обращается к творению своему. Поначалу кажется, что слова божества подкрепляют веру Пико в поразительные способности человечества. Хотя «образ прочих творений определен в пределах» божественного закона, Бог говорит человеку:
Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь.3
Но в тот же самый момент, когда Бог возвышает человечество на немыслимую высоту, он тут же делает дар свободной воли центром мощного парадокса. Вместо того, чтобы предначертать человеку Ренессанса безграничную славу, Бог говорит:
Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные.4
Хотя человек действительно обладает способностью подняться к вершинам небесной красоты (и Пико был в этом убежден), он способен и опуститься в безобразные глубины порочности. Две стороны человеческой природы взаимосвязаны самым тесным образом. В человеческой душе бок о бок живут ангелы и демоны, объединенные в странно привлекательный симбиоз. Невозможно воспарить к звездам, не опираясь на прах земной.
Этим трудом Пико не только разъяснил очевидные противоречия собственной натуры, но еще и высказал основополагающую истину, касающуюся всего периода Ренессанса. Как бы ни соблазнительно было считать этот период временем культурного возрождения и художественной красоты, временем, когда мужчины и женщины были немыслимо цивилизованны и изысканны, достижения Ренессанса сосуществовали параллельно с мрачной, грязной, а порой даже дьявольской реальностью. Нечистые на руку банкиры, алчные политики, похотливые священники, религиозные конфликты, чудовищные эпидемии, жизнь в немыслимой роскоши и разврате – все это было нормой. Под бесстрастными взорами прекрасных статуй, под сводами роскошных дворцов, на которые современные туристы взирают с почтительным восхищением, творились ужасающие зверства. Сам Пико являет нам пример того, что величайшие памятники Ренессанса не были бы созданы, если бы величайшие художники, писатели и философы не погружались бы в глубины порока и деградации. Одно зависело от другого. Если Ренессанс и был эпохой возвышенных ангелов, то в то же самое время этот период был временем земных демонов.
И именно потому, что так легко соблазниться красотой и утонченностью искусства и литературы Ренессанса, безобразная сторона этого периода часто забывается и недооценивается. В силу мощи романтической ауры, окутывающей культурные достижения, щекотливые стороны личной жизни художников, отвратительные деяния их меценатов и колоссальный уровень невыносимой жестокости на улицах средневековых городов постоянно скрываются и маскируются иллюзией безупречного совершенства. С точки зрения исторической достоверности, эта тенденция ошибочна, поскольку порождает искусственное разделение между высокой культурой и социальными реалиями. Но это плохо и на более человеческом уровне, поскольку подобное восприятие лишает эпоху жизни, восторга и истинного ощущения чуда. Только узнав неприятную, суровую сторону Ренессанса, можно оценить подлинный масштаб культурных достижений этого периода.
Эта книга – сознательное усилие по восстановлению баланса. Тайная история знаменитых картин, по которым мы и воспринимаем итальянский Ренессанс, позволит нам по-новому взглянуть на три самые важные особенности «истории» Ренессанса. Все они ярко проявились в жизни Пико делла Мирандолы, и каждая из них отражает определенный компонент развития искусства и культуры того времени. Изучение жестокой социальной вселенной художников, подлых делишек их покровителей и неожиданных предубеждений, которые сопровождали «открытие мира», показывает нам, что Ренессанс был более «безобразен», чем мы готовы признать. Но в то же время – и по той же самой причине – гораздо более сложен и велик. В конце нашего путешествия вы поймете, что Ренессанс был населен ангелами и демонами и был гораздо сложнее, чем казалось вам раньше.
От автора
Прежде чем мы двинемся дальше, нужно разобраться с некоторыми важными вопросами.
Во-первых, это вопрос географии. Эта книга целиком и полностью посвящена Ренессансу в «Италии». И я сознаю, что такая географическая сосредоточенность может вызвать вполне законные вопросы. В прямом смысле слово «Италия» не существовало до 1871 г. И хотя у таких гуманистов, как Петрарка, было определенное представление о том, что такое «Италия», само понятие было довольно аморфным. С одной стороны, границы любого рода – ив самой меньшей степени четко определенные границы, столь часто обсуждаемые современными политиками, – просто не существовали. То, что современники считали «итальянским», весьма различалось по идентичности, особенно в таких местах, как Неаполь, Таранто и Генуя. С другой стороны, даже на тех территориях, которые можно было определенно считать «итальянскими», существование диалектов (в то время такого понятия, как единый «итальянский» язык, еще не было), независимых городов-государств и мощной местной аристократии делают любые попытки географических обобщений довольно опасными. Это особенно важно, когда мы говорим о серьезных различиях между севером и югом. Различия эти настолько сильны, что сохраняются в итальянских политических дебатах и по сей день. Не менее важны они и тогда, когда мы говорим о государствах Тосканы начала Ренессанса. Но, несмотря на эти различия, мы все же можем говорить об «Италии» эпохи Ренессанса вполне обоснованно. Ученые выделяют культурные процессы, которые происходили на Апеннинском полуострове (в широком смысле слова) в период с 1300-х по 1550-е гг. Эти процессы обладают общими чертами, которые отличают их от культуры остальных регионов Европы, что позволяет нам говорить об «Италии» в этом контексте. Полагаю, что ренессансные гуманисты поколения Петрарки одобрили бы такое определение – пусть даже не с научной, но с эмоциональной точки зрения.
Определившись с понятием «Италия», нужно указать, что в этой книге говорится преимущественно о двух-трех крупных городах – Флоренции, Риме и Урбино (в меньшей степени). Это не означает, что не существовало других важных центров. Венеция, Милан, Бергамо, Генуя, Неаполь, Феррара, Мантуя и множество других городов будут упоминаться по ходу повествования. Не следует считать, что Ренессанс не затронул каждый крупный и мелкий город Италии – в той или иной степени. Но концентрация на Флоренции, Риме и Урбино с особым упором на Флоренцию, по моему мнению, оправдана по двум основным причинам. Во-первых, Флоренция считается исторической и духовной родиной Ренессанса в целом. И современники, и современные историки сходятся в том, что именно во Флоренции «Ренессанс» (как бы мы его ни определяли) возник и развился. Рим и Урбино по-своему и в определенной степени стали крупными центрами художественного и литературного развития – хотя и позже, чем Флоренция. Во-вторых, не претендуя ни на какую исключительность, любое повествование должно быть определенным образом упорядоченным. Исследование, в котором не отдается предпочтение ни одному городу, будет неточным, тяжеловесным и сложным для восприятия.
Второе мое замечание касается хронологии. Любой, кто обладает даже поверхностными знаниями по теме этой книги, должен понимать, как сложно точно определять даты эпохи Ренессанса. Учитывая, как безумно трудно вообще определить, что такое Ренессанс, неудивительно, что историки ожесточенно спорят не только о временных границах этого периода, но и о том, стоит ли рассматривать его в каких-то хронологических рамках (в истинном смысле этого слова). В этой книге я ограничился периодом с 1300-х по 1550-е гг., но не следует считать эти границы абсолютными с исторической точки зрения. Они отражают общеисторический консенсус, который позволяет хоть как-то структурировать и без того сложную последовательность явлений. Не буду отрицать, что подобная неопределенность не слишком хороша, но, поскольку всем ученым, изучающим Ренессанс, приходится с этим соглашаться, я считаю это еще одним примером того, почему «безобразный» Ренессанс так или иначе остается с нами.
l. Мир художника эпохи Возрождения
1. Нос Микеланджело
Ясным летним днем 1491 г. 16-летний Микеланджело Буонаротти рисовал эскизы во флорентийской церкви Санта-Мария дель Кармине. Положив пачку бумаги на колени и зажав сангину в пальцах, он энергично копировал знаменитые фрески Мазаччо в капелле Бранкаччи. Делал это юноша «так схоже»,1 что все, кто видел его рисунки, были поражены.
Микеланджело начал привыкать к всеобщему восхищению в весьма юном возрасте. Несмотря на молодость, он уже приобрел определенную известность и был довольно высокого мнения о себе. Заручившись рекомендательным письмом от художника Доменико Гирландайо, он сумел стать учеником скульптора Бертольдо ди Джованни, художественная школа которого недавно была организована в садах церкви Сан-Марко. Кроме того, эта рекомендация открыла ему двери дома истинного правителя Флоренции, Лоренцо де Медичи. Очарованный юношей Лоренцо ввел Микеланджело в круг самых выдающихся интеллектуалов города, среди которых были гуманисты Анджело Полициано, Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола. Микеланджело процветал. Он развивал навыки, характерные для искусства того времени. Тщательно изучив анатомию, он работал в натуралистическом стиле, который уже два века непрерывно развивался со времен новаций Джотто ди Бондоне. Посвятив себя копированию античной скульптуры, он вступил на путь, который позже заставил Джорджо Вазари утверждать, что ему удалось «превзойти и победить античных мастеров».2 По предложению Полициано Микеланджело сделал барельеф «Битва кентавров», «столь прекрасный», что его можно было принять «за работу не юноши, а мастера высоко ценимого и испытанного в теории и практике этого искусства».3
Слава и самоуверенность Микеланджело росли день ото дня. Но вместе с ними росла и зависть товарищей по школе4 – ив этом юноше пришлось убедиться. В капелле Бранкаччи в тот день рядом с ним сидел Пьетро Торриджано. Хотя он был на три года старше Микеланджело, но тоже учился у Бертольдо ди Джованни. Торриджано считался восходящей звездой, и конкуренция между двумя художниками была почти неизбежна. Бертольдо поощрял соревнование между учениками. Каждый старался превзойти другого в подражании великим мастерам, подобным Мазаччо. Но Микеланджело был слишком талантлив и откровенен, чтобы соперничество оставалось чисто дружеским.
Работая в капелле Бранкаччи, Микеланджело и Пьетро заговорили о том, кто может занять место Мазаччо – кого можно считать лучшим художником Флоренции. Учитывая место разговора, тема была совершенно естественной. Мазаччо называли гениальным художником еще при жизни. Но он умер, не успев закончить работу над фресками капеллы. Фрески заканчивал Филиппино Липпи, но качество его работы вызывало споры. Возможно, Микеланджело, который много месяцев изучал фрески, заметил, что Липпи не удалось подняться до гениальности Мазаччо, и заявил, что только он сможет работать на том же – если не на более высоком – уровне, что и великий мастер. Возможно, он пренебрежительно отозвался об эскизах Пьетро – подобное поведение было для него весьма характерно.5 Как бы то ни было, Микеланджело удалось вывести приятеля из себя. Талантливый, но не гениальный Пьетро не смог вынести подначивания Микеланджело.
«Побуждаемый завистью за то, что, как он видел, его и ценили выше, и стоил он больше него в искусстве»,6 Пьетро начал поддразнивать Микеланджело. Поскольку Микеланджело отличался абсолютной самоуверенностью, он просто посмеялся над этими словами. И Пьетро пришел в ярость. Сжав кулаки, он ударил Микеланджело прямо в лицо. Удар был настолько силен, что «почти раздавил хрящ носа».7 Микеланджело потерял сознание и упал на пол. Нос его был «сломан и безобразно раздавлен»,8 а грудь залита кровью.
Микеланджело срочно перенесли в его комнату в палаццо Медичи-Риккарди, где он лежал, «как мертвый». Вскоре о его состоянии узнал Лоренцо де Медичи. Ворвавшись в комнату, где лежал его несчастный протеже, Лоренцо пришел в немыслимую ярость и осыпал «эту бестию» Пьетро жестокими проклятиями. Только тогда Пьетро осознал масштаб своей ошибки. Ему ничего не оставалось, как бежать из Флоренции.9
Откуда же такое отношение к находившемуся почти без сознания Микеланджело? Все объясняется очень просто: тот период позднего Ренессанса имел некую важную особенность. Позже ее назвали «возвышением художника». Хотя Микеланджело было всего 16 лет, он уже обладал уникальным сочетанием талантов, которые современники впоследствии назвали «божественными». Он был прекрасным скульптором и рисовальщиком, восхищался Данте, изучал труды итальянских классиков, был хорошим поэтом и дружил с величайшими гуманистами своего времени. Без малейшей иронии его можно назвать настоящим человеком эпохи Возрождения. Надо сказать, что его таланты получили полное признание при жизни. Несмотря на юный возраст, Микеланджело входил в социальную и интеллектуальную элиту Флоренции. Его таланты признавали и уважали. У него был очень влиятельный покровитель. Микеланджело был сыном весьма скромного чиновника из никому не известного крохотного городка.10 Покровительство самой влиятельной семьи Флоренции он получил только благодаря своему художественному таланту. Лоренцо Великолепный сам был хорошим поэтом, ценителем прекрасного и коллекционером. К Микеланджело он относился, «как к сыну». Даже после смерти Лоренцо его сын Джованни и незаконнорожденный кузен Джованни, Джулио (оба они впоследствии стали папами римскими – Львом X и Клементом VII), называли его «братом».
А ведь 200 лет назад никто и подумать не мог, чтобы художник был удостоен подобной чести. В глазах большинства современников художник конца XIII – начала XIV в. был не творцом, но ремесленником. Его искусство считалось чисто механическим, и он был ограничен провинциальной боттегой (мастерской), которая подчинялась зачастую драконовским законам гильдий.
Несмотря на талант, социальный статус художника был невысок. Хотя некоторые художники раннего Ренессанса иногда занимали посты в местных органах управления или происходили из состоятельных семей, но это было исключением, а не правилом.11 Чаще всего художники имели весьма скромное происхождение – вот почему мы так мало знаем об их родителях и семьях. Поздние биографы, как сноб Вазари, часто опускали подобные детали. И их молчание говорит о том, что величайших мастеров раннего Ренессанса дали нам плотники, трактирщики, крестьяне и даже разнорабочие. И те доказательства, что у нас есть, подтверждают это впечатление. Некоторые художники происходили из очень скромных семей. Их отцы занимались самыми низкими ремеслами. Говорили, что Джотто ди Бондоне, к примеру, был сыном бедного пастуха, но, скорее всего, он был сыном флорентийского кузнеца.12 Для других искусство было семейным делом. Три сына Дуччо ди Буонинсеньи стали художниками. Брат и два свояка Симоне Мартине тоже были художниками.13
Но с середины XIV в. социальный мир искусства и художника постепенно стал претерпевать ряд радикальных изменений. По мере роста популярности античных сюжетов и натуралистического стиля художников стали признавать самостоятельными творцами, обладающими знаниями и навыками, которые уже нельзя было считать чисто механическими.14 Когда в 1334 г. Джотто был назначен capomaestro (главным архитектором) Дуомо, приоры Флоренции признали не только его славу, но и его «знания и умения» – это явно отличало художника от простых ремесленников.15 Флорентийский хронист Филиппо Виллани в «Книге о возникновении города Флоренции и о знаменитых его гражданах» (De origine civitatis Florentiae et eiusdem famosis civibus) (ok. 1380–1381) сравнивал художников не с простыми ремесленниками, но с мастерами свободных искусств.16
Хотя художники и скульпторы все еще зависели от покровительства меценатов и были скованы условиями контрактов и договоров, их социальное положение к середине XV в. разительно изменилось.17 Искусство стало считаться символом статуса, и статус художников заметно повысился. Теперь уже художниками становились не только сыновья простых ремесленников. Хотя кто-то все еще имел скромное происхождение, например Андреа Мантенья (1431–1506), но многие уже были сыновьями (и в крайне редких случаях дочерьми) искусных ремесленников, состоятельных купцов и хорошо образованных нотариусов. Даже те, кто не мог похвастаться благородным происхождением – как Микеланджело, брались за кисть или резец, не стыдясь своего искусства. Их социальное положение теперь определялось не происхождением, но талантом и способностями. С меценатами они общались на основе взаимного уважения, хотя и не всегда по-настоящему на равных. И их достижения воспевались историками (например, Вазари) так, как раньше писали только о государственных деятелях. Художники вознеслись так высоко, что папа Павел III говорил даже, что художники, подобные Бенвенуто Челлини (1600–1571), могут «не подчиняться законам».18
Но если Микеланджело воплощал в себе и стилистические трансформации, и социальные перемены, характеризующие искусство того времени, его жизнь показывает нам еще одну сторону существования художника эпохи Ренессанса. Хотя «возвышение художника» повысило оценку визуальных искусств и социальный статус художников, было очевидно, что этот факт не поднял самих художников на более высокий и рафинированный уровень существования. Художники, подобные Микеланджело, по-прежнему ощущали свое низкое происхождение. Ему даже сломали нос в юношеской драке, порожденной завистью и его собственным высокомерием.
И это было типично для его жизни. В аристократических гостиных он чувствовал себя как дома. Он мог быть добрым, чутким, воспитанным и веселым. Но в то же время он был гордым, обидчивым, едким и резким на язык. Он был завсегдатаем трактиров и не чурался драк. Несмотря на дружбу с папами и князьями, он не стал изысканным аристократом. Как пишет его биограф Паоло Джовио, Микеланджело был ужасно неряшлив.19 Ему даже нравилось жить в самых нищенских условиях. Он редко менял одежду, от него вечно пахло немытым телом. Он очень редко расчесывал волосы и стриг бороду – если вообще когда-то это делал. Он, несомненно, был человеком набожным,20 но его страстная натура заставляла искать отношений с представителями разных полов. Хотя позже у него сложились долгие романтическое отношения с маркизой Пескары Витторией Колонной, в сохранившихся стихах явно просматриваются и гомоэротические темы. Одно из многих стихотворений, посвященных Томмазо де Кавальери, к примеру, начинается с поразительного, богохульного признания:
Не преклоненье ль перед небесами Моя любовь? В душе твоей так много Божественности, и к ее истоку С тобой могу я вознестись мечтами.21Столько же высокомерный, сколь и талантливый Микеланджело был грязным, неорганизованным, страдающим человеком, который с такой же легкостью ввязывался в драки, с какой исполнял волю пап. Ему был близок неоплатонический гомоэротизм, но в то же время он был верным сыном Церкви и искренне любил просвещенную и утонченную даму.
В этом отношении Микеланджело не одинок. 9 апреля 1476 г. поклонника запретной магии Леонардо да Винчи обвинили в гомосексуальной связи с известным жиголо Якопо Сальтарелли.22 Бенвенуто Челлини осуждали по аналогичному обвинению дважды (в 1523 и 1557 гг.).23 От длительного тюремного заключения его спасло только вмешательство Медичи. Мало того, он убил не менее двух человек24 и был обвинен в краже папских драгоценностей.25 Франческо Петрарка, которого считают отцом гуманизма эпохи Ренессанса, будучи прислужником в церкви, прижил двоих детей. Композитор-аристократ Карло Джезуальдо достиг высот музыкального мастерства лишь после убийства своей жены, ее любовника и, возможно, собственного сына.26
Учитывая все вышесказанное, сломанный нос Микеланджело представляет для нас определенную проблему. На первый взгляд, трудно совместить представление о Микеланджело как о воплощенном человеке эпохи Возрождения с образом задиристого и высокомерного подростка, дерущегося в церкви. Несомненно, мы имеем дело с двумя сторонами характера одного человека, но возникает вопрос, как нам понять причудливую и явно противоречивую природу характера Микеланджело? Как один и тот же человек мог создавать новаторские, возвышенные произведения искусства и быть подверженным столь низким привычкам? Как примирить сломанный нос Микеланджело с высокими идеями Ренессанса?
Проблема Ренессанса
Проблема заключается не в Микеланджело и его носе, но в том, как рассматривать сам Ренессанс. На первый взгляд, это может показаться удивительным. Слово «Ренессанс» стало настолько общим местом, что его смысл может показаться очевидным, даже бесспорным. Термин неразрывно связан с периодом культурного возрождения и художественной красоты. При звуке этого слова перед нами возникают образы возвышенного мира Сикстинской капеллы, купола Брунеллески, Большого канала, Моны Лизы. Мы вспоминаем имена Джотто, Леонардо и Боттичелли.
Но, несмотря на то что термин этот нам очень знаком, он довольно ненадежен. С момента возникновения современной критической школы историки постоянно спорят о том, как следует понимать это «возрождение», особенно в отношении визуальных искусств. За многие годы возникло множество разнообразных истолкований, и каждое обращается к своему аспекту нашего представления о юном Микеланджело.
Для некоторых определяющей характеристикой искусства Ренессанса от Джотто до Микеланджело является острое чувство индивидуальности. Если средние века принято считать периодом, когда человеческое сознание «лежало в полусне под тонким покрывалом веры, иллюзий и детских предубеждений», то великий швейцарский историк Якоб Буркхардт считал, что Ренессанс был эпохой, когда впервые «человек стал духовным индивидуумом», способным определять себя по собственному уникальному совершенству вне ограничений гильдий или общества.27 Хотя слова Буркхардта явно окрашены вышедшим из моды духом романтизма XIX в., это истолкование оказалось поразительно долговечным. Несмотря на то что более поздние ученые гораздо больше, чем Буркхардт, уделяли внимания социальному контексту художественного труда (мастерским, гильдиям и т. и.),28 Стивен Гринблатт недавно пересмотрел суть своих аргументов в свете способности человека Ренессанса к «формированию своего «я».29 И это не только показало сохраняющуюся привлекательность теории Буркхардта, но еще и дало новый толчок его пониманию характера художника эпохи Возрождения.
Другие ученые основной особенностью Ренессанса считают достижение более высокой степени натурализма в искусстве. Но сторонникам этой теории достаточно всего лишь указать на явное сходство между фигурами на юношеском барельефе Микеланджело «Битва кентавров» и фасадами Шартрского собора, после чего их определение теряет всю привлекательность и силу. В рамках такого истолкования разработка полного теоретического понимания линейной перспективы, математическое и практическое выражение которой дали Лоренцо Гиберти и Филиппо Брунеллески, явила собой решительную перемену не только в технике живописи, но и в скульптуре.30
Для третьих понятие «Ренессанс» включает в себя новый интерес к орнаментам, украшениям и декорированию. Всплеск повышенного интереса к визуальной роскоши и пышным украшениям явился канвой, на которой и возникли индивидуализм и линейная перспектива.31
Но самая значительная и влиятельная теория рассматривает Ренессанс как более буквальную и прямолинейную форму «возрождения» и представляет все другие достижения – индивидуализм, натурализм, украшения – в качестве прелюдии или следствия абсолютного открытия античных сюжетов, моделей и мотивов, свидетельством чего является искусная проделка Микеланджело – его ныне утраченная «Голова фавна». Даже поверхностное знакомство с тесными связями Микеланджело с кружком гуманистов, сложившимся вокруг Лоренцо де Медичи, показывает, что эта теория исходит из предположения о тесной – даже слишком тесной – связи между визуальными искусствами и литературной культурой гуманистов.32
Поскольку такая теория отчетливо связана с буквальным значением слова «Ренессанс» и охватывает его настолько полно, что ее можно считать наиболее полной характеристикой периода. Неудивительно, что она считается наиболее привлекательной. Однако если мы будем рассматривать сломанный нос Микеланджело, то у нас начинаются проблемы.
Как отмечал ряд известных ученых, одним из особых достоинств подобного истолкования Ренессанса является то, что именно так ведущие интеллектуалы эпохи Возрождения воспринимали собственное время. Труды «художественно мыслящих гуманистов и гуманистически мыслящих художников XIV, XV и XVI веков» выдают явное и недвусмысленное ощущение жизни в новой эпохе, которая характеризуется возрождением культуры классической античности.33
Истоки этого ощущения культурного «возрождения» можно проследить в самом начале XIV в. Когда Данте Алигьери воспевал знаменитых Чимабуэ и Джотто в «Чистилище»,34 читатели труда Горация «О поэтическом искусстве» быстро научились пользоваться языком «мрака» и «света» для описания параллельного возрождения живописи и поэзии. 35 Часто считают, что идея о переходе от средневекового «мрака» к чистому «свету» античности впервые появилась у Петрарки в его «Африке».36 Он возродил классическую латынь, за что его друг Джованни Бокаччо назвал его вместе с Джотто одним из двух зачинателей новой эпохи.37
Однако именно в XV в. произошло истинное «самоосмысление» Ренессанса. Именно в этот период мы видим полное выражение чувства жизни в эпоху классического «возрождения». Чувство гордости, сопровождающее эту идею, явно отразилось в письме, написанном в 1492 г. другом Микеланджело, Марсилио Фичино, Павлу Миддельбургскому:
То, что некогда поэты сочиняли относительно четырех веков, т. е. свинцового, железного, серебряного и золотого, наш Платон перенес в книгах «Государства» на четыре вида человеческих дарований… Итак, если мы должны называть какой-то век золотым, то это без сомнения такой век, который всюду порождает золотые дарования. И тот не усомнится, что таков наш век, кто захочет рассмотреть великие открытия сего века. Этот наш век как золотой век вернул к жизни почти уже угасшие свободные искусства, т. е. грамматику, поэзию, ораторское искусство, живопись, скульптуру, архитектуру, музыку, древнее искусство распевать стихи под аккомпанимент орфической лиры: и все это… во Флоренции.[2]38
Особенно важны для нас слова Фичино о «золотых дарованиях». В эпоху Ренессанса идея золотого века заключалась исключительно в том, что немногие «золотые» личности «вернули к свету» культурные достижения античности. Чувство гордости Фичино потребовало признания заслуг всего пантеона великих людей. Так, 60-ю годами ранее флорентийский политик Леонардо Бруни назвал Петрарку (забыв о Данте) «первым, кто обладал такою тонкостью ума, что смог понять и вывести на свет древнее изящество стиля, дотоле утраченного и забытого».39 Вскоре после этого Маттео Пальмиери писал о самом Бруни, что он был послан в этот мир «в качестве отца и украшения литературы, ослепительного света латинской утонченности, чтобы восстановить прелесть латинского языка для человечества». О живописи Пальмиери он писал так:
…До Джотто живопись была мертва, а изображение фигур смехотворно. Восстановленная им, подхваченная его учениками и переданная другим, живопись стала достойнейшим искусством, которым занимаются многие. Скульптура и архитектура, которые на протяжении долгого времени порождали глупые уродства, в наше время возродились и вернулись к свету, очищенные и доведенные до совершенства многими мастерами.40 Такие тесные отношения между самодостаточной эпохой «возрождения» и созданием пантеона «золотых дарований» были подхвачены и определены еще более точно в XVI в. Джорджо Вазари. Именно Вазари и придумал слово «rinascita» («возрождение», «Ренессанс»). Он поставил перед собой задачу собрать все биографии «наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», восстановив тем самым давно забытую «древнюю форму» античности. Но Вазари пошел дальше античных авторов. Он решил не просто собрать жизнеописания великих людей, которые создали и определили дух эпохи «возрождения», но еще и задать моду на идеал художника, представив его истинным героем. Хотя он критиковал многих художников за их неприятные, «животные привычки» (например, Пьеро ди Козимо), Вазари не сомневался в том, что поистине значимым, героическим художником, тем, кто участвовал в придании очертаний новой эпохе, был тот, чья жизнь сама являлась произведением искусства. И таким человеком стал Микеланджело, с которым Вазари был знаком лично.
Последствия такого рода доказательств весьма значительны. Говоря, что эти доказательства являются основой нашего восприятия Ренессанса в целом, мы вовсе не хотим сказать, что полностью им доверяем. Именно потому, что они настолько экспансивны, самодостаточные и самодовольные слова таких людей, как Бруни, Фичино, Пальмиери и Вазари, в любого уважающего себя историка автоматически вызывают подозрения. Хотя Эрвин Панофски твердо отстаивал их как самодостаточные подтверждения доказуемого культурного сдвига, в действительности практически нет сомнений в том, что подобные заявления в большей степени отражали тенденцию риторической гиперболизации и принятия желаемого за действительное, а не являлись символами современных культурных реалий.
Однако в то же время подобные заявления новой эпохи культурного возрождения нельзя игнорировать полностью, поскольку они являются лучшим из доступных нам «путеводителей» по тому периоду. Сколь бы розовыми и пропагандистскими они нам ни казались, они дают историкам жизнеспособное и вполне рабочее определение Ренессанса, которое может служить отправной точкой для исследований. Даже если усомниться, действительно ли Петрарка оживил блеск латыни Цицерона, как утверждает Бруни, идею «возрождения» все же можно использовать в качестве лупы для изучения (и оспаривания) его трудов. Точно так же, даже если считать, что campanile (колокольня) Джотто не имеет никаких параллелей с античной архитектурой, тем не менее можно признать, что современники полагали, что таким образом они пытаются возродить античность. И эту цель можно использовать в качестве эталона для оценки искусства того периода.
Однако, даже если историки не будут полностью полагаться на слова таких людей, как Фичино и Пальмиери, им все же придется использовать одну важнейшую часть «мифа» о Ренессансе в своих исследованиях, чтобы понять этот период как единое целое. Хотя концепция «возрождения» более 100 лет была предметом пристального критического исследования, Ренессанс все равно воспринимается через призму творений и поступков «великих людей». Более того, даже если мы будем скептически воспринимать пышные славословия Вазари, все же почти невозможно не поддаться обаянию его восприятия художника Ренессанса как фигуры исключительно высокодуховной. Несмотря на множество исследований социальной и экономической истории Ренессанса, которые показывали весьма неприглядную картину, сложилась тенденция воспринимать этот период как бесконечную литанию «больших имен», список «золотых дарований», каждого из которых можно принципиально – и даже исключительно – считать агентом культурного воспроизводства.
Подобное представление о Ренессансе весьма привлекательно. Легко понять, почему оно нам так знакомо. Достаточно впервые оказаться во Флоренции – и устоять перед ним просто невозможно. Стоя на площади Синьории, легко представить, что Ренессанс в большей или меньшей степени был именно таким, как описывали его Бруни и Пальмиери. В окружении классически элегантной лоджии Ланци и галереи Уффици, стоя на площади рядом со статуями Микеланджело, Донателло и Челлини, очень легко признать Ренессанс эпохой, когда героические талантливые художники возрождали культуру античности и создавали города и общества, которые сами по себе являлись произведениями искусства.
Но тут и кроется парадокс. Я не говорю о том, что доказательства культурного и художественного «возрождения» абсолютно бесполезны или неверны. Но попытки определять Ренессанс подобным образом неизбежно приводят к исключению большего, чем того, что остается. Поддавшись мифу «великих дарований», мы исключаем из эпохи Ренессанса все повседневное, животное, грубое и отвратиельное. Мы отделяем литературу и визуальное искусство от обычного существования, словно эти творения создавались в каких-то совершенно иных – неземных – сферах существования. Мы забываем о том, что даже у великих художников были матери, что они влипали в неприятные истории, ходили в туалет, заводили романы, покупали одежду и порой были весьма неприятными людьми. Мы забываем о том, что Микеланджело сломали нос за его заносчивость и высокомерие.
И в результате возникает однобокое и неполное представление об эпохе, которая вне всякого сомнения была великолепной и глубоко «человечной». В результате возникает неправильное восприятие цельных личностей, сложных и парадоксальных фигур, художественные достижения которых, на наш взгляд, противоречили их сугубо земным характерам. Историкам нужны порядок и смысл, и они отставляют в сторону те черты, которые кажутся им неуместными, как правило, самые заурядные. Другими словами, уступая нашему прежнему комфортному представлению о Ренессансе, мы принимаем Микеланджело-художника и забываем о Микеланджело-человеке.
Конечно, мы не должны немедленно давать совершенно новое определение эпохи Ренессанса в целом. Но если сломанный нос Микеланджело что-то и доказывает, так это то, что по-настоящему понять Ренессанс можно, только рассматривая его в целом – с дикими выходками и не самыми приглядными его сторонами. Чтобы понять, как Микеланджело удалось создать столь совершенный синтез классических и натуралистических элементов в своих скульптурах и в то же время быть заносчивым драчуном со сломанным носом, нужно признать, что в одном земном человеке сосуществовали два взаимосвязанных измерения. А эпоха, в которую он жил, состояла не из одних лишь выдающихся художественных достижений, но еще и была грязной, полной насилия, отталкивающей, грубой и очень неприятной. Проще говоря, если мы хотим понять Ренессанс, то должны вернуть Микеланджело в реальный социальный контекст и изучить тот бурлящий социальный мир, который породил этого человека и художника. Ренессанс нужно рассматривать не только так, как мы давно привыкли. Нам нужно увидеть безобразный Ренессанс, каким он и был.
* * *
Давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Совершенно ясно, что нужно сделать паузу в тот самый момент, когда кулак Пьетро Торриджано сломал нос Микеланджело. Леденящий кровь звук ломающихся костей и хрящей – это повод остановиться и задуматься. Оставим Микеланджело корчиться на земле и забудем о знакомом представлении о Ренессансе. Давайте изучим мир, в котором этот юноша мог и взмывать к высотам художественного гения, и опускаться в низменные глубины бытия. А для этого нам нужно мысленно выйти из церкви Санта-Мария дель Кармине и изучить то, что привело к этому историческому моменту. Во-первых, нам нужно рассмотреть Флоренцию в целом. Давайте изучим виды, звуки и запахи улиц и площадей, драмы социальной жизни, которые и стали контекстом той драки Микеланджело. Мы подойдем очень близко и заглянем во внутренности этого города. Мы обсудим драматическую историю институтов, которые определяли мир искусства Ренессанса: бизнеса, политики и религии. А потом мы поговорим о быте и других сторонах повседневного существования Флоренции. И тогда мы сможем восстановить на удивление заурядные, но зачастую довольно отвратительные, заботы, которые занимали мысли Микеланджело в ходе развития его художественной карьеры. И, наконец, нам откроется разум Микеланджело, и мы поймем, как бурлящая масса повседневных забот в сочетании с убеждениями, надеждами и образом мыслей дала интеллектуальную почву, на которой расцвели его творения, – и его сломанный нос.
2. В тени Петра
Каким же был город, в котором Микеланджело жил до той судьбоносной драки летним днем 1491 г.? Хотя документальных свидетельств о раннем периоде его жизни совсем немного, скорее всего, его день начинался в школе Бертольдо ди Джованни в садах на площади Сан-Марко. Придя туда ранним утром, Микеланджело, наверняка, обнаруживал, что жизнь уже бьет ключом. Среди множества античных статуй и сваленных в беспорядке блоков необработанного мрамора сидели его друзья, и каждый занимался своим делом – ваял или сосредоточенно рисовал что-нибудь. Его мог радостно приветствовать Франческо Граначчи, который стал ему другом на всю жизнь.1 С бумагой и мелом в руках Микеланджело мог подойти к Бертольдо, чтобы обсудить задание на день. Микеланджело сообщил бы, что хочет еще один день поработать в капелле Бранкаччи. Такое упорство юноши пришлось бы по душе Бертольдо. Но учитель понимал важность правильного руководства. И он бы посоветовал Микеланджело обратить внимание не на самые знаменитые сцены, а на более композиционно сложные фрагменты цикла. Бертольдо уже страдал от неизвестной болезни, которая свела его в могилу всего через несколько месяцев.2 Поэтому трудно поверить, что в тот момент, когда Бертольдо давал этот совет своему ученику, ему на ум не пришла фреска «Святой Петр исцеляет страждущего своей тенью» [ил. 1]. Вняв совету своего наставника, Микеланджело направился бы в церковь Санта-Мария дель Кармине.
Хотя пути любого юноши неисповедимы и непредсказуемы, идя по улицам Флоренции, Микеланджело, наверняка, прошел бы мимо самых знаменитых достопримечательностей города. От Сан-Марко рукой подать до воспитательного дома (Оспедале дельи Инноченти) Брунеллески и фамильной церкви Медичи Сан-Лоренцо. Микеланджело, наверняка, прошел бы мимо своего дома, палаццо Медичи-Риккарди, Баптистерия и Собора Санта-Мария дель Фьоре. А дальше ему попалась бы огромная церковь гильдий Орсан-микеле, и он оказался бы на площади Синьории. Его путь пролегал бы по улицам старого города, через мост Понте-Веккьо в квартал Олтрарно. И вот уже церковь Санта-Мария дель Кармине.
Во многих отношениях путь Микеланджело можно сравнить с путем истории самого Ренессанса. Здания, мимо которых он проходил, во многих отношениях символизируют художественные и архитектурные достижения того времени. Но если сегодня их считают великими памятниками, которые следует сохранять и которыми восхищаться в их первозданном виде; для Микеланджело они были самыми обычными религиозными, административными и общественными зданиями живого, дышащего города, где и развивались культура и искусство Ренессанса. Микеланджело бродил по улицам, на которых возникали культурные новации эпохи. Он проходил мимо живых доказательств различных влияний, которые и определяли эти перемены.
После падения Империи в начале XI в. на территории Италии появилось множество независимых государств.3 Города-республики и деспотии Северной Италии развивали новые культурные формы, призванные воспевать и сохранять автономное самоуправление. Образованные чиновники, которые несли на своих плечах постоянно увеличивающийся груз законодательства, налогообложения и дипломатии, изучали утонченную классическую латынь. Общественные деятели, такие как флорентийцы Колюччо Салютати и Леонардо Бруни,4 использовали античные литературные памятники для риторики «республиканства», а те, кто жил в деспотических государствах, обращались к литературе Римской империи в поисках образцов блестящих князей. Стараясь защитить свою независимость от других государств, города сознательно использовали ощущение городской свободы. Величественные общественные здания, такие как Палаццо Веккьо во Флоренции, строились, чтобы подчеркнуть величие республики и доказать стабильность и долговечность общественного правительства.5 Для публичных пространств заказывались произведения искусства, которые прославляли либо независимость городов-государств, либо блестящую мудрость signori (правителей). Города – богатели, получали прибыль от торговли и ремесел. Грандиозные здания строили для себя корпоративные организации – гильдии и светские братства. Примерами этого могут служить церковь Оньиссанти и Воспитательный дом. Новая городская торговая элита стремилась подчеркнуть свое богатство и замолить грехи, совершенные в процессе его получения. Поэтому торговцы покровительствовали искусствам – художники должны были создать публичный образ. В городе десятками появлялись богато украшенные фамильные капеллы и роскошные дворцы.
Но путь Микеланджело был в то же время и метафорическим путешествием по социальным влияниям, которые формировали его жизнь – жизнь художника и человека. Ведь город был реальной сценой для социальных драм повседневной жизни, той самой колыбелью, в которой зародились художественные мечты Ренессанса. Здесь художники жили, работали и умирали. Здесь формировались и изменялись социальные привычки, вкусы и условности. Здесь жизнь самым тесным образом переплеталась с искусством. Микеланджело шел мимо церквей, площадей, дворцов, рынков, общественных зданий и больниц, где протекала повседневная жизнь города, и его маршрут отражал социальные, экономические, религиозные и политические реалии, сформировавшие его карьеру художника и скульптора, определившие его человеческие ценности и приоритеты. Все то, что он видел, слышал и обонял на этом пути, было частью основы, на которой ткался яркий гобелен его жизни и работы. Но городской пейзаж, в котором Микеланджело и его современники работали, веселились и сражались, был гораздо безобразнее, чем можно предположить по описанию его маршрута.
Флоренция и иллюзия идеала
В 1491 г. Флоренция была процветающим метрополисом.
В 1350 г. в городе проживало около 30 тысяч человек. Но со временем Флоренция стала одним из крупнейших городов Европы. Уже в 1338 г. хронист Джованни Виллани писал о том, что каждый день жители города потребляют более 70 тысяч кварт вина, и, чтобы удовлетворить их аппетиты, каждый год забивается около 100 тысяч овец, коз и свиней. К середине XVI в. во Флоренции проживало уже не менее 59 тысяч жителей. По размерам город соперничал с Парижем, Миланом, Венецией и Неаполем.
В 1491 г. Флоренция была экономическим гигантом. Несмотря на довольно невыгодное положение – вдали от моря и от основных торговых путей, город имел тесные связи с папством и Неаполитанским королевством. Во Флоренции сложились мощные торговые и банковские гильдии, и город занял ведущее положение на европейском рынке тканей. По словам Виллани, в 1338 г. ткачеством занимались около 30 тысяч работников.6 Каждый год в городе производилось ткани на 1,2 миллиона флоринов. Большая часть тканей уходила на экспорт. В том же году во Флоренции было зарегистрировано 80 банков и меняльных контор, а 300 граждан числились торговцами, работающими за пределами города.7 Хотя периодически случались кризисы – голод начала XIV в., крах банков Барди, Перуцци и Аччайуоли и эпидемия «черной смерти» 1348 г. – Флоренция все выдерживала и энергично развивалась.8 Так, в городе начали заниматься шелкоткачеством. Развитие банков Медичи и Строцци способствовало истинному экономическому чуду.
Конечно, рост богатства и развитие институтов общественного управления имели свои преимущества. Благодаря развитию гуманизма и увеличению количества профессиональных чиновников стандарты образования и грамотности достигли такого уровня, равного которому в XII в. просто не существовало и который можно считать исключительным для многих частей современного мира. В середине 1330-х гг., по словам Виллани, в городе учились читать 8-10 тысяч мальчиков и девочек – то есть 67–83 % населения города имело начальное образование. Хотя нам простительно относиться к оценкам Виллани с определенным скептицизмом, его свидетельства подтверждаются данными catasto (налоговыми документами). По catasto 1427 г., к примеру, около 80 % флорентийских мужчин были достаточно грамотными, чтобы заполнить собственные документы.9 По тем же данным в городе делались серьезные попытки поддержки бедных, больных и нуждающихся. Построенный Брунеллески Воспитательный дом (Оспедале де-льи Инноченти) был создан в 1495 г. и не облагался налогами. В этом заведении заботились о сиротах и помогали нуждающимся женщинам благополучно разродиться. В 1494 г. во Флоренции открылась больница для жертв чумы, что помогло городу выстоять против эпидемии и обеспечить медицинскую помощь больным.
Деньги и гражданское самосознание изменили городской пейзаж Флоренции. Частные капиталы тратились на строительство таких зданий, как палаццо Медичи-Риккарди. Архитекторы прилагали все усилия к тому, чтобы копировать античную архитектуру и создавать идеальные города. Труд Витрувия «Об архитектуре» – самый полный классический трактат о методах строительства и художественной стороне архитектуре – был целиком опубликован флорентийцем Поджо Браччолини в 1415 г., после чего архитекторы подхватили идеи античного автора и стали экспериментировать с новыми подходами к дизайну и управлению городскими пространствами. Труды Витрувия стали истинным фетишем для достижения идеала. Архитекторы, художники и философы один за другим предлагали все более утопические проекты городской жизни. Наиболее очевидна эта тенденция в картине «Идеальный город» [ил. 2], написанной неизвестным художником в конце XV в.
Такой фетиш идеала отражался в объединенных усилиях по воплощению античной архитектурной теории в практику. По мере роста уверенности таких городов-государств, как Флоренция, возрождение классического стиля становилось мощным выражением гражданской идентичности и гордости. У флорентийцев эпохи Ренессанса крепло ощущение, что утопический «идеальный город» возможен. Собственный город они считали совершенным. В «Инвективе против Антонио Лоски из Виченцы» (1403) флорентиец Колюччо Салютати описывал Флоренцию с характерным бурным энтузиазмом:
Действительно, какой город не только в Италии, но и во всем мире имеет такие надежные стены, такие великолепные дворцы, такие украшенные храмы, такие красивые здания, такие чудные галереи, такие замечательные площади, такие роскошные широкие улицы? В каком городе такое большое население, такие знаменитые граждане, такие неисчерпаемые богатства, такие ухоженные поля?[3]10
Флорентийские интеллектуалы настолько гордились своим городом и любили его, что возник целый литературный жанр, посвященных восхвалению города. Примерно в то же время, что и «Инвектива» Салютати, появилось «Восхваление города Флоренция» (1403–1404) Леонардо Бруни. Автор стремился дать горожанам такой образ родного города, который наполнил бы их республиканской гордостью и уверенностью. Неудивительно, что тон этого сочинения еще более хвалебен.
Несмотря на некоторые сомнения в том, хватит ли ему красноречия, чтобы описать величие Флоренции, Бруни очень подробно рассказывает о множестве достоинств города, начиная с демонстративного, не знающего границ восхваления жителей Флоренции.11 Но главное внимание он уделяет городской среде. Мы находим в его труде поразительно лиричное описание станка, на котором ткался гобелен Ренессанса:
Что в мире может сравниться с роскошью и великолепием архитектуры Флоренции?.. По обеим сторонам реки располагаются великолепные улицы и богато украшенные портики домов знатных семей, а рядом с ними всегда находятся множество людей… Многочисленная толпа может продвигаться или же заниматься делами, или предаваться развлечениям. Ведь ничего не может быть приятнее… [4]12
Частные дома, выстроившиеся вдоль улиц, «были задуманы с величайшей красотой и великолепием и воздвигнуты ради достижения изящества и приятности». Восторг Бруни перед этими постройками был настолько велик, что он заявлял: «Я не сумел бы выразить словами все великолепие, даже если бы имел сто языков, сто ушей и оглушительный голос».13 И над всеми этими домами, церквями, над всей этой роскошью возвышалось величественное здание Палаццо Веккьо – центра управления Флоренцией. В представлении Бруни гордый дворец, подобно адмиралу на флагманском корабле, венчал прекраснейший город Италии, одобрительно взирая на невыразимый покой, красоту и равновесие вокруг себя.
С годами восхищение городом только росло. В поэме «Прославление города Флоренция», опубликованной в 1503 г., Уголино Верино писал, что «каждый путешественник, прибывающий в город цветов, восхищается мраморными домами и церквями, вырисовывающимися на фоне неба, и клянется, что нет места прекраснее во всем мире». Верино, как и Бруни, остро чувствовал, что его способностей недостаточно, чтобы описать этот самый поразительный и прекрасный город мира. «Как описать мне просторные вымощенные улицы», – спрашивал он,
– которые построены таким образом, чтобы прохожие не пачкали ноги ни грязью, когда идет дождь, ни пылью жарким летом, и обувь их всегда оставалась чистой? Как в должной мере описать поддерживаемый величественными колоннами грандиозный храм, посвященный Святому Духу [Санто-Спирито], или церковь Сан-Лоренцо, возведенную благочестивыми Медичи..? Что скажу я о великолепном дворце великого Козимо или о четырех огромных мостах через реку Арно, которая протекает через Флоренцию, устремляясь к Тирренскому морю?»14
Неудивительно, что (как писал современник Верино, торговец Джованни Ручеллаи) «многие полагают, что наша эпоха… это самый счастливый период в истории Флоренции».15 А сам Верино, подражая античным авторам, провозглашал, что их «золотой век бледнеет рядом с тем временем, в котором мы живем ныне».16
Все это кажется слишком хорошим, чтобы быть истиной. И так оно и есть – это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Несмотря на фантастические восхваления Флоренции в трудах Салютати, Бруни и Верино, явные признаки богатства города сосуществовали с элементами, которые говорили о совершенно ином образе жизни и порой даже зависели от них. Эти элементы и привели (пусть даже косвенно) к сломанному носу Микеланджело.
Несмотря на свое богатство, Флоренции приходилось постоянно бороться с неприятными последствиями процветающей торговли. Пышная и неумеренная демонстрация богатства флорентийских купцов постоянно подвергалась посрамлению – ив первую очередь со стороны монаха-доминиканца Джироламо Савонаролы. Он гневно обрушивался на богатых, указывая на их роскошные дворцы, экстравагантную одежду и великолепные частные капеллы.17 Все это не соответствовало стандартам жизни подавляющего большинства рядовых флорентийцев. Богатство купцов росло, а неквалифицированные работники получали все меньше и меньше.18 Бедность постоянно соседствовала с богатством.19 Повсюду побирались нищие, а преступность превратилась в настоящую эпидемию. Городское правительство не имело четкой концепции экономического развития города и безуспешно пыталось бороться с растущим неравенством в сфере распределения богатств, с ужасными условиями жизни и страшными болезнями. Более двух веков Флоренцию раздирали политические разногласия и социальные проблемы. Город непрерывно переживал эпидемии, его захлестнула волна преступности, социальное расслоение усиливалось с каждым днем. И все это происходило на тех же улицах и площадях, которыми так восхищались Салютати, Бруни и Верино, которые видели в них центры нового идеального мира. По этим улицам в 1491 г. и шел Микеланджело.
Культура, религия, революция: Сан-Марко
Само расположение школы, где учился Микеланджело, воплощало в себе эти противоречия. Большой и благоустроенный монастырь и церковь Сан-Марко принадлежали быстро растущему ордену монахов-домини-канцев и служили символом спокойного и ученого благочестия – такой и должна была бы быть религиозная жизнь в эпоху Ренессанса.
Как и соседняя доминиканская церковь Санта-Мария Новелла, Сан-Марко являлся архетипом просвещенного монастыря. В 1437 г. монастырь получил от Козимо де Медичи колоссальное пожертвование в сумме 36 тысяч золотых флоринов и превратился в храм искусства и просвещения.20 Церковь украшали фрески местного монаха Фра Анжелико. Истинным сокровищем монастыря была великолепная новая библиотека, построенная Микелоццо. Библиотека быстро наполнялась – здесь хранилась огромная коллекция лучших манускриптов, какие только можно купить за деньги. Как писал в конце XV в. в «Прославлении города Флоренция» Верино, в библиотеке
Сан-Марко хранилось «столько тысяч томов, написанных греческими и латинскими предками, что ее по праву можно было бы назвать архивом священной доктрины».21 В садах монастыря Лоренцо де Медичи устроил школу для художников. Школа и библиотека сделали Сан-Марко одним из центров флорентийской интеллектуальной жизни. К 1491 г. монастырь стал любимым местом встречи гуманистов-книголюбов, таких как Пико делла Мирандола и Анджело Полициано (впоследствии оба были похоронены в этой церкви), и художников, жаждущих учиться на образцах статуй, установленных в садах. Неудивительно, что Верино назвал Сан-Марко местом, «где обитают музы».22
Кроме того, церковь являлась местом искреннего поклонения. Среди величайших сокровищ Сан-Марко, столь притягательных для верующих, были рождественские ясли, которые выставлялись с XV в. и которые можно увидеть даже сегодня. Ясли украшало огромное множество искусно вырезанных фигур, они очаровывали современников (включая Доменико да Кореллу) и были центром ежегодного крещенского праздника города.23 Это яркое событие представляло собой искусную игру света и мрака, музыки, костюмов и аромата благовоний. Под покровом ночи монахи, одетые волхвами и ангелами, возглавляли процессию. Самые достойные жители города шли в церковь при свете зажженных факелов. Деревянную фигуру младенца Христа символически укладывали в ясли. Волхвы приходили поклониться младенцу, а затем прихожане целовали ноги фигуры. Атмосфера в церкви царила просто необыкновенная. Неизвестный юноша, ставший в 1498 г. свидетелем празднества, писал, что «в этих монахах воплощен сам рай, и этот дух снисходит на землю, где все горят любовью».24
Но в то же время Сан-Марко стремительно становился рассадником религиозного экстремизма, политических интриг и откровенного насилия. В июле 1491 г. (примерно в то же самое время, когда Микеланджело сломали нос) приором монастыря был избран фра Джироламо Савонарола.25 Прекрасно образованный человек, искусный оратор, изможденный аскет со страстью призывал к скромности и простоте, считая эти качества основополагающими для христианского благочестия. Он был исполнен презрения к материальным благам, связанным с богатством. Во время поста перед своим избранием он произнес несколько страстных проповедей, обличая ростовщичество, алчность, финансовое мошенничество и роскошь, в которой живут богатые. Но самое гневное его осуждение вызвали те, чье богатство и сделало Сан-Марко истинным центром культуры. Савонарола сурово обрушился на Медичи. Он осуждал роскошь, «распутные» картины, красивую одежду и даже стихи тех, кто часто бывал в кулуарах монастыря. Учась и работая в садах Сан-Марко, Микеланджело неизбежно был в числе тех, что собирался послушать проповеди Савонаролы. Хотя энтузиазм юноши бледнел в сравнении с восторгом Боттичелли (под влиянием монаха он даже на время бросил занятия живописью26), но даже спустя годы он помнил звук мощного голоса Савонаролы.27
Микеланджело буквально на мгновение разминулся с окончательным превращением Сан-Марко в эпицентр религиозной революции. Превратившись из моралиста в карающего политика, Савонарола организовал переворот и сверг сына Лоренцо де Медичи, Пьетро. А затем Флоренция, хотя и ненадолго, превратилась в жестокую теократическую олигархию монастыря. Но Сан-Марко стал и свидетелем падения Савонаролы. В Вербное воскресенье 1498 г. сотни верующих собрались на молитву, но разъяренная толпа осадила Сан-Марко, требуя казни монаха.28 Собравшиеся подожгли ворота монастыря, ворвались в клуатры и штурмом взяли стены под непрерывный звон колоколов. Монахи и сторонники Савонаролы отчаянно сопротивлялись – они швыряли в нападавших черепицу с крыши, отбивались мечами, стреляли из луков. В кровопролитном бою погибли десятки человек. Сражение затянулось до ночи. Жестокость осады Сан-Марко той весенней ночью, как и сломанный нос Микеланджело, явилась результатом тех же самых тенденций, которые лежали в основе флорентийского просвещения и благочестия.
Улицы, площади и ритуалы: по виа Ларга к площади Дуомо
По мере того как мы продвигаемся вслед за Микеланджело в глубь города, причудливое сочетание утонченности и суровости, культуры и страдания становится все более очевидным.
Двигаясь по виа Ларга, он прошел мимо своего временного пристанища – дворца Медичи-Риккарди. Дворец был построен Микелоццо для Козимо де Медичи. Строительство завершилось всего 30 лет назад. Мощное, стильное здание служило явным свидетельством богатства, власти и культурной утонченности покровителей молодого Микеланджело. А вот сама улица была другой. Хотя по тогдашним стандартам она была довольно широкой, но ее не удосужились вымостить, поэтому она была очень грязной. Даже возле дворца Медичи-Риккарди жители соседних домов выливали нечистоты на улицу прямо из окон. Мусор бросали там, где было место, и не обращать на это внимание было нельзя. Спустя много лет Микеланджело писал:
У своего порога нашел я кучи целые дерьма, Поскольку тот, кто, виноградом обожравшись Или приняв слабительное, не нашел Для очищенья места лучше.29Несмотря на зловоние стоков, улица была заполнена людьми из самых разных слоев общества. Воздух был полон звуками городской жизни. На конях и телегах перевозили кипы тканей, бочки с вином и мешки с зерном. Богатые торговцы и нотариусы в роскошных черно-красных одеяниях собирались, чтобы обсудить дела или политические проблемы. Юноши в свободных дублетах и облегающих чулках сплетничали и обсуждали девушек, лавочники спорили с покупателями, а священники и монахи степенно проходили мимо, опустив головы. Нищие протягивали прохожим чашки или сложенные ладони, безнадежно моля о милостыне. Больные и убогие взывали о милосердии прямо с земли.
Оживленная виа Ларга выходила на площадь Дуомо. Над площадью высился могучий купол собора Санта-Мария дель Фьоре – самого большого здания со времен античности30 – и стройная campanile (колокольня) Джотто. Перед собором высился Баптистерий. Ошибочно считалось, что в античные времена он служил римским храмом. Истинным украшением Баптистерия стали огромные бронзовые врата, созданные Лоренцо Гиберти для восточного входа. Сам Микеланджело отдал должное творцу этих врат, назвав их «достойными рая».31 И с того времени их так и стали называть врата рая.
Площадь тоже была заполнена народом, шумно занимавшимся своими делами. Приближался день Святого Иоанна (24 июня), и подготовка к празднованию шла полным ходом. День Святого Иоанна – главный праздник флорентийского календаря. Празднества проходили несколько дней и превращались в настоящую ярмарку тщеславия. Рабочие уже занимались возведением золотистого навеса вокруг Баптистерия. В первый день праздника под колоссальным навесом флорентийские купцы демонстрировали свои лучшие товары: красивейшие украшения, тончайшие шелка, великолепные одеяния. Все отличалось высочайшим качеством – и не менее высокой ценой. Эта выставка устраивалась не для прибыли – город хотел продемонстрировать свое богатство и абсолютное процветание и посрамить нищих иностранцев, которые забредут посмотреть на это чудо.
В последующие дни празднеств на площади устраивались процессии. Сотни священников в самых роскошных и заоблачно дорогих одеяниях со всего города устремлялись к собору. Процессии сопровождались звуками труб, песнями и молитвами. Богатства города ритуально посвящались святому покровителю Флоренции, Святому Иоанну. Затем начинались процессии столь любимых Макиавелли граждан-солдат, «нравственных» обывателей (преимущественно купцов) и братств, которые демонстрировали богатство города еще более ярко и грандиозно. И, наконец, представители всех регионов, находящихся под управлением Флоренции, устремлялись к собору с символическими дарами – свечами и шелками. Это было ритуальное приношение тем, кто целыми днями благоденствовал в окружении богатства и великолепия.
Но праздник был не только религиозным, но и чисто человеческим. Он заканчивался грандиозным общим празднованием. На улицах Флоренции устраивалась скачка, подобная сиенскому palio (этот обычай сохранился и по сей день, и скачки устраиваются ежегодно). Флорентийское palio было куда веселее сиенского. Здесь оживленно делались ставки, которые интересовали жителей куда больше, чем победа того или иного квартала. Скачка начиналась в полях близ церкви Оньиссанти. Наездники в ярких костюмах устремлялись вперед по улицам города, через площадь Дуомо, на которой стоял Микеланджело, к финишной черте, располагавшейся у ныне почти разрушенной церкви Сан-Пьер Маджоре. Для большинства флорентийцев скачка была кульминацией всех празднеств.
Хотя призы были не слишком грандиозны, богатые люди, вроде Лоренцо де Медичи, часто нанимали профессиональных наездников, чтобы получить большой куш на ставках, – для этой цели из конюшен выводили лучших и самых дорогих жеребцов. Лошади мчались по улицам, раздавались крики толпы, стоны упавших наездников и неумолчный гул голосов тех, кто делал и принимал ставки. В письме своему другу, Бартоломео Чедерини, флорентиец Франческо Каччини писал, что в 1454 г. из-за погоды пришлось отложить начало скачек. Поговаривали даже о полной отмене. Но к семи часам вечера, когда скачки начались, на лошадей «уже поставили огромные суммы денег и всего прочего». Фаворитом был конь Андреа делла Стуфа, Леардо. Он лидировал почти всю скачку к вящему восторгу толпы, но прямо перед собором Андреа упал и пришел последним. Это вызвало огромное недовольство. Каччини писал: «Пандольфо потерял 18 флоринов, а Пьерфранческо и Пьеро де Пацци – 50… Из-за дождя Маттео Ринальди потерял 84 флорина. В проигрыше остался и Пьерлеона, и множество других».32 После скачки площадь Дуомо оглашалась взрывами смеха, громкими спорами из-за ставок и бесконечными песнями. Люди танцевали, пили вино. Среди ночи площадь Дуомо мало чем напоминала мирный и торжественный центр искусств, каким мы видим ее сейчас.
Политические драмы: площадь Синьории
Проходя через площадь Дуомо, Микеланджело должен был пройти мимо здания Онеста (городской совет, контролирующий проституцию) и выйти на улицу Кальцаиоли. Это был финансовый и коммерческий город. Здесь находился Орсанмикеле – изначально рынок зерна, а затем церковь – и дворцы Арте делла Лана и Арте делла Сета (гильдий шерсти и шелка). На протяжении всей истории Флоренции эти гильдии контролировали торговлю и управление городом. Здесь народу становилось еще больше. Вдоль улиц выстроились лавки. Мужчины и женщины локтями прокладывали себе дорогу, чтобы заполучить лучшие товары. Торговцы выкрикивали цены, а представители гильдий спорили относительно правил. Виа Кальцаиоли была уже, чем виа Ларга, и зловоние и шум здесь становились почти нестерпимыми.
За этой улицей находился центр гражданской власти Флоренции – площадь Синьории. Элегантная, великолепная площадь была центром флорентийской политической жизни в эпоху Ренессанса. Она всегда являла собой впечатляющее зрелище. Оосбенно хороша площадь становилась в дни грандиозных празднеств в честь святого Иоанна Крестителя. Огромный романский Палаццо Веккьо (его называли еще Палаццо дель Пополо) был построен в конце XIII – начале XIV в., когда в гражданском правительстве активную роль играл Данте Алигьери. Во дворце располагались органы законодательной и исполнительной власти города. Здесь же заседали приоры – главные правители города, и гонфалоньер справедливости, основной хранитель закона и порядка. Суровый, напоминающий крепость дворец являлся мощным символом флорентийской гражданской идентичности и решимости города защищать свою свободу. Спустя несколько лет у врат Палаццо Веккьо будет установлен «Давид» (1501–1504) Микеланджело. Эта статуя станет аллегорией ссопротивления города внешнему господству. Рядом с Палаццо Веккьо в 1376–1382 гг. была построена столь же впечатляющая, но более светлая и воздушная лоджия Ланци. Авторами ее стали Бенчи ди Чьоне и Симоне де Франческо Таленти. Лоджия служила местом заседаний общественных собраний Флоренции. Лоджия Ланци состояла из трех широких ярусов, окаймленных романскими арками. Фасад украшали изображения кардинальских добродетелей – напоминание о моральной твердости и открытости, с которыми ренессансные авторы ассоциировали Флорентийскую Республику.
Но за величественным и впечатляющим фасадом площади Синьории скрывались настоящие драмы, полностью противоположные тому настроению, какое создавалось во время праздников на площади Дуомо. На этой публичной арене разворачивались сцены насилия и жестокости, отражавшие природу социального мира, в котором вырос Микеланджело. Именно здесь после осады Сан-Марко и крушения теократического режима сожгли Савонаролу. Весной 1498 г. после долгих и жестоких пыток он был сожжен перед Палаццо Веккьо, и его пепел развеяли над рекой Арно.
Здесь долгим, жарким летом 1378 г. ярко проявился дисбаланс богатства и политической власти. Эти события получили названия восстаний чомпи. Чесальщики шерсти и другие наемные рабочие были недовольны фракционностью и нерешительностью городского правительства. Еще одним источником недовольства стала невозможность вступления в гильдии и бедность. К опытным работникам присоединились неквалифицированные и лишенные собственности ремесленники. Они требовали доступа в гильдии и представительства в городском правительстве. Рабочие выступали против grassi («жирных котов»). В июле они захватили Палаццо Веккьо и сделали главой города чесальщика шерсти Микеле ди Ландо. Хотя народный режим просуществовал недолго, восстание продолжилось в августе, когда улицы города снова захлестнула волна насилия. Но рабочие не могли противостоять grassi. Не желая лишиться власти, влиятельные олигархи – в союзе с ремесленниками, напуганными бунтарским духом своих наемных работников, действовали решительно и жестоко. 31 августа 1378 г. большая группа восставших была убита во дворце Синьории.
На площади Синьории был повешен архиепископ Пизы Франческо Сальвиати. Разъяренная толпа выбросила его из окна Палаццо Веккьо после провала жестокого, но неудавшегося заговора Пацци. Это произошло в 1478 г. через три года после рождения Микеланджело. К середине XV в. будущие покровители Микеланджело, сказочно богатые Медичи, уже утвердились в качестве фактических правителей Флоренции. Но их господство начало раздражать традиционно упрямый и неспокойный город. Семейство Пацци (тоже успешные и честолюбивые банкиры) вместе с Сальвиати решили сместить Медичи, воспользовавшись молчаливой поддержкой папы. 26 апреля 1478 г. группа заговорщиков убила Джулиано де Медичи в соборе прямо на глазах прихожан и священника. Его брат Лоренцо (который позже заботился о травмированном Микеланджело), истекая кровью, бежал. Ему удалось спастись, он скрылся вместе с гуманистом Полициано. Но заговор не удался. Узнав о происшедшем, флорентийцы пришли в ярость и стали действовать. Одного из заговорщиков, Якопо де Пацци, выбросили из окна, обнаженным протащили по улицам и швырнули в реку. Имя Пацци было мгновенно вычеркнуто из флорентийской истории. Они лишились всего. Разъяренная толпа повесила Франческо Сальвиати прямо на Палаццо Веккьо. 26-летний Леонардо да Винчи, который в то время писал алтарь для Палаццо Веккьо, нарисовал, как тело другого заговорщика, Бернардо ди Бандино Барончелли, раскачивалось на ветру. Впоследствии Микеланджело рассказывал Миниато Питти о том, как 28 апреля сидел на плечах отца и наблюдал за казнью остальных заговорщиков.33
Игроки, проститутки и бездельники: Старый город
Сан-Марко, площадь Дуомо и площадь Синьории рассказывают нам историю, которая совершенно не похожа на то, о чем писали Колюччо Салютати и Леонардо Бруни. Но чем ближе Микеланджело оказывался к Понте Веккьо, тем еще более яркой и живой становилась картина. От величественных общественных зданий художник ушел на улицы, где разыгрывались драмы самой обычной повседневной жизни. Давайте посмотрим на «Вид Флоренции с цепью» [ил. 3]. Этот панорамный вид города был выполнен в 1471–1482 гг. На нем мы видим, что за массивным собором и Палаццо Веккьо видна масса небольших, более скромных домов. Их слишком много, чтобы художник мог изобразить их детально. Они образуют беспорядочное скопление, лишенное характерного стиля и какого-либо ощущения упорядоченности. Жилые дома, мастерские, постоялые дворы и лавки – Флоренция и по сей день славится этой мешаниной. Все они кажутся странными и вырванными из своего времени.
Оказавшись в центре старого города, Микеланджело пошел по мрачным, узким vicoli (переулкам), куда не проникали лучи солнечного света, – так тесно стояли высокие дома. В переулках царили едкие запахи и оглушающий шум от криков и разговоров. Свернув на юг к реке, он должен был слышать шум и суету расположенного поблизости Меркато Веккьо (Старого рынка). Там продавали все – от фруктов и овощей до мяса и рыбы, от сладостей и деликатесов до вышивок и одежды. Кто-то торговал за прилавками, кто-то – вразнос. Запах от рынка чувствовался издалека – на жарком тосканском солнце продукты быстро портились. Раздавались крики торговцев, смех играющих детей и постоянная ругань из-за завышенных цен.
Помимо законной торговли на рынке и на узких улочках вокруг него, по которым шел Микеланджело, происходила торговля более низкая. Проститутки в кричащих нарядах предлагали свои услуги с самого раннего утра, бандиты поигрывали ножами, карманники сновали туда и сюда, уродливые нищие гремели деревянными чашками, а игроки бросали кости на каждом углу. То там, то сям вспыхивали драки и ссоры. Даже для флорентийцев это было поразительное зрелище. За век до прогулки Микеланджело поэт Антонио Пуччи так писал об этом:
Каждое утро улица заполняется Вьючными лошадьми и телегами, спешащими на рынок. А тут огромный пресс, и люди стоят и смотрят на него. Мужья сопровождают жен, А те отчаянно торгуются с рыночными торговками. Тут игроки, бросающие кости, Проститутки и бездельники, Разбойники, носильщики и простаки, Скупцы, бандиты и попрошайки.34На соседних улицах дары земли, купленные на рынке, можно было отведать с удовольствием и комфортом. Здесь располагались многочисленные таверны и бордели, ставшие неотъемлемой частью флорентийской жизни. В маленьких забегаловках подавали самые простые блюда. В больших постоялых дворах имелись конюшни для лошадей и постели для путешественников. Здесь всегда было многолюдно и шумно. Жизнь била здесь ключом. Спиртное и крепкое пиво лилось рекой. Похотливые служанки соблазняли гостей, люди обговаривали сделки, играли в карты, планировали грабежи и бесконечно скандалили и дрались.
Таверны, мимо которых проходил Микеланджело в древнейшем районе Флоренции, были местом, куда любили приходить и бедные, и богатые. Здесь могла разбиться жизнь – этот факт ярко отражен на религиозной картине начала XVI в.35 Девять частей этой моральной аллегории изображают историю Антонио Ринальдески, которого повесили во Флоренции 22 июля 1501 г. По натуре Ринальдески был человеком благочестивым, но гибель поджидала его на постоялом дворе. Он сидел за простым деревянным столом в небольшом внутреннем дворике. Ринальдески уже хорошо набрался и по глупости решил поиграть в кости с настоящим шулером. Естественно, он проиграл и сразу же впал в ярость. Виня в своей неудаче бога, Ринальдески вышел из таверны и отправился на поиски неприятностей. Не сумев найти более подходящего объекта для вымещения своего гнева, он швырнул навоз в изображение Девы Марии близ церкви Санта-Мария де-льи Альбериги, чуть южнее собора. В конце концов его арестовали, обвинили в богохульстве и приговорили к повешению. История совершенно типичная для флорентийских таверн, за одним исключением – благочестивый Ринальдески раскаялся перед казнью.
Естественно, что преступность была неотъемлемой частью жизни таверн и постоялых дворов. В городских архивах сохранилось множество историй насилия, вымогательства, грабежей и даже изнасилований в подобных местах. К примеру, в конце XIV в. двое флорентийцев, Лоренцо и Пиччино, были осуждены за обман некоего Томмазо ди Пьеро Венгерского на постоялом дворе «Корона», где тот остановился по пути в Рим. Подпоив бедолагу, Лоренцо и Пиччино убедили его в том, что они – богатые торговцы, имеющие партнеров по всей Италии. Они уговорили его «продать» им лошадь за 18 флоринов, и Лоренцо пообещал, что деньги можно будет получить у его «партнеров» в Риме. Хуже того, Лоренцо и Пиччино «заняли» у Томмазо еще 28 дукатов, чтобы «купить» у друга некие воображаемые драгоценности – и опять же пообещали вернуть долг через деловых партнеров в Риме. Естественно, никаких денег простак Томмазо не получил. Лоренцо и Пиччино были осуждены In absentia (в отсутствие). Их приговорили к публичной порке, но, конечно же, они не получили ни удара.36
Самыми низкопробными заведениями были бордели, весьма напоминавшие постоялые дворы. Если бы не разгульный секс и поголовные болезни, отличить бордель от таверны было бы нелегко. Впрочем, оба типа заведений были очень тесно связаны друг с другом. В 1427 г. за домом Россо ди Джованни ди Никколо де Медичи находились «шесть маленьких лавок», которые «сдавались проституткам, обычно платившим от 10 до 13 лир в месяц [за комнату]». Хозяин таверны, некий Джулиано, руководил всем предприятием. У Джулиано имелись ключи от всех комнат, и он «пускал [в комнаты] того, кого хотел». Естественно, что он получал арендную плану и имел свою долю в прибыли.37
Но не все бордели были такими мелкими заведениями. Эта часть Флоренции славилась большими публичными домами. Бордели Старого города были настолько знамениты, что в их честь даже сочинялись стихи. Самой фривольной и знаменитой книгой стал «Гермафродит» Антонио Беккаделли (1394–1471), более известного, как Панормита. В ней он описывал свое посещение любимого заведения и давал рекомендации потенциальным гостям, живо рассказывая о тех наслаждениях, какие только можно получить в этом месте:
…Есть такой уютненький бордель, Место, которое способно дух вышибить своей вонью. Зайди туда и передай привет от меня сводне и шлюхам, Которые сразу же прижмут тебя к пышной груди. Блондинка Елена и милая Матильда сразу бросятся к тебе. Обе – большие мастерицы потрясти ягодицами. Джанетта подойдет в сопровождении своего щенка (собачка ластится к хозяйке, хозяйка ластится к гостям). А вот и Клодия с раскрашенной обнаженной грудью. Клодия способна любого расшевелить своими уговорами. Анна встретит тебя и отдастся с германской песней (когда она поет, то сразу понятно, что она пила); И Пито, мастерица вилять задом, появится за ней, А вместе с Пито придет Урса, любимица борделя. Соседний квартал, названный в честь забитой коровы, Пошлет Тайс тебе на встречу. Короче говоря, все шлюхи этого прекрасного города Встретят тебя в восторге от твоего прихода. Здесь можно говорить и делать, что угодно, Не будет здесь отказа – краснеть здесь не придется. Здесь можно делать все, что ты хотел всегда, Ты будешь трахать, будут трахать тебя – ровно столько, Сколько захочешь, парень.38Помимо частных заведений во Флоренции имелись и государственные бордели. За Понте Веккьо начинался район Олтрарно (буквально «За Арно»). Именно это место и было отведено для строительства публичного борделя. Приоры собирались разместить его в квартале Санто-Спирито в 1415 г.39
Городские власти рассчитывали, что, расширяя государственный бордельный бизнес, они смогут если не истребить проституцию, то хотя бы взять ее под контроль и как-то регулировать. Приоры даже выделили тысячу флоринов на строительство и обустройство борделя в Санто-Спирито и еще одного в квартале Санто-Кроче. Хотя бордель в Олтрарно так и не был построен, наиболее реалистически мыслящие представители элиты эпохи Ренессанса признавали за этой идеей здравый смысл.
Двигаясь по Старому городу в направлении Олтрарно, Микеланджело столкнулся с самой животной стороной флорентийской жизни. Неудивительно, что в окружении тех же картин, звуков и запахов за век до этого Петрарка весьма резко жаловался на современную жизнь. В письме к своему другу Ломбардо делла Сета Петрарка описывал самую мрачную сторону жизни этой части города:
Мне эта жизнь кажется жесткой почвой нашей каторги, учебным лагерем кризисов, театром обманов, лабиринтом ошибок… глупым честолюбием, низменным восторгом, тщетным совершенством, пустым благородством, мрачным светом, неизвестным достоинством, кошелем с прорехами, протекающим кувшином, бездонной пещерой, бесконечной алчностью, вредоносным желанием, распухшим великолепием… мастерской преступности, пеной похоти, кузницей гнева, источником ненависти, цепями привычек… кострами греха… гармонией раздора… притворной добродетели, позволительной испорченности, восхваляемого мошенничества, почитаемого бесчестья… царством демонов, княжеством Люцифера…40
Мысли Микеланджело вряд ли были столь же уничижительными, но он не мог не ощущать контраста между величием Орсанмикеле и миром преступности, секса и лишений, раскинувшимися в стороне от него.
Другая половина: Олтрарно
Скромные жилые кварталы города располагались в квартале Санто-Якопо в Олтрарно, куда и направлялся Микеланджело. В конце XV в. здесь жили преимущественно те, кто занимался изготовлением тканей, – чесальщики и трепальщики шерсти. Район был очень оживленным. Небольшой, но весьма популярный рынок располагался возле церкви Санто-Спирито. Там всегда было тесно и грязно. Если на северном берегу Арно были проложены широкие мощеные улицы, то здесь улиц никто не мостил, и повсюду царила грязь и зловоние. Идя пешком, Микеланджело приходилось внимательно смотреть, куда поставить ногу, а нос время от времени нужно было плотно закрывать платком. Несмотря на постоянные старания приоров по улучшению общественной гигиены, в городе царила абсолютная антисанитария. Неприятные запахи рыбы и гниющих овощей на Старом рынке были еще цветочками в сравнении со зловонием, царившим на тех улицах, где жила городская беднота. Ничего зазорного не было в том, чтобы помочиться где угодно или вылить содержимое ночного горшка прямо из окна. Хотя в некоторых районах города имелись специальные выгребные ямы, их хронически не хватало для нечистот, производимых постоянно растущим населением города. Ямы часто переполнялись, и все вытекало прямо на дорогу. В июне 1397 г. городской магистрат оштрафовал троих жителей города на 10 лир за плохо построенную выгребную яму, из-за чего человеческие экскременты затопили всю улицу.41 В те времена животных водили прямо по улицам. Лошади (и их навоз) были частью повседневной жизни. Мог видеть Микеланджело и быков, запряженных в телеги, овец, которых гнали на рынок, и свиней, роющихся в грязи. Еще Петрарка, давая советы правителю Падуи, Франческо «Иль Веккьо» да Каррара о том, как правителю должно управлять своим государством, подчеркивал, что хороший правитель должен особое внимание обращать на то, чтобы свиньи не бродили по всему городу.42
Вдоль этих улиц выстроились дома, где жили самые обычные мужчины и женщины. Хотя и в этом районе имелись величественные дворцы – например, дворец семейства Нерли, – большая часть строений говорила о том, что их обитатели вели нелегкую жизнь. Несмотря на пристрастие к классическим идеалам градостроительства, дома городской бедноты строились без всяких правил. Попытки гражданских усовершенствований заканчивались полным провалом, и дома более всего напоминали трущобы, построенные из того, что было под рукой. В Олтрарно эти дома были узкими – ширина фасадов не превышала 15 футов, но при этом глубокими и часто очень высокими, в четыре этажа. В таких домах проживало несколько семей, снимавших тесные комнатки за несколько флоринов в год.43 Покрытые примитивной штукатуркой стены постоянно трескались. Из-за отсутствия краски и каких-либо украшений район представлял собой весьма скучное и унылое зрелище.
Представить себе, какими были улицы Олтрарно, можно по картине того времени в соседней церкви Санто-Спирито. На заднем плане «Мадонны дель Кармине» (ок. 1493–1496) [ил. 4] Филиппино Липпи изобразил лабиринт узких улочек, уходящих на запад от палаццо Нерли к воротам Сан-Фредиано. Трехэтажный дворец выглядит весьма впечатляюще, но дома, выстроившиеся вдоль дороги, абсурдно малы. Их крыши покосились во все стороны, построены они неуклюже и без всякого плана. На улице художник изобразил рабочих мужчин и женщин, животных и детей. Рядом с палаццо две свиньи роются в грязи, а ребенок бежит рядом с двухколесным фургоном, который, судя по размерам, тащит мул. Чуть дальше мужчина с трудом волочит тяжело нагруженную повозку, а другой занимается чем-то за окном. А за воротами к далеким полям идет женщина, несущая на голове тяжелый груз. Одной рукой она придерживает этот груз, а на другой несет своего младенца. Эта женщина – живое свидетельство того, какие стандарты жизни царили в те времена. Если ее малышу удастся пережить детские годы, то в Олтрарно ему очень повезет, если он сможет дожить лет до 35.
В тени Петра
По центральным улицам города Микеланджело ходил каждый день, направляясь к церкви Санта-Мария дель Кармине. По дороге из садов Сан-Марко он ощущал двойственность родного города. Флоренция одновременно и стремилась к идеалу, и оставалась городом неравенства, расслоения, волнений, насилия и лишений. Переступая порог, попадая в торжественный покой церкви и направляясь к капелле Бранкаччи, он, наверняка, думал о двойственном характере своего мира. В капелле, слева от алтаря, находилась фреска Мазаччо «Святой Петр исцеляет страждущего своей тенью». Безмятежный, похожий на изваяние святой Петр спокойно шагает по типичной городской улице в сопровождении святого Иоанна и старика с бородой и в синей шапке. Несмотря на изумление двух прохожих справа от него, святой Петр почти не осознает, что его святая тень чудесным образом облегчает страдания парализованного Энея из Лидды и старого, хромого спутника.
Несмотря на религиозный сюжет, фреска – это портрет Флоренции Микеланджело. Мазаччо старался сделать сцену максимально натуралистической и пытался внести драматизм в жизнь города XV в. Хотя на святом Петре старинное одеяние, и поза его напоминает античную статую, он идет по улице, вдоль которой выстроились абсолютно современные художнику дома. На переднем плане мы видим рустованный фасад дворца богатого горожанина, а дальше тянется немощеная дорога, на которой виднеются два-три простых дома с оштукатуренными стенами. Покосившиеся верхние этажи нависают прямо над улицей. На улице художник изобразил не просто нищих, но хромцов. Даже на фреске Мазаччо богатство и бедность соседствуют друг с другом. Другими словами, эта та самая сцена, которую Микеланджело мог наблюдать своими глазами. Это срез жизни.
Конечно, это идеализированное представление – такое же, как описание Флоренции у Колюччо Салютати и Леонардо Бруни. Пройдя с Микеланджело по городу, мы убедились, что улицы Флоренции в XV в. вовсе не содержались в идеальном порядке, не отличались чистотой или качеством строительства. Две очень мелкие фигуры нищих сидят у дороги. Нет ни намека на беспорядок, шум и суету, царившие на улицах и в переулках города. У Мазаччо нет ни уличных торговцев, ни лавочников, ни грабителей, ни проституток, ни животных, с которыми Микеланджело неизбежно сталкивался по пути в церковь. Это, скорее, не отражение реальной действительности, а представление того, какой Мазаччо хотел ее видеть. Живописная история тени святого Петра безмолвно и, возможно, иронически показывает не только самоуверенную художественную утопичность ренессансной Флоренции, но и мрачный и зачастую неприятный характер города, который Мазаччо и Микеланджело знали очень хорошо.
3. Что видел Давид
Хотя Микеланджело был прекрасно знаком со всеми сторонами жизни Флоренции в 1491 г., он еще не осознавал, какие социальные, политические и экономические силы влияли на его жизнь за сценой. Он был почетным гостем Лоренцо де Медичи, дружил с известными гуманистами, учился у Бертольдо ди Джованни. У него не было причин думать о деньгах или беспокоиться из-за таких неприятных вещей, как политика и религия.
Но все изменилось. 8 апреля 1492 г. Лоренцо де Медичи умер. Его наследником стал сын Пьеро. Несдержанному и непостоянному юноше не хватало политической осмотрительности отца. Как писал Франческо Гвиччардини, «его не только ненавидели враги, но еще и не любили друзья, считавшие его почти невыносимым: заносчивый и бесстыдный он предпочитал, чтобы его ненавидели, а не любили, был яростным и жестоким человеком».1 Пьеро быстро оттолкнул от себя большинство политической элиты. Напряженность росла, и 9 ноября 1494 г. Пьеро изгнали из Флоренции. После его бегства контроль над республикой постепенно установил пламенный монах-доминиканец Джироламо Савонарола.
Почувствовав опасность, Микеланджело бежал из Флоренции в середине октября 1493 г.2 Не имея покровителя, не имея денег и каких-либо конкретных планов, он сначала отправился в Болонью, а оттуда в Рим, где решил продемонстрировать свои способности в полном блеске. Хотя у него уже были заметные успехи – особенно, «Пьета» – некоторые его работы были встречены плохо. У Микеланджело начались постоянные проблемы с материалами и оплатой. Успех дался ему нелегко.
В конце 1500 г. положение Микеланджело стало ужасающим. 19 декабря он получил сердечное письмо от своего отца Лодовико. Отец был встревожен. Его третий сын, Буонаротто, только что вернулся из Рима, где навещал брата. То, что он рассказал отцу, вселило в Лодовико беспокойство. «Буонаротто сказывал мне, что ты живешь там, экономя во всем, – писал Лодовико, – или просто в нищете».3 Отец предупреждал сына: «Трудности – благо, но нищета – пагубна».4 Буонаротто рассказал отцу, что Микеланджело страдает от болезненного отека на боку, вызванного нуждой и тяжелой работой. Савонаролы уже не было, республику восстановили, и Лодовико умолял сына вернуться во Флоренцию. На родине его положение могло улучшиться.
Микеланджело редко внимал советам отца, но на этот раз прислушался к нему. Приведя дела в порядок и заняв денег на дорогу у Якопо Галло, весной 1501 г. он отправился во Флоренцию.
Вернулся он ради денег. Деньги были ему страшно нужны. От родных и друзей он узнал, что Опера дель Дуомо – комитет из четырех человек, занимавшийся делами собора, – ищет мастера для работы над проектом, который находился в подвешенном состоянии более 35 лет. В 1464 г. был куплен огромный блок мрамора, из которого собирались сделать статую для одной из опор собора. За дело брались два художника, но оба потерпели неудачу. Теперь члены комитета решили найти кого-то еще. Грязный и покрытый пылью после долгой дороги Микеланджело прибыл во Флоренцию полный надежд. Проект финансировала гильдия сукноделов, поэтому можно было рассчитывать на щедрое вознаграждение.
Микеланджело повезло. Рассмотрев предложение Леонардо да Винчи, члены комитета решили отдать заказ Микеланджело. Ему было поручено изваять статую Давида, которой было суждено стать одной из самых знаменитых его работ. Поначалу вознаграждение было скромным. 16 августа 1501 г. комитет подписал с 26-летним Микеланджело контракт, по которому он должен был ежемесячно получать шесть больших золотых флоринов в течение двух лет.5 Учитывая масштаб проекта, деньги были невеликие. Лучшие ткачи Флоренции в те годы получали до 100 флоринов в год – другими словами, вдвое больше, чем скульптор.6 Поскольку Микеланджело нужно было оплачивать еще и работу помощников, можно сказать, что он был довольно стеснен в средствах. Но к февралю 1502 г. статуя была почти «наполовину закончена». Члены комитета были поражены. Было решено не только перенести завершенную работу в более подходящее и более публичное место, но еще и увеличить вознаграждение Микеланджело до 400 флоринов.7 Благодаря этому он оказался на равных с хорошо оплачиваемым управляющим одного из филиалов крупных торговых банков города. Финансовое положение скульптора укрепилось.
Он никогда не оглядывался назад: с этого момента он перестал быть бедным скульптором, считающим гроши. Он стал состоятельным человеком. Более того, он стал человеком, общества которого искали. Имея деньги и дружбу с комитетом собора, он мог рассчитывать на поддержку самых влиятельных граждан города, включая гонфалоньера справедливости (главу городской исполнительной власти) Пьеро Содерини, Якопо Сальвиати, Таддео Таддеи, Бартоломео Питти и Аньоло Донн, а также крупнейших городских институтов – гильдий, приоров и церкви. В последующие годы Микеланджело шел от успеха к успеху. Новые проекты, включая и незаконченную (и ныне утраченную) фреску «Битва при Кашине» и тондо Донн, укрепили его славу и принесли ему заказы от Папы Римского Юлия II в Риме в 1505 г. и от оттоманского султана Баязида II в Константинополе в 1506 г.
Нет сомнения в том, что восемь лет, прошедших с момента его бегства из Флоренции в 1493 г. и вовращения в 1501 г., стали критическим периодом в развитии Микеланджело. Справившись с бедностью и неопределенностью еще в юности, он превратился из юного ниспровергателя основ в художника с международной репутацией, свидетельством чему еще до своего завершения стал «Давид». Однако жизнь Микеланджело в этот период определялась не его личными интересами и предпочтениями, но неспокойными течениями политики, экономики и религии, доминировавшими в современной флорентийской жизни и обеспечивавшими основу повседневного существования. Их взаимодействие и влияние заставили Микеланджело сначала вернуться во Флоренцию, а потом сломя голову бежать оттуда. Да и сам «Давид» был результатом – прямым или косвенным – всех трех сфер.
В этом пример Микеланджело вполне типичен. Художники всех мастей по-прежнему зависели от воли меценатов. Они понимали, что их жизнь, процветание и репутация столь же нестабильны, сколь непредсказуем окружающий мир. И все зависит от их способности приспосабливаться к меняющимся требованиям экономики, политики и религии. Не следует думать, что роль, которую каждая из этих сфер деятельности играла в городской жизни в начале XVI в., была столь же прекрасна, как и произведения искусства, с ними связанные. Как раз наоборот. Как физический облик Флоренции эпохи Ренессанса имел неприглядную скрытую изнанку, так и мир экономики, политики и религии скрывал в себе еще более неприглядную сторону искусства того времени.
Давайте же поговорим о тех трех людях, влияние которых сформировало творчество Микеланджело. Это Якопо Сальвиати, Пьеро Содерини и архиепископ Ринальдо Орсини. Мир, в котором родился «Давид», был миром неравенства, абсолютного неравноправия, жестоких бунтов, кровопролитных битв и страдающих душ.
Якопо Сальвиати: экономическое неравенство
Якопо Сальвиати был одним из самых богатых и влиятельных людей Флоренции. Зять Лоренцо де Медичи был оплотом правительства, признанным авторитетом во всех общественных делах и двигателем флорентийской экономики. Ему принадлежал величественный дворец Гонди. От него зависели жизни бесчисленных сотен людей. И художники искали его покровительства.
То, что человеку, имевшему в своем распоряжении такие колоссальные финансовые ресурсы, было суждено сыграть важную роль в создании «Давида», было почти неизбежно. Микеланджело были необходимы такие люди. Сама возможность работы художника зависела от того, удастся ли ему обеспечить себе достойную жизнь. А это не всегда было легко. Хотя говорили, что Рафаэль ведет жизнь, скорее, князя, чем художника8, а Лука дел-ла Роббиа разбогател на службе королю Франции Франциску I9, остальным с трудом удавалось сводить концы с концами. Корреджо в старости превратился в нищего.10 Андреа дель Сарто был вынужден обходиться очень малым.11 Ученик Пьеро делла Франческо, Пьеро Лорентино д’Анджело был беден почти по-диккенсовски. Сыновья умоляли его забить свинью для карнавальных празднеств – такова была традиция. Но Лорентино был настолько беден, что мог только молиться, и сыновьям пришлось обойтись без мяса. Однако их слезы оказались ненапрасны: Лорентино согласился написать картину для заказчика, у которого тоже не было денег, и тот расплатился за работу столь желанной мальчикам свиньей.12
Полагаясь на богатство и доброжелательность покровителей, Микеланджело – как и все остальные художники эпохи Ренессанса – был неразрывно связан с состоянием ренессансной экономики и главным образом с богатством людей, подобных Сальвиати.
Свое состояние Сальвиати сделал в сфере торгового банковского дела. Он вошел в этот бизнес в самое подходящее время. Далее мы с вами поговорим об этом подробнее, а пока скажем, что торговое банковское дело во Флоренции в начале XIV в. переживало настоящий взрыв. Тогда возникла потребность в осуществлении коммерческих переводов на большие расстояния. За несколько десятилетий в этой сфере образовалось несколько супер компаний, которые не только имели филиалы по всему континенту, но еще и действовали как настоящие крупные банки.13 Их прибыль была колоссальной даже в период формирования и первичного развития. Например, в 1318 г. семейство Барди располагало рабочим капиталом в 875 тысяч флоринов. Их состояние было больше всей государственной казны Франции. К концу XV в. деньги, которые Сальвиати получал от своего торгового банка, перешли на новый уровень.
Но хотя Сальвиати и сделал состояние на одалживании и обмене денег, в ряды самых богатых людей Флоренции его ввело не это. Главное заключалось в его готовности инвестировать значительную часть своих средств во вторую по значимости производственную сферу города – торговлю тканью. Торговые банки постоянно получали огромную прибыль, но главным фактором, обеспечивающим процветание Флоренции, было производство шерсти и шелка. Роль этих отраслей была настолько значительна, что даже заказ на «Давида» Микеланджело получил от комитета, которым управляла гильдия сукноделов.
Сальвиати очень искусно вкладывал свои деньги. Хотя деятельность семейства Сальвиати изучена плохо, очевидно, что тканями (и особенно шелком) они занялись в еще более подходящий момент, чем банковским делом.14 Это произошло при жизни близкого родственника Якопо, Аламанно ди Якопо (умер в 1456 г.). Поначалу Флоренция ограничивалась только переработкой готовых тканей, которые поставлялись сюда со всей Европы. Однако вскоре городские торговцы поняли, что можно заработать гораздо больше, если привозить качественную шерсть из Испании и Англии и производить собственные выкокачественные ткани для продажи на международных рынках. Новые торговые банки обеспечили отрасль деньгами. Успеху также способствовало постепенное угасание ткачества во Фландрии. Флоренция использовала потрясения середины XIV в., чтобы с 1370 г. занять доминирующее положение в европейской торговле.
Отрасль была фрагментарной по своей природе. К концу XIV в. во Флоренции существовало около 100 конкурирующих между собой компаний по производству шерсти. Каждая контролировала не более 1–2% общего производства. Но прибыли были колоссальными. За период с 1346 по 1350 г. компания, основанная Антонио ди Ландо дельи Альбицци и занимавшаяся всеми процессами производства шерсти, имела две мастерские и сеть распространения во Флоренции, а также сотрудничала с торговым банком Антонио в Венеции.15 Компания получала ежегодную прибыль в размере более 22 % – показатель, которому могут позавидовать многие современные бизнесмены. Развитие этой сферы экономики шло так стремительно, что в середине XV в. торговец Джованни Ручеллаи считал, что город получает около 1,5 миллиона флоринов16 (около 270,5 миллиона долларов по современной цене золота и примерно 739,5 миллиона долларов по ставкам 1450 г.17) в деньгах и товарах. Надо сказать, что он явно занизил истинные финансовые показатели.
Постепенно флорентийские производители начали диверсифицировать производство – стали производить высококачественные шелка и доступные хлопковые ткани. Кульминацией развития флорентийского ткачества стал 1501 г. – то самое время, когда Сальвиати со всей энергией и средствами занялся этой отраслью. Когда Микеланджело начал работать над «Давидом», ежегодные продажи шерстяных и шелковых тканей в регионе оценивались в три миллиона флоринов, и прибыли эти продолжали расти в течение почти всего века. Даже семейство Буонаротти не устояло перед соблазном испытать удачу в этой сфере. Через несколько лет, в 1514 г., Микеланджело выделил тысячу флоринов на семейный шерстяной бизнес, которым занялся его брат Буонаротто.18 Во Флоренцию текли широкие реки золота, обогащая людей, подобных Сальвиати. А они вкладывали деньги в крупные общественные проекты например в создание «Гиганта».
Каждому, кто соглашался слушать, Сальвиати с городостью заявлял, что он – один из самых богатых людей Флоренции, сделавший состояние на волне коммерческой экспансии. Но его процветание и процветание города в целом скрывало под собой самые безобразные истины. Своим бизнесом он управлял так, словно отвратительное экономическое неравенство было неизбежно, а повсеместная бедность совершенно естественна.
Подавляющее большинство горожан жили в абсолютной нищете. В 1427 г. около 25 % богатства города приходилось на 1 % жителей. Еще более удивительна другая цифра: на беднейшие 60 % населения приходилось менее 5 % капитала! Большая часть тех, кто фигурирует в городских налоговых документах, не имела вообще ничего.19
И это результат того, как развивалось дело Сальвиати. Как и многие другие крупные отрасли производства, текстильная отрасль (которая платила за «Давида» и в 1427 г. обеспечивала занятость 21 % флорентийских семей20) требовала высокого уровня специализации. Для производства сукна и шелков Сальвиати должен был разбить весь процесс производства на множество мелких операций: чесание, прядение, крашение, ткачество.
Хотя некоторые компании, например компания Антонио ди Ландо дельи Альбицци, обеспечивали большую часть производственного цикла, гораздо больше компаний (как и компания Сальвиати) поручали отдельные операции мелким мастерским или ремесленникам. Мелкие мастерские работали в тесных арендованных помещениях (обычно под мастерскую отводили часть дома, в котором жил один из партнеров), расположенных в определенных частях города. Индивидуальные ремесленники – прядильщики или ткачи – почти всегда работали дома.21
Такая система разделения труда была коммерчески гибкой и очень выгодной. Сальвиати мог мгновенно реагировать на изменившиеся обстоятельства, сменив тех, с кем он сотрудничал на конкретных участках производства, не рискуя прибыльностью предприятия в целом. Но Сальвиати содержал десятки мастерских и ремесленников. Его слово было законом. От него зависели жизни сотен людей. В его интересах было содержать тех, кто на него работал, в максимальной бедности. И он отлично умел торговаться, чтобы платить самые низкие ставки. Сальвиати не был исключением. К примеру, в 1386–1390 гг. Никколо Строцци и Джованни ди Креди совместно владели очень успешной мастерской.22 Большую часть их расходов составляли выплаты различным субподрядчикам за выполненные работы. Разница в оплате была колоссальной. Чесальщик Фруозино и немецкие ткачи Аникино и Герардо из Кельна получали хорошие, даже очень хорошие деньги. Но остальным везло меньше. Меньше всех – даже меньше, чем посыльный Джованни ди Нери и ученик Антонио ди Бонсиньоре – получала группа из 20 женщин, которые на дому пряли шерсть. Но даже здесь о справедливости речи не шло. Если некая Маргерита за 10 фунтов спряденной шерсти получала 2 лиры, то Никольса за 43 фунта получала всего 2 лиры 13 сольди. Можно только предполагать, каковы были причины подобного распределения оплаты, но этот пример прекрасно иллюстрирует то, что надомные работники (особенно женщины, которых в сукноделии было занято огромное множество23) целиком и полностью зависели от своих работодателей.
Однако, сколь бы пугающей ни казалась колоссальная власть Сальвиати над своими работниками, те, кто работал в этой отрасли, находились в лучшем положении. В 1344 г. два плотника написали письмо своему другу в Авиньон. Их интересовала возможность работы, потому что «сегодня положение ремесленников и низших классов во Флоренции просто ужасно, и им невозможно ничего заработать».24 Хотя это письмо было написано в самый тяжелый для рынка труда момент, подобные настроения вполне типичны и для квалифицированных, и для неквалифицированных работников. Многие из тех, с кем Микеланджело был близко знаком и кого он нанимал на работу, находились в самом низу экономической пирамиды ренессансной Флоренции. Каменщики «Тополино» и Микеле ди Пьеро Пиппо были искусными ремесленниками. Чаще всего они работали за плату 10–12 часов в день пять дней в неделю, но их заработок никак не успевал за ростом цен.25 Рядовые рабочие и подмастерья на стройках, например, те, кто помогал Микеланджело в работе в Сан-Лоренцо,26 находились в еще более тяжелом положении. Их обычно нанимали либо для выполнения конкретной работы, либо поденно. Зимой работа оплачивалась хуже. Даже летом строительные рабочие получали так мало, что современные историки используют их в качестве меры бедности во Флоренции эпохи Ренессанса.
Якопо Сальвиати: структурное неравенство
Что делало Якопо Сальвиати столь влиятельным членом флорентийского общества и помогло ему сыграть важную роль в создании «Давида»? Это не только его богатство, но и видное положение в городских гильдиях (Arti). Члены комитета собора, которые заказали Микеланджело «Гиганта», происходили из гильдии сукноделов – Арте делла Лана. Их участие в этом важнейшем проекте показывает, какую важную роль гильдии и их члены играли в городском обществе. Именно гильдии были «кукловодами» флорентийской экономики. В 1499 г. Сальвиати стал приором всей системы гильдий (т. е. их представителем в правительстве), поэтому мог считаться главным над всеми.
Арте делла Лана была одной из 21 гильдии Флоренции. В целом гильдия являлась эксклюзивным самосохраняющимся обществом торговцев и ремесленников. Она определяла стандарты мастерства, производительности и подготовки в рамках определенной отрасли и представляла интересы своих членов в городе. Но этим функции гильдий не ограничивались. Обладая широкой властью, гильдии занимались разрешением кризисов, решением трудовых споров и поддержанием дисциплины. В случае изменения экономической обстановки гильдия могла ограничить производство в определенных мастерских или перевести рабочую силу в другое место для предотвращения проблем. Если между членами гильдии или между членом гильдии и другим человеком возникали споры, гильдия выступала в качестве последника. Но самое главное – гильдии следили за соблюдением стандартов, а это означало, что основные силы тратились на обеспечение подчинения правилам. Те, кто платил своим рабочим слишком много, чьи товары не соответствовали стандартам качества, подвергались наказаниям.
21 гильдия Флоренции охватывала все стороны квалифицированного или специализированного труда. Имелась гильдия мясников (Беккаи), пекарей (Форнаи), столяров и изготовителей мебели (Леньяйоли), адвокатов и нотариусов (Джудичи е Нотаи), каменщиков, плотников и изготовителей кирпичей (Маэстри ди пьетра э леньяме), кожевенников и меховщиков (Ваиаи э Пелличчиаи), кузнецов и изготовителей инструментов (Фаббри).
Но не все гильдии были равны. В системе гильдий имелось 14 «младших» и семь «старших» гильдий. Причины того были чисто политическими, но разделение отражало сравнительную значимость различных ремесел во флорентийской экономике. Статус гильдий банкиров (Камбио), внешних торговцев (Калимала) и изготовителей шелка (Сета, порт Санта-Мария) был выше, чем статус гильдий отельеров (Альбергатори) или замочных мастеров (Кьявайоли).
Эксклюзивная и строго иерархическая Арте делла Лана – гильдия сукноделов – считалась самой важной и влиятельной. Ее деятельность являлась восплощением экономических условий, в которых Микеланджело выполнял полученный заказ.
Арте делла Лана не только регулировала деятельность в сфере производства шерсти, но еще и обеспечивала абсолютное главенство города в европейской торговле тканями. Дом гильдии, впечатляющий палаццо дель Арте делла Лана, находился напротив Орсанмикеле, совсем рядом с площадью Синьории. Гильдия объединяла самых богатых производителей Флоренции и твердо отстаивала собственные интересы. Обычные работники – сукновалы, чесальщики и прядильщики – в руководство гильдии не входили, но не могли сформировать и собственную организацию. В результате они полностью зависели от торговцев и производителей, что вызывало постоянную напряженность в отношениях с гильдией.
Те, чья роль давала какую-то экономическую силу, всегда могли прибегнуть к забастовке, когда условия становились совершенно невыносимыми. В 1370 г. красильщики пошли на такой шаг, чтобы потребовать более высокой цены на крашеные ткани. Но подмастерья и те, чья работа требовала минимума специализированных навыков, не имели никакой экономической силы. Их возможности были весьма ограничены. Трепальщики, которые с помощью ивовых прутьев выбивали загрязнения из только что промытой сырой шерсти и трепали волокна, и чесальщики, которые плоскими гребнями разделяли шерстяные волокна, подготавливая шерсть к прядению, для производства сукна были необходимы, но находились на минимальной оплате и постоянно балансировали на пороге нищеты, особенно в трудные времена. Несмотря на то что в 1370-е и 1380-е гг. таких работников, занимавших низшую ступень экономической лестницы (popolo minuto), насчитывалось около 15 тысяч, им было категорически запрещено образовывать какие-то организации, что позволило бы им координировать собственные действия и как-то влиять на свое положение.
Абсолютное неравенство, закрепленное системой гильдий, порождало конфликты – особенно у сукноделов. Первые симптомы этого стали появляться уже в середине XIV в., когда сокращение населения повысило роль неимущих. В 1345 г. некоего Чуто Брандини осудили за организацию гильдии popoplo minuto в шерстяной отрасли. В судебных документах говорилось:
…вместе со многими другими, соблазненными им он решил по собственному разумению образовать братство… чесальщиков и других работающих в цехе шерстянщиков в возможно большем количестве. Чтобы они могли собираться и избирать советников и глав своего братства… он устроил собрания по разным поводам и в разные дни множества людей низшего сословия. Помимо прочего на этих собраниях Чуто приказал собирать деньги с тех, кто присутствовал на них… чтобы они стали сильнее и выносливее…27
Созданное для заключения «коллективного договора» братство Чуто по современным меркам может показаться совершенно безвредным. Но для тогдашних торговцев это была серьезная угроза. Суд заклеймил протогильдию Чуто как «злонамеренную», а ее цели были признаны «вызывающими ненависть… [против] тех состоятельных граждан, которые хотели помешать Чуто… достичь этих целей».28 Под «ненавистью» здесь следует понимать «справедливую оплату», а под «состоятельными гражданами» – «алчных торговцев».
Но все это были еще цветочки. Летом 1378 г. накапливавшееся недовольство выплеснулось в новый бунт – восстание чомпи. Popolo minuto, недовольные тем, что их не допускают в гильдии, а городское правительство ничего не делает, чтобы противостоять этому, собрались так же, как и в 1345 г., и выдвинули ряд требований, список которых предъявили приорам 21 июля. Хотя среди требований были и связанные с долгами и принудительными займами, основным оставалось требование создания отдельной гильдии «чесальщиков, трепальщиков, щипалыциков и других рабочих-шерстянщиков»29, которые до сего времени находились под пятой Арте делла Лана. Приоры с возмущением отклонили все эти требования.
Рабочие пришли в ярость и пошли на штурм Палаццо Веккьо. Они «выбросили и сожгли… все документы, которые смогли найти», и отказались уходить. На следующее утро они выбрали гонфалоньером справедливости чесальщика Микеле ди Ландо30 и приступили к выборам новых приоров из собственных рядов. Когда отзвонили праздничные колокола, свежеизбранная Синьория немедленно приступила к еще более кардинальной реорганизации структуры гильдий, чем требовалось изначально.31
Несмотря на поддержку других слоев общества, это было народное правительство, причем во многих отношениях по-настоящему революционное. Но действовало оно недолго. Несмотря на коллективную силу, новые гильдии Микеле ди Ландо просто не могли противостоять колоссальному богатству торговой элиты Флоренции. Члены Арте делла Лана прекратили деятельность, т. е. лишили чомпи-шерстянщиков хлеба с маслом. Общность интересов, которая была основой восстания, дрогнула. Чомпи сделали последнее усилие, но потерпели поражение в жестокой битве 31 августа 1378 г., когда им противостояли объединенные силы банкиров, торговцев и ремесленников. Революция закончилась, и горькое неравенство системы гильдий, крещенное слезами неимущих, стало неотъемлемой чертой флорентийской экономики вплоть до 1534 г., когда герцог Алессандро де Медичи окончательно реорганизовал гильдии.
Якопо Сальвиати играл важнейшую роль в структуре гильдий, благодаря чему пользовался колоссальным влиянием не только во флорентийской экономике в целом, но и на всех этапах работы над «Давидом». Микеланджело работал над статуей в начале XVI в. и был скован правилами флорентийских гильдий, как будто являлся их активным членом. Монументальную статую заказала самая влиятельная гильдия города. Покровителями скульптора были люди, игравшие видные роли в «старших» гильдиях. Его помощники жили и трудились по правилам гильдии, а подмастерья находились на грани нищеты из-за структуры гильдий. Будучи художником – даже свободным художником – Микеланджело сотрудничал с гильдиями и был обязан соблюдать нормы, установленные ими в экономической жизни Флоренции.32
Пьеро Содерини: политическое неравенство
Если Якопо Сальвиати воплощал собой экономические условия, от которых зависело создание «Давида», то его добрый друг и коллега Пьеро Содерини служил символом политических влияний, которые Микеланджело должен был учитывать в процессе работы над проектом.
Худой, мрачный Содерини был главой флорентийского государства.33 Большую часть жизни он провел на службе города. После падения Савонаролы его сочли надежным правителем, и он получил пожизненный пост гонфалоньера справедливости (gonfaloniere di giustizia). Этот шаг должен был дать какое-то подобие стабильности городу, переживавшему трудные времена. Хотя Содерини и нельзя считать идеальным правителем, он правил мудро и справедливо. Он обладал высокой общественной моралью и руководствовался ею в своих действиях. Он был свидетелем тягот правления Медичи и Савонаролы и преисполнился решимости сделать так, чтобы город мог в полной мере насладиться вкусом «народного» управления.
Содерини прекрасно осознавал «пропагандистский» потенциал искусства. Он считал, что такие работы, как «Давид», могут сыграть важную роль в подъеме гражданского духа, который должен был служить оплотом общественной жизни для будущих поколений.34 Идея была не нова. Почти за два века до этого аналогичные обстоятельства были отображены на фресках Амброджо Лоренцетти «Аллегория хорошего и плохого правления» в зале деи Нове в Палаццо Пубблико в Сиене35. Фрески Лоренцетти – это глубокое и сложное аллегорическое восхваление республиканских добродетелей. Они говорят о том, что художник тонко чувствовал тенденции современной политической мысли. Судя по всему, между художником и городскими властями шел непрерывный диалог. Но, учитывая полученную в наследство политическую ситуацию, Содерини относился к «Давиду» по-особому. Он лично контролировал ход работ Микеланджело с самого начала. Хотя статуя была заказана комитетом собора, она должна была восхвалять республиканские «свободы». В конце концов статую установили у главных врат Палаццо Веккьо, где она стала мощным символом не просто независимости Флоренции от внешних агрессоров, но и способности города к самостоятельному управлению. В глазах Содерини «Давид» был символом силы и стойкости города, объединившегося под знаменем республиканской свободы.
Как современные демократии, республика, которой управлял Содерини, была разделена на две части. Исполнительная власть находилась в руках Синьории, состоявшей из восьми приоров, каждый из которых служил один срок – два месяца. Гонфалоньер справедливости обычно избирался на столь же краткий срок, но Содерини получил этот пост пожизненно. Таким образом, комитет из девяти человек обладал колоссальной властью. За 70 лет до этого Грегорио Дати писал, что обычно Синьория следила лишь за исполнением законов, но обладала «неограниченной властью и авторитетом» и в экстренных ситуациях могла делать то, что считали необходимым ее члены.36
Но Синьория Содерини не являлась ни единственным органом исполнительной власти, ни органом централизованного определения политики города. Имелось много других организаций, державших в руках исполнительную власть. Помимо 16 гонфалоньеров, которые были советниками Синьории, в городе имелись Двенадцать добрых людей (Dodici buoni nomini), Совет десяти (Died di balla), который занимался вопросами обороны в военное время, а также Совет восьми (Otto di guardia), следивший за внутренней безопасностью республики. Кроме того, имелось множество организаций, которые занимались конкретными вопросами, например поставками зерна или содержанием городских мостов.
Делами Синьории и других комитетов исполнительной власти занималось множество чиновников – хорошо образованных гуманистов. Все большее количество профессиональных администраторов подчинялось канцлеру – этот пост ранее занимали такие блестящие личности, как Колюччо Салютати и Леонардо Бруни. Но в администрации было множество других постов. Многие играли важную роль в искусстве, а некоторые сумели подняться до впечатляющих высот. Особенно ценил Содерини второго канцлера, подающего надежды молодого человека по имени Никколо Макиавелли.37
Законодательная власть действовала по-другому. Во времена Содерини законы принимал Большой совет (Consiglio maggiore). Совет состоял из трех тысяч членов, т. е. включал в себя около 20 % мужчин в возрасте старше 29 лет.38 Совет принимал все решения относительно сбора налогов, распределения вынужденных займов, поддержания отношений с другими государствами. К моменту возвращения Микеланджело во Флоренцию Содерини мог гордиться тем, что во Флоренции сложилось самое «народное» правительство в истории города. На современный взгляд, в городе царила полная демократия. Значительность Большого совета гарантировала участие граждан в управлении государством. Короткий срок службы в органах исполнительной власти обеспечивал «оборот» персонала, что открывало гражданам дорогу в органы власти.39 Неудивительно, что, говоря о реформах, проложивших дорогу к конституции начала XVI в., Леонардо Бруни заявлял:
Равная свобода существует для всех… надежда на получение общественного признания и возвышения одинакова для всех, лишь бы они обладали трудолюбием и природными дарованиями и вели разумный и достойный образ жизни, так как наше государство требует от граждан добродетели и морали. Кто бы ни имел эти качества, он рассматривается как достаточно благородный по происхождению, чтобы принять участие в управлении республикой… Это и есть подлинная свобода, равенство в государстве: не бояться насилия либо злодеяния со стороны кого-либо и наслаждаться равенством среди граждан перед законом и в занятии общественных должностей…40
По тем же причинам децентрализованный, почти византийский характер флорентийского правительства обеспечивался системой исдержек и противовесов.
В противоположность прошлому города в 1501 г. никто не сомневался, что флорентийское правительство было исключительно открытым и представительным. И это служило еще одним поводом к тому, чтобы видеть в «Давиде» символ истинной преданности духу свободы.
Большую часть XIV в. конституционная история Флоренции характеризовалась давней напряженностью между «народной» и «олигархической» тенденциями, которые отражали суровое социоэкономическое неравенство и часто ухудшали положение простого народа. Правительство целиком и полностью находилось в распоряжении гильдий. Всех руководителей выбирали из иерархии гильдий, при этом большее влияние имели гильдии «старшие». И это автоматически исключало из управления тысячи рабочих и ремесленников, чье экономическое положение не позволяло войти в гильдии. Но даже членство в «старшей» гильдии не являлось гарантией участия в управлении городом. Выборов в том виде, в каком мы знаем их сейчас, просто не существовало. В каждой гильдии существовал наблюдательный комитет, который отбирал тех, кто мог войти в органы управления. Те члены гильдии, которые проходили отбор, впоследствии выдвигали свои кандидатуры на выборы по жребию. Из пяти-шести тысяч человек, которые теоретически могли принимать участие в управлении городом в конце XIV в., реальную власть получали лишь 30 %. Учитывая, что приоры, «добрые люди» (buonuomini) и 76 гонфалоньеров избирались на два, три и четыре месяца соответственно, количество людей, способных занять эти посты, было очень мало.
Из-за того, что отбор и жребий находились в руках очень узкого круга состоятельной элиты, не только правительство действовало в интересах богатых, но и политику буквально разъедала коррупция. Манипулируя в собственных интересах, сверхбогатые члены гильдий действовали за сценой. Они влияли на выбор членов правительства, используя взятки, неспотизм и угрозы. В 1361 г. восемь человек были осуждены за подкуп. Четверо были признаны виновными во взяточничестве.41 Аналогичные скандалы возникали в 1364 и 1367 гг. В своих хрониках Маттео и Филиппо Виллани часто упоминали о взятках, которые предлагались членам комитета за услуги в процессе отбора. И это самым пагубным образом сказывалось на отношении к государственной власти. Маттео Виллани писал:
…обычные граждане и те, кто недавно получил гражданство, с помощью подкупа, подарков и значительных средств добивались того, чтобы их имена регулярно оказывались в мешке для жребия, который проводился раз в три года. Из-за этого многие добрые, мудрые и благочестивые граждане, имевшие самую лучшую репутацию, редко получали возможность управлять делами коммуны и никогда не поддерживали их в полной мере… И теперь каждый, кто два месяца проводит в органах власти, использует это время для собственной пользы, для пользы своих друзей или для нанесения ущерба своим врагам с помощью правительства.42
При узком социальном базисе и врожденной склонности к коррупции правительство Флоренции раннего Ренессанса неизбежно было подвержено внутренним слабостям. Город терзали фракционные конфликты и насилие. Наиболее красноречивым доказательством этого является изгнание Данте представителями соперничающей фракции, черными гвельфами, в 1302 г.43 Но самое главное – олигархический характер флорентийского правительства вызывал недовольство со стороны тех, чей род занятий или статус не позволял принимать участие в политическом процессе. Неудивительно, что наибольшее недовольство возникало среди лишенных собственности наемных работников, которым постоянно закрывали доступ в гильдии. Восстание чомпи было не только протестом против ужасных условий, в которых приходилось работать неквалифицированным работникам, но еще и борьбой за политическое представительство. Чомпи требовали более равного распределения политической власти, но безуспешно.
Реформы были неизбежны. В 1382 г. был установлен более открытый «народный» режим, который заложил основы политического мира, знакомого Микеланджело. Гильдии ушли со сцены, доступность власти значительно выросла, отбор проводился централизованным комитетом, прикладывались сознательные усилия к развитию «гражданского» духа. В последующие десятилетия крупные политические решения стали принимать parlamenti – большие общественные собрания представителей всех граждан. Большой совет стал альтернативой мелким, более ограниченным советам, существовавшим до него. «Народ» (если можно так сказать) наконец-то получил доступ к власти.
Но внешность была обманчива. Реформы 1382 г. были призваны не расширить представительство в поистине «республиканском» правительстве, а защитить интересы той же самой узкой торговой прослойки и снизить вероятность беспорядков путем создания иллюзии народного согласия. Курс флорентийской политики определяла все также небольшая группа исключительно богатых людей (хотя теперь они редко делали это публично), а бедные и неквалифицированные оставались на обочине политического процесса.
Большой совет не был независимым законодательным органом. Его возможности были серьезно ограничены. Голосовать члены совета могли только за предложения, внесенные Синьорией. Обсуждать законопроекты было запрещено – это можно было делать только в исключительных и крайне редких обстоятельствах. Таким образом, parlamenti оказались местом откровенной демагогии, поджигательства и взяточничества. Более того, хотя круг людей, которые могли получить доступ к исполнительной власти, расширился, появились новые и весьма изобретательные ограничения свободы централизованного наблюдательного комитета. Появился новый слой контролирующих выборы организаций (accapiatori, balie и borsellini), и они обеспечивали представительство «нужных» людей.
Республика сохраняла склонность к олигархии в XV и начале XVI вв. Хотя Медичи редко лично присутствовали во власти, это семейство продолжало определять флорентийскую политику с 1434 г. и до изгнания Пьеро де Медичи, искусно используя покровительство и контролирующие выборы организации, созданные в конце предыдущего века.44 В бытность свою при дворе Лоренцо де Медичи Микеланджело наверняка видел, как семья решает, кому прийти во власть, а кому власти лишиться. Медичи сумели стать безжалостными и мощными олигархами. Эней Сильвий Пикколомини (впоследствии папа Пий II) писал, что отец Лоренцо, Козимо, был «не столько гражданином, сколько хозяином своего города».45 «Политические советы, – замечал Пикколомини, – собирались в его доме; избирались те магистраты, которых он назначал; он был королем по всему, кроме титула…».46
Совершенно естественно, что такой режим не мог избежать критики. С одной стороны, олигархия Медичи неизбежно порождала враждебность со стороны семейств, завидовавших их влиянию. Именно это и вызвало кровавый, хотя и безуспешный заговор Пацци в 1478 г.47 Тогда в соборе Санта-Мария дель Фьоре был заколот брат Лоренцо, красавец Джулиано. Но и руководитель заговора Якопо де Пацци был растерзан разъяренной толпой – его просто вышвырнули из окна. С другой стороны, появлялись люди, которые с идеологической точки зрения выступали против господства столь ограниченной олигархии. Они сравнивали режим Медичи с тиранией. В своих «Воспоминаниях» Марко Паренти писал, что Козимо де Медичи поверг город в рабство, не совместимое с духом свободы.48 Бывший приближенный Медичи, Аламанно Ринуччини, едко нападал на Лоренцо в «Диалогах о свободе» по тем же самым причинам.49 Впоследствии те же аргументы использовал Джироламо Савонарола. В «Трактате об управлении и руководстве городом Флоренцией» (1498) Савонарола обрушивался на «тиранию» отдельных правителей, которые преследуют только личные интересы, и противопоставлял такому режиму «гражданское правление», которым, по его мнению, Флоренция наслаждалась в период с 1382 по 1434 г.50
Но критика – это не то же самое, что идеологические разногласия. Очень немногие (если на это вообще кто-то решался) критики Медичи нападали на внутреннюю структуру флорентийской политики. Речь шла, скорее, о людях, чем о принципах. К примеру, заговорщики Пацци стремились просто заменить режим Медичи собственным. Очень немногие враги семьи действительно предлагали некие конституционные реформы. Ни Паренти, ни Ринуччини не интересовались серьезными политическими переменами. Даже «Трактат» Савонаролы оставляет определенные сомнения в том, чем будет отличаться «гражданское управление» от «тирании» на структурном уровне. Да, определенные олигархи иногда выступали друг против друга, но политическая система олигархии оставалась практически неизменной. Переход от олигархии Медичи к «теократии» Савонаролы, а затем к новой Флорентийской Республике был всего лишь перетасовкой одних и тех же людей, находящихся на верхушке лестницы, и не затрагивал глубинные структуры. Даже перетасовка и та была не слишком серьезной: покровитель Микеланджело, Пьеро Содерини, в 1481 г. был приором и близким другом Пьеро де Медичи, а затем в 1502 г. его выбрали гонфа-лоньером пожизненно.
Когда в 1501 г. Микеланджело вернулся во Флоренцию, он оказался в чужом, но все же знакомом политическом мире. Флорентийская Республика стала более предана «республиканским» идеалам, чем прежде, но была столь же далека от «народного» правительства, как и всегда. В политике господствовали та же тяга к олигархии, что и во времена Медичи (1434–1494). Хотя многое делалось для ввода в исполнительную власть «новых» семейств, ни один из членов Синьории 1501 г. не принадлежал к какой-то семье, которая не была представлена во власти прежде.51 Брат Микеланджело Буонаротто стал приором в 1516 г. каким-то чудом.
Несмотря на намеренный символизм «Давида», Флоренция не приблизилась к идеалу города свободы и равенства, оставшись тем же городом, что и в середине XIV в. За республиканскими лозунгами сохранялись глубокие социоэкономические различия, которые выражались через культуру постоянного политического исключения беднейших слоев населения. Им отводилась абсолютно пассивная роль, а любое недовольство подавлялось с непоколебимой жестокостью.52
На историческом фоне насилия, фракционной борьбы и бунтов Микеланджело и его «Давид» должны были занять центральное место в политической драме, призванной обмануть и ввести в заблуждение неимущих и униженных. Хотя статуя должна была стать символом свободы, город, на который смотрел Давид, явно не спешил к политическому равенству.
Ринальдо Орсини: религия
Хотя Сальвиати и Содерини внимательно наблюдали за работой Микеланджело, его «Давид» был куда дороже другому, почти незаметному человеку. Тихий и скромный архиепископ Флоренции Ринальдо Орсини предпочитал скрываться в тени, но внимательно наблюдал за работой художника, ведь Микеланджело работал всего в нескольких метрах от врат собора.
Неудивительно, что скульптура Микеланджело интересовала Орсини, хотя и по-своему. В конце концов скульптор избрал религиозный сюжет. Хотя статуя должна была стать мощным политическим символом и создавалась на деньги флорентийских магнатов, «Давид» говорил на языке веры, и его история была взята из Библии. Кроме того, члены комитета собора заказали «Гиганта» в качестве украшения одной из опор собора. Невозможно было, чтобы Орсини не проявлял хотя бы умеренного интереса к работе, которая изначально предназначалась для его епископского храма.
Но присутствие Орсини в истории «Давида» объясняется и еще одной более фундаментальной причиной. Орсини возглавлял религиозную жизнь Флоренции. И сколь бы жесткими и упрямыми ни были Содерини и Сальвиати, не следует забывать, что религия являлась неотъемлемой частью повседневного существования Флоренции времен Микеланджело. Хотя Орсини был менее известен, чем многие его предшественники, именно он объединял флорентийское общество.
В основе своей религия обеспечивала основу, на которой строилось все остальное. Религия определяла время. Она структурировала жизни. Основные жизненные события – крещение, причастие, брак, смерть – происходили в церкви. Литургический календарь был основой течения года. Юридические и судебные документы часто датировались не конкретными датами, а сроками религиозных праздников. И арендная плата часто взималась в праздничные дни. Религия структурировала и день. Семьи благочестиво молились вместе или врозь, часто ходили к мессе или вечерне – хотя бы раз в день. Звон колоколов по различным поводам обеспечивал городу, где не было часов, ориентиры для работы и отдыха. Церковь обеспечивала чувство места. Приходы являлись основной единицей городской организации. Церковь не только объединяла местных жителей, но еще и была местом сбора общественных организаций. Религия формировала и определяла межличностные отношения любой сложности. Семьи (особенно богатые) поклонялись конкретным святым точно так же, как римляне поклонялись домашним богам (ларам и пенатам). Гильдии по отдельности и вместе имели серьезнейший религиозный элемент, доказательством чему может служить соревнование за право украшения Орсанмикеле.53 Существование братств обеспечивало благотворительную деятельность, неразрывно связанную с миром религии. Но самое главное религия являлась отправной точкой для формирования городской идентичности. Главным праздником в гражданском календаре Флоренции был день святого Иоанна Крестителя. Все жители города почитали флорентийского святого Зенобия, о чем писал Уголино Верино.54 И неудивительно, что в качестве политического символа был избран библейский сюжет – «Давид».
Но если церковь была основой и утком гобелена флорентийской жизни, Ринальдо Орсини возглавлял институт, который был чем-то большим, чем просто некие рамки повседневного существования. Хотя сам чаще всего оставался в тени (вероятно, это было следствием ужасов периода Савонаролы), Орсини обеспечивал теснейшую связь церкви со светской жизнью. Как и у любого архиепископа, в его распоряжении были сотни, если не тысячи священников, монахов, монахинь и членов третьих орденов монашеского братства. Он делал все, что было в его силах, чтобы привлечь еще большей людей к тем или иным формам религиозной жизни. Такова была его работа – сделать границу между религиозным и светским максимально неразличимой. И в этом деле он преуспел.
Благодаря кампаниям Орсини и его подручных сыновья часто обнаруживали, что религиозная жизнь является весьма привлекательной и безопасной альтернативой карьере светской. Особенно актуально это было для больших семей, где дочерям-бесприданницам частенько приходилось уходить в монастыри из-за бедности. Скромному архиепископу явно польстило, когда старший брат Микеланджело Лионардо стал монахом-доминиканцем, а его племянница Франческа, дочь Буонаротто, после смерти отца жила в монастыре, пока ее дядя не смог собрать приличное приданое. Это не всегда являлось результатом полной гармонии в доме или монастыре. Очень часто девушки категорически отказывались хоронить себя в стенах монастырей. В 1568 г. 14-летняя девушка из Сиены попыталась отравить всю семью, измельчив зеркало и добавив порошок ртути в салат за ужином. Она сделала это, чтобы избежать пострига. Монахи и члены орденов часто обнаруживали, что религиозная жизнь имеет финансовый смысл, но не ведет к смирению и благочестию. После смерти матери сестра Филиппо Липпи больше не могла содержать брата, и в возрасте восьми лет он оказался в кармелитском монастыре. Но достигнув зрелости, Липпи понял, что монастырская жизнь не согласуется с его любвеобильностью. И покровителям, и монастырскому начальству пришлось приложить все усилия, чтобы сдержать его, но безуспешно.55
Орсини прекрасно понимал, что у многих семей есть родственники в монашеских орденах, и это обеспечивало плотнейшую связь между религиозным и светским. Речь шла не просто о случайном общении, разговорах на улице или болтовне после мессы. Важную роль в этом уравнении играл секс. И здесь нам в помощь «Декамерон» Боккаччо. Хотя монахи иногда играли роль неосведомленных посредников, гораздо чаще у Боккаччо они выступают как исключительно активные участники весьма смелых сексуальных забав.56 В одной истории говорится об аббате из Тосканы, который страстно влюбился в жену благочестивого Ферондо, но сумел добиться от нее обещания удовлетворить его страсть только тогда, когда ее не любящий секса муж окажется в чистилище, где и осознает свою ошибку. Хитроумный монах напоил Ферондо зельем, что он показался мертвым. Затем он вытащил его тело из склепа, где его похоронили, и запер в подвале. Когда Ферондо проснулся, он поверил, что находится в чистилище. А аббат тем временем развлекался с его женой до полного своего удовлетворения.57 В другой новелле говорится о монахе-бенедиктинце, которого застали с юной девушкой. Чтобы избежать жестокого наказания, он напомнил аббату, что и тот наслаждался любовными утехами с той же девушкой.58
Естественно, все это вызывало ожесточенную критику. В начале XV в. во флорентийской литературе возникло сильное антиклерикальное течение. Основную критику вызывало обжорство и похотливость служителей церкви. Самыми суровыми критиками были Поджо Браччолини и Леонардо Бруни.59
Однако связи между религиозным и светским мирами во времена Орсини не ограничивались одним лишь сексом. Ринальдо Орсини был не просто прелатом, но еще и бизнесменом. И вот в этом отношении его тайное присутствие в истории «Давида» становится довольно туманным.
Сколь бы твердым не был обет бедности, который давали монахи, монахини и священники, всем нужны были деньги. И каждый церковный институт имел широкий круг финансовых интересов. Картезианский монастырь в Галлюццо, неподалеку от Флоренции, владел «ткаческой фабрикой на виа Маджио, швейной мастерской на виа дель Гарбо, цирюльней в приходе Сан-Пьеро Гаттолино и жилым домом в районе Оньи Санти».60 Некоторые религиозные организации в городе занимались прибыльным бизнесом в собственных стенах. Монахи Умилиати, к примеру, с конца XIII в. владели шерстопрядильной фабрикой у реки и работали на ней.61 В этом отношении монастыри проявляли особую активность. Жена Франческо Датини как-то написала мужу о прекрасных скатертях, которые она заказала в одном монастыре, и полотенцах, купленных в другом.62 Священники располагали огромными портфелями инвестиций. Благодаря пожертвованиям церкви и церковные институты владели большими участками земли, зданиями и целыми предприятиями, которые давали постоянный доход благодаря арендной плате и прибылям. Некоторые церкви получали колоссальные суммы. Хотя на материковой части Италии насчитывалось не менее 263 епархии (исключая Сицилию и Сардинию), трудно было найти епископа или хотя бы архиепископа Флоренции, в карманах которого не звенело бы чистое золото.63
Все это делало церковные институты крупными игроками во флорентийской экономике и в то же время отправляло священников и прелатов в порочный мир светского честолюбия. Богатейшие семьи Флоренции стремились закрепить свою ценность и достоинство, отправляя своих членов в лоно Церкви и стремясь занять там самое высокое положение. В 1364 г. Франческо дель Бене через папского секретаря Франческо Бруни устроил так, чтобы церковь Санта-Мария сопра Порта досталась его сыну Бене. Позже Буонакорсо Питти вел долгую и изматывающую борьбу с Никколо да Уццано за то, чтобы заполучить больницу в Альтопсио для своего племянника.
Ринальдо Орсини не был исключением. Архиепископом Флоренции он стал в результате прошения, поданного Лоренцо де Медичи папе Сиксту IV в 1373 г. Хотя ненавидевший Медичи Сикст хотел назначить на вакантное место родственника Якопо Сальвиати, Франческо, Лоренцо твердо вознамерился поручить эту работу Орсини. Не то чтобы он считал, что Ринальдо как-то особо предан христианским добродетелям: гораздо важнее было то, что Орсини был его шурином. Сделав архиепископом брата жены, Лоренцо рассчитывал еще более укрепить свою власть и направить поток доходов Церкви в собственные закрома.
То, что Орсини получил место в результате хитроумных комбинаций Лоренцо де Медичи, придавало роли архиепископа во флорентийской жизни еще большее значение. При теснейших связях религиозной и светской сфер жизни Флоренции в эпоху Ренессанса было бы удивительно, если бы Церковь не была столь же тесно связана с политикой и бизнесом. Именно в силу семейных и экономических связей священников и мирян два мира неизбежно должны были пересечься. Но если мы привыкли видеть архиепископа Кентерберийского, занимающегося политическими и финансовыми делами, в эпоху Ренессанса подобные связи были более интенсивными и менее дружескими.
Папские государства играли важную роль в политике на Апеннинском полуострове. Церковь играла еще более важную роль во внутренних делах Флоренции. С одной стороны, церковные богатства являли собой лакомую цель, за которую боролись семьи и фракции. Основной проблемой отношений между архиепископом и правительством Флоренции, которому вечно не хватало денег, являлось налогообложение церковной собственности. Нравилось это прелатам и приорам или нет, но они оказывались втянутыми в бесконечную и довольно грязную игру. Но, с другой стороны, экономическая и политическая значимость Церкви делала ее жизненно важной для функционирования флорентийской экономики. Этот фактор следовало учитывать в борьбе за контроль над городом. Городские банки зависели от папских денег. Да и сам город часто обнаруживал, что само его выживание зависит от связей с папскими государствами. Хорошие отношения были жизненно важны. И Церкви тоже нужно было иметь флорентийское правительство (и флорентийские банки) на своей стороне. И это приводило к активному вмешательству в повседневную политику. После падения Медичи папа Сикст VI активно поддерживал заговор Пацци. О многом говорит тот факт, что активную роль в организации заговора играл архиепископ Пизы Франческо Сальвиати.
Такое переплетение религии, бизнеса и политики порождало еще одну более опасную форму напряженности. Внутри церкви уже имелся фактор, который раздражал и отталкивал мир современного бизнеса. Речь шла о чрезмерно активном вмешательстве священников и прелатов в жизнь светскую. В частности, священники того времени постоянно и сурово осуждали практику ростовщичества. Корыстолюбие финансового сектора подвергалось постоянному осуждению проповедников, призывавших к бедности и простоте, характерной для нищенствующих орденов. Но подобное отношение порождало еще более острую критику церковных грехов.
Пуристы полагали Церковь оплотом чистоты и простоты, политику – отраслью теологии. По их мнению, бизнес следовало совмещать с христианской благотворительностью. По мнению многих священников, постоянное стремление к богатству, соперничество за прибыли и политизация церковной жизни постепенно стали символизировать не только деградацию веры, но и коррупцию в божественной республике. В начале XV в. монах-доминиканец Джованни Доминичи отстаивал идею о том, что правительство должно руководствоваться добродетелью, а служение государству – это обязанность христианина. Но в то же время он сурово обрушивался на алчность и честолюбие тех, кто стремится к власти («все несчастья мира начинаются с честолюбия, гордыни этого мира», – заявлял он64). Осуждая фракции, ведущие постоянную борьбу, он стенал, что «в мире не осталось справедливости, но лишь обман, власть, деньги, дружба и родители».65 Чтобы изменить это, необходимо было христианское возрождение.
В конце века на богатых обрушился монах-доминиканец Джироламо Савонарола.66 Он сурово клеймил их роскошные дворцы, экстравагантную одежду и роскошные частные капеллы. Ему была отвратительна борьба за положение в церкви. Он осуждал готовность, с какой церкви превращались в логова воров, обманывающих бедных и неимущих. Он считал, что от учения Христа отошли не только люди, но и сама Церковь, а правительство стало рассадником тирании. Озвучив недовольство, связанное с социоэкономическим и политическим неравенством, он провозгласил, что добрые люди – popolo minuto, бедные рабочие, еле сводящие концы с концами поденщики, старики и дети – были позабыты в гонке за деньгами. Флоренцию нужно реформировать в соответствии с представлениями пуристского толкования Священного Писания. Правительство следует реорганизовать, поставив во главу угла добродетель и милосердие. Церковь нуждается в очищении. Торговцам и купцам следует научиться скромности и сдержанности. «Флоренция! – провозглашал Савонарола. – Христос твой король!» За несколько недель, прошедших после падения Пьеро де Медичи, пламенный монах начал настоящую революцию. Тысячи юношей шли по улицам, уничтожая все, что казалось им высокомерной демонстрацией богатства. Синьория была вычищена. Вся Флоренция, как говорили критики Савонаролы, превратилась в монастырь. Революция была суровой и кровавой, но она явилась абсолютно естественным результатом напряженности, возникшей в силу взаимодействия экономики, политики и религии.
Микеланджело вернулся во Флоренцию в 1501 г. Савонарола был уже мертв, и религиозный экстремизм ушел в прошлое. Религия оставалась неотъемлемой частью флорентийской жизни, и связи между экономикой, политикой и Церковью были прочными, как всегда. И воплощением этих связей был архиепископ Ринальдо Орсини. «Давид» доказывает, что язык религии оставался центром формирования гражданской идентичности и являл собой сущность самовосприятия Флоренции. Религия (и глубоко благочестивый Микеланджело знал это очень хорошо) все еще определяла структуру повседневной жизни. Но сексуальные отклонения, соперничество за прибыли, политические интриги и страсть к реформированию все еще бурлили под спокойной с виду поверхностью.
Что видел Давид
Когда законченная статуя 8 сентября 1504 г. наконец предстала перед глазами зрителей, Давид увидел мгновенный снимок городской жизни.
На торжество собрался весь город. На высокой платформе у главных врат Палаццо Веккьо расположились знатные горожане, представлявшие миры политики, экономики и религии: благородный Пьеро Содерини в дорогом красном одеянии сверкал драгоценностями, маленький и толстый Якопо Сальвиати в немыслимо дорогих одеждах и гордый Ринальдо Орсини в расшитом золотом одеянии. Площадь была заполнена людьми, гражданами и негражданами, мужчинами и женщинами, молодыми и старыми, мирянами и священниками. Большая часть собравшихся была одета бедно, на многих была подержанная одежда, многие пришли босиком. Некоторые держали свои орудия – они вырвались из своих мастерских буквально на несколько минут.
Это зрелище символизировало все влияния, которые испытывал на себе Микеланджело в тот момент. Площадь являла собой доказательство того, что Флоренция оставалась республиканским городом, сделавшим свое богатство торговлей и производством, единым в своей вере – ив восхищении новым творением Микеланджело. Но город не избавился от глубокого социоэкономического неравенства, поддерживаемого гильдиями, от политического исключения, скрытого под мантией свободы, от религиозного рвения и нарушения церковных законов. Если бы можно было, то Давид увидел бы все три института, которые определяли ход жизни Микеланджело в течение последних десяти лет и более всего заботились о собственном существовании. Политика, экономика и Церковь присутствовали на площади: внешность всех была обманчива, все порождали напряженность, недовольство и насилие, и все были необходимы для искусства Ренессанса.
4. Мастерская мира
Когда Микеланджело работал над «Давидом», его художественная жизнь несомненно определялась меняющимся миром экономики, политики и религии. Но институционный фон – это лишь часть истории. Конечно, великая статуя нагружена смыслом мучительного неравенства, характерного для того периода. Но медленный процесс работы скульптора происходил в заурядных реалиях повседневного существования.
В 1501–1503 гг. Микеланджело был человеком очень скрытным. Получив разрешение работать над «Давидом» в мастерских Опера дель Дуомо близ собора Микеланджело «окружил мрамор дощатой оградой и лесами, и работал там так, чтобы никто его не видел…».1 Он уже был опытным скульптором, но работа эта была очень тяжелой. Стучал ли он молотком по резцу или бурил мрамор, скульптору приходилось напрягаться физически, работать в постоянном шуме и грязи. Как говорил Леонардо:
работа скульптора сопровождается выделением пота, который, смешиваясь с мраморной пылью, превращается в грязь. Лицо его постоянно покрыто мраморной пылью, что делает его похожим на пекаря. А к одежде пристают мелкие крошки мрамора, и кажется, что его запорошил снег.2
Но, несмотря на всю страсть художника к секретности, работа Микеланджело не была работой затворника. Его постоянно окружали люди. В его мастерскую вечно кто-то приходил и уходил.3 Помощники и ученики сновали туда и сюда с материалами, и друзья, например, талантливый каменщик «Тополино» (Доменико ди Джованни ди Бертино Фанчелли), тоже не забывали скульптора. Каждый день к Микеланджело как бы невзначай заглядывали члены совета собора. Их интересовало, как продвигается работа над статуей. Частенько бывали и видные чиновники, в том числе и пожизненный гонфалоньер Пьеро Содерини. Не оставляли художника своим вниманием потенциальные меценаты, например Таддео Таддеи. Они хотели договориться о новых работах или обсудить цены. Торговцы приносили заказанные товары или требовали оплаты, налоговые инспектора задавали неудобные вопросы. Да и обычные прохожие с интересом заглядывали в щели, интересуясь, чем там занимается скульптор. Ну и, конечно же, невозможно было обойтись без долгих ужинов с Лодовико и братьями. Семейные проблемы требовали внимания, и со слугами тоже нужно было поговорить.
Мастерская Микеланджело в 1501–1503 гг. дает нам четкое представление о повседневной жизни художника эпохи Ренессанса. Когда мы говорим о «Ренессансе», нам легко забыть об этой стороне творческого труда. Художник существовал в социальном мире, с его тревогами и беспокойствами, надеждами и мечтами, обязательствами и предубеждениями. Все это формировало содержание искусства того времени, обогащая его живыми деталями.
Социальные круги и братства
Когда Микеланджело работал над «Давидом», в его мастерской перебывали люди из всех уголков города. В этом отношении он был совершенно типичен. Хотя современник Микеланджело Пьеро ди Козимо отличался невероятной мрачностью и был настоящим мизантропом, большинство художников окружала широкая сеть людей. Как писал Вазари о Филиппо Брунеллески, «никогда попусту он не тратил времени, будучи всегда занят либо для себя, либо помогая другим в их работах, посещая друзей во время своих прогулок и постоянно оказывая им поддержку». А Донателло был настолько загружен просьбами и обязательствами, что «предпочитал умереть с голоду, чем быть вынужденным думать обо всем этом».4
Но толпы людей, с которыми Микеланджело приходилось ежедневно общаться в 1501–1503 гг., были не просто аморфной массой случайных прохожих. Подавляющее большинство относилось к определенным социальным кругам, каждый отражал определенную сферу современного социального существования, у каждого были свои ценности и правила, и каждый нес с собой четкие обязательства, которые определяли характер не только работы, но и повседневной жизни. Динамика этих кругов отражала чистый, идеальный мир, построенный на знакомых концепциях Ренессанса и порой приятного, порой отвратительного социального мира Микеланджело, столь типичного для того времени.
Семья
Первым и самым важным социальным кругом Микеланджело была его семья. В Италии эпохи Ренессанса не было связи более важной, чем эта. Значимость эта подчеркнута в многочисленных литературных произведениях, в том числе и в диалоге Леона Баттисты Альберти «О семье». Семья в большей степени, чем сегодня, определяла течение и характер социальной жизни человека. Она не только определяла восприятие социального статуса, но еще и обеспечивала «удовлетворение целого ряда человеческих потребностей: материальных и экономических, социальных и политических, личных и психологических».5
В 1501 г. Микеланджело вернулся в родной дом. Жизнь в доме била ключом, что было во многих отношениях типично для периода, когда средний размер домашней сферы расширялся в соответствии с ростом населения.6 Многие художники возраста Микеланджело – особенно неженатые – жили в семьях, включавших в среднем пять человек из двух или даже трех поколений.7 Обычно дома принадлежали старшему мужчине в семье. Хотя мать Микеланджело умерла, когда он был еще ребенком, его отец полностью контролировал жизнь семьи. У Микеланджело было не менее пяти братьев и сестер, и четверо все еще жили в родительском доме. Старший брат Лионардо за несколько лет до возвращения Микеланджело стал монахом-доминиканцем, но сестра Кассандра и три брата – Буонаротто (1477–1528), Джовансимоне (1479–1548) и Джисмондо (1481–1555) еще только начинали испытывать судьбу в мире, находясь под защитой семьи.
Суровый, но справедливый отец Микеланджело, 57-летний Лодовико, строго контролировал всю жизнь семьи. То, что Микеланджело зарабатывал, оставалось у него. Но если отец помогал сыну в материальном отношении, то по закону имел право на половину всей прибыли. Точно так же Микеланджело не мог заключить контракта без предварительного разрешения Лодовико. Он не мог даже составить завещания без одобрения отца. Из-под отцовского контроля художнику удалось формально вырваться лишь в 31 год. Таковы были требования закона. На практике ситуация была еще более сложной.
Судя по письму, написанному Лодовико Микеланджело в конце 1500 г. (см. предыдущую главу), Лодовико был заботливым и внимательным отцом, которого беспокоило финансовое положение сына.8 Но в Микеланджело он видел основного добытчика средств для семьи и не собирался оставлять сына без внимания. Чувствуя себя стариком, он писал Микеланджело: «Я должен сначала любить себя, и лишь потом других. Раньше я больше любил других, чем себя».9 Неженатый Микеланджело, вернувшийся в лоно семьи, с радостью принял на себя такое обязательство. В этом отношении он был похож на другого своего современника, Антонио Корреджо, который «занимался своим искусством с большими лишениями для самого себя и в постоянных заботах о семье, его отягчавшей».10 Микеланджело крайне редко жаловался на то, что его поддержку не ценят.11
Однако Лодовико относился к Микеланджело с определенным подозрением. За отцовской любовью чувствовалось некое неодобрение. Он бесконечно гордился социальным статусом сына и не возражал против того, что Микеланджело избрал себе такой непростой и нестабильный путь. Лодовико был снобом. Он утверждал, что имеет родственные связи с Медичи, а через вторую жену – с влиятельными семействами Ручеллаи и Дель Сера. Хотя Лодовико не был богат, он происходил из семьи, сделавшей состояние в банковской сфере и в сфере торговли шерстью (истинный флорентиец!). У семьи имелась долгая история служения обществу. Сам Лодовико служил подеста в коммуне Кьюзи и в период с 1473 по 1506 г. не менее 35 раз избирался на государственную службу.12 Хотя ему казалось, что работа не соответствует его социальному статусу, он все же хотел, чтобы Микеланджело занялся торговлей шерстью или юриспруденцией.13 Отцу было непросто понять выбор сына. Хотя он всегда с удовольствием брал деньги, которые предлагал ему сын, за семейными ужинами Лодовико никогда не упускал возможности поворчать по поводу выбора им такой профессии.14 Легко представить, как непросто Микеланджело было сдерживаться, слушая бесконечные разговоры о том, насколько лучше было бы ему стать банкиром.
Отношения с остальными членами семьи совершенно предсказуемо являли собой сочетание эмоциональной близости и сдерживаемого раздражения. В письмах Микеланджело радость чередуется с упреками. Буонаротто, который позже был избран на должность приора Флоренции, был, конечно же, любимым братом Микеланджело. Отношения же с другими складывались иначе. Джовансимоне отличался сложным характером. Хотя он вместе с Джованни Морелли и занялся инвестициями, был слишком ленив и не готов к подобному делу. Через несколько лет он жестоко разругался с Микеланджело из-за денег и из-за своего желания и дальше сидеть на шее у отца. Таким же был и младший брат, Джисмондо, но он предпочитал держаться в тени. Отношения с более дальними родственниками складывались иначе. Хотя Микеланджело никогда не уклонялся от своих обязательств, но требовательность родственников его раздражала. В 1508 г. умер брат Лодовико, и Микеланджело без стеснения называл свою овдовевшую тетку «шлюхой».15
Друзья
Следом за родственниками шли друзья. Для человека эпохи Ренессанса дружеские узы были гораздо важнее и теснее, чем нам кажется сегодня. Эти отношения постоянно идеализировались. Петрарка говорил, что «настоящие дружеские отношения – редкое благо, которое драгоценнее, чем золото».16 Друг для него был «вторым «я», зеркалом совести и светом идеальной добродетели.17 Идеального друга выбирали только по его внутренним достоинствам – социальное положение не имело значения. Сформировавшимся дружеским узам не была помехой даже смерть.18 Настолько тесной была идеальная дружба, что Боккаччо даже смог представить себе, как два друга – Тит и Джизиппо – готовы делиться друг с другом женой (в брачную ночь, не меньше!) и жертвовать карьерой во имя блага друг друга.19
Дружба имела и весьма практический аспект. Как показывает оживленная переписка между нотариусом Лапо Маццеи и торговцем Франческо ди Марко Датини, друзья оказывали друг другу материальную помощь – и рассчитывали на это.20 Маццеи, например, давал Датини подробные советы относительно того, как справиться с налоговой нагрузкой, как собирать долги и как лучше составить брачный контракт дочери.21 В ответ Датини посылал Маццеи в подарок анчоусы, бесчисленные бочки вина и даже дрова.22 В 1355 г. Петрарка порекомендовал своего друга «Лелия» (Лелло ди Пьетро Стефано Тосетти) императору Карлу IV23, а флорентийский канцлер Колюччо Салютати помог получить должность при папском дворе своим друзьям, гуманистам Поджо Браччолини и Леонардо Бруни в 1403 и 1405 гг. Фра Бартоломео из Сан-Марко учил Рафаэля правильно пользоваться красками, а Рафаэль в ответ обучал своего нищенствующего друга принципам перспективы.24
Однако этим достоинства дружбы как формата обмена новостями, взглядами и помощью не исчерпывались. Дружба обеспечивала контекст для развития привычек, вкусов, чувства юмора и взгляда на мир. Джорджоне, к примеру, любил «развлекать своих многочисленных друзей музыкой».25 Друзья вместе плакали и смеялись, праздновали и оплакивали, наставляли друг друга и выслушивали наставления. Некоторые художники никогда не стали бы теми, кем им удалось стать, если бы не друзья.
Друзья Микеланджело представляли собой довольно эклектичную группу. Среди них были и представители высших социальных слоев – сходные по статусу с собственной семьей художника. Это торговец Якопо Салинати, а затем капеллан собора Джованфранческо Фаттуччи. Это были хорошо образованные люди, поэтому письма Микеланджело к ним изобилуют элегантными, утонченными выражениями. Но личное общение было лишено какой бы то ни было формальности. Как и сегодня, мужская дружба проявлялась через веселые пирушки и грубоватые шуточки. В «Декамероне» Боккаччо рассказывает о том, как Джотто и его друг, известный юрист Фарезе да Рабатта, подшучивали друг над другом в дороге – один вызывал смех тем, что насквозь промок под дождем, а другой тем, что был «маленького роста, безобразный, с таким плоским лицом и такой курносый, что было бы гадко и тому из семьи Барончи, у которого лицо было всего уродливее». 26 Микеланджело любил шутки. Он, наверняка, не мог устоять перед возможностью подобным образом подшутить над своими состоятельными приятелями.
О многом говорит то, что большая часть ближайших – и самых давних – друзей Микеланджело имела довольно низкий социальный статус. В отличие от таких гуманистов, как Салютати, Бруни и Браччолини, которые предпочитали формировать узкий (порой франкционный) круг друзей в своем социокультурном слое, Микеланджело и многие современные ему художники искали друзей вне собственной профессии. Хотя на склоне лет он подружился с Сансовино, Понторно и Вазари, в молодости он почти не общался с другими художниками (исключение составляли Франческо Граначчи и Джулиано Буджардини).27 Среди его друзей не было никого, кто сравнился бы с ним по таланту. Он предпочитал общество каменщиков – Донато Бенти или Микеле ди Пьеро Пикко, а также поразительно бестолкового «Тополино». Они встречались в мастерской или в каменоломнях Сеттиньяно, часто вместе обедали. За бутылкой вина и миской простого супа они рассказывали друг другу грубые анекдоты и уличные шутки. Характер этой дружбы лучше всего передает листок, которым спустя несколько лет в Риме обменивались Микеланджело и его друг и ученик Антонио Мини. Мини изобразил на нем отвратительно карикатурного жирафа, а Микеланджело блестяще изобразил человека, который с гордостью демонстрирует всему миру свой анус. Подобные встречи не отличались изысканностью и утонченностью. Мысль о том, что Микеланджело мог рисовать подобные непристойные карикатуры и находить в них удовольствие, когда за его спиной стоял наполовину законченный «Давид», весьма отрезвляет.
Круг мастерской: покровители, помощники и ученики
Вне круга семьи и друзей большая часть социальных контактов Микеланджело неизбежно была связана с работой. Но и тут мы снова сталкиваемся с неожиданным сочетанием формальных отношений и очень земного, порой непристойного поведения. Такое сочетание отражает объединение строгих обязательств и привычной непочтительности, столь характерной для художников эпохи Ренессанса.
Конечно же, наиболее важны для художника были покровители – консулы комитета собора, пожизненный гонфалоньер Пьеро Содерини, торговцы Таддео Таддеи, Бартоломео Питти и Аньоло Донн. Все они были людьми благородными и, если судить по сохранившимся портретам, прекрасно осознававшими свое положение. Несмотря на то что Содерини был человеком пожилым, иссохшим и сгорбившимся от возраста, одевался он изысканно. Черные глаза пристально смотрели над крупным, напоминающим клюв носом. Донн был моложе и красивее. Высокомерное выражение вполне соответствовало его богатству, о котором говорили многочисленные золотые кольца на пальцах. Восприятие этими людьми собственного статуса было очень важно. Хотя Микеланджело еще в юности был очень близок с Лоренцо де Медичи, в этот период жизни его отношения с покровителями были гораздо более деловыми.
Большую часть времени он тратил на подробные переговоры о крупных заказах, подобных «Давиду». И это было мучительно. Покровители не только всегда требовали эскизов или макетов, но еще и настаивали на очень детальных формулировках контрактов.28 Порой уже после заключения контракта начинались споры по ходу работ и иным деталям. Но были и покровители, которые заглядывали в мастерскую, чтобы сделать мелкие, чисто бытовые заказы – украшения дымоходов или резные сундуки, чем занимался Донателло,29 бронзовый нож, который Пьеро Альдобрандини заказал Микеланджело.30 За такие заказы художники брались, чтобы сделать приятное богатым и влиятельным меценатам.
Впрочем, был ли заказ крупным или мелким, он всегда был связан с проблемами. И появление мецената в мастерской художники чаще всего встречали печальными вздохами или бормотанием сквозь зубы. Самый сложный вопрос был связан с оплатой. В своей автобиографии Челлини жалуется на задержки с оплатой,31 а Вазари рассказывает о том, как Донателло уничтожил бронзовый бюст из-за того, что генуэзский торговец почему-то начал оспаривать счет.32 В подобном положении оказывались не только художники. Гуманисту Франческо Филельфо пришлось умолять своего друга, государственного деятеля и известного шифровальщика Чиччо Симонетту, дать ему денег в долг, поскольку казначей герцога Миланского бессовестно обманул его, когда он пришел с просьбой об оплате счета.33
Но существовали и весьма раздражающие тривиальные проблемы. Например, расписывая клуатр Сан-Миниато сценами из жизни Отцов Церкви, Паоло Уччелло очень страдал из-за того, что настоятель не выделял ему на обед ничего кроме сыра. Сырные пироги, сырные супы, сыр с хлебом – вечный сыр. Будучи человеком скромным, художник не жаловался, но через какое-то время скудное однообразие диеты вывело его из себя. Уччелло покинул монастырь и отказался продолжать работу, пока его не будут кормить лучше34.
В жизни Микеланджело были и более печальные случаи. Когда законченного «Давида» установили на площади Синьории возле Палаццо Веккьо, Микеланджело поднялся на лестницу, чтобы внести какие-то завершающие штрихи. И тут прямо под ним появился Пьеро Содерини. С абсолютной самоуверенностью Содерини похвалил работу Микеланджело, но заметил, что нос «Давида» кажется ему толстоватым.
Вежливо спустившись, чтобы «проверить» впечатления гонфалоньера, Микеланджело набрал в руку мраморной пыли. Потом он снова поднялся, чтобы внести «изменения», предложенные Содерини. Сделав вид, что он работает резцом, Микеланджело потихоньку сыпал пыль сквозь пальцы. «Посмотрите-ка теперь», – крикнул он Содерини. «О, теперь стало намного лучше! – немедленно ответил гонфалоньер. – Теперь вы действительно вдохнули в него жизнь!».35 Но сколь бы ни раздражали художника меценаты вроде Содерини, они хотя бы оплачивали счета (по крайней мере, теоретически). Поэтому Микеланджело и его коллеги-художники продолжали вежливо улыбаться.
Гораздо более приятными (хотя и не всегда) были отношения Микеланджело с его помощниками и учениками. Неизвестно, насколько велика была его мастерская в 1501–1503 гг., но, когда несколькими годами позже он расписывал Сикстинскую капеллу, с ним работало не менее 12 человек.36 Кроме старых друзей Тополино и Граначчи остальные помощники и ученики Микеланджело были молодыми, почти подростками. Они часто жили прямо в мастерской. Микеланджело писал отцу из Рима с просьбой найти ему такого помощника. И это письмо дает нам представление о том, какими людьми он окружал себя в своей мастерской:
Я был бы рад, если бы поискали во Флоренции какого-нибудь парня, сына бедных, но честных людей, который привык к лишениям и готов был бы приехать сюда, чтобы служить мне и выполнять все обязанности по дому – ходить за покупками и убираться, а в свободное время мог бы учиться.37
Отношения, естественно, базировались на работе, поэтому не обходилось без мелких ссор и даже увольнений. У Микеланджело постоянно возникали проблемы с помощниками. Он был вынужден уволить нескольких из них за неумение и лень, а одного – за то, что он оказался «мелким, самодовольным подонком».38 Иногда Микеланджело отсылал людей прочь, прежде чем они успевали переступить порог.39 Например, в 1514 г. один человек предложил ему сына в ученики, но в этой рекомендации основной упор делал на сексуальные, а вовсе не художественные способности мальчишки.
Однако чаще всего отношения мастера и учеников были довольно тесными, а зачастую и возвышенными. Несмотря на то что замечтавшийся помощник из-за невнимательности испортил один из его портретов, Боттичелли отнесся к этому с юмором. Однажды он вместе со своим учеником Якопо подшутил над другим учеником, Бьяджо. Они приклеили бумажные шляпы ангелам на картине Бьяджо, из-за чего небесные создания стали походить на несчастных стариков.40 Такие детские развлечения помогали легче и веселее справляться с тяжелой работой.
За прилавком, за стеной
Историки часто не обращают внимания на то, что помимо этих отношений в жизни любого художника возникало множество случайных, почти забытых социальных взаимодействий, связанных с повседневными жизненными потребностями. Они тоже образовывали своеобразный круг. В такой круг сегодня у нас входят соседи, продавцы из соседних магазинов и даже почтальон – все они являются частью нашего повседневного существования. В современном мире практически не существует формального или теоретического аппарата, управляющего поведением в этой сфере социальной жизни. Но значимость общения со множеством продавцов, торговцев на рынке и слугами не следует преуменьшать. В письмах Микеланджело, которые он писал родственникам, мы часто встречаем просьбы оплатить определенные счета или заказать что-либо – то воск и бумагу, то рубашки и ботинки. Более всего художника волновали качество и цена, но не менее важными качествами были честность и приличия. В письмах Микеланджело мы находим рассказы о болтовне на Старом рынке или о серьезных спорах в торговых лавках. Эти события характеризовали дни его жизни и показывали его взгляд на свое место в городской среде.
Забывать о соседях было нельзя – особенно в таком общественно-ориентированном городе, как Флоренция эпохи Ренессанса. Хотя историки зачастую об этом забывают, такие повседневные социальные взаимодействия (помимо родственников, друзей, меценатов, помощников и учеников) играли важную роль в жизни художника. Хотя порой они были вполне гармоничными, но иногда ситуация складывалась так, что более всего напоминала мыльную оперу. Боттичелли, к примеру, впал в ярость, когда рядом с ним поселился ткач. Поскольку он работал на дому, он установил в своей мастерской восемь станков, которые с утра и до ночи работали каждый день. Шум был оглушающим. Хуже того, от вибрации станков стены дома трещали и опасно накренялись. Боттичелли очень скоро потерял возможность работать. Гнев художника нарастал. Взбежав наверх, он установил огромный камень прямо на крыше своего дома (его дом был выше, чем дом ткача) и громко заявил, что камень упадет, если тряска не прикратится. Бедный ткач перепугался, что его задавит, и ему пришлось пойти на условия художника.41 Конечно, это экстремальный пример, но нет сомнений в том, что и Микеланджело приходилось сталкиваться с подобными проблемами.
По социальным кругам Микеланджело мы не можем составить четкой, всеобъемлющей картины общественной жизни художника эпохи Ренессанса. Она представляла собой сложную сеть перекрывающихся, взаимодействующих, а порой конфликтующих между собой социальных взаимоотношений. Формальные обязательства соседствовали с идеализированными отношениями, а непристойные шутки – с раздраженными ссорами и ритуализированными, но неискренними выражениями уважения. Долг перед родственниками и друзьями сочетался с напряженными или веселыми отношениями с учениками. А когда на сцене появлялись меценаты, то нарушались границы классового и социального статуса. Не следует считать художника эпохи Ренессанса человеком исключительно возвышенным, по-настоящему независимым, находящимся выше суеты повседневного существования. Художники, подобные Микеланджело, всегда находились под влиянием общества, в котором они жили. Они послушно следовали за течениями, поддавались вкусам одних групп, чувству юмора других и требованиям третьих.
Еще важнее то, что эти сложные отношения, обязательства и ценности находили свое блестящее отражение в искусстве того времени. С одной стороны, здесь можно проследить отчетливую концептуальную и творческую связь. Концепция семьи и даже сложностей семейной жизни отражались в том, как Микеланджело изобразил Марию, Иосифа и младенца Христа в «Тондо Дони». О том же говорит нам фрагмент «Жертвоприношение Исаака» Гиберти на вратах Баптистерия. Довольно напряженно складывались отношения с меценатами у Боттичелли – свидетельством чему служит его надменный автопортрет рядом с Козимо, Пьеро и Джованни де Медичи на картине «Поклонение волхвов» [ил. 5]. Значимость дружбы для художника эпохи Возрождения подчеркивает то, что Таддео Гадди поместил «Дружбу» среди добродетелей, изображенных в капелле Барончелли в церкви Санто-Кроче. А о ценности для художников свободного общения в мастерской писал в своих жизнеописаниях Вазари. Да и на многих картинах мы видим любопытные детали, которые отражали весьма плодотворные отношения между художником и его помощниками. Но, с другой стороны, влияние этих социальных кругов можно рассматривать как основу самих произведений искусства. Именно обязательства перед семьей, друзьями, покровителями и даже помощниками и учениками в большей или меньшей степени являлись побудительным мотивом для создания картин и скульптур. Ценности, сформировавшиеся на основе этих отношений, определяли форму этих произведений искусства.
Женщины
Пожалуй, самым удивительным в структуре социальных кругов Микеланджело того времени является то, что в его социальном мире присутствовали почти одни только мужчины. Единственным исключением были его слабая сестра Кассандра (дата ее рождения нам неизвестна), «шлюха»-тетка и домоправительница. Об остальных женщинах мы не знаем ничего. Казалось, художник вообще не имел контактов с женщинами.
В определенных отношениях жизнь Микеланджело в период 1501–1503 г. совершенно неуникальна. Не то, чтобы общеизвестное отсутствие интереса к женщинам, свойственное Микеланджело, было явлением распространенным. Как раз наоборот. Большинство художников – даже мизантроп Пьеро ди Козимо – были либо женаты, либо, как, например, Рафаэль, постоянно вступали в отношения с разными женщинами.42 Не то, чтобы Микеланджело, в отличие от других художников шарахался от женщин. Учитывая, что женщины составляли более половины населения города, в повседневной жизни с ними приходилось сталкиваться на каждом шагу. Даже самый невосприимчивый к женским чарам художник должен был общаться с ними постоянно – в семье и за ее пределами. Относительная незаметность женщин является еще одной гранью гендерного существования в Италии эпохи Ренессанса и его отражения в мужской письменной культуре того времени.
К женщинам обычно относились со смесью благочестивого идеализма, патерналистской снисходительности и легального женоненавистничества. Для поэтов и писателей женщины всегда были слабым полом. Даже создавая труд, призванный восхвалять достижения женщин, «Об известных женщинах» (De mulieribus Claris, 1374), Джованни Боккаччо считал своим долгом указать, что достижения выдающихся женщин следует оценивать с учетом естественных и глубоких ограничений возможностей их пола. Достичь величия они смогли только благодаря наличию у них «мужских» качеств. «Если мы считаем, что мужчины заслуживают восхваления за совершенные с помощью дарованной им силы великие дела, – спрашивает Боккаччо, – то насколько же больше должны мы превозносить женщин – а почти все они от природы имеют нежные, хрупкие тела и ленивые умы, когда они проявляют мужской дух и демонстрируют поразительную разумность и смелость..?»43
Такой взгляд, который полностью соответствовал современным религиозным воззрениям, находил отражение в юридических формах. До замужества молодая девушка (как, например, сестра Микеланджело Кассандра) должна была полностью подчиняться отцу. Ее обязанности и положение определялись в соответствии с нуждами семьи. В самых богатых семьях девушки получали некоторое образование, которое считалось полезным для выгодного замужества. Но, кроме некоторого знакомства с языками, музыкой и танцами, никаких других знаний девушки не получали. «Книжное образование» оставалось прерогативой мужчин.44 В менее состоятельных семьях – вероятно, и в семье Микеланджело, где не было матери, – незамужняя девушка была всего лишь бесплатной служанкой. Образование не считалось необходимым. Дочь Паоло Уччелло, «которая умела рисовать»45, вызывала всеобщее изумление. В большинстве флорентийских семей дочери выполняли работу по дому и с ранних лет вносили свой вклад в семейный бюджет, торгуя на рынках, занимаясь прядением и ткачеством вместе с матерями. Но самым главным делом девушки было сохранение самой большой своей драгоценности – девственности.
Замужество было главной целью женщины. В эпоху Ренессанса считалось, что девочка рождается только для этого. Согласно закону она могла выйти замуж сразу же, как только ей исполнялось 12 лет, но возраст замужества во многом зависел от социоэкономического статуса семьи. Если девушка принадлежала к аристократической семье, то ей находили подходящего мужа, когда ей было от 13 до 15 лет. Главная цель такого брака заключалась в упрочении положения семьи. Обычно девушка получала весьма солидное приданое. У девушек редко был какой-либо выбор. Девушка не имела права голоса в процессе устройства собственной судьбы. В 1381 г. Джованни д’Америго дель Бене остался недоволен тем, что атласное платье, которое пожелала его будущая невестка, «слишком роскошно», и вместе с будущим мужем девушки, Андреа ди Кастелло да Кварата, выбрал более подходящий наряд.46 Хотя матери бедной девушки этот брак не нравился, Джованни счел ее поведение «странным» и недостойным. Девушки более низкого социального статуса вступали в брак в более старшем возрасте. Но даже они никак не влияли на выбор мужа. Многим приходилось связывать свои судьбы с мужчинами намного старше себя. В среднем на флорентийской свадьбе жених был лет на 12 старше невесты.47
В любом случае после свадьбы юридический статус женщины еще более ухудшался. Как и в любом другом итальянском городе, во Флоренции были законы, которые лишали замужних женщин права заключать контракт, тратить собственные деньги, продавать или дарить собственность, составлять завещение и даже выбирать место захоронения без согласия супруга. Законный развод получить было невозможно – он просто не признавался. Уважительной причиной не считалась даже жестокость и доказанная супружеская измена. В то же время молодая замужняя женщина должна была соответствовать строгим правилам флорентийского общества. Считалось, что она должна целиком и полностью посвятить себя семье и в особенности мужу. В этом отношении интерес представляет трактат венецианца Франческо Барбаро под красноречивым названием «Об обязанностях жены».48 Этот труд Барбаро преподнес Лоренцо де Медичи и Джиневре Кавальканти в честь их бракосочетания в 1416 г.
По мнению Барбаро, для достойного брака женщина должна была исполнять три обязанности: «любить своего мужа, вести скромную жизнь и целиком взять на себя заботу о доме».49 Из этих обязанностей важнее всего была третья, для которой женщины, будучи «от природы слабыми», были приспособлены лучше всего. Обязанность эта была нелегкой. Благородная женщина, подобная Джиневре, должна была вести дом, управлять слугами, следить за покупкой продуктов, приготовлением еды и размещением обслуживающего персонала, а также вести всю домашнюю бухгалтерию. Кроме того, она должна была следить за образованием детей, особенно девочек.50 В менее аристократических домах (в домах художников, таких как Лоренцо Гиберти и Паоло Уччелло, а чаще всего в домах простого народа) жены отвечали за все. На плечах женщины лежала готовка, уборка, стирка, штопка и любые дела, которые хотел поручить ей муж. Когда семье не хватало денег, женщина должна была заниматься каким-нибудь делом. Хотя шляпки и кружева всегда делали только женщины, большинство женщин занимались менее возвышенными занятиями – прядением шерсти, стиркой, уходом за детьми, работали в продуктовых лавках и тавернах или становились домашней прислугой, как домоправительница семьи Буонаротти Мона Маргерита. Но чем бы ни занимались женщины, платили им всегда мало.
Более сложным, но не менее строго соблюдаемым обязательством была скромность. И здесь основную роль играла одежда. По мнению Барбаро, жена должна «носить и ценить красивые платья, чтобы другим мужчинам, кроме мужа, было приятно на нее смотреть».51 Женщина должна была напрочь забыть о собственных вкусах. И эту точку зрения разделяли художники, друзья Микеланджело. Перуджино, к примеру, так любил, чтобы его жена одевалась красиво, что «он часто наряжал ее собственными руками».52 Мы не знаем, что нравилось жене Перуджино, но уж скромной ее одежда точно не была. Та же скромность, по мнению Барбаро, должна была проявляться в «поведении, речи, одежде, манере есть и» – сладкое на третье! – «занятиях любовью».53 Даже в акте продления рода (для чего люди и вступали в брак) женщина должна была блюсти свою добродетель и добродетель своего мужа. В идеале во время занятий сексом она должна была оставаться прикрытой – вплоть до того, чтобы быть полностью одетой. Не стоит и говорить, что сексуальная скромность включала в себя абсолютную верность мужу, которая не должна была вызывать ни малейших подозрений. Как писал Маттео Пальмиери, даже самый слабый намек на неверность должен был считаться «высшим бесчестием», заслуживающим «публичного осуждения».54
Любовь была столь же строгой. О романтической современной любви не было и речи. Идея атоге, которую навязывали женщинам, подобным бедной сестре Микеланджело, Кассандре, почти во всех отношениях равнялась обычной покорности. По мнению Барбаро,
женщина должна любить своего мужа с таким наслаждением, верностью и привязанностью, чтобы он и желать не мог большего усердия, любви и благожелания. Жена должна быть настолько близка с мужем, чтобы для нее не было ничего доброго и приятного без мужа.55
Короче говоря, женщина не должна жаловаться ни при каких обстоятельствах. По мнению Барбаро, жены должны «тщательно заботиться о том, чтобы не испытывать никаких подозрений, ревности или гнева, что бы они ни услышали».56 Если муж пьянствовал, изменял с другой женщиной или проигрывал все семейные деньги, жена должна была лишь улыбаться и исполнять свой долг.
А вот если у мужчины появлялись основания жаловаться на что-либо, то ситуация резко менялась. Боккаччо многословно восхвалял вымышленную Гризельду за то, что она покорно терпела почти ритуализированное унижение от рук своего мужа.57 Эта история увековечена на трех картинах, которые ныне хранятся в Национальной галерее в Лондоне. Картины были написаны в 1494 г. для украшения дома «Мастером истории Гризельды». Избиения и домашнее насилие были распространены практически повсеместно – и даже поощрялись. В книге «Триста новелл» (Trecentonovelle) Франко Саккетти жизнерадостно писал о том, что «бить следует и добрых женщин, и женщин дурных».58 Хотя некоторые женщины подавали в суд на особо жестоких мужей, подобные случаи были очень редки.
Если мы можем верить картине, то «Портрет старухи» [ил. 6], написанный Джорджоне в начале XVI в., дает нам точное представление о судьбе многих женщин во Флоренции времен Микеланджело. Эта картина ныне хранится в Академии, в Венеции. Изображенной художником женщине за 50 лет (но, возможно, меньше). Она прожила непростую жизнь, занималась тяжелым трудом и находилась в полной кабале. Тонкие волосы, еле прикрытые жалким тряпичным чепцом, прядями падают на измученное, морщинистое лицо. Глаза женщины тусклые, под глазами мешки, рот приоткрыт, и мы видим, скольких зубов там недостает. На ней простое розоватое платье и белая шаль плохого качества, а их жалкое состояние говорит о том, что женщина оставила всякую надежду на что-то лучшее. Одной рукой она указывает на себя, а в другой держит свиток с надписью «col tempo» («со временем»). Это картина-предупреждение. Если бы жены ремесленников могли увидеть эту картину, то поняли бы, что их ждет в преддверии смерти.
Однако, как это часто бывало в эпоху Ренессанса, теория не всегда соответствовала реальности.59 И хотя в период с 1501 по 1503 г. у Микеланджело не было женщин, сохранились свидетельства о том, что в повседневной жизни они играли гораздо более разнообразные роли, чем об этом пишут Вазари и Кондиви.
Хотя закон строго ограничивал права женщин, они часто исполняли самые разные экономические функции, особенно после смерти мужей.60
Замужние женщины частенько исполняли административную работу в мастерских и лавках своих мужей. Во флорентийских архивах сохранились документы, которые говорят о том, что женщины нанимали работников, выплачивали жалованье и вели бухгалтерию. Более того, были женщины, которые сами вели дела. Они брали кредиты и делали большие закупки. Они одалживали деньги и составляли завещания по своему усмотрению. Иногда замужние женщины работали повитухами, ростовщиками и занимались различными ремеслами. Когда Микеланджело работал над «Давидом», он не раз имел дело с женщинами. Впоследствии он высоко отзывался о Корнелии Колонелли, которая прекрасно вела дела своего умершего мужа Урбино.
В то же время женщины тянулись к просвещению и учению. Несмотря на скромное происхождение и необходимость заниматься сугубо домашними делами, Корнелия Колонелли была одним из самых преданных друзей Микеланджело по переписке. Она писала ему до конца его жизни. Женщины часто вмешивались в дела культуры. Хотя в последнее время ученые все больше внимания уделяют женщинам, которые были покровительницами искусства и литературы, нужно признать, что они и сами занимались творчеством. Возлюбленная Микеланджело Виттория Колонна была не только красивой женщиной. Она была красноречива и очень начитанна. Оригинальность и глубину философских взглядов таких аристократок, как Изабелла д’Эсте, невозможно было игнорировать. Микеланджело даже поощрял женщин к тому, чтобы они занялись его собственным делом. Уже в старости он тепло советовал Софонисбе Ангуиссола продолжать занятия живописью, за что его довольно неискренне благодарил ее отец.61 Да и в браке мужчины не могли рассчитывать на покорные любым их желаниям розы, о которых писал Барбаро. В книге Боккаччо немало историй о чрезвычайно независимых невестах, которые ставили своих мужей на место. В литературе несложно найти и другие примеры женской самостоятельности, особенно в делах домашних. В поэтическом письме к Иньиго д’Авалосу и Лукреции Алагмо несдержанный Франческо Филельфо писал:
Жена… терзает уши мужа злобными словами. Она поносит своих служанок. Она ложно обвиняет своих слуг: управляющий начал пахоту слишком поздно; амбар прохудился, и вино испортилось, сообщает она. Ни минуты покоя. Сначала она ворчит, а потом жалуется на сонных служанок. Она называет дурным то, что, как ей прекрасно известно, хорошо. Ей никогда не бывает достаточно. Жена алчна по природе своей. Она хочет дом свой заполнить деньгами.62
Сколь бы неприятна нам ни была подобная картина, такую жену трудно назвать покорной своему мужу. Похоже «шлюха»-тетка Микеланджело была из той же породы.
Столь же свободно соблюдались и правила скромности и любви. Как бы ни любил Перуджино одевать свою жену, женщины могли диктовать моду и часто это делали. Порой они одевались весьма соблазнительно, если не сказать провокационно.
В различные периоды XV и начала XVI вв. во Флоренции – как и во многих других итальянских городах – были приняты законы о роскоши, которые строго определяли пределы откровенности и богатства женских нарядов. И это доказательство и непреодолимой страсти женщин к красивой одежде, и ханжества городского правительства. Например, в 1433 г. приоры учредили магистрат для «контроля женских украшений и одежды». Правители города считали необходимым сдерживать женщин, чтобы они не возбуждали похоть мужчин своими откровенными нарядами. Чиновники должны были «сдерживать варварское и непреодолимое животное начало женщин, которые, не считаясь с хрупкостью своей природы и поддаваясь натуре развратной и дьявольской, сладким ядом своим принуждают мужчин подчиняться им. Но избыток дорогих украшений не соответствует женской природе…».63 В 1490-е гг. Савонарола сурово обрушился на любовь женщин к роскоши. По его наущению fanciulliгруппы воинственных юношей наказывали женщин за «недостойную» одежду. Огромное количество «недостойных» платьев, мехов и других украшений погибли в пламени «костров тщеславия», устроенных Савонаролой 27 февраля 1498 г.64
Но оставим в стороне Савонаролу и законодательство о роскоши. Нет сомнения в том, что женщины одевались в соответствии с модой и ради флирта. В одном из самых пикантных своих стихов отличавшийся широтой взглядов Джованни Джовиано Понтано шутливо просил некую Гермиону прикрыться:
Я уже окоченел от старости холодной, А ты передо мной пылаешь непристойно. Я говорю тебе: «Прикрой сверкающую грудь, И на плечи набрось хотя бы что-нибудь. Зачем молочно-белую грудь свету подставлять? Зачем соски ты смело миру предъявляешь? Ты словно говоришь: «Целуйте мою грудь. Ласкайте мою грудь». Ты это говоришь?65Как подходят эти стихи к портрету генуэзской аристократки Симонетты Веспуччи (ок. 1453–1476), написанному Пьеро ди Козимо. Симонетту считали самой красивой женщиной своего времени. И Микеланджело, наверняка, слышал об этом в юности. Художник изобразил ее в виде почти обнаженной Клеопатры [ил. 7].
Да, Микеланджело не испытывал особого романтического интереса к женщинам в этот период своей жизни. Однако к молчанию его биографов относительно его отношений со слабым полом следует относиться с осторожностью. Такое умолчание может быть в большей степени связано с общепринятыми представлениями о роли женщин в обществе, чем с реальными отношениями Микеланджело с ними.
Жены, матери и дочери активно участвовали в семейной жизни художников, подобных Микеланджело. Порой они брали на себя главенствующую роль. Да, они выполняли массу тяжелой работы, а их права были ограничены. Тем не менее именно они определяли домашнюю жизнь и являлись для художников источником финансового и творческого вдохновения. Иногда они были совершенно независимы экономически, и мужчины-художники любили иметь с ними дело. А порой они становились надежными «партнерами», помогающими свести концы с концами. Но, как бы то ни было, они были далеки от безграничной скромности и покорности. Женщины были двигателями моды и страсти.
Хотя «Старуха» Джорджоне показывает нам одну сторону женской жизни, во Флоренции времен Микеланджело женщины исполняли множество ролей, и это нашло свое отражение в том, как они представлены в искусстве. Да, некоторые картины невозможно понять, не зная, что место женщины в ренессансном искусстве выходило за рамки строгих ограничений закона и социальных условностей. Как признавали многие художники, женщин нельзя было считать исключительно сексуальным объектом или степенными работниками. Женщины обладали острым умом и сильным характером и могли постоять за себя.
И это прекрасно показывает работа одного из современников Микеланджело. Хотя «Портрет Эсмеральды Брандини» кисти Боттичелли (музей Виктории и Альберта, Лондон) показывает нам достойную, уважаемую матрону вполне в духе Барбаро, его же «Возвращение Юдифи» (галерея Уффици, Флоренция) и «Портрет молодой девушки» (Штедель, Франкфурт) открывают всю сложность социальной картины. На «Портрете молодой женщины» (возможно, Симонетты Веспуччи) мы видим ослепительно красивую женщину в пышном и весьма своеобразном модном наряде [ил. 8]. В ее волосах закреплено экзотическое перо – немногое напоминает о принятых во Флоренции законах против роскоши. Кулон «Печать Нерона» на шее говорит об образованности женщины и ее гуманистических устремлениях. «Ожерелье», образуемое косами, показывает, что только она сама определяет свою судьбу. Эта женщина – сама себе хозяйка, двигатель культуры и пионер соблазнительной моды. В «Возвращении Юдифи» те же качества ощущаются еще более отчетливо [ил. 9]. Хотя библейскую Юдифь часто считают символом целомудрия, справедливости и силы – она сумела обезглавить гордого и похотливого ассирийского военачальника Олоферна, – Боттичелли изобразил ее возвращение к народу Израиля окутанным ощущением женской независимости и, возможно, даже сексуальной самостоятельности. Юдифь сопровождает служанка, которая несет голову Олоферна. Юдифь бесконечно прекрасна, но полностью контролирует свою женственность. Хотя она относится к «слабому полу», она держит в руках исключительно «мужественный» меч, наделяющий ее силой. И держится она с уверенностью в то, что способна справиться с любым, даже самым похотливым и неприятным мужским вниманием. Она – сама себе хозяйка и уж точно не станет зависеть от кого-то еще.
Дом и семья
Чтобы понять характер повседневной жизни в эпоху Ренессанса, нам не следует ограничиваться одним лишь общением Микеланджело с людьми из самых разных социальных групп и слоев – от патрициев до нищих. О многом нам могут рассказать те дома, в которых жил сам художник и его знакомые. Эти жилища раскрывают разные слои и варианты домашней жизни. В них было и прекрасное, и отвратительное. И говорят они нам только одно: реальность существенно отличалась от знакомых образов.
Дворцы (Palazzi)
Микеланджело не был чужаком в роскошных дворцах самых богатых и влиятельных семейств Флоренции. За 10 лет до создания «Давида» он жил во дворце Медичи-Риккарди. Вернувшись в город в 1501 г., он вновь возобновил знакомство с величественными флорентийскими дворцами. Пользуясь покровительством влиятельных меценатов и общаясь с высокопоставленными друзьями, художник много времени проводил во дворцах – сидел на деревянных или каменных скамьях, устроенных вокруг таких дворцов для клиентов, ожидающих своих покровителей, или прогуливался по уютным внутренним дворикам. Микеланджело, наверняка, бывал в «самом просторном и прекрасном» дворце Таддео Таддеи на виа де Джинори (прямо за дворцом Медичи-Риккарди) – именно там обсуждалось скульптурное тондо с изображением Мадонны с младенцами Христом и Иоанном Крестителем. Он не мог не бывать в довольно старомодном дворце Бартоломео Питти в Олтрарно (позже этот дворец купили и расширили Медичи), чтобы обговорить детали сходного проекта.
Главная функция дворцов заключалась в том, чтобы производить впечатление. Строительство дворцов стоило очень дорого. Вряд ли подобные инвестиции можно было считать оправданными.66 Любой дворец служил одной цели – подчеркивать и прославлять богатство своего владельца. Об этом в трактате об архитектуре писал Леон Баттиста Альберти.67 Даже самый скромный дворец был очень большим. Типичный флорентийский дворец XV в. насчитывал три этажа, но его высота сопоставима с высотой современного 10-этажного дома. Палаццо Строцци, который можно считать одним из лучших образцов дворцовой архитектуры, по площади вдвое превышает Белый дом в Вашингтоне, и рядом с ним президентская резиденция показалась бы просто хижиной.68
Но дворцы были не такими, как казались. Гармоничные, пропорциональные здания, которые можно увидеть сегодня во Флоренции, это результат более поздней, пост-ренессансной перестройки. Они дают ложное представление о реальной жизни сотни «дворцов», разбросанных по Флоренции эпохи Ренессанса.
Особенно обманчив внешний вид дворцов. Хотя они были колоссальными по масштабам, количество обитателей было невелико. Лишь немногие помещения предназначались для жизни. Чаще всего в каждом палаццо жила одна нуклеарная семья, т. е. в каждом дворце насчитывалось около десятка жилых помещений, большая часть которых располагалась на втором этаже (piano nobile). Но каждое такое помещение имело грандиозные размеры. По словам одного историка, главной особенностью дворца эпохи Ренессанса являлось «роскошное расширение личного пространства вокруг ядра апартаментов относительно скромных размеров».69 Размеры подобных комнат, в том числе и спален, можно представить, к примеру, по фреске Доменико Гирландайо «Рождество Девы Марии» в капелле Торнабуони в церкви Санта-Мария Новелла [ил. 10].
Самым обманчивым является впечатление порядка, которое создают наиболее известные из сохранившихся до наших дней дворцы. Палаццо эпохи Ренессанса вплоть до середины XVI в. был довольно запутанным строением. Даже на простейшем уровне хаотичная натура флорентийских строений не позволяла понять, где дворец начинается, а где заканчивается. В конце XIV в. Паголо ди Баккуччо Веттори с изумлением обнаружил, что структура его дворца настолько переплелась с соседними строениями, что он сам не может понять, где заканчивается его собственность и начинается соседская.70
Не менее сложными флорентийские дворцы были и с точки зрения функциональности. Хотя апартаменты на втором и более высоких этажах были почти исключительно жилыми, первый этаж часто использовался в других целях. Только к моменту смерти Микеланджело дворцы превратились в разумные жилые структуры. В течение XIV–XV вв. считалось обычным – и даже нормальным, что у дворцов имелись арочные проемы, служившие входами в лавки, расположенные прямо внутри здания. Домашняя жизнь даже самых влиятельных и богатых людей проистекала в сопровождении звуков и запахов торговых лавок, которые находились прямо во дворцах, и это размывало границы между дворцами и улицей.
Семейный дом Буонаротти
Поскольку богатые семейства Флоренции смело называли свои жилища дворцами, порой бывает трудно отличить относительно небольшой палаццо от большого частного дома. Хотя разница в масштабах все же присутствовала, но дома состоятельных горожан во многом напоминали дворцы.71 Сохранилось описание дома бухгалтера Микеле ди Нофри ди Микеле ди Мато (1387–1463), которое показывает, что состоятельные профессионалы строили свои дома точно так же, как флорентийские патриции. Сходство в планировке помещений и характере обстановки настолько велико, что с полным основанием можно говорить о том, что «рассматривать материальные миры разных социальных слоев как совершенно отдельные друг от друга было бы ошибкой».72
В таком доме семья Буонаротти жила во Флоренции в годы детства Микеланджело. Сюда он и вернулся в 1501–1503 гг. 9 марта 1508 г. он сам приобрел три подобных дома за 1050 больших флоринов.73 Как и дворцы покровителей художника, эти дома были очень шумными. Как дом бухгалтера Микеле, который был зажат между другими жилыми домами и шелковой мастерской (filatoio), семейный дом Буонаротти (и купленные Микеланджело дома) находился в окружении торговых лавок, постоялых дворов, складов и кое-чего еще. Всего в нескольких сотнях метров, на месте современного театра Верди находилась тюрьма Стинке, где перед казнью держали приговоренных убийц и предателей. В тихую ночь из-за стен тюрьмы доносились крики приговоренных, а по улицам распространялось зловоние конского навоза и гниющих овощей.
Над первым этажом дома бухгалтера Микеле располагалось девять комнат.74 На втором этаже находилась гостиная/приемная, спальня хозяина дома, кабинет и малая спальня. Учитывая то, что в эпоху Ренессанса жилые помещения всегда находились наверху, а описание дома Микеле довольно запутанно и непонятно, нам трудно точно определить планировку других этажей. Но понятно, что на третьем этаже располагались большая кухня с огромным очагом, портик и открытая терраса. Еще выше находились две-три комнаты, в том числе комната слуги и кладовая/ буфетная (anticamera). О многом говорит расположение комнат и то, что Микеле провел четкое разделение помещений по их функциональности. В прежние времена не было принято использовать отдельные помещения для конкретных целей. В любых залах и комнатах могли выполняться самые разные задачи. Только к тому времени, когда Микеле приобрел свой дом, определенные залы были отведены для приготовления пищи и трапез, и другие комнаты тоже получили точное предназначение, например кабинет.75
Наибольший интерес в доме Микеле представляет его содержание. Четкая функциональность помещений определила и новый подход к дизайну интерьеров. Когда было решено, какие комнаты являются спальнями, кухнями и кабинетами, то понадобилась более специализированная обстановка, соответствующая функции каждого помещения. Появились стулья, столы и сундуки. Та мебель, которая располагалась на главном жилом уровне (piano nobile), отличалась красотой и изысканностью отделки. В моду стали входить шкафы – сегодня они настолько распространены, что мы вообще не обращаем на них внимания, но тогда они считались предметом роскоши. Микеле упоминает также кресло для работы лежа (lettucio) с богато украшенной спинкой (capellinaio) и большой, по-видимому, расписной сундук (cassone). Все это говорит не только об «одомашнивании» внутренних пространств жилых домов, но и о повышении уровня комфорта и внимании к украшению интерьеров.
Но самым интересным является присутствие оружия. Обилие мебели создавало ощущение безопасности и стабильности. Однако из описания Микеле ясно, что в эпоху Ренессанса дом мог подвергнуться нападению разъяренной толпы или быть захваченным во время бунтов и восстаний. По примеру своих аристократических знакомых Микеле позаботился о том, чтобы разместить в стратегически важных точках запасы оружия – особенно мечей. На антресольном этаже над своим кабинетом он устроил настоящий арсенал. Микеле особо подчеркивает, что запас оружия хранился максимально близко к входной двери. И это ясно говорит нам о жестокости мира, в котором жили представители средних классов.76 Даже в ренессансных трактатах об идеальном устройстве домов подчеркивается, что это лучшее место для хранения оружия. Удобство стоит денег; деньги всегда связаны с риском; риск требует оружия.
Дом ремесленника
Хотя дом Микеле дает нам представление о родном доме Микеланджело и о приобретенных им жилищах, но он совсем не похож на те дома, в которых в 1501–1503 гг. жили многие его друзья и другие художники. Конечно, некоторые аспекты материальной культуры (столовая утварь, предметы религиозного культа и т. п.) были сходными, но дом бухгалтера разительно отличался от дома ремесленника. Те, кто был Микеланджело ближе всего, например Тополино или Микеле ди Пьеро Пиппо, а также многие художники жили гораздо более скромно. Даже такой успешный и известный художник, как Донателло, жил в «бедном домике на виа дель Комеро, поблизости от женского монастыря Сан-Никколо».77
Хотя бедные жилища были более разнообразны, чем дворцы или дома состоятельных горожан, все же у домов ремесленников было много общего. Именно такие жилища Микеланджело мог видеть, проходя по кварталу Олтрарно к церкви Санта-Мария дель Кармине. Дома были очень скромными, почти ветхими, но снаружи они были куда приятнее для глаза (и носа), чем изнутри. Полы в домах были земляными или дощатыми – простыми и грязными. Окон было мало. На протяжении веков закрывались окна только деревянными ставнями, а от непрошеных гостей хозяев защищали толстые железные прутья или решетки.
Оконные и дверные проемы были очень небольшими, поэтому в доме всегда было темно и мрачно. С вентиляцией тоже были проблемы: когда окна и двери открывались, воздух циркулировал по дому достаточно хорошо, но когда все было закрыто, то вентиляция прекращалась. Впрочем, от непогоды закрытые окна защищали неважно. Жарким летом в доме было довольно прохладно, но зимой защититься от холода было непросто. И это представляло собой серьезную проблему. В большинстве домов имелся только один очаг – обычно в центре самой большой комнаты первого этажа. На нем готовили, и он же служил для обогрева.
Из-за необходимости готовить еду многие части дома оставались без отопления. Поэтому единственной защитой от зимнего холода служила ткань, которой занавешивали дверные и оконные проемы. Но чем больше усилий прикладывалось к сохранению тепла, тем более удушливой становилась атмосфера.
Для многих ремесленников – ткачей и прядильщиков – маленькие и тесные дома служили еще и мастерскими. Иногда мастерские гильдий располагались на первых этажах, а над ними находились жилые комнаты. Но чаще всего мастерскую от жилых помещений вообще ничего не отделяло. Когда Микеланджело вернулся во Флоренцию, его современник Пьеро ди Козимо жил и работал в доме, который его престарелый отец (он был слесарем, и доходы его были невелики) купил на виа делла Скала, неподалеку от церкви Санта-Мария Новелла.78 Вскоре после завершения работы над «Давидом» комитет собора построил для Микеланджело дом, чтобы он создал для собора статуи 12 апостолов.79 Подразумевалось, что он жить будет там же.
Получив заказ в Болонье, Микеланджело покинул Флоренцию. Он писал младшему брату Джовансимоне, что ему пришлось жить в самых ужасных условиях – он был вынужден делить постель (единственную в доме) с тремя своими учениками.80 Дома, в которых жили многие художники – особенно не столь известные, как Микеланджело, – напоминали консервные банки. Ни о каком уединении и порядке и речи быть не могло.
Но самым неприятным был запах, царящий в таком доме. В воздухе смешивались запахи готовящейся пищи, потных тел и животных. Естественно, что поддержание чистоты становилось непростой задачей. Конечно, тяжело было поддерживать чистоту в доме – особенно с земляными полами и самыми примитивными постелями. Но самым трудным делом всегда оставалась стирка. Поскольку источник воды был одним на всех, стирка превращалась в социальное занятие. Жены и домоправительницы собирались вместе, чтобы прополоскать свою скромную одежду. Во время стирки обменивались сплетнями, договаривались о свадьбах, ругались. «Чистое» белье раскладывали для просушки на траве, а в центре Флоренции развешивали на веревках, натянутых между ветхими домами. В таком плотно населенном, грязном и пыльном городе, как Флоренция, после сушки выстиранное белье было лишь слегка чище, чем было до стирки.
Простой прагматизм означал, что физическая чистота не являлась приоритетом для рядовых жителей города. Горячая баня была роскошью.
В тех редких случаях, когда современники упоминают о бане, подразумевается, что это – привилегия высших классов (для них купание было ритуалом или социальным актом). В больших городах можно было помыться в общественных банях, но в начале XVII в. большую их часть закрыли, так как они превратились в рассадник болезней и проституции. Чаще всего простые флорентийцы ограничивались периодическим мытьем рук. Особо чистоплотные могли плеснуть себе в лицо водой. Неудивительно, что запах тела во Флоренции эпохи Ренессанса являлся основным показателем социального положения. Но важно отметить, что довольно долго большинство людей просто боялось мыться, даже если отсутствие гигиены говорило о бедности. Узнав о стесненных обстоятельствах, в которых Микеланджело пришлось жить в Риме в 1500 г., его отец Лодовико дал сыну совет, отражающий современный взгляд на жизнь: «Живи осторожно и мудро, не перегревайся и никогда не мойся: очищай себя, но никогда не мойся».81
Здоровье и болезни
Учитывая стесненность и отсутствие гигиены в большинстве жилых кварталов Флоренции, неудивительно, что болезни являлись неотъемлемой частью повседневной жизни. Именно эти условия заставили Лодовико обратить внимание на ухудшение здоровья сына и предложить ему вернуться домой.
Несмотря на долголетие (он дожил до 89 лет), Микеланджело всю жизнь страдал разными болезнями, большая часть которых была связана с условиями жизни и питанием. В детстве он был довольно болезненным ребенком.82 Став взрослым, он тоже часто жаловался на нездоровье. Болезненный отек на боку, о котором в 1500 г. писал Лодовико, был предвестником серьезной болезни. Во время работы в Сикстинской капелле у Микеланджело развилась желтуха (как он писал, это было вызвано плохой водой в Ломбардии).83 К 1516 г. болезнь развилась настолько сильно, что он не мог работать.84 К тому времени, когда он окончательно состарился и осел в Риме, состояние его стало ухудшаться. О себе он писал: «В мешке из кожи – кости да кишки».85 Зрение его испортилось, а из-за катара он не мог даже спать. Больше всего его мучило болезненное мочеиспускание. Микеланджело приходилось средь ночи отправляться в туалет, страдая от мучительной боли:
От запаха мочи я полупьян: допрежь, чем солнце просочится в щели — разбудит свой забарахливший кран.[5]86Эти горестные строки он написал в момент серьезнейшей болезни, впервые заставившей друзей страшиться за его жизнь.87
Внешность Микеланджело была вполне типична для своего времени. Дошедшие до нас портреты того времени говорят о самых разнообразных болезнях. Художники Ренессанса были буквально увлечены уродством.
На эскизе Леонардо, позднее превращенном голландским художником Квентином Матсисом в настоящий портрет, изображена женщина, страдающая болезнью Педжета (это заболевание вызывает увеличение и деформацию костей). Характерный жест руки на «Портрете юноши» Боттичелли (Национальная художественная галерея, Вашингтон) говорит о ранних симптомах артрита [ил. 11]. На фреске «Святой Петр исцеляет страждущего своей тенью» в капелле Бранкаччи изображена коленопреклоненная фигура, в которой угадывается врожденное заболевание, изуродовавшее ноги человека.
Конечно, не все болезни были столь мучительны и серьезны, но во Флоренции эпохи Ренессанса их хватало с избытком. И жизнь Микеланджело прекрасное доказательство того, как плохие условия существования портили жизнь людей. Причем относилось это не только к бедным слоям, но и к социоэкономической элите. Например, в апреле 1476 г. знаменитая красавица Симонетта Веспуччи умерла от туберкулеза легких в возрасте всего 22 лет. Болезнь явно усугубилась сыростью, в которой приходилось жить девушке. Неправильное питание часто вызывало проблемы с мочеиспусканием и почками – от этого страдал сам Микеланджело. Многие страдали инфекционными заболеваниями глаз. Очень распространен был катар, на который жаловался Микеланджело. Чаще всего эта болень поражала стариков и порой приводила к самым печальным последствиям. По словам Вазари, Пьеро делла Франческа «ослеп шестидесяти лет от какого-то воспаления».88 Водянка, вызванная плохим питанием, унесла жизнь друга Микеланджело Якопо Понтормо.89 Серьезной (хотя, конечно, и несмертельной) проблемой было разрушение зубов.90 От этого сильно страдал Челлини.
Но в нищих, перенаселенных жилых кварталах города возникали болезни, которые каждый год уносили сотни жизней. На улицах порой можно было видеть тех, кого изуродовала проказа. Они проникали в город, несмотря на категорический запрет властей. Звоном колокольчиков они предупреждали о своем приближении. Но основным рассадником заразы оставались дома. Зимой холодные, сырые жилища становились идеальным местом для развития бронхитов, пневмонии и инфлюэнцы. Особенно подвержены болезням были маленькие дети и старики. Они умирали десятками. Жарким, душным летом свирепствовала дизентерия, что неудивительно, учитывая хроническую нехватку и низкое качество воды. На жаре продукты портились, что приводило к диарее, которая часто становилась смертельной для детей.
Тиф, о котором Джироламо Фракасторо писал в трактате «О заразе» (1546), постоянно угрожал жителям города. Малое количество одежды и невозможность поддержания чистоты в домах способствовали распространению блох и вшей, а вместе с ними и тифа. Когда начиналась эпидемия (а это случалось регулярно), болезнь распространялась от дома к дому, от семьи к семье с ужасающей скоростью. Квартал Стинке был настоящим скоплением людей, и тиф выкашивал народ сотнями в мгновение ока. Стоило Микеланджело закончить работу над «Давидом», как в Италии разразилась сильнейшая эпидемия тифа, которая длилась с 1505 по 1530 гг.
Постоянную угрозу жизни представляла малярия. Особенно опасна эта болезнь была для жителей Флоренции и Феррары, окруженных болотами и озерами – идеальная среда обитания для москитов, которые и разносили болезнь. Летом малярия становилась для городов настоящим бичом. Люди часто работали на свежем воздухе и просто не знали, как передается болезнь. А порой она становилась смертельной. Алессандра Строцци писала, что ее сын Маттео умер через месяц после заражения малярией.91 Болезнь эта была мучительной, неприятной и лишавшей сил. Малярией страдал Бенвенуто Челлини.92 Он заразился ею еще в молодости, в Пизе, но приписывал болезнь «нездоровому воздуху». Постоянные приступы буквально сводили его с ума настолько, что однажды он неумышленно оскорбил герцога Мантуанского.93 Из-за болезни Челлини не мог работать и даже опасался за свою жизнь.94
Незадолго до того, как Микеланджело вернулся во Флоренцию, чтобы работать над «Давидом», в Европе появилась новая болезнь. В эпидемию она не переросла, но от этого не стала менее серьезной. Впервые сифилис появился в Европе в 1490-е гг. – его завезли те, кто вместе с Колумбом вернулся из Америки. Болезнь стала быстро распространяться. Болезнь ставила в тупик докторов, лечивших покровителя Микеланджело Альфонсо д’Эсте в 1497 г. Она унесла жизнь Франческо II Гонзага, маркиза Мантуи (1466–1519), который в 1503 г. имел связь с Лукрецией Борджиа. Болезнь вызывала панику – она была незнакома, а последствия ее были ужасны. Как писал веронский врач Джироламо Фракасторо,
… в большинстве случаев на половых органах начинают появляться мелкие язвы… Затем кожа покрывается покрытыми коростой пустулами… и они быстро начинают расти, постепенно доходя до размеров шапочки желудя… Иногда они поражают не только плоть, но и самые кости. В тех случаях, когда болезнь прочно закрепилась в верхней части тела, пациенты страдали от злокачественного катара, который разрушал нёбо или язычок, или глотку, или миндалины. В некоторых случаях были разъедены губы или глаза, а у других – все половые органы… Кроме всех вышеописанных симптомов, словно их было недостаточно, по ночам больных мучили жестокие боли в мышцах, сильные и постоянные, и это был самый ужасный из всех симптомов.95
Неожиданное появление и таинственная этиология сифилиса удивляла и пугала флорентийцев. Заражение можно было объяснить только божьей карой. Но истина была не столь сложна. Сифилис передавался через сексуальный контакт, и город эпохи Ренессанса с множеством борделей и тесными домами, где люди в буквальном смысле слова жили на головах друг у друга, был идеальным рассадником этой болезни. Хотя болезнь поражала людей случайно, неудивительно, что для беднейших кварталов города она стала настоящей эпидемией.
Но самой страшной болезнью Ренессанса была бубонная чума. Впервые она появилась в 1348 г., и с того времени эпидемии были регулярной и ужасной особенностью флорентийской жизни. Болезнь передавалась блохами, которые с крыс переползали на людей. Грязные, немощенные улицы города были идеальным рассадником «черной смерти». Без каких-либо эффективных лекарств, в условиях перенаселенности и полного отсутствия гигиены в жилых кварталах инфекция распространялась очень быстро и часто имела ужасающие последствия. Во время эпидемии «черной смерти» (1348–1350), по оценкам историков, умерло около 30 % населения Флоренции.96 Последующие эпидемии уносили жизни сотен, если не тысяч человек. Хотя эпидемии 1374и 1383 гг. оказались не столь сильными, но уже в 1400 г. от чумы умерло более 12 тысяч человек – в одном лишь июле умерших было 5005 человек.97
Микеланджело и художники эпохи Ренессанса остро осознавали риск. Всего через четыре года после завершения работы над «Давидом» чума с особой силой разразилась в Болонье. Микеланджело писал много писем оставшимся в городе друзьям. По словам Вазари, Джорджоне пал жертвой чумы в 1511 г. во время романа с «некоей дамой», которая, сама того не зная, стала источником заражения.98 Брат Микеланджело, Буонаротто, умер от чумы в октябре 1528 г. Болезнь порождала ужас. Переспав с юной служанкой болонской проститутки Фаустины, Челлини заболел какой-то болезнью со сходными симптомами. Он был в ужасе от того, что мог подцепить чуму.99 Смерть притаилась за каждым углом, а порой и в каждой постели.
Секс и желание
Несмотря на реальную угрозу болезни, домашний мир Ренессанса был буквально пронизан сексом. И распространение сифилиса говорит нам, что это – не преувеличение. Несмотря на всю религиозность и моральные предубеждения, дом был вместилищем желания. Даже если Микеланджело в тот период жизни не особо увлекался сексом (ни с мужчинами, ни с женщинами), сексуальная атмосфера окружала его со всех сторон и не могла не влиять на его взгляды на жизнь.
Секс до брака
Сколь бы ни желали обратного церковные моралисты, подобные Сан-Бернардино из Сиены, секс в эпоху Ренессанса не ограничивался одним лишь брачным ложем. В тех кругах, где вращался Микеланджело, внебрачные связи были широко распространены. Хотя секс до брака был запрещен, для неженатых мужчин внебрачный секс был делом совершенно естественным и даже ожидаемым. Такое поведение было очень типично для многих современников Микеланджело. Рафаэль, к примеру, никогда не стремился к браку.100 У него была бесконечная череда любовниц, и чувство умеренности было ему чуждо. Еще свободнее вел себя фра Филиппо Липпи, который после смерти Мазаччо заканчивал цикл фресок в капелле Бранкаччи. Вазари так писал о нем: «Был же он, как говорят, настолько привержен Венере, что, увидя женщин, которые ему понравились, он готов был отдать последнее ради возможности ими обладать».101 Как пишет Вазари,
страсть его была так сильна, что, когда она овладевала им, он не мог сосредоточиться на работе. Козимо деи Медичи, для которого фра Филиппо работал в его доме, запер его, чтобы тот не выходил на улицу и не терял времени. Он же, не пробыв там и двух дней, побуждаемый любовным, вернее, животным неистовством, нарезал ножницами полосы из постельных простынь, спустился через окно и много дней предавался своим наслаждениям.102
Не менее вольно вели себя и девушки – их амурные похождения были столь же экстравагантны. Сексуальные эксперименты юных женщин получили такое распространение, что в 1428 г. в Беллуно был принят закон, согласно которому ни одна девушка старше 20 лет не могла считаться девственницей, если ее чистота не подтверждена фактически.103
Подобное поведение могло быть вполне невинным, но порой принимало весьма зловещие формы. Холостые мужчины или группы мужчин набрасывались на женщин прямо на улицах, и изнасилования были практически нормой жизни. Женщин простого происхождения насиловали прямо в переулках или на проселочных дорогах, в результате чего на свет появлялось множество незаконнорожденных детей. От детей старались избавиться – из-за этого во Флоренции и был основан Воспитательный дом (Оспедале дельи Инноченти). Еще ужаснее было сексуальное насилие над несовершеннолетними девочками. В период с 1495 по 1515 г. «более трети из сорока девяти жертв осужденных насильников были девочками в возрасте от шести до двенадцати лет, а половина еле достигла четырнадцати лет. Многие другие были соблазнены без применения силы или содомизированы»,104
Брак
И все же основным местом для секса оставалось, конечно же, брачное ложе. Хотя некоторые экстремалы, вроде Марио Филельфо, проповедовали целибат даже в браке105, основной задачей женщин считалось продолжение рода, а главной целью брака являлось рождение детей. Совершенно естественно, что секс должен был являться главной чертой супружеской жизни. Но хотя женщины (пусть даже и связанные «супружеским долгом») должны были отказывать в «незаконных» сексуальных отношениях, не связанных с зачатием, супруги активно и с удовольствием занимались любовью. Понтано в старости написал такое стихотворение своей жене Ариане, что говорит о здоровых сексуальных отношениях даже в преклонном возрасте:
Жена, ты радость престарелого мужа, Любовь и верность нашего целомудренного ложа, Ты хранишь бодрость моей старости, Ты заставляешь старика мечтать о полете И помогаешь одержать триумф над старостью — Седую голову кружит страсть юности; Но если огонь юности вернется И ты вновь станешь первой любовью и новой первой страстью, Как я хочу вновь раздуть это древнее пламя.106Отец Микеланджело, Лодовико, думал также. В мае 1485 г. он женился повторно и с радостью кинулся в океан законного секса.
Современные религиозные установления требовали, чтобы мужчины всегда находились сверху, и сексуальный акт осуществлялся исключительно в самых простых позициях. Оральный секс был под полным запретом.107 Во второй половине XV в. гетеросексуальная содомия занимала одно из первых мест в списке телесных грехов. Но не стоит удивляться тому, что действительность шла вразрез с религиозными правилами. Хотя слова Беккаделли относились вовсе не к браку, его взгляды на этот предмет можно истолковать как практику супружеского секса в эпоху Ренессанса. Ему не только нравилось, когда женщина оказывалась сверху.108 Он еще смело говорил о сексуальном разнообразии. «Почему, – спрашивал у Беккаделли его герой Лепидиний, – мужчина никогда не может совокупиться, беря кого-либо в зад или в рот?»109Трудно сказать, был ли согласен с этим Микеланджело, но многие его друзья задавались тем же вопросом с понимающей улыбкой.
Трудно сказать, до какой степени супругам удавалось предаваться подобным брачным радостям. Характер домашней жизни – даже в домах «среднего класса» – не располагал к уединению. В маленьких, тесных домах несколько поколений жило под одной крышей, а одну комнату делили несколько человек. В домах эпохи Ренессанса условия для занятий сексом были неважными. Чтобы ни происходило между мужем и женой, это обязательно слышали – а то и видели – другие люди, от детей и слуг до учеников и жильцов. Хотя стыд был неотъемлемой частью теории женской скромности, в повседневной жизни для стыда, связанного с сексуальным актом, просто не было места.
Внебрачный секс
Но брак никоим образом не означал верности. Неверность среди женатых мужчин была настолько распространена, что считалась простым фактом жизни. Даже такой любящий муж, как Понтано, с болью признавал, что брак может стать скучным, а сексуальная привлекательность давно любимой жены со временем блекнет.110 Мужчины привычно искали развлечений на стороне. Роман Федерико II Гонзага с Лукрецией Борджиа и страсть Джулиано де Медичи к Симонетте Веспуччи были очень характерны для свободной сексуальной жизни социоэкономических элит, но конфигурация внебрачных сексуальных отношений могла быть и иной. Женатые мужчины, как правило, удовлетворяли свои желания со служанками и рабынями. Через несколько лет после завершения работы над «Давидом» брат Микеланджело, Буонаротто, неохотно позволил жене взять себе служанку но только при одном условии – она должна быть молодой. Он считал, что «мужчина может употреблять молодую женщину для прислуживания ему в постели гораздо лучше, чем старую».111 Естественно, он рассчитывал на то, что жена спустит ему с рук такое откровенное, но совершенно привычное, нарушение супружеской верности прямо под крышей собственного дома.
Замужние женщины тоже испытывали «мощную тягу к семени» и не пытались бороться с желанием внебрачных связей.112 Сексуальные аппетиты женщин (особенно замужних) вошли в легенду. Многие писатели-мужчины считали, что верных жен на свете вообще не существует. Как писал в диалоге «О достоинствах и недостатках жен» (1474) Доменико Сабино, «гораздо проще оборонять неукрепленную цитадель на плоской равнине, чем избавить жену от бесстыдной похоти».113 Он горько жаловался: «Невозможно защищать то, чего желают все». Женская измена была настолько привычной, что Кристофоро Ландино публично утешал своего друга, «одноглазого» Биндо, которому жена наставила рога:
Неудивительно, Марко, что ты, имея один глаз, Не можешь отогнать поклонников от собственной жены. Когда-то порождение Юноны Аргус имел сто глаз, Но так и не сумел устеречь порученную ему нимфу.114Даже доверив чрезмерно энергичную супругу заботе священнослужителей, нельзя было успокоиться, поскольку те тоже с радостью служили ее наслаждению, как и любые другие мужчины. Ландино писал, что это все равно, что «доверить агнца волку».115
Представление о том, насколько была распространена женская измена во Флоренции в эпоху Ренессанса, можно получить из описания этого факта в современной литературе. В «Декамероне» Боккаччо развлекает читателя историями страстных жен, которых никак не могли удовлетворить их мужья и которые находили себе удовлетворение, выставляя мужей-рогоносцев полными дураками.
Сюжет одной истории позаимствован из «Метаморфоз» Луция Апулея.116 Красивая молодая женщина по имени Петронелла была замужем за бедным каменщиком. Пока ее муж был на работе, на нее обратил внимание молодой Джанелло Скриньярио, и у них начался роман. Наслаждение было невероятным, но однажды муж вернулся домой неожиданно, повергнув жену в ужас. Страшась, что он раскроет ее секрет, Петронелла спешно спрятала Джанелло в бочку, а сама отправилась открывать дверь. Стоило мужу переступить порог, как жена стала упрекать его в бедности и разразилась горькими слезами. Чтобы успокоить жену, каменщик сказал, что решил все денежные проблемы семьи: он продал бочку, в которой прятался Джанелло, за пять серебряных дукатов. В мгновение ока Петронелла превратилась в разъяренную фурию. Как он мог согласиться на такую мизерную сумму? Она нашла человека, который был готов заплатить семь\ Указав на бочку, она сказала мужу, что клиент – Джанелло – уже осматривает бочку изнутри. Тут Джанелло вылез из бочки и сообщил Петронелле и ее мужу, что он готов купить товар, если бочку очистить изнутри. Обрадованный каменщик сразу же предложил почистить бочку и залез внутрь, чтобы приступить к работе. Пока муж чистил бочку, Петронелла наклонилась, якобы, чтобы направлять его работу, а Джанелло «задумал устроиться, как горячий жеребец, покрывающий дикую парфясную кобылицу… и удовлетворил свою юношескую страсть» сзади. Когда любовники закончили, Джанелло велел бедному каменщику отнести бочку к нему домой.117
В другой истории рассказывается о том, как Ринальдо де Пульези застал свою жену, мадонну Филиппу, в объятиях красивого молодого любовника, Лаццарино де Гуаццальотти.118 Сдержавшись и не убив любовников на месте, Ринальдо бросился к городским властям, чтобы обвинить жену в супружеской измене. Он был убежден, что у него достаточно доказательств, чтобы женщину осудили на смерть. Но когда суд собрался, мадонна Филиппа разыграла хитроумный трюк. Она заставила мужа признать, что она всегда удовлетворяет его сексуальные желания, а потом задала судьям прямой вопрос. «Если он всегда получает от меня столько, сколько ему нужно и сколько он готов получить, – спросила она, – то что же мне делать с излишком? Выбросить его собакам? Разве не лучше предложить его достойному человеку, который любит меня больше, чем себя, чем позволить ему испортиться или пропасть даром?» Собравшиеся разразились смехом, и суд был вынужден признать, что женщина права. Ее освободили к вящему раздражению смущенного мужа.119 Вопрос о том, что делать с «излишком», занимал умы многих флорентийских женщин.
Проституция
Проституция была неотъемлемой частью городской жизни. Сколь бы ни был целомудрен Микеланджело в период работы над «Давидом», вряд ли ему никогда не приходило в голову удовлетворить свои сексуальные желания с проститутками, которых он в огромном количестве видел на улицах Флоренции. Проститутки играли важную роль в жизни многих известных литераторов и художников того времени. Беккаделли был настоящим «наркоманом» борделей. Его «Гермафродит» наполнен восхвалением его любимых шлюх. Щедрым покровителем проституток был и Челлини. Практика оплаты сексуальных услуг была настолько распространена, что он без стеснения рассказывал о своих похождениях в «Автобиографии». В «Декамероне» Боккаччо по меньшей мере в двух историях рассказывается о проститутках, а в одной манипулирование сексом ради получения денег подразумевается.120
Как и в отношении к супружескому сексу, в отношении к проституции существовали двойные стандарты. Официально Церковь, конечно же, запрещала проституцию. В Италии эпохи Ренессанса начали признавать, что секс за деньги – это оскорбление общественной морали. В 1266 и 1314 гг. проституток изгнали из Венеции, а в 1327 г. – из Модены.121 Но, несмотря на это, чаще всего проституцию рассматривали как неизбежное зло. Святой Августин и святой Фома Аквинский признавали, что поскольку чаша мужского желания всегда будет переполнена, то проституция необходима, чтобы остановить распространение разврата или содомии в сексуально подавляемом обществе. Законодатели были склонны согласиться. И Франческо Филельфо (1398–1481) даже предусмотрел большой публичный бордель на своем плане идеального города («Сфорцинда»).
Во Флоренции довольно быстро пришли к принятию проституции, а затем и к регулированию рынка сексуальных услуг. Первоначально терпимость была невысокой. К 1384 г. приоры признали наличие проституток, но обязали их носить определенную одежду (колокольчики, обувь на высоких каблуках и перчатки), что выделяло их в определенную группу и показывало, что они являются источником «заразы» похоти.122 Хотя наказания проституток были не редкостью, к 1400 г. проституция прочно вошла в социальную жизнь города.123 Проституткам все еще было запрещено заниматься своим занятием в определенных районах города, но теперь уже речь шла не о заклеймении и запрете, но о контроле. 30 апреля 1403 г. в городе была учреждена «Онеста» – общественный совет, который занимался исключительно контролем и разбором дел проституток.124 Изначально Онеста располагалась в церкви Сан-Кристофано, на углу улицы Кальцаиоли и площади Дуомо. Со временем ее перенесли чуть южнее, и этот переулок близ Орсанмикеле носит навание Виколо дель Онеста. В совет входило восемь членов. Они организовали по меньшей мере три публичных дома (в 1403 и 1415 гг.) и руководили «регистрацией» проституток. Спустя 30 лет в городе имелось 76 зарегистрированных шлюх (по большей части иностранок).125 Проститутки платили налоги, что помогало Флоренции сокращать растущие расходы. Кроме того, проститутки выполняли весьма ценную обязанность. Когда женщины обращались в суд с просьбой аннулировать брак по причине неисполнения мужем супружеского долга, проститутка могла свидетельствовать об импотенции несчастного мужа.
К 1566 г. проституция настолько распространилась, что большой публичный дом на Старом рынке был сочтен хорошей инвестицией.126 Его приобрели три весьма уважаемых гражданина города: Кьяриссимо де Медичи, Алессандо делла Тоса и Альбиера Строцци. За год до этого в Венеции был даже опубликован полный список имен и адресов лучших проституток (II Catalogo di tutte le principale e piii honor ate cortigiane di Venezia).
Масштабы секс-индустрии во Флоренции во времена Микеланджело общественным советом откровенно занижались. Количество проституток, работавших в городе к 1501 г., значительно превышало «официальные» показатели. Нет сомнений в том, что в городе существовало огромное множество нелицензированных частных борделей, свидетельством чему может служить живопись того времени. Во дворце Скифанойя в Ферраре можно видеть фреску Франческо делла Косса «Апрель». На ней изображены полуобнаженные проститутки, которые вполне публично бегут на Палио под взглядами молодого человека и ребенка [ил. 12]. Наказания за «неофициальную» проституцию налагались мгновенно.127 Сохранились документы, подтверждающие тот факт, что некоторые мужчины открыто продавали своих жен и дочерей в публичные дома. Но, как показывает страсть Беккаделли к проститутке Урсе, эти женщины порой становились не просто сексуальными партнершами, но и подругами и источником вдохновения.
Гомосексуальность
Неистовый характер гетеросексуальных отношений во Флоренции времен Микеланджело не должен затмевать широкое распространение гомосексуальных связей в тот период. Неудивительно, что впоследствии возникали сомнения в сексуальной ориентации самого Микеланджело.128
Гомосексуальность, как и добрачные и внебрачные связи, считалась мерзким грехом, о котором говорили с изумлением и ужасом. Гомосексуальные связи наряду с мастурбацией и зоофилией часто подвергались осуждению как со стороны мирян (Поджо Браччолини сравнивал такие отношения с гетеросексуальным блудом), так и со стороны церковников.129 Запальчивый Бернардино Сиенский (1380–1444) особо сурово обрушивался на греховодников. В 1424 г. он произнес несколько проповедей во время поста в церкви Санто-Кроче. В них он перечислял грехи Флоренции. При этом не менее трех из девяти проповедей были посвящены исключительно содомии. Начал Бернардино довольно мягко – он проследил истоки флорентийской гомосексуальности и назвал причины – сокращение населения в середине XIV в.130 Но когда настал черед заключительной проповеди, Бернардино буквально брызгал слюной от ненависти. Он осудил и грех содомии, и тех, кто пытался освободить из тюрьмы осужденных содомитов. Он кричал: «На костер! Они все содомиты! И вы совершите смертный грех, если попытаетесь помочь им!».131 Ораторский пыл оказался настолько мощным, что прихожане, выбежав из церкви, начали сооружать гигантский костер, чтобы поджарить местных гомосексуалистов.
Хотя проповеди Бернардино отличались невероятным пылом, он выражал общепринятую позицию Церкви и отношение флорентийского правительства к «тлетворному пороку». Городские власти очень сурово относились к гомосексуализму. В 1432 г. был организован специальный магистрат по этим вопросам («Совет ночи»).132 Тех, кто был обвинен в гомосексуализме, серьезно штрафовали и наказывали – вплоть до смертной казни. Незадолго до создания магистрата некоего Якопо ди Кристофано признали виновным в совращении двух мальчиков.133 Его приговорили к штрафу в 750 лир, публичному бичеванию на улицах города, а дом его (если он у него был) должен был быть сожжен. Наказания строго исполнялись. За 70 лет существования «Совета ночи» около 17 тысяч мужчин были обвинены в содомии. Флоренцию не без основания называли «городом, в котором гомосексуализм наказывался суровее и систематичнее, чем в любом другом».134
Но, как это всегда бывает с сексуальностью, суровость закона и моральные ограничения, скорее, отражают широкое распространение гомосексуализма, чем что-либо другое. Флорентийские власти были готовы на кое-что закрыть глаза. Официальное ханжество являлось типичным примером двойных стандартов.
Хотя в XV и начале XVI вв. тех, кто занимался гомосексуализмом, арестовывали и наказывали, отношение к ним было не настолько суровым, как может показаться по букве закона. Хотя 17 тысяч мужчин были обвинены в содомии «Советом ночи» (среди них был и Леонардо да Винчи), осуждено было менее трех тысяч человек. И понесенные наказания были гораздо мягче, чем предусматривалось приговором.
Отчасти это объяснялось тем, что большинство «гомосексуальных» актов осуществлялось мужчинами, которые были либо женаты, либо могли, говоря современным языком, идентифицировать себя как «нормальных». Речь шла не об ориентации, а о развлечении. Многие мужчины были слишком распутны, чтобы ограничивать себя отношениями только с женщинами. В диалоге Доменико Сабино о женах, к примеру, Эмилия замечает, что «мужчинам мало служанок, любовниц или проституток, они обращаются к мальчикам, чтобы удовлетворить свою дикую и безумную похоть».135 В «Гермафродите» Беккаделли обсуждает гетеросексуальный и гомосексуальный секс, совершенно не утверждая, что женатый мужчина должен ограничиться чем-то одним.
Это было связано и с различиями, которые существовали внутри самой гомосексуальности. Современники по-разному относились к активным и пассивным партнерам, к зрелым и юным любовникам.136 В 1564 г. доминирующих зрелых мужчин обычно приговаривали к штрафу в 50 скуди золотом и тюремному заключению сроком на два года. Молодой же пассивный партнер получал 50 плетей. Если судьи могли найти повод к смягчению приговора, они, не колеблясь, это делали.
В определенной степени готовность флорентийских магистратов закрыть глаза на столь сурово ими осуждаемую гомосексуальность была связана с тем преклонением, которое во времена Ренессанса вызывала концепция платонической дружбы. В своих комментариях к «Симпозиуму» Платона Марсилио Фичино – друг юности Микеланджело – дал новую жизнь идее тесной интеллектуальной и духовной дружбе между мужчинами. Эта идея быстро распространилась в кружке флорентийских гуманистов, который даже стали называть «Платоновской академией».137 Хотя такая близкая связь определялась в первую очередь близостью двух душ в стремлении к идеалу, физическая близость тоже не исключалась и была довольно распространенной. В трактате «О любви» (De amove) Фичино писал о том, что гомоэротическое влечение являлось неотъемлемой частью истинно платонической дружбы.138 Он заходил настолько далеко, что утверждал, что любовь между мужчинами даже более естественна, чем между мужчинами и женщинами. Гомоэротизм и мужские сексуальные отношения получили интеллектуальное оправдание, что и приводило к неофициальному снисхождению к гомосексуализму в обществе, которое официально такую практику осуждало. Самого Фичино часто считали гомосексуалистом. Вполне возможно, что Микеланджело усвоил взгляды своего друга на эту проблему.
Юридические и моральные нормы настолько отличались от сексуальных реалий, что флорентийский «Совет ночи» предпочитал сосредоточиваться на преследовании насильников и мужчин-проституток, а не на пресечении гомосексуализма, к которому они проявляли вполне прагматичное отношение. В сложном интеллектуальном мире флорентийской гомосексуальности, мужчин, которые хранили верность друг другу, «Совет ночи» часто считал «женатыми», особенно, если они могли поклясться в этом на библии в церкви. Есть свидетельства того, что в некоторых городах Центральной Италии однополые союзы даже получали благословение на литургических церемониях.139 Можно полагать, что подобная практика существовала и во Флоренции. Гомосексуальные отношения такого рода вполне обоснованно не просто принимались, но даже поощрялись. Стабильные партнерские отношения приветствовались семьями, которые понимали, что гомосексуальный «брак» может иметь социальные преимущества не меньшие, чем брак гетеросексуальный. Разумно организованный союз мог дать влияние, защиту и богатство. Друзья спокойно относились к подобным «бракам». И хотя такой субкультуры не существовало, но гомосексуальные связи помогали мужчинам отстаивать интересы друг друга в социоэкономической сфере.
Несмотря на очевидное отсутствие у Микеланджело интереса к сексу в период 1501–1503 гг., атмосфера города была буквально пропитана сексуальной энергией. Искры так и летели. Никакие ограничения закона и морали не мешали людям заниматься сексом в любой форме и в любом возрасте, порой даже в очень юном. Подавленные юноши, страстные девушки, скучающие жены и похотливые мужья почти никогда не упускали возможности развлечься друг с другом или заглянуть в разнообразные городские бордели. Однополые отношения между мужчинами были столь же свободными и гибкими, как и в современном мире. А учитывая тесноту, царившую в жилищах эпохи Ренессанса, ничто не оставалось тайным.
Мастерская мира
Так разворачивалась драма повседневной жизни. Мастерская – центр жизни Микеланджело – была эпицентром художественного труда, но в то же время фокусом социальной жизни, сценой для всех забот и хлопот, связанных с повседневным существованием. Это была не столько художественна я мастерская, сколько мастерская мира художника эпохи Ренессанса. Каждый день люди приходили и уходили, занимались своими делами, работали. И становится ясно, что искусство – это проявление не только возвышенного, абстрактного творческого начала, но занятие, на которое влияли заботы семейной жизни, радости дружбы, экономические проблемы, страдания болезней и противоречивые импульсы желания. Мастерская Микеланджело показывает, что искусство эпохи Ренессанса было более безобразным, но в то же время и более обыкновенным и человечным, чем наше представление о том периоде.
5. Влюбленный Микеланджело
Осенью 1532 г. Микеланджело работал в своем доме в Мачель де Корви в Риме.
28 лет назад он закончил «Давида», и с того времени жизнь его была чередой постоянных художественных триумфов. В 1512 г. он закончил роспись потолка Сикстинской капеллы, и после этого поток заказов не иссякал, что заставляло его постоянно курсировать между родной Флоренцией и Вечным городом. Но был старый проект, который заставил его осенью того года вернуться в Рим. На время оставив работу во флорентийской церкви Сан-Лоренцо, он отправился на юг, чтобы обговорить контракт на надгробие папы Юлия II. Над этим проектом он работал с 1505 г., но до завершения было еще далеко.
Как-то днем, когда Микеланджело раздумывал над проектами надгробия, к нему пришел малоизвестный скульптор Пьеро Антонио Чеккини.1 Старый, верный друг Пьеро Антонио частенько заглядывал к Микеланджело, чтобы поболтать. О его жизни мало, что известно, но, похоже, он был хорошим человеком, и в тот день Микеланджело радостно его встретил. Но как только друг переступил через порог, художник понял, что этот визит будет приятным, хотя нечаянная радость явно не даст плодотворно поработать.
В отличие от других визитов в тот день Пьеро Антонио пришел не один.2 С собой он привел молодого друга Томмазо де Кавальери. И это было неудивительно. Учитывая, что семья Томмазо жила неподалеку, там, где сегодня проходит Ларго Арджентина, они были почти соседями. Более того, Кавальери были страстными коллекционерами античной скульптуры, и Томмазо увлекался искусством.3
Но Томмазо де Кавальери был необычным молодым аристократом. В свои 20 лет он был настоящим сердцеедом эпохи Ренессанса. С портрета, написанного Микеланджело позже, на нас смотрит настоящий красавец. У него была чистая кожа, крупные, честные глаза, а черты лица были настолько нежными, что напоминали женские. Он не отличался высокомерием, хотя это было бы вполне естественно для отпрыска аристократического семейства. Томмазо одевался хорошо, но довольно скромно. А кроме того, он был по-настоящему культурным человеком. Он получил хорошее гуманитарное образование, соответствующее своему положению, увлекался поэзией, философией и живописью. Томмазо де Кавальери был человеком утонченным, чутким и благородным.4
Что произошло между ним и Микеланджело при первой встрече, нам не известно. Но совершенно ясно, что 57-летний Микеланджело был сразу же очарован юношей. Позже он говорил, что за всю свою творческую жизнь никогда не видел ничего, что могло бы сравниться с очарованием Томмазо. Несмотря на разницу в возрасте, Томмазо де Кавальери мгновенно покорил сердце художника.
Так начались напряженные, глубоко эмоциональные отношения, которые не изгладились из мыслей Микеланджело до самого конца жизни. Но не все было так безоблачно. В течение последующих 32 лет одни лишь мысли о молодом человеке дарили художнику истинное наслаждение и в то же время причиняли огромную боль. Художник отдал юноше всю душу и сердце, но ему не всегда отвечали столь же искренней взаимностью. В 1533 г. Микеланджело говорит о «страхе» Томмазо и о том, как мучает его холодность юноши.5 Снова и снова он задается вопросом, действительно в подобной любви – или это была только похоть? – нет ничего неправильного.
Хотя в течение последующих 30 лет Томмазо и Микеланджело много времени проводили вместе, очень важно заметить, что их отношения проявлялись по большей части через искусство, мастером которого был старший. Вскоре после первой встречи между ними началась теплая, нежная переписка. Поток писем, в которых оба не скрывали своих чувств, не прерывался. Микеланджело начал сочинять стихи, и любовь «породила поэтический всплеск, не знавший себе равных».6 Страсть Микеланджело проявлялась и в искусстве. К концу 1532 г. Микеланджело уже отправил Томмазо в подарок два великолепных рисунка, а затем еще две композиции на классические сюжеты.
Эти стихи и подаренные рисунки отражают богатейший культурный и интеллектуальный мир, в котором рождались чувства Микеланджело. Оценив тонкость работ Микеланджело, трудно не поразиться тому, насколько точно он использовал «паттерны» Ренессанса в собственных целях, и в той степени, в какой художественный труд в диалоге с гуманистическим энтузиазмом оживлял не только дух античной литературы, но и саму культуру античности.
Но в то же время стихи и рисунки Микеладжело показывают, что культурное и интеллектуальное развитие, характерное для того периода, формировалось под влиянием реалий личного опыта и повседневной жизни. Стихи и рисунки, отосланные Микеланджело Томмазо де Кавальери, не были порождением возвышенных идеалов или милых игр. Это был настоящий крик души. Микеланджело использовал античные и современные метафоры не только для осознания собственных противоречивых чувств, но и для того, чтобы выразить свою любовь, страсть и неуверенность.
Таким образом, отношения Микеланджело с Томмазо де Кавальери дают нам идеальную возможность для анализа интеллектуального мира художника эпохи Ренессанса и нового взгляда на привычную тенденцию отделять литературные и художественные произведения от более «человеческих» забот. Хотя любовь и секс явно не являлись главным и основополагающими элементами ренессансной мысли, они все же были центром, к которому тянулись литература, искусство и философия. С ними же были связаны мрачные и неприглядные реалии повседневной жизни. И это симптоматично для широкого взаимодействия между литературными и художественными новациями эпохи и надеждами и страхами реальных людей. Микеланджело оставил нам не только богатое и разнообразное культурное наследие. Он еще и рассказал нам о жизни других мужчин и женщин эпохи Ренессанса через собственные чувства. Он экспериментировал с их восприятием любви и секса, использовал опыт тех, кто ушел до него. И все это он делал для того, чтобы найти то, что наилучшим образом соответствовало его собственным счастливым и мучительным чувствам. Его работы подобны увеличительному стеклу, которое поможет понять динамику, соединяющую зачастую отвратительные детали повседневного существования с высочайшими достижениями культуры.
Изучая разные «акты» драмы отношений Микеланджело с Томмазо, можно не только рассмотреть различные этапы эволюции интеллектуального мира художника эпохи Ренессанса, но еще и понять жизнь (и опыт любви и секса), которая формировала этот мир. Соединение литературного и художественного труда с «реальным» миром противоречивых эмоций дает нам мир, очень далекий от привычного представления о том времени. Этот мир родился не из чисто эстетических воззрений высших существ, далеких от радостей и печалей обычных людей, но из безответных страстей, разбитых сердец, сексуальной одержимости и страданий.
Акт I. Идеализация
В первые месяцы знакомства Микеланджело был склонен идеализировать Томмазо де Кавальери. Он не просто отдал свое сердце какому-то другому человеку. Он полюбил живое воплощение физического, морального и культурного идеала. Как писал он в одном из ранних стихов, красота юноши была «создана на небесах, чтоб дать нам подтвержденье божественного труда». Перед лицом такого совершенства он чувствовал себя абсолютно беспомощным. В стихах он говорил о воплощенной Любви, которая держит его железной хваткой и которая через явленный идеал становится суровым хозяином, поработившим художника против его воли. Образ возлюбленного как воплощения идеальной красоты и добродетели, а Любви как сурового и бескомпромиссного захватчика возвращает нас к самым истокам ренессансного представления о любви и сексе. Нет сомнения в том, что Микеланджело играл роль Данте.
В 1320-е гг. Данте Алигьери восхваляли за то, что он «вернул мертвую поэзию из мрака к свету».7 Как и многие современники, Микеланджело рос в атмосфере всеобщего поклонения гению Данте, сравнить который можно было только с великими поэтами античности. «Божественную комедию» Микеланджело изучил еще в юности.8 Он привык считать труд Данте образцом итальянской национальной поэзии. Но это восхищение было не сугубо техническим. Восторг Микеланджело перед трудами Данте подпитывался знакомством с кружком гуманистов, собравшихся вокруг Лоренцо де Медичи во Флоренции. Кроме того, Микеланджело изучил подробные комментарии к «Божественной комедии», составленные его другом Кристофоро Ландино.9 Впоследствии он еще более расширил свои знания, читая Данте в Болонье с Джованфранческо Альдовранди.10 Он постоянно открывал все новые и новые сокровища, которые наполняли его душу трепетом и восторгом. Позже Микеланджело писал, что Данте был «сияющей звездой, горевшей слишком ярко для наших тусклых глаз».11 Для Микеланджело, как и для Боккаччо и других поэтов, Данте был настоящим божеством, и его смерть они восприняли как «возвращение» на небеса, откуда и снизошел его гений.12
Но хотя Данте дал Микеланджело естественный – и даже очевидный – архетип изучения всепоглощающего стремления в стихах к полубожественному идеалу, это не означает, что вклад Данте в концепцию любви и смерти в эпоху Ренессанса следует рассматривать исключительно через розовые очки. Как раз наоборот. Любовь Данте родилась из безответной страсти и долгих лет болезненных, мучительных страданий.
История Данте начинается 1 мая 1274 г., когда поэту только что исполнилось девять лет. Влиятельный флорентиец Фолько деи Портинари устроил праздник в честь Майского дня, и там юный Данте, совершенно не знающий жизни и интересующийся только самыми невинными играми, увидел нечто такое, что изменило весь ход его жизни.13 Ее звали Беатриче. Дочери Фолько было не больше восьми лет. Она поразила мальчика. Не своей красотой и одеждой, но некоей атмосферой добра и благодати, которую она излучала. Данте окаменел. Так он описывал этот момент позже в «Новой жизни»: «…Дух жизни, обитающий в самой сокровенной глубине сердца, затрепетал столь сильно, что ужасающе проявлялся в малейшем биении».14 Не было ни малейшего сомнения в том, что это означает. «И с того времени, – признавался Данте, – Амор стал владычествовать над моею душой».15
С этого времени вся жизнь юного Данте вращалась только вокруг Беатриче. Ее образ постоянно стоял перед его глазами. Его разум был наполнен мыслями о ней одной. День за днем он бесцельно блуждал по Флоренции в тщетной надежде поймать хотя бы рассеянный взгляд своей возлюбленной.
Затем однажды спустя девять лет он увидел ее снова, «облаченную в одежды ослепительно белого цвета среди двух дам, старше ее годами».16 Данте задрожал от восторга и сладостного ожидания. Она обратила на него свой взор и доброжелательно приветствовала его. Это была простая вежливость, но Данте «увидел все грани блаженства».17 Он был пленником любви, безнадежно влюбленным в Беатриче. Когда Данте вернулся домой на крыльях радости, ему было видение любви, облаченной в облако цвета огня. В луках любовь держала сердце Данте. Позже он писал:
Амор явился. Не забыть мне, нет, Тот страх и трепет, то очарованье! Мое, ликуя, сердце он держал. В его объятьях дама почивала, Чуть скрыта легкой тканью покрывал. И, пробудив, Амор ее питал Кровавым сердцем, что в ночи пылало, Но, уходя, мой господин рыдал.18Страстная любовь Данте к Беатриче была настолько сильна, что одни лишь мысли о ее красоте делали его больным. Друзья тревожились о нем. Поняв, что состояние его ухудшается из-за девушки, они заставили его назвать им ее имя. Из галантности он отказывался раскрыть свой секрет, но быстро распространяющиеся сплетни были слишком невыносимы, и Данте решил притвориться, что на самом деле он любит совершенно другую девушку.
И это была страшная ошибка. Очень скоро Беатриче узнала, что Данте влюблен в другую. Раньше ей казалось, что он любит ее, поэтому она была сильно огорчена. Когда они в следующий раз встретились на улице, Беатриче сознательно проявила полное безразличие. Данте был вне себя от горя и, «удалясь от людей, орошал землю горчайшими слезами».19
Оставив притворство, Данте больше не делал секрета из своей любви к Беатриче. Он надеялся, что ее сердце смягчится, но страсть его оставалась безответной. Постепенно он превращался в посмешище. На свадьбе он буквально замирал при виде красоты своей возлюбленной и стал объектом насмешек со стороны всех присутствующих. Даже Беатриче смеялась над ним.
После такого унижения некоторые дамы, смеявшиеся над Данте, предложили избавить его от скорби.20 Конечно, в его любви не было ничего неправильного. Ошибка заключалась в реакции на презрение Беатриче. Хотя раньше Данте писал много стихов в обычной, куртуазной манере, все они были посвящены жалости к себе. И он страдал от готовности всю жизнь провести в отчаянии. Поскольку все соглашались, что Беатриче максимально близка к человеческому совершенству, Данте следовало сосредоточиться не на своей боли, а на ее несравненной красоте и добродетели. Восхваляя ее в стихах, он мог бы выразить свою любовь в иной – и, возможно, более просвещенной – форме. Беатриче вдохновила новое искусство, и это искусство могло стать для Данте спасением.
Превращение было мгновенным. Вместо того чтобы изображать Беатриче потенциальной любовницей или прекрасным объектом любви, Данте создал поэтический образ возлюбленной – воплощения идеальной красоты, чистоты и добродетели. Она стала отражением божественности, образцом добродетели, источником вдохновения мощной, спасительной поэзии. И когда любовь Данте ушла, что причинило ему боль, то в его искусстве она стала для него центром моральной вселенной.
8 июня 1290 г. Беатриче неожиданно умерла, и ее смерть буквально раздавила Данте. Он почти лишился разума от горя. И хотя Данте преисполнился решимости никогда не говорить об ее «уходе», заключительные части «Новой жизни» показывают, какое огромное влияние эта трагедия оказала на его сердце и разум. Сколь бы мучительным ни был уход, смерть Беатриче только усилила ее идеализацию. Для Данте она стала воплощенным архетипом добродетели и красоты. После смерти она стала воплощением философии и небесного совершенства, то есть еще более сильным стимулом для творчества и яркой звездой, по которой утлый челн жизни Данте прокладывал свой курс.
Новое отношение к своей любви к Беатриче Данте наиболее полно и отчетливо выразил в первой песни «Рая». Начиная свое повествование с искренней мольбы к Аполлону – богу мудрости и поэзии, Данте просит даровать ему талант для того, чтобы воспеть «державу осиянную», куда он собирается войти, и увенчать его лавровым венком, символизирующим любовь и литературный гений. Высказав свою мольбу, Данте с изумлением видит перед собой Беатриче. Ее взгляд устремлен к солнцу, она созерцает великие творения. Если в аду и в чистилище проводником Данте был Вергилий, то спутницей поэта в высшем мере станет Беатриче. Ее роль о многом говорит. Она не просто «проводница… Беатриче – это высший разум… Она спутница, которая разъясняет тайны природы, устройство небес, постепенный переход от земли к небесным эмпиреям».21 Чем дальше ведет путь, тем ярче становится красота Беатриче. Она раскрывает поэту вселенские истины и небесные красоты – это и предмет ДАНТОВЫХ стихов, и объект его жизни. Хотя «Рай» перегружен элементами аристотелевой и аверроэсовой философии, совершенно ясно, что все добродетели и всю красоту Данте воспринимает только благодаря Беатриче.
Поначалу смущенный и слегка испуганный Микеланджело не мог не видеть в себе нового Данте, а Томмазо предназначил роль более пассивной Беатриче.
Акт II. Вина и скорбь
К несчастью для Микеланджело копирование Данте завело его слишком далеко. Он быстро понял, что в этих отношениях есть много такого, чего нельзя смоделировать по Дантову образцу. Более того, его чувства были гораздо мучительнее тех, что переживал Данте. Он не мог просто поклоняться идеалу, который воплощал в себе Томмазо. Микеланджело приходилось бороться со своим идеализмом, и это чувство с особой силой проявилось на втором этапе их отношений. Как замечал в середине 1533 г. Бартоломео Анджолини, поэзия Микеланджело стала проникаться физическим ощущением страдания.22
Малейшая холодность со стороны Томмазо повергала Микеланджело в дрожь. А молодой человек часто бывал довольно высокомерным. Хотя он говорил, что ценит художника выше, чем любой из живущих, его письма порой были довольно формальными и холодными.23 Иногда – и особенно во время разрыва 1533 г. – Томмазо даже поддразнивал Микеланджело, и шутки его находились на грани дружеского подшучивания и юной жестокости.24
Пожалуй, красноречивее всего об ощущении наказания говорит рисунок «Падение Фаэтона» [ил. 13]. Существуют три варианта этого рисунка. Микеланджело отправил его Томмазо как раз в то время, к которому относится письмо Анджолини. Фаэтон уговорил отца, Гелиоса, позволить ему проехать по небосводу на божественной колеснице, но испугался высоты. В панике он понесся по небесам сломя голову, и Зевс поразил его своей молнией. То, что в образе Фаэтона Микеланджело изобразил себя, совершенно очевидно.
Но страдания Микеланджело были связаны еще и с глубоким и очень тревожным ощущением неопределенности. Он прекрасно понимал, что не в состоянии сопротивляться любви, но тот факт, что эта любовь была омрачена гомоэротической похотью, вызывала в его душе глубокий кризис. Хотя в Италии существовала традиция близких (и даже интимных) отношений между мужчинами, Микеланджело осознавал всю порочность подобных отношений, ведь гомосексуализм одинаково осуждали и светские, и церковные власти. Истинный христианин, Микеланджело чувствовал, что красота Томмазо божественна, и сексуальные желания незаконны и порочны.
Тяжкое чувство вины прекрасно иллюстрирует один из двух рисунков, отправленных Микеланджело Томмазо в конце 1532 г. в качестве новогоднего подарка. На сей раз в качестве сюжета он избрал «Наказание Тития» [ил. 14] – мифологическую историю божественного возмездия. Гигант Титий пытался изнасиловать наложницу Зевса, Лето. В наказание он был повергнут в глубины Гадеса на вечные и ужасные страдания. На рисунке Микеланджело изобразил себя лежащим на каменистой земле в подземном мире.25 Чудовищный орел с жадностью выклевывает его печень. Изобразив себя в виде Тития, благочестивый Микеланджело показал не только свою иррациональную физическую страсть к Томмазо, но и страх вечного наказания за похоть.
Чувство вины приводит нас ко второму этапу эволюции ренессансной концепции любви и секса и к другому поэту, оказавшему огромное влияние на Микеланджело, – к Петрарке, пожалуй, главному интеллектуальному наследнику Данте. Спешно покинув Флоренцию в октябре 1494 г., Микеланджело остановился в Болонье. Там вместе с Джанфранческо Альдовранди он читал стихи Петрарки и любовную лирику Данте. На всю жизнь он сохранил любовь к Петрарке – столь же сильную (если не сильнее), как и любовь к «Божественной комедии» и «Новой жизни». Если говорить об отношениях Микеланджело с Томмазо де Кавальери, то роль Петрарки заключается в том, что он сумел трансформировать Дантовы темы, обогатив их чувствами скорби и вины. Любовь Данте к Беатриче была для Петрарки образцом для подражания, но он добавил в эти чувства новый компонент, который родился из мрачного сочетания мучений и страданий.
6 апреля 1327 г. в Авиньоне Петрарка отправился на прогулку, которая полностью изменила течение его жизни. Ранним утром, сразу после рассвета он пришел в церковь Санта-Клара на воскресную пасхальную мессу.26 Ему было 22 года, и он был настоящим щеголем. Яркая одежда и сильный запах духов сразу же вызвали раздражение прихожан. Как вспоминал Петрарка впоследствии, он постоянно тратил много часов на то, чтобы сделать прическу по последней моде, и постоянно злился, потому что боялся, что ветер может растрепать его тщательно уложенные локоны.27 Кроме того, он считал себя исключительно светским человеком. По стандартам того времени Петрарка был прекрасно образован.28 Латинской грамматике и риторике его обучал Конвеневоле да Прато из Карпантра. Юриспруденцию он изучал в университетах Монпелье и Болоньи – двух лучших центрах образования в Европе. Но хотя он уже собирался стать адвокатом, но все же изменил решение и не стал стремиться к такой карьере. Год назад умер его отец, оставив ему приличное наследство. И Петрарка решил вернуться в Авиньон, чтобы вести жизнь в лени и развлечениях, без родительского присмотра и финансовых проблем. Он был мечтатель, и более всего на свете его заботила собственная красота.
Пасхальное воскресенье было прекрасной возможностью показать себя, прогуляться и вызвать всеобщее восхищение. В маленькой церкви Санта-Клара было многолюдно. В Авиньоне в изгнании жил папа, поэтому город по-настоящему процветал. Воскресенье было кульминацией Страстной недели. И вот в этой маленькой, переполненной людьми церкви Петрарка впервые увидел юную девушку.
Ее звали Лаура. Петрарка не называет ее полного имени.29 Можно предположить, что это была Лаура де Нов, потомком которой был печально известный маркиз де Сад. Впрочем, кем бы она ни была, 16-ти или 17-летняя девушка была несравненно хороша. У Петрарки захватило дух. Позже он вспоминал, что никогда не видел таких прекрасных глаз «ни в наши времена, ни в оны лета».[6]30 Эти глаза для сердца поэта «как солнце яркое для снега». С этого момента он был влюблен – безнадежно, страстно и всей душой.31 Стоило ему увидеть Лауру, как он погружался в восторженный экстаз. И хотя чувства Петрарки были платоническими, нет сомнения в том, что (в отличие от страсти Данте к Беатриче) страсть его была чисто физической.
Но, как и у Данте, любовь Петрарки осталась безответной. Хотя сердце его пылало от одного вида возлюбленной, ее сердце стрела Купидона не поразила. Нет, она не высмеивала и не дразнила его, как мучила Данте Беатриче. Лаура оставалась полностью безразличной и не оказывала Петрарке никаких знаков внимания. Она его просто не замечала. Петрарка пылал страстью, Лаура же оставалась ледяной королевой. Во всех смыслах слова она была недоступной. Петрарка даже намекал на то, что она могла уже быть замужем. В его стихах постоянно возникают метафоры льда и пламени – контраста между ним и его возлюбленной.
Все это настолько напоминало миф об Аполлоне и Дафне, то Петрарка не смог устоять перед соблазном использовать этот сюжет (позже такую картину написал Поллайоло [ил. 15]) в качестве метафоры своей дилеммы. Подобно Аполлону он был обречен преследовать женщину, которая бежала от самого слова «любовь».32 И как только ему казалось, что он настиг ускользающую нимфу, ей снова удавалось скрыться. Чтобы спасти Дафну от Аполлона, бога поэзии и мудрости (весьма красноречивая деталь), Юпитер превратил Дафну в лавровое дерево.
21 год Петрарка страдал от любви и холодности Лауры. В его творчестве того периода влияние Данте ощущается очень сильно. Жизнь Петрарки превратилась в череду страданий и отчаяния. Вскоре после первой встречи он купил небольшой домик в соседнем Воклюзе в надежде «исцелиться» от своей любви. Но, несмотря на буколическое одиночество, любовь преследовала его повсюду. «Охотник» на Лауру сам оказался дичью. В одном из сонетов он даже сравнивает себя с Актеоном – Диана, которую он увидел обнаженной во время купания, превратила его в оленя, и его разорвали собственные собаки – символ желания.33
Петрарка все глубже погружался в безнадежный лабиринт, из которого не было выхода. Исполненный скорби он бродил «по полям и холмам», «с горы на гору», поглощенный любовью и горем.34 Охваченный любовной лихорадкой ум играл с ним злые шутки. Мысли более ему не принадлежали.35 Куда бы он ни обратил взор, он видел Лауру. Он видел ее в скалах и реках, слышал ее голос в утреннем ветерке. С первой встречи прошло много времени, а он все еще видел ее «в кристальной воде, на зеленой траве, в стволе бука и в белом облаке… в самой дикой глуши и на самом пустынном берегу, где бы я ни оказался».36 Сам себе он казался живым мертвецом и иногда хотел умереть.
В разгар своих несчастий Петрарка обратился к поэзии, и тут его мысль пошла совсем не в том направлении, что у Данте. Опираясь на классическое образование и на хорошо знакомое ему творчество трубадуров, он начал работать над «Книгой песен» (Canzoniere) – самым известным своим произведением. В стихах он свободно выражал свои эмоции. Сознательно приравнивая «любовь» к «славе», он надеялся завоевать руку Лауры, добившись литературной славы.
Но главным, что отличало Петрарку от Данте, была мука, скрывавшаяся за этими страданиями и амбициями. Несмотря на то что в 1341 г. Петрарка в Риме был увенчан лавровым венком, его тревожило то, что безответная любовь и слава приносят ему одну лишь скорбь – Данте эта проблема так глубоко не волновала. Для Петрарки же она стала глубокой – и глубоко моральной проблемой. Почему, чтобы он ни делал, ему никак не удается обрести счастье или хотя бы покой?
Именно этим вопросом Петрарка задается в своей самой интимной и автобиографической книге «О презрении к миру» (De secreto conflictu cur arum suarum). В начале диалога он рисует вымышленный образ самого себя, размышляющего о своей смертности и пожираемого страданиями. Хотя «Франциск» охвачен ужасом от неизбежности смерти, он не может понять, как избавиться от скорби, разъедающей его душу.
И тут перед ним волшебным образом появляется таинственная женщина – воплощение Истины. Она говорит ему, что его скорбь вывана тем, что он ищет счастье не там, где следует. Чтобы объяснить ему это, она вызывает призрак «Августина» – символ святого Августина. Августин наставляет Франциска. Он объясняет, что то, что Франциск считает «счастьем», на самом деле счастьем не является. И его безответная любовь к Лауре, и стремление к поэтической славе основываются на убеждении в том, что счастье можно найти здесь, на земле. Но, по словам Августина, подобное убеждение абсурдно. Поскольку все временное неизбежно меняется, исчезает или умирает, то любые попытки найти в этом счастье обречены на неудачу. Любовь, секс и слава – все это земное и преходящее. Это не принесет Франциску ничего кроме горя и отчаяния. И несчастный вынужден признать, что «нужда, страдания, бесчестье, наконец, болезни и смерть и прочие напасти такого рода, которые считаются тягчайшими»37 и причиняют ему такие мучения. Августин говорил, что «истинное» счастье можно обрести только в бессмертном и неизменном. Счастье можно обрести только рядом с богом после смерти. Медленно, но верно он убеждает Франциска в том, что единственный способ ощутить такую радость – отказаться от всех земных желаний и посвятить себя добродетели.
Решение, по словам Августина, заключается в том, чтобы искренне и страстно размышлять о смерти. Если Франциск осознает реальность свое смертности и неизбежность собственной смерти, то ему станет очевидна глупость желания обрести счастье в преходящем и временном. Правильно поняв истинную природу «я» – бессмертной души, заключенной в смертном теле, – Франциск естественным образом сосредоточит свое внимание на подготовке души к следующей жизни и незамедлительно посвятит себя добродетели.38
Хотя интеллектуально Петрарка был убежден в правоте собственных аргументов, но полностью убедить себя ему не удалось. В 1347 г. огонь любви все еще горел в его душе так же ярко, как и прежде. Но тут в Италии разразилась столь глобальная трагедия, что поэту пришлось убедиться в собственной правоте.
В начале 1347 г., когда Петрарка завершал первый черновой вариант диалога «О презрении к жизни», в Италию пришла «черная смерть». Чуму завезли с Востока 12 генуэзских кораблей. Первой жертвой эпидемии пала Мессина на Сицилии. Затем болезнь стремительно и безжалостно распространилась по всей Италии. За несколько недель чума охватила Катанию и всю Сицилию. Через три месяца, в январе 1348 г., болезнь достигла Генуи – на кораблях, доставлявших специи с Востока. Лигурийское побережье было охвачено чумой с головокружительной скоростью. К весне болезнь достигла Флоренции. Не успело настать лето, как практически все города от Палермо до Венеции были охвачены таинственной и отвратительной болезнью.
Людей охватывал ужас и смятение. Никто не знал, как лечить ужасную болезнь. Во многих городах были созданы особые чумные больницы, где работали добровольцы из нищенствующих монашеских орденов. В Венеции хирурги получили особое разрешение на то, чтобы заниматься своим искусством. Но, поскольку никто не понимал, как распространяется чума, надежды на спасение почти не было. В Пистойе запретили ввоз тканей и белья. Все рынки тщательно контролировались. Поездки в города, где была зафиксирована чума, были строго запрещены. В Милане были приняты еще более суровые меры. После первых же случаев чумы три дома, в которых были заболевшие, были полностью запечатаны. Двери забили гвоздями, окна заложили кирпичами, и всех, кто находился внутри – и больных, и здоровых, – оставили умирать.
Но это не помогало. В 1348 г. чума охватила всю Европу. Болезнь не делала различий – ее жертвами становились и бедные, и богатые, и старые, и молодые, и мужчины, и женщины. Уровень смертности был невероятно высок. Хотя историки спорят о точных цифрах, но не менее 45 % – а, по некоторым оценкам, 75 % – населения погибло за три года эпидемии.
В «Хронике д’Эсте» (Chtonicon Estense) говорится, что всего за два месяца умерло 63 тысячи человек, а в процветающем порту Венеции в разгар эпидемии ежедневно умирало около 600 человек. По оценкам Маркионне ди Коппо Стефани, во Флоренции с марта по октябрь 1348 г. умерло 96 тысяч человек.39 В Болонье умирали шестеро из каждых десяти заболевших. Один хронист утверждал, что в довольно небольшом городке Орвието жертвами чумы с весны до осени 1348 г. стали более 90 % жителей.
Естественно, что чума оказала колоссальное влияние на мораль и настроение людей. Проповедники, кающиеся монахи и художники – все думали только о смерти и грехе. Остро осознавая хрупкость жизни и пытаясь объяснить возникновение болезни наказанием за моральный разврат, поэты, философы и художники рассуждали о «Триумфе Смерти». Особенно ярко изобразил этот сюжет Франческо Траини в Кампосанто в Пизе. На его фреске изображены умирающие от чумы люди, охваченные чувством вины перед лицом неминуемой смерти. Над горой трупов два небольших крылатых создания держат свиток с надписью:
Знание и богатство, Благородство и доблесть Ничего не значат перед опустошением смерти.Чтобы проиллюстрировать эту мысль, художник изобразил в центре фрески огромную зловещую женщину с когтями и крыльями летучей мыши – ужасающее воплощение самой Смерти. Ее помощники кружат вокруг. Хохочущие демоны пикируют на грешников и уносят их в ад. Несколько мирных ангелов возносят невинных детей на небеса, в Царствие Небесное.
С вершины скалы на состояние человечества взирают два бородатых священнослужителя, которые с тревогой изучают библию. Неясно, какой именно текст они читают: воможно, они ищут слова утешения, а может быть, пытаются более преданно следовать учению Христа. Возможно, они читают «Откровение», с ужасом осознавая, что стали свидетелями конца времен.
Чума оказала глубокое влияние на Петрарку не меньше, чем на Траини. В нем произошла коренная трансформация. В начале 1348 г. он путешествовал из Пармы в Верону и впервые увидел отвратительные последствия болезни. Почти каждый день он получал известия о смерти друзей и родственников.40 И его письма, например письмо, написанное после получения известия о смерти родственника Франческино дельи Альбицци, наполнены душераздирающими стенаниями. Но худшее было еще впереди.
19 мая 1348 г. Петрарка получил ужасное письмо от своего друга «Сократа» (Людвига фон Кемпена). Лаура умерла. Сердце Петрарки было разбило. «Моя дама мертва, – стенал он, – и мое сердце умерло вместе с ней».41 Он не хотел больше жить. К этому времени относится самый трагический его сонет:
Уходит жизнь – уж так заведено, — Уходит с каждым днем неудержимо, И прошлое ко мне непримиримо, И то, что есть, и то, что суждено. И позади, и впереди – одно, И вспоминать, и ждать невыносимо, И только страхом Божьим объяснимо, Что думы эти не пресек давно. Все, в чем отраду сердце находило, Сочту по пальцам. Плаванью конец: Ладье не пересилить злого шквала. Над бухтой буря. Порваны ветрила, Сломалась мачта, изнурен гребец, И путеводных звезд как не бывало.[7]42Но постепенно он начинает вспоминать слова Августина из своего диалога. С мучительной ясностью поэт осознает, что найти истинное счастье на земле невозможно – разве можно быть счастливым, когда такой дорогой человек, как Лаура, может быть вырван из его жизни так жестоко? Смерть Лауры показала, насколько хрупок окружающий мир и как бессмысленны мирские желания.
Любовь Петрарки претерпела последнюю и драматическую метаморфозу. Сжигающую сексуальную страсть, которая пожирала его в юности, сменила духовная память об ушедшей возлюбленной. Он продолжал любить ее – но уже не тело, но душу. В стихах Петрарки Лаура изменилась. Соблазнительная любовница стала искупительницей, духом, способным повести поэта к добродетели. В одном из самых ярких сонетов Петрарка бежит прочь от мучительных соблазнов и ищет покоя под ветвями лаврового дерева, символизирующего его возлюбленную. «Прекрасные листья» защищают его от бурь мирских желаний. Поэт созерцает добродетельную сеть лавра, и дерево изменяет форму, превращаясь в распятие. Лаура указывает поэту путь не к похоти и славе, но к небесам.43 Эта идея витала в воздухе. Тот же образ впоследствии использовали Пьетро Бембо (1470–1547), Серафино Чиминелли даль Аквила (1466–1500) и Маттеор Мария Боярдо в поэме «Влюбленный Роланд» (опубликована в 1495 г.). Наиболее ярким воплощением можно считать слова Бальдассаре Кастильоне о том, что «красота, которую мы повседневно видим в подверженных тлению телах», недостойна любви благородного любовника.44
Смерть действительно торжествовала. Ужасные страдания, которые несла с собой болезнь, напоминали о необходимости забыть о мирских наслаждениях. Думая о быстротечности жизни и неминуемости Страшного суда, человек должен был отречься от секса, и даже любовь (в ее традиционной форме) подвергалась презрению. Человеку следовало обратиться к добродетели и стремиться к любви божественной в надежде на обретение счастья в следующей жизни. Хотя Петрарка постоянно нарушал собственные установления (и даже будучи посвящен в сан, стал отцом множества детей), он четко понимал и утверждал, что единственный путь вперед – это целомудрие и благочестие. Как показал на своей картине «Битва Любви и Целомудрия» (ок. 1476–1500) [ил. 16] Герардо ди Джованни дель Фора, острые стрелы желания должны сломаться о щит целомудрия, защищающий душу. Родившаяся во мраке скорби, это была суровая этика. Она превращала человека в бесчувственного паломника в материальном теле и требовала жизни с закрытыми глазами и на преклоненных коленях. Идея о напряженной связи между любовью, сексом и смертью какое-то время привлекала Микеланджело.
Акт III. Наслаждения плоти
Как показывает нам «Наказание Тития», Микеланджело глубоко прочувствовал дихотомию между физическим желанием и смертью, о которой говорил Петрарка. В стихах, посвященных Томмазо де Кавальери, он постоянно подчеркивает тот факт, что его любовь абсолютно целомудренна. Художник остро осознавал собственную смертность. Именно так Микеланджело умоляет далекого юношу о большей близости. В стихотворении 1533 г. он пишет:
Надменное, сухое сердце, – влек Меня твой свет: увы, огни лукавы, — Ты вдруг вскипаешь страстью, но забавы Твои недолговечней, чем цветок. Уходит время, наша жизнь в свой срок Должна вкусить губительной отравы; Нас срезывает серп, хоть мы не травы… Нестойка красота, непрочна верность, И каждая питается другой, Как грешностью твоей мои невзгоды… Нас разделять все те же будут годы.[8]45Но, несмотря на все протесты, поведение Микеланджело показывало, что намерения его не были абсолютно чисты. Уже в конце 1532 г. – начале 1533 г. пошли слухи. Ни о каком целомудрии речи не шло, сплетники откровенно называли Микеланджело грязным стариком. Когда слухи дошли до Томмазо, он не смог полностью опровергнуть эти подозрения и на какое-то время прекратил общение с художником. Убитый горем Микеланджело счел своим долгом взяться за перо, чтобы отвергнуть все обвинения.46
Хотя Микеланджело искренне пытался победить свою физическую страсть, это ему не удалось. Всей душой стремясь к целомудрию, он не мог не признаться, что желал бы, чтобы «мой нежный и желанный сеньор вечно оставался в объятьях этих недостойных рук».47 Иногда Микеланджело дает волю своим сексуальным желаниям, и тогда его либидо проявляется в бесстыдном возбуждении, но одновременно он всегда вспоминает о своих благочестивых намерениях.
Пытаясь оправдать свою страсть, Микеланджело вновь возвращается к аргументам Петрарки. Жизнь так коротка, а грех ведет к вечному проклятию. Поэтому Микеланджело чувствовал, что обязан покориться страсти, раз уж не может одержать над ней окончательную победу. В стихотворении, написанном в 1534–1535 гг., он признается, что все еще страдает от осознания того, что греховная страсть к Томмазо для него важнее, чем добродетель. Но раз уж бог не наказал его смертью, то у него нет причины отказываться от этого желания. И раз уж он не может сопротивляться страсти, которая неизбежно приведет его после смерти в ад, то объятия Томмазо – это единственное дыхание рая, доступное для него. Беспомощный пленник юной красоты Микеланджело был вынужден признать, что для него лучше всего будет до самой смерти играть охваченного страстью мученика:
Я счастлив, хотя схвачен и покорен, И остаюсь, нагой и одинокий, Пленен вооруженным кавалером.48Поддавшись физической страсти наперекор страданиям смерти, Микеланджело отошел от традиций Данте и Петрарки. Однако, отойдя от двух господствующих в литературе концепций любви, он одновременно заложил начало совершенно новой концепции: хрупкость и быстротечность человеческого существования – это оправдание свободного от всех ограничений сексуального наслаждения. И в этом Микеланджело не столько опирается на опыт отдельного человека, сколько играет роль приапического Вакха, который символизирует дух целого периода в истории Ренессанса. В этом периоде существовали две параллельные тенденции, каждая из которых соединяла искусство и жизнь более интенсивно и более волнующе, чем когда бы то ни было раньше.
Carpe Diem: секс и смерть
Первоначально путь к триумфу наслаждений проложила «черная смерть». Когда смерть поджидала за каждым углом, люди стали не только более остро осознавать близость загробной жизни, но еще и поняли, что нужно жить на полную катушку, пока еще возможно. Как замечал Боккаччо в прологе к «Декамерону», постоянная угроза заражения подталкивала людей к крайностям. Некоторые уединялись и запирались в своих домах в тщетной надежде избежать заражения. Другие были убеждены, что лучший способ избегнуть чумы – это «пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять по возможности всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается».49 Те, кто придерживался подобного мнения, предавались любым излишествам, считая, что жизнь оказалась гораздо драгоценнее, чем они раньше думали. Строгие законы против роскоши, определявшие манеру одеваться, были позабыты. И сразу же появилось множество прекрасных тканей, нежная и изысканнейшая вышивка, а женщины оделись в откровенные и рискованные наряды. Наслаждение стало образом жизни, а промискуитет вошел в норму. Непреодолимые ранее социальные барьеры рухнули, семейная жизнь рассыпалась. Люди предавались веселому и безудержному сексу при любой возможности. Даже монахи, «нарушив обет послушания и отдавшись плотским удовольствиям, сделались распущенными и безнравственными, надеясь таким образом избежать смерти».50
Боккаччо стал свидетелем начала эпидемии, и новая этика безграничных наслаждений оказала на него глубокое влияние. Хотя многие его ранние книги проникнуты любовным и даже эротическим духом – особенно «Фьезоланские нимфы», «агрессивные и садистские детали» которых считали проявлением «отвратительно дурного вкуса», – в страстной прозе юности всегда присутствовала нотка моральной неопределенности.51 Впоследствии Боккаччо написал поразительно самокритичную (и удивительно женоненавистническую) поэму «Корбаччо». Впрочем, после первой эпидемии «черной смерти» Боккаччо расстался со своими сомнениями. К моменту написания «Декамерона» он уже полностью принял теорию бесстыдной «радости жизни».
«Декамерон» по праву считается прозаическим шедевром Боккаччо. Действие книги разворачивается во Флоренции в разгар эпидемии чумы. Повергнутые в ужас происходящими событиями герои книги – семь девушек и трое юношей – решают укрыться от заразы в загородном поместье неподалеку от города. В окружении «восхитительных садов и лугов» они предаются «празднованиям и веселью». Они намерены провести десять дней в рассказах и выслушивании увлекательных историй. И содержание этих историй убедительно доказывает нам, насколько глубокий сдвиг в отношении к плотским желаниям произошел в Италии XIV в. Хотя некоторые сюжеты, например, история Гризельды, связаны с вопросами добродетели и чести, подавляющее большинство – это страстные, непристойные, забавные рассказы о мужьях-рогоносцах, похотливых монахах, пьяницах и постоянном разврате.
Близость смерти убедила Боккаччо в том, что жизнь можно сделать гораздо более веселой и приятной, если добавить в нее секса. Самого Боккаччо трудно назвать развратником. Чтобы его не обвинили в откровенной аморальности, многие истории «Декамерона» он сопровождает моралистическим заключением – этакая дань правилам приличий и условностей. Отличным примером может служить история Берто делла Масса, молодого повесы, который решает притвориться монахом, чтобы легче было удовлетворять свои непристойные желания. Под именем брата Альберто он отправляется в Венецию, где тут же воспламеняется желанием, увидев мадонну Лизетту из дома Квирино, женщину «придурковатую и глупую».52 Лизетта приходит к нему на исповедь. Чтобы убедить ее отступиться от моральных принципов, Альберто убеждает ее в том, что в нее влюблен сам архангел Гавриил, и вечером он навестит ее дома. Пристроив за спиной пару фальшивых крыльев, «брат» Альберто появляется в спальне и убеждает наивную мадонну Лизетту уступить его домогательствам. Только когда родственники женщины узнали о его проделках и набросились на него прямо во время секса, его забавам пришел позорный конец. Он выпрыгнул из окна в Большой канал, был пойман, привязан к столбу возле моста Риально и намазан медом, чтобы привлечь мух. Вот такова «моралистическая концовка» истории. Но если рассказчица (Пампинея) считает, что Берто делла Масса «был по заслугам опозорен», и высказывает пожелание, чтобы «то же сделалось и с другими, ему подобными», совершенно ясно, что задача и привлекательность истории – в ее юморе и возбуждении страсти описанием пикантных сексуальных авантюр.53 Заслуженное наказание Берто делла Масса не превращает историю в морализаторское наставление, а лишь усиливает ее забавность.
Чаще всего Боккаччо даже не пытается скрыть своего отношения к сексуальным наслаждениям. Иногда он абсолютно откровенен и смело играет с христианскими концепциями, чтобы подчеркнуть всю прелесть наслаждения жизнью, пока это еще возможно. Пожалуй, лучшим примером этого служит разговор его героев, которые убедительно доказывают, что ничто не сможет избавить человечество от естественного желания заниматься сексом. В одной из историй очаровательная 14-летняя девушка из Барберии по имени Алибек настолько увлекается христианской верой, что решает бежать из пустыни и узнать о религии от отшельника, жившего поблизости. После долгих скитаний она встречает благочестивого Рустико, который намерен не только научить ее добродетели, но еще и устоять перед ее красотой. Но, прочитав девушке суровую лекцию о значимости служения богу путем «отправления дьявола в ад», Рустико обнаруживает, что его моральные устои не столь тверды, как ему казалось.54 Через несколько минут он уже неспособен сдержать «восстание плоти». Следующий за этим диалог – это квинтэссенция этики Боккаччо:
Алибек, изумленная, сказала: «Рустико, что это за вещь, которую я у тебя вижу, что выдается наружу, а у меня ее нет». – «Дочь моя, – говорит Рустико, – это и есть дьявол, о котором я говорил тебе, видишь ли, теперь именно он причиняет мне такое мучение, что я едва могу вынести». Тогда девушка сказала: «Хвала тебе, ибо я вижу, что мне лучше, чем тебе, потому что этого дьявола у меня нет». Сказал Рустико: «Ты правду говоришь, но у тебя другая вещь, которой у меня нет, в замену этой». – «Что ты это говоришь?» – спросила Алибек. На это Рустико сказал: «У тебя ад; и скажу тебе, я думаю, что ты послана сюда для спасения моей души, ибо если этот дьявол будет досаждать мне, а ты захочешь настолько сжалиться надо мной, что допустишь, чтобы я снова загнал его в ад, ты доставишь мне величайшее утешение, а небу великое удовольствие и услугу, коли ты пришла в эти области с той целью, о которой говорила». Девушка простодушно отвечала: «Отец мой, коли ад у меня, то пусть это будет, когда вам угодно». Тогда Рустико сказал: «Дочь моя, да будешь ты благословенна; пойдем же и загоним его туда так, чтобы потом он оставил меня в покое». Так сказав и поведя девушку на одну из их постелей, он показал ей, как ей следует быть, чтобы можно было заточить этого проклятого».55
Боккаччо, по-видимому, как и его читатели, не видел в этом никакой проблемы. В заключение истории он даже восхваляет Рустико за то, что он подготовил Алибек к предстоящему браку с Неербалом, а к дамам обращается с такими словами: «Потому вы, юные дамы, нуждающиеся в утешении, научитесь загонять дьявола в ад, ибо это и богу очень угодно, и приятно для обеих сторон, и много добра может от того произойти и последовать».56
Убеждение в том, что близость смерти почти что обязывает человека в полной мере удовлетворять свои сексуальные желания, не прошло и после того, как эпидемия пошла на убыль. Из «Декамерона» эта идея перекочевала во всю ренессансную культуру в целом и окончательно укрепилась там к середине XV в. Хотя моральное самоотречение Петрарки по-прежнему вызывало восхищение и имело сторонников, даже самые ярые из них начали исповедовать принцип наслаждения и, по примеру Боккаччо оправдывали сексуальную распущенность неопределенностью жизни.
Одной из ярчайших иллюстраций триумфа наслаждений – и связи его со смертью – являются карнавальные песни (canti carnascialescbi), получившие распространение во Флоренции с середины quattrocento (XV в.). Вполне возможно, что основоположником этой традиции был сам Лоренцо де Медичи. Такие песни писались по заказу богатого покровителя или компании друзей (brigata). Они сочетали в себе музыку и визуальную демонстрацию. Обычно такие песни исполнялись профессиональными певцами в богато украшенных фургонах. Темы песен, естественно, были весьма пикантными. Две самые популярные карнавальные песни высокого Ренессанса доказывают симбиотические отношения между моралью и сексом в культурном воображении и способность неминуемого божественного суда еще более усиливать наслаждение. «Песня Смерти» (Canzona de’ morti) исполнялась в похоронной повозке, украшенной поющими скелетами.57 Она начиналась с напоминания о том, что «муки, слезы и кары постоянно нас терзают», а смерть придет к каждому – и зачастую неожиданно. «Мы тоже были такими, как вы, – пели скелеты. – А вы станете такими, как мы. / Вы видите – мы мертвы. / И такими же мертвыми мы увидим вас». Но хотя подобное доказательство человеческой смертности могло вселить ужас, главная цель карнавала заключалась в том, чтобы вселить в людей дух чувственного наслаждения. В песне «Триумф Вакха и Ариадны» (Trionfo di Вассо е Arianna) Лоренцо де Медичи последовал примеру Боккаччо – использовал близость смерти как напоминание о необходимости отдаться чувственным наслаждениям. Эта идея отлично высказана в знаменитом припеве (ritornello):
Юность, юность, ты чудесна, Хоть проходишь быстро путь. Счастья хочешь – счастлив будь Нынче, завтра – неизвестно.[9]58Если человека ждет смерть и, возможно, ад, то почему бы не насладиться жизнью, пока это еще возможно? Юношей Микеланджело наверняка не раз слышал этот вопрос – вероятно, от самого Лоренцо. И об этом он вспомнил, когда встретил Томмазо де Кавальери.
От достоинства человека к теории наслаждений
Боккаччо и Лоренцо де Медичи выступали за снятие сексуальных запретов перед лицом смерти по весьма практическим причинам. Но проблема того, как справляться с моральными и религиозными проблемами, которые они предпочитали игнорировать, все равно оставалась. Хотя «почему нет?» – вполне убедительный довод в пользу пикантных историй и карнавального буйства, его нельзя считать убедительным философским ответом на теологические запреты плотских наслаждений или реальным ответом на суровую мораль самоограничений Петрарки.
Главное препятствие на пути сексуальной вседозволенности – это различие между телом и душой, или интеллектом. Петрарка считал душу невольной пленницей тела. Физический мир был для него низшей, «извращенной» формой реальности, тогда как мир духовный, или интеллектуальный, которым можно было насладиться только после смерти, являлся единственным подлинным источником истины и счастья. Человек может быть «самим собой», только освободившись от телесной формы, а заслужить эту награду можно единственным способом – полностью отказавшись от земных искушений.
Для лигурийского гуманиста Бартоломео Фацио (ок. 1400–1457) физическое наслаждение было противоположностью человеческого достоинства. В трактате «О совершенстве человека» (De bominis excellentia) Фацио писал, что, хотя человек был создан по образу и подобию Господа, божественной и небесной является только душа. В отличие от тела, которое гниет и разлагается после смерти, душа бессмертна и способна вернуться к своим небесным истокам. Таким образом, совершенно ясно, что достоинство человека – не в воплощении телесных наслаждений, но в жизни духовной и в созерцании Господа. Фацио зашел настолько далеко, что начал сурово осуждать тех слепцов, которые, «забыв о своем совершенстве и достоинстве, так страстно стремятся… к растленным и преходящим наслаждениям». Другими словами, секс однозначно был явлением Infra dig (низким и недостойным).59
Но к середине XV в. эта давняя дихотомия пошатнулась. Возможно, под влиянием острого физического страха чумы мужчины и женщины начали задаваться вопросом, действительно ли душа и тело настолько различны между собой. Люди стали задумываться, а не обладают ли они большим достоинством, чем это полагали Петрарка и Фацио.
Стереотипы сломал флорентийский энциклопедист Джаноццо Манетти (1396–1459). Отказавшись от жесткой и бескомпромиссной морали прошлых веков в трактате «О достоинстве и превосходстве человека» (De dignitate et excellentia hominis), он предложил более позитивный взгляд на человеческую природу.60 Его подход был исключительно оригинальным. Не то, чтобы в главном он расходился с Петраркой, Фацио или даже средневековым папой Иннокентием III. Он соглашался с тем, что между телом и душой есть разница. Но, по Манетти, это не означало того, что жизнь должна быть сплошной чередой несчастий. Как раз наоборот. По мнению Манетти, бог создал мир для человека. И хотя человечество обладает двумя натурами – телесной и духовной, – бог не просто создал человека цельным, но еще и дал ему все средства, чтобы исполнить свою роль в схеме творения. Созданный по образу и подобию Господа человек обладал самыми разнообразными способностями – здравым смыслом, интеллектом, зрением, слухом, вкусом, осязанием, обонянием. Все это позволяет ему истолковывать физическую вселенную в соответствии с потребностями души и манипулировать всем окружающим в соответствии с собственным здравым смыслом во имя спасения. Таким образом, человек стал почти что Прометеем – изобретателем, способным не только наслаждаться окружающим миром, но еще и формировать собственную судьбу. Человек не обречен терпеть непостоянство и нестабильность земного существования, как полагали Петрарка и Фацио. Он сам является хозяином и мерой всего сущего. Манетти полагал человека «прекраснейшим, благороднейшим, мудрейшим, сильнейшим и, наконец, могущественнейшим» из всех животных.61
Эта идея была хороша сама по себе, но ее использование еще больше потрясло основы. По разумению Манетти, бог создал человека так, чтобы он мог следовать правильным путем, совершая более приятные поступки. Необходимое стало приятным. Стремление к наслаждению помогло человечеству не только выжить, но еще и стать цивилизованным. Как писал в «Диалоге о состоянии человеческой жизни и перенесении телесных болезней» (Dialogus de humanae vitae conditione et toleranda corporis aegritudine) Аурелио Липпо Брандолини (ок. 1454–1497)62:
…определенные наслаждения и удовольствия предусмотрены природой при тех действиях, которые направлены на пропитание и размножение, и человек не должен губить свою жизнь или жизнь своего потомства скукой и тяжким трудом, поскольку это может привести к погибели человеческой расы. Необходимость постепенно превратилась в роскошь. Люди стали искать не только достаточного, но и того, чего желает страсть. И постепенно дошло до того, что люди стали считать, что не могут ни в коей мере жить без муки, вина, шерсти, зданий, а многие даже без благовоний, притираний, украшений и прочих удовольствий. И поэтому люди создали сельское хозяйство, навигацию, строительство зданий, бесчисленные полезные искусства. И все их труды были направлены к тому, чтобы питаться изысканно, иметь изобилие одежды и строений, и наслаждаться этими радостями, которые порой называют такими жалкими и бессмысленными.63
Другими словами, физическое наслаждение стало восприниматься как неотъемлемая часть человеческого существования: мужчины и женщины просто обязаны наслаждаться, чтобы исполнить свою роль в божественном плане для человечества. Манетти пишет:
Осмелимся утверждать (если не будем беспрестанно жаловаться и не будем слишком неблагодарны, упрямы и разборчивы), что в нашей обычной и повседневной жизни мы владеем большими видами наслаждений, чем мучений. Ибо нет ни одного действия человека, если тщательно и со вниманием рассмотреть его природу, – и это достойно удивления, – из которого человек не извлекал бы в высокой степени наслаждения; ведь от каждого из внешних чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания – он получает всегда такие большие и сильные наслаждения, что, по-видимому, некоторые оказываются иногда излишними и ненужными. Трудно и, пожалуй, невозможно сказать, сколько наслаждений испытывает человек то от ясного и отчетливого созерцания прекрасных тел, то от слушания музыки и рассказов о разнообразных и великих деяниях, то от вкушения разнообразных яств на приятных и сладостных пирах, то от обоняния аромата цветов и подобных запахов, то, наконец, от прикосновения к нежнейшим вещам. Таким образом, если люди… в повседневной жизни получают больше наслаждений, чем мучений от тягот и страхов, то они должны радоваться и утешаться, а не жаловаться и сетовать, тем более что сама природа доставляет в большом изобилии множество средств от холода, жары, трудностей, горестей и болезней… которые, скорее, нежны, приятны, сладостны и вызывают наслаждение. В самом деле…когда мы находим удовольствие в утолении голода и жажды, когда едим и пьем, так равным образом радуемся, согреваясь, охлаждаясь, отдыхая.[10]64
Еще более справедливо все это, когда речь заходит о сексуальных наслаждениях. Объясняя, что сексуальный экстаз был создан по совершенно определенным причинам, Манетти использует почти дарвиновские аргументы:
Впрочем, вкусовые ощущения являются в известной мере гораздо более приятными, чем все осязательные ощущения, за исключением, однако, общения полов. Природа, искуснейшая и мудрейшая… неопрометчиво и случайно, но, как говорят философы, с ясным основанием и по очевидным причинам сделала так, чтобы люди получали при половом общении гораздо больше наслаждения, чем при принятии пищи и питья, потому что она стремится более к сохранению человеческого рода, нежели отдельных индивидов. 65
Если бы человек не получал наслаждения от физических удовольствий, утверждает Манетти, он не только забыл бы собственную природу, но еще и навредил бы и себе, и человечеству в целом.
Сколь бы увлекательны и интересны ни были аргументы Манетти, тем не менее он оставил своим критикам возможность для несогласия. Даже если принять, что человечество обязано наслаждаться всеми доступными удовольствиями, то, что Манетти сохраняет разделение между телом и душой, ставит перед нами вопрос, а каков фактический масштаб счастья. Физические наслаждения хороши и полезны, может сказать критик, но достойнейшей частью человека все равно остается душа. А если это так, то будет справедливо спросить, не являются ли наслаждения души выше наслаждений тела?
Решить эту проблему выпало на долю соотечественника Манетти, священника-филолога Лоренцо Валлы (ок. 1407–1457). Резкий, вспыльчивый, невероятно раздражительный Валла заполнил пробелы в теории Манетти, яростно отстаивая физические наслаждения в диалоге «О наслаждении» (De voluptate) (1431).66 Этот труд написан в форме диалога между тремя друзьями, каждый из которых представляет определенную философскую школу.67 Валла рассматривает относительные достоинства жизни в наслаждениях и в созерцании и в процессе сосредоточивается на истинной природе счастья.
Вначале Валла замечает, что Аристотель выделял три образа жизни – жизнь наслаждений, гражданская, или политическая, жизнь и созерцательная жизнь.68 Каждый образ жизни можно вести и ради собственного блага, и ради достижения счастья. Однако, по мнению Валлы, в этом разделении существует проблема. Как мы можем говорить, что все три образа жизни можно одновременно вести и ради сообственного блага, и ради счастья? Из этого следует, что счастье свойственно всем трем образам жизни, но в разной степени. Оно не может присутствовать во всех трех одновременно. Поскольку счастье должно быть состоянием абсолютным, то Валла полагал, что для его обретения все три образа жизни должны сочетаться. Ни один из них не может быть выше других, и все они являются частью «доброй жизни». Другими словами, наслаждение – это неотъемлемая часть счастья.69
Конечно, Валла был не глуп. Он понимал, что его взгляд вызовет серьезные возражения. В частности, он предполагал, что некоторые его наиболее консервативные друзья попытаются утверждать, что даже если «наслаждение» является частью счастья, то понимать эту концепцию можно по-разному. Валла на самом деле понимал, что кто-нибудь неизбежно будет утверждать, что наслаждение интеллектуальное выше наслаждения физического, а «созерцание» – это идеальный образ жизни. Преисполнившись решимости одержать победу над критиками, Валла тут же разнес этот аргумент в клочья.
Поскольку слово «наслаждение» используется для описания и интеллектуальных, и физических удовольствий, Валла полагал, что оба рода этих удовольствий идентичны: оба являются частью истинного наслаждения. Было бы глупо проводить искусственную границу между ними. Хотя телесные и духовные удовольствия отчасти отличаются друг от друга, и тело и душа испытывают одинаковое наслаждение. Таким образом, невозможно считать созерцательную жизнь чем-то особым и более высоким. Даже если кто-то и говорит о жизни созерцательной, Валл подобно Эпикуру утверждал, что, поскольку все типы удовольствий идентичны, созерцание направлено на наслаждение, а наслаждение одновременно является и интеллектуальным, и физическим.70 Приняв эту точку зрения, становится очевидно, что стремление к наслаждению является фактически частью созерцания, а, следовательно, чувственность есть лучший – в действительности единственный – добродетельный образ жизни.
Валла и Манетти выработали более позитивное и глубокое восприятие человеческого существования. Благодаря им появилось работоспособное теоретическое обоснование нового духа чувственного наслаждения, который с такой страстью и радостью воспевали Боккаччо и Лоренцо де Медичи. Секс и наслаждение перестали быть чем-то низким и недостойным. Они стали восприниматься как сущность человеческого достоинства. И этот урок Микеланджело воспринял очень близко к сердцу.
Акт IV. Разрешение
Идеализируя Томмазо де Кавальери подобно Данте, терзаясь скорбью и ненавистью к себе на манер Петрарки, временно уступая своей страсти со всем пылом Боккаччо, Валлы и Лоренцо де Медичи, Микеланджело неизбежно оказался в затруднительном положении. С одной стороны, он любил далекого и порой холодного Томмазо, видя в нем воплощение всего истинного и доброго, и близость смерти заставляла его отказываться от всех форм любви, кроме самых чистых и духовных. Но, с другой стороны, он испытывал непреодолимое сексуальное желание, которое он удовлетворял и которым наслаждался. Пытаясь разрешить этот конфликт в противоречивых традициях ренессансной мысли, Микеланджело буквально разрывался. Ему нужно было найти способ примирить две стороны своей натуры. Ему нужно было найти способ объединить любовь, секс и смерть.
И в 1533 г. Микеланджело получил откровение. Мы не знаем, пришел ли он к этому постепенно, или это было мгновенное озарение. Но сквозь тучи мучительных отношений блеснул луч решения. Сплетни друзей стали его раздражать. Он начал понимать, что никакого конфликта и быть не должно. Небесное и земное сплелись вместе в цепи добра и великолепия, которая соединила тело с самим богом. Таким прекрасным – и таким соблазнительным – Томмазо делало не то, что он воплощал в себе все совершенное, но то, что его красота сама по себе являлась частью божества. Наслаждения плоти, любовь к идеалу и жажда добродетели могли воссоединиться. В одно и то же время Микеланджело мог любить Томмазо физически и духовно. Новая форма любви стала почти что актом религиозного поклонения. Ощутив прилив вдохновения, Микеланджело написал одно из самых откровенных своих стихотворений:
В твоем лице прекрасном вижу, господин мой, То, что в этой жизни невозможно выразить словами; И хоть одета плотью моя душа, Но все же она часто воспаряет к богу. И если глупая, низкая, озлобленная толпа Указывает на других, считая их себе подобными, Мне дела нет до этой злобной воли, Со мной любовь, и вера, и чистое желание добра. Для мудрецов нет ничего, что мы бы знали Больше, чем источник милосердия, Откуда мы вышли, Чем все прекрасное здесь внизу; Ни другой пример, другой плод Небес на земле; тот, кто любит тебя с верой, Взмывает к Богу ввысь, и смерть сладка.71Те же чувства сквозят в «Похищении Ганимеда» [ил. 17] – на втором рисунке, подаренном Микеланджело Томмазо в конце 1532 г. В качестве сюжета художник избрал историю божественной влюбленности. Как Томмазо должен был знать из «Метаморфоз» Овидия, Ганимед был скромным троянским пастухом, но его невероятная красота возбудила в Зевсе страсть. Поддавшись ей, бог похитил Ганимеда. На рисунке Микеланджело Зевс, превратившийся в орла, несет юношу на Олимп, где Ганимеду суждено стать виночерпием. Но на лице Ганимеда мы не видим ни удивления, ни испуга.72 Лицо юноши выражает любовное томление и чистый экстаз. Похоже, Микеланджело изобразил себя в обоих персонажах своего рисунка одновременно. Подобно Зевсу, он сгорал от страстного желания физически обладать прекрасным юношей и в то же время стремился вознести юную красоту ввысь, к вечности платонических наслаждений. Подобно же Ганимеду, он чувствовал, как любовь, которой он был не в силах сопротивляться, возносит его в небеса. Другими словами, любовь физическая стала не просто актом поклонения, но и возвышенным опытом. Все – любовь, физическая страсть, духовная близость, религиозные убеждения – слилось воедино.
В финальном «акте» драмы отношений с Томмазо де Кавальери Микеланджело пережил события своей юности. Юношей он жил в доме Лоренцо де Медичи и был вхож в кружок гуманистов, среди самых выдающихся членов которого были Марсилио Фичино и Джованни Пико дел-ла Мирандола.73 Эти неоплатоники (Ричард Маккенни называет их даже «нео-неоплатониками») тщательно изучали и переводили труды греческих философов.74 Им удалось соединить различные течения ренессансной философии в среде, проникнутой не только бесконечным обожанием физической красоты, но и бесконечным расширением интеллектуальных горизонтов. И хотя нет никаких сведений о том, что Микеланджело когда-либо глубоко изучал их труды, нет сомнений в том, что их идеи были ему знакомы – ведь он жил в атмосфере интеллектуальных дебатов и чувственной вседозволенности, которая царила в палаццо Медичи-Риккарди. Спустя много лет Микеланджело, пытаясь избавиться от внутренних мучений, вполне мог вспомнить те споры, свидетелем которых он был в юности. И Фичино, и Пико делла Мирандола послужили ему образцом для последней самой страстной фазы эволюции его любви к Томмазо де Кавальери.
Истинные люди Ренессанса по невероятной любви к знаниям и калейдоскопичности интересов, Марсилио Фичино (1433–1499) и Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494) были эклектичными, восторженными и глубоко интеллектуальными людьми, которых интересовало и колоссальное разнообразие соданий, и наслаждения физического мира. Фичино учился у греческого ученого Платона. Он первым перевел все труды Платона на латынь. Несмотря на имеющийся сан, Фичино испытывал сильную, но скрытую гомоэротическую страсть, которая проявлялась в его пылких письмах к Джованни Кавальканти. Кроме того, он живо интересовался астрологией. Благородный Пико, как и его друг, в юности овладел латынью и греческим, но, что было довольно необычно, хорошо владел арабским и иудейским. Ему была свойственна уникальная форма синкретизма, в которой соединялось все – от Платона и Аристотеля до каббалы и трудов Гермеса Трисмегиста. И в то же время у него случился скандальный роман с одной из замужних кузин Лоренцо де Медичи. А папа Иннокентий VIII обвинял его в ереси. Если Фичино умер в собственной постели в Карреджи, то Пико был отравлен, по-видимому, за тесные связи с Савонаролой.
Но из всех их многочисленных интересов, которые привлекали Микеланджело и влияли на него, самым важным была социальная среда, в которой они вращались. Хотя вряд ли можно называть этот кружок «академией»75, но Фичино и Пико наряду с другими и, в том числе Кристофор Ландино, образовали большую группу. По приглашению Лоренцо Великолепного члены этой группы регулярно собирались на вилле Медичи в Карреджи, чтобы обсудить новейшие идеи. Атмосфера там царила потрясающая (во дворце Медичи-Риккарди Микеланджело застал лишь слабую тень былого величия). В восторге от открытия и новых переводов текстов Платона и неоплатоников замечательные интеллектуалы, собиравшиеся в Карреджи, создали настоящий культ красоты. Они испытывали безграничную радость от потрясающих возможностей человеческого разума. Между ними царил дух дружбы, любви, скрытая сексуальная напряженность и мощное стремление примирить новые знания с христианской верой. В этой интеллектуальной обстановке Фичино и Пико стремились расширить горизонты человеческого опыта и выйти за пределы, известные ранее. А еще они ощущали непреодолимое желание собрать все воедино, создать систему взглядов, которая бы одновременно и объясняла, и оправдывала сущность всего, что открылось им на вилле Лоренцо.
В этой среде царила увлеченность единством всего сущего. Эта идея которая объединила в себе поистине великую концепцию человеческого достоинства и страстную преданность любви, вращалась вокруг двух тесно связанных между собой представлений. С одной стороны, все связано. Неоплатоники воспринимали Вселенную не как нечто, состоящее из двух совершенно разных миров – духовного, или небесного, и физического, или земного. Они видели во Вселенной ряд «иерархий», каждая из которых была связана с остальными цепью снижающегося совершенства. С другой стороны, каждая иерархия в цепи определялась той степенью, в какой она воплощала в себе Платоновы «формы» или «идеи». Таким образом, если «космический разум» – высшая и самая совершенная иерархия – являл собой высший мир платоновских идей и ангелов, то «мир природы», где обитали люди, состоял из тленных форм и материй.
Следствия этой идеи были очень значимыми. Хотя различные иерархии были в определенном смысле различны, тем не менее их объединяло «божественное влияние, исходящее от Бога».76 Все были сопричастны богу через добродетель своего создания. Более того, каждая иерархия обязательно отражала характер тех, что располагались выше нее. Формы и идеи «космического разума», к примеру, были «прототипами того, что существует в низших зонах». Таким образом все, что находилось в «мире природы», являлось менее совершенным воплощением прототипа из высших миров. Как писал Пико в труде «Гептапл, семь способов изложения сотворения мира в течение шести дней» (Heptaplus),
все, что есть во всех мирах, находится также и в каждом из них, и ни один из них не содержит того, чего не было бы в каждом из других… Чтобы ни существовало в низшем мире, будет существовать и в мире высшем, но в более возвышенной форме; и что бы ни существовало в высшем мире, можно найти и в мирах низших, но в ухудшенном и, можно даже сказать, фальшивом виде… В нашем мире огонь является элементом, в мире небесном сходная сущность – это солнце, а в мире сверхнебесном – ангельское пламя Разума.
Но подумайте, насколько они различны: элементарный огонь обжигает, небесный огонь дарит жизнь, а сверхнебесный любит.77
Неоплатоники полагали, что, поскольку «мир природы» в схеме творения расположен довольно низко, на земле не может существовать совершенной красоты. Но все, что хотя бы несовершенным образом прекрасно, является воплощением более тонкой, небесной красоты, а следовательно, отражает фрагмент высшей «идеи» или истины. Таким образом, даже хотя человек обладает несовершенным телом, его физическая форма иногда может отражать меру идеала, тогда как его мыслящая душа – существо бестелесное – является еще более прямым отражением божественности.
Фичино и Пико говорили, что если бы это было правдой, то человек имел бы возможность возвыситься над ограничениями телесного существования и достичь некоего «союза» с высшей, божественной «идеей», по образу которой построено все сущее. Все дело в созерцании, с помощью которого человек, обладающий уникальной способностью к мышлению и идеально устроенный для такой задачи, может «подниматься» и «спускаться» в высшие и низшие миры.78 Именно в созерцании «душа отделяется от тела и от всех внешних вещей и становится самоей собой… и тогда она не только открывает собственную божественность, но еще и постепенно поднимается в воспринимаемый мир, к высшим идеям и к самому Богу – источнику всего сущего…».79 Поднимаясь в высший мир божественной идеи (а этот опыт Фичино вслед за Платоном называет «божественным безумием» и приписывает иудейским пророкам и древним сивиллам), человек ощущает невыразимую благодать, чувство чистого и всепоглощающего экстаза.
Такая идея созерцания и экстатического союза была неразрывно связана с идеями любви. К созданию вселенной Господа мотивировала любовь. Эта любовь воплотилась в красоте, которая указала путь к самому богу. Жизнь созерцательная, направленная к высшему союзу, позволяет в полной мере познать глубинный характер красоты и вызывает желание абсолютного воплощения этой красоты. И таким желанием для Фичино и Пико было не что иное, как любовь. Другими словами, для созерцания необходима любовь, а для любви необходимо стремление к красоте. Таким образом, мы приходим к тому, что наслаждение красотой неразрывно связано с экстазом и даже с поклонением.
Хотя у картины Сандро Боттиччелли «Рождение Венеры» (ок. 1486) существует множество разнообразных интерпретаций, похоже, что художник хотел выразить в ней именно эту идею, ведь картина предназначалась для виллы Медичи в Карреджи. На самой известной и самой узнаваемой картине Боттичелли изобразил богиню Венеру, родившуюся из отрезанных яичек Урана, которые Кронос выбросил в море. На картине мы видим, как богиня выходит на берег острова Кифера. Безупречно прекрасная она буквально воплощает собой любовь. Но желание и любовь, вызываемые ее красотой, не всегда целомудренны (о чем говорит раковина, на которой стоит богиня, и одеяние, в которое закутывает ее нимфа Ора, воплощение природы). И все же они созданы для того, чтобы возвысить человека до небесного мира. Красота Венеры говорит о том, что она символизирует божественную любовь, и экстаз, ею вдохновленный, связан с созерцанием этого факта.
Фичино еще больше раздвинул границы созерцания. Он сознательно возродил упоминание о «платонической любви» в своем переводе и комментариях к «Симпозиуму» Платона. По мнению Фичино, сущность созерцания можно постичь в любви других людей и в дружбе с теми, кто стремится к той же цели. Естественно, он имел в виду мощную, духовную связь между сходно мыслящими индивидуумами. Но хотя он тщательно избегал откровенного оправдания несдерживаемой сексуальной страсти, соотнесение созерцания с «desiderio di bellezza» обязывало Фичино наполнить эту связь общим восторгом перед красотой – особенно гомоэротической красотой.
Благодаря этим трудам удалось разрешить давнюю неопределенность в философии Ренессанса. Указывая на единство всего сущего, неоплатоники воспевали способность человека воссоединиться с богом через такую форму созерцания, которая требовала не только возвышенного наслаждения красотой (как отражением божественного величия), но и через глубокую и долгую любовь между индивидуумами. Эта любовь сама по себе была актом поклонения и возвышения. Она поднимала человека на небеса. И она связывала религиозные убеждения, чудеса физического мира и поразительные возможности разума в единое, полуоргазмическое целое.
В этом измерении неоплатонизма и нашел Микеланджело свое спасение. Неспособный или не желающий иметь истинно сексуальные отношения с Томмазо де Кавальери он, по крайней мере, нашел способ поклонения, увидев в нем отражение божества, любя его как образец человеческой красоты и не страшась греха, наслаждаясь восторгом, который был ему так хорошо знаком. Отказавшись от морали самобичевания Петрарки, ненасытного разврата Боккаччо и Валлы, он стал учиться у Фичино и Пико. И Томмазо стал его собственной Венерой, полубогом, который указывал путь на небеса. И этого полубога можно было обожать физически, духовно и целомудренно.
* * *
За годы, прошедшие с момента первой встречи с Томмазо де Кавальери, Микеланджело пережил колоссальную боль и огромную радость. Он глубоко любил, он грустил из-за раздоров и отказов, он терзался чувством вины и находил экстаз в обожании. Но, пожалуй, самое главное заключалось в том, что в своих стихах и рисунках он сумел понять и выразить свои глубинные чувства через идеи и образы, которые выросли из восприятия мира и любви другими мыслителями. Часто обращаясь к языку классической античности, он пережил радости и скорби Данте, Петрарки, Боккаччо, Манетти, Валлы, Фичино и Пико в попытке найти утешение и удовлетворение. И вместе с этим он пережил личные драмы, которые вдохновили и мотивировали появление культурных шедевров Ренессанса. В этом отношении сложные отношения Микеланджело с Томмазо можно считать микрокосмом всего Ренессанса. Они подчеркивают ту степень, в какой интеллектуальный мир художника эпохи Ренессанса опирался не на возвышенные идеалы, оторванные от реальной жизни, но на отчаянную попытку постичь мрачные и прекрасные реалии повседневной жизни человека.
ll. Мир мецената эпохи Возрождения
1. Искусство власти
Днем 17 апреля 1459 г. 15-летний Галеаццо Мария Сфорка прибыл в палаццо Медичи-Риккарди в сопровождении большой свиты прекрасно одетых конников.1 Красивый и красноречивый юноша обладал достоинством и здравым смыслом, какие подобали бы принцу вдвое его старше. Несмотря на юность, отец, герцог Милана, отправил его во Флоренцию с важной дипломатической миссией.2 Утром его приветствовали приоры, а затем он направился в дом Козимо де Медичи – фактического правителя города, чтобы начать переговоры.
Опытный мастер международной политики, 70-летний Козимо тщательно продумал, где во дворце встретить юного гостя. Первое впечатление очень важно, и не только в дипломатии. Хотя придворный этикет требовал принять столь аристократического гостя в одном из больших публичных залов на piano nobile, характер обсуждаемых проблем заставил Козимо дождаться Галеаццо Марию в небольшой и более интимной частной капелле дворца. И это был очень мудрый выбор.
Галеаццо Мария Сфорца прибыл от герцогского двора Милана. Он привык к великолепию. Но то, что он увидел, переступив порог, могло бы поразить сына даже самого богатого принца. Крохотная капелла – свита миланца с трудом там поместилась бы – поражала буйством жизни и цвета. Три стены были расписаны яркими, пышными фресками, изображающими «Шествие волхвов в Вифлеем» [ил. 18]. И хотя ко времени визита Галеаццо Марии они еще не были закончены, но все равно поразили бы воображение любого изысканного ценителя и знатока. Это был «сказочный мир веселья и обаяния».3 Три царя путешествовали «по-королевски в окружении безмятежного пейзажа». Фрески были наполнены реалистическим деталями. Художник Беноццо Гоццоли идеально передал роскошь и торжественность библейской процессии. Заказчики не жалели денег. Гоццоли изобразил персонажей своих фресок в самых ярких и драгоценных нарядах, не жалея самых дорогих материалов – золота и ультрамарина.4
Но если первой реакцией Галеаццо Марии было бы изумление, то затем Козимо показал бы ему нечто большее, чем внешняя красота. В капелле было нечто такое, чего сразу не заметишь. Несмотря на все богатство и живость, фрески Гоццоли не просто рассказывали историю волхвов. Они делали нечто совершенно другое.
Хотя внешне шествие волхвов напоминало впечатляющие процессии, которые во Флоренции проходили в день Крещения, художник вне сомнения использовал библейскую историю для прославления богатства и власти Медичи.5 Каждый персонаж на фресках Гоццоли был портретом одного из членов совета Флоренции, который в 1439 г. собирался в попытке примирить Восточную и Западную Церкви. Главные роли отводились членам семейства Медичи.
На южной стене был изображен бывший византийский император Иоанн VIII Палеолог. Одетый в роскошные восточные одеяния и увенчанный тюрбаном он изображал Валтасара. На западной стене в виде Мельхиора художник изобразил патриарха Константинополя Иосифа II. Мельхиор с длинной белой бородой был изображен верхом на осле. На восточной стене располагалась еще незаконченная главная сцена. Третьего и самого юного из волхвов Каспара художник изобразил в виде красивого юноши в великолепной золотой мантии. Это было идеализированное изображение внука Козимо, Лоренцо Великолепного – тогда он был еще 10-летним мальчиком. А за ним художник изобразил самого Козимо в сопровождении сына Пьеро – «подагрика» – и свиты экзотических слуг. В толпе фигур позади Козимо Галеаццо Мария наверняка разглядел бы прелатов, в том числе Исидора Киевского и кардинала Энея Сильвия Пикколомини (впоследствии папы Пия II), а также знаменитых ученых – греков Аргиропулоса и Георгиоса Гемистуса Плетона. В свите Гоццоли изобразил и художников, в том числе и себя самого. В крайней левой части находились две незаконченные фигуры, но по одним лишь лошадям было понятно, что это будут портреты влиятельных аристократов. В одном уже можно было узнать Сиджисмондо Пандольфо Малатесту, владетеля Римини, а вторым вскоре должен был стать сам Галеаццо Мария.
Это был великолепный ход. Хотя меценатов часто изображали, как «участников или свидетелей священных драм»6, «Шествие волхвов в Вифлеем» уникально тем, что библейский сюжет оказался наполненнным символами светских ритуалов и превращен в средство удовлетворения гордыни Медичи. «Никогда прежде вся семья не была еще включена в священную историю».7 И вскоре после этого другие семьи тоже стали также явственно использовать искусство для подкрепления своей уверенности и честолюбия.
Восхождение мецената
Присмотревшись к фрескам Гоццоли, Галеаццо Мария Сфорца не мог не признать, что в лице Козимо де Медичи он встретил человека высокой культуры и утонченности. Он обладал хорошим вкусом, чтобы заказать поистине потрясающие фрески одному из самых блестящих художников Флоренции. И в то же время он решил изобразить себя в обществе самых ярких умов своего времени. Несомненно, Козимо де Медичи был очень глубоким и утонченным человеком. Не стоило и сомневаться, что такому человеку любой доверил бы и деньги, и политическую власть.
Именно на такой вывод Козимо и рассчитывал. Он долго и упорно создавал такой образ. Сделав огромное состояние в банковском деле, он находил невыразимое наслаждение в познании искусств и общении с лучшими художниками своего времени. Он заказал Микелоццо реконструкцию дворца Медичи-Риккарди. Он энергично покровительствовал самым талантливым художникам эпохи. На него работали Донателло, Брунеллески, Фра Анжелико и Фра Филиппо Липпи. В семейном дворце постоянно велись оживленные дебаты на самые разные художественные и интеллектуальные темы. Козимо всегда с радостью приветствовал новые таланты. Он дружил с теми, кто обладал явными способностями, давал им новые заказы и обсуждал эскизы и наброски будущих проектов.
Козимо стремился создать себе репутацию не просто покровителя, но просвещенного ценителя и знатока. На его огромные деньги художники, поэты и музыканты соревновались друг с другом в восхвалении его знаний в самых возвышенных словах. Поскольку им было прекрасно известно, кем хочет видеть себя Козимо, они не ограничивались одной лишь культурной утонченностью, но восхваляли и его общественные добродетели. Вот как говорил его близкий друг, книгопродавец Веспасиано де Бистиччи:
Давая аудиенцию ученому, он обсуждал с ним труды и книги. В обществе теологов, он демонстрировал знакомство с теологией – эту отрасль знаний он всегда изучал с наслаждением. То же касалось и философии… Музыкантов поражало его знание музыки, в которой он находил большое удовольствие.
То же относилось к скульптуре и живописи; эти искусства он понимал в совершенстве и оказывал благодеяния всем достойным мастерам. Он был большим знатоком архитектуры. Без его мнения и совета не строилось и не завершалось ни одно сколь-либо значимое публичное здание.8
В добродетели просвещенности и меценатства Козимо преуспел, как никто другой. Его вкус и проницательность были не просто хороши, но и заслуживали всеобщей похвалы, потому что он с готовностью ставил их на благо своего города. Веспасиано задавался вопросом, кто мог бы не любить такого человека: Очарованный его меценатством и знаниями современних позже писал: «Сколько знаний демонстрирует он в области неопределенного! Какая любовь к стране наполняет его бодрые мысли!».9
«Шествие волхвов в Вифлеем» было лишь очередным этапом длительной кампании по созданию поразительно впечатляющего образа изысканности и богатства Козимо. Фрески свидетельствовали, что он готов поддерживать это впечатление с максимальным эффектом. Козимо и Пьеро да Медичи не просто заплатили Гоццоли, чтобы он расписал их капеллу, но еще и сами работали вместе с ним. Они самым активным образом участвовали в создании фресок и с полным правом могли считать себя соавторами. Они ценили характер и силу искусства и с сознанием дела осуществляли вполне реальный контроль над содержанием и дизайном фресок – включили в контракт с Гоццоли определенные обязательства и в процессе работы постоянно вели диалог с художников. Так, Козимо и его сыну удалось поставить искусство Гоццоли на службу собственным культурным амбициям. Они сделали все, чтобы их считали достойными уважения, думающими о благе общества ценителями прекрасного самого безупречного вкуса. Подчинив художника своей воле, они сумели эффективно повысить свой статус – и весьма существенно.
Воплощение стремления Козимо повысить свое положение посредством искусств и культуры, «Шествие волхвов в Вифлеем» иллюстрирует значимость меценатства для развития культуры в эпоху Ренессанса и является кульминацией того, что мы могли бы назвать «восхождением мецената». Этот процесс шел параллельно «восхождению художника» и подпитывал его. Он включал в себя трансформацию не только социального и интеллектуального уровня меценатов, но и способа взаимодействия меценатов с художниками. И это оказало колоссальное влияние на то, как создавалось высокое искусство.
До тех пор пока ренессансное меценатство вращалось исключительно вокруг денег, затраченных на произведения искусства, «восхождению мецената» способствовали два основных фактора. С одной стороны, Ренессанс привел к значительным социоэкономическим трансформациям в «бизнесе культуры». В покровительстве художникам, конечно же, не было ничего нового. Меценатство с начала времен служило верным показателем богатства и статуса. Подкрепляли свое общественное положение путем затрат на искусство многие богатые и знаменитые – от Августа и Мецената до Карла Феликого и Фридриха II.
Но в результате радикальных политических и экономических перемен Ренессанса, в количестве и качестве меценатов, которые активно участвовали в процессе заказа проиведений искусства, произошел настоящий взрыв. С середины XIII в. происходили расширение торговли и фрагментация политической власти. И это привело к значительному увеличению количества тех, кто имел деньги и мотивы для заказа произведений искусства, которые подтверждали бы их богатство и статус.
К началу XV в. деньги в архитектуру, живопись и скульптуру вкладывали не только императоры, короли и папы римские: местные дворяне [signori], коммуны, гильдии, купцы, нотариусы и даже скромные торговцы – искусством заинтересовались все. Все, кто мог себе позволить, покупали маленькие картины на религиозные сюжеты и гигантские светские полотна. Кто-то заказывал такие произведения в дар церквам и монастырям. Все стремились подкрепить свое положение и подчеркнуть собственное богатство. Медичи, происхождение которых было весьма туманно, явили собой один из самых поразительных примеров меценатства. Они неожиданно стали очень богаты и хотели окружить себя роскошью, которая прежде могла принадлежать только по-настоящему великим и знатным.
С другой стороны, политические и экономические перемены раннего Ренессанса привели к сдвигу в оценке новым классом меценатов просвещения, от которого зависело развитие искусства и всей культуры в целом. Уже в середине XIII в. стало ясно, что невозможно управлять делами территориальных государств без тех, кто хорошо владеет латынью и гуманитарными науками. Нужно было составлять законы, вести записи, отправлять посольства, убеждать людей высокого и низкого происхождения. Изучение и подражание античной литературе – качество, которое историки полагают одной из определяющих характеристик гуманизма, – стало обязательным не только для растущего класса профессиональных чиновников (таких как Колюччо Салютати и Леонардо Бруни), но и для торговой олигархии и благородных signori.
Но по мере того как образование становилось все более и более необходимым для государственного управления, оно превратилось в важнейший символ статуса и знак «добродетелей», необходимых для общественной жизни. Любой, кто хотел принимать участие в политической власти, быстро понимал, что ему необходимо ознакомиться с новейшими культурными и интеллектуальными тенденциями. К примеру, Петрарка советовал Франческо да Каррара продолжать изучение гуманитарных наук, чтобы править мудро и справедливо.10 Но и Макиавелли считал истинного государя человеком не только действия, но и просвещенности.11 Неудивительно, что довольно скоро в число «необходимых» навыков вошло знакомство с визуальными искусствами и светской литературой, а также с античной классикой. В книге «О придворном», к примеру, Бальдассаре Кастильоне утверждал:
В науках придворный должен быть образован более чем удовлетворительно, по крайней мере в тех, которые мы зовем гуманитарными, он должен иметь познание не только в латинском, но и в греческом языке, ибо на нем прекрасно написано о многоразличных вещах. Пусть он будет начитан в поэтах и не менее в ораторах и историках, а сверх того искусно пишет прозой и стихами, в особенности на нашем родном языке.[11]12
То же самое относилось к живописи и скульптуре. Кастильоне считал, что придворный просто обязан хорошо знать эти искусства не только потому, что они могут дать «много полезных навыков… не в последнюю очередь, для военных целей», но и потому, что они помогают лучше понимать сложность и величие мира, которым ему предстоит управлять.13
По мере того, как гуманитарные науки стали считаться важнейшим показателем статуса, новый класс меценатов захотел продемонстрировать свою образованность, оказывая покровительство художникам и литераторам в максимально возможном объеме. Двор, дом или город, где работали художники, скульпторы, поэты и философы, считался, по определению, достойным уважения и высокой оценки. В этот период пишется много «зеркал принцев», в которых подчеркивалась важная роль покровительства искусствам. И каждый, кто занимался меценатством, – особенно Козимо де Медичи, – очень хорошо усвоил этот урок.
В результате того, что искусство стало считаться одновременно и символом статуса, и демонстрацией образованности, сложился новый класс умных, образованных покровителей, у которых сложились еще более тесные отношения с нанимаемыми ими художниками. Владея навыками бизнеса и управления, они понимали важность контрактов и хотели удостовериться, что получат лучшее качество за свои деньги. Содерини, который давал Микеланджело советы о носе «Давида», был не исключением. Меценаты – отдельные покровители или представители определенных институтов – с удовольствием предлагали внести мелкие изменения, а то и требовали серьезных переделок. Козимо и Пьеро де Медичи, в частности, постоянно вели диалоги с художниками, которым они давали заказы. Примерно во время визита Галеаццо Марии Пьеро попросил Гоццоли убрать ангелов с его фресок на основании того, что ему их присутствие показалось излишним и противоречащим условиям контракта. Но если Гоццоли обычно спокойно выслушивал подобные предложения (хотя ангелов он так и не убрал), то других художников вмешательство Медичи раздражало. Филиппо Брунеллески приложил огромные усилия к тому, чтобы построить «прекраснейшую и большую модель» своего проекта палаццо Медичи-Риккарди.14 И он был в ужасе, когда Козимо отверг его предложение как слишком показное и хвастливое. Брунеллески был в такой ярости, что сломал модель до основания.
К тому времени, когда во Флоренцию, чтобы встретиться с Козимо де Медичи приехал Галеаццо Мария Сфорца, покровительство искусствам достигло небывалых высот не только благодаря растущему количеству тех, кто хотел продемонстрировать свое положение, но еще и в результате того, что образованию и искусству стали придавать огромную ценность. Для новых дворян и зарождающихся институтов такие работы, как «Шествие волхвов в Вифлеем» Гоццоли, были прекрасным способом подчеркнуть свой статус через меценатство и продемонстрировать свои общественные достоинства и мудрость. А чтобы получить именно то, что им было нужно, такие люди не боялись связывать художников по рукам и ногам контрактами и постоянными переговорами.
Памятуя все это, неудивительно, что сегодня меценатов эпохи Ренессанса часто считают высококультурными людьми, настоящими «суперменами» от культуры. Учитывая их усилия по развитию живописи, скульптуры, архитектуры, музыки и литературы, а также стремление находить и поддерживать настоящие таланты, их легко считать образцами хорошего вкуса. Неудивительно, что к ним относятся с таким же почтением, как и к работам, которые были созданы по их заказу. Отношения между художниками и меценатами были настолько близкими, что трудно не поддаться искушению считать меценатов провозвестниками золотого века, значимость которых сопоставима со значимостью тех, кто работал на них. Стоя на месте Галеаццо Марии Сфорца и глядя на «Шествие волхвов в Вифлеем», Козимо де Медичи и его близкие купались в ауре высокой культуры, которая несла с собой ощущение общественной добродетели и достоинства. Разве человек с хорошим вкусом может быть плохим?
Сила искусства
Но это лишь часть истории. Точно так же, как мы не должны поддаваться соблазну видеть в художниках почти что идеальных существ, наделенных сверхчеловеческим талантом, так и более глубокий взгляд на социальный мир мецената эпохи Ренессанса и цели его меценатства не позволит вам смотреть на этих людей через розовые очки. И все проистекает из того факта, что искусство не было просто искусством.
Когда Галеаццо Мария Сфорца смотрел на «Шествие волхвов в Вифлеем», он понимал, что Медичи сознательно используют фрески для передачи конкретного политического сигнала, который выходит за рамки простого восхваления их статуса и образования. Изучая фигуры, изображенные на картинах – от худложников и философов до прелатов, signori, императоров и патриархов, – и расшифровывая их тайный смысл, он постепенно осознавал, что главный смысл капеллы – «узаконить доминирование Медичи во флорентийской политике» посредством искусства.15
Это были не мелочи. Официально Козимо был обыкновенным гражданином. Прошли годы с тех пор, как он в последний раз занимал официальный пост. Тем не менее все понимали, что он является главной силой в политической жизни Флоренции. Как паук, сидящий в центре гигантской паутины, он манипулировал огромной сетью клиентов, знакомых и друзей, которые в Синьории отстаивали его интересы. Взятки и принуждение помогали ему сделать свое слово законом. Как замечал папа Пий II:
Козимо ни в чем не знал отказа. В вопросах войны и мира его решения были окончательными, его слово было законом – слово не гражданина, а хозяина своего города. Правительство собиралось в его доме. На государственную службу избирались его кандидаты. Он пользовался поистине королевской властью – не имел только титула и двора.16
Хотя Флоренция в 1459 г. все еще гордилась тем, что до сих пор остается республикой, это была просто фикция. Флоренция принадлежала Козимо. Он был королем во всем, кроме титула.
«Шествие волхвов в Вифлеем» было частью гигантской рекламной кампании, направленной на окружение Козимо и его наследников аурой политической легитимности. Именно поэтому Медичи так тщательно обсуждали с Гоццоли даже самые мелкие детали фрески. С одной стороны, Медичи сознательно указывали на «тяжеловесов», которые их поддерживали. Окружив себя портретами великих и знатных, Медичи не только создали образ вполне функциональной политической сети, но еще и построили модель сетей, которые им хотелось бы создать в будущем.17 А с другой стороны, динамика визуальной ролевой игры являлась откровенным подтверждением политического статуса Медичи. Изображенный в образе Каспара юный Лоренцо де Медичи был размещен на равных с императором Иоанном VIII Палеологом и патриархом Иосифом II. Другими словами, семейство Козимо «демонстрировало себя достойным общества королей, поистине княжеским по чести и статусу, пусть даже и не по имени».18 В целом фрески являлись недвусмысленным подтверждением безграничной уверенности и честолюбия Козимо и однозначной демонстрацией намерения Медичи остаться властителями мощного и динамичного города, который считал себя центром культурной и политической вселенной.
Помимо тонкого политического сигнала, заключенного в образах, фрески Гоццоли отражают совершенно иную сторону «восхождения мецената». «Путешествие волхвов» указывает на тот факт, что меценаты отлично знали, что искусство как форма связей с общественностью, которой можно манипулировать и формировать по своему усмотрению, обладает большой силой.
Этот вывод проистекает из той же динамики, что стимулировала лучшие более изысканные стороны «восхождения мецената». Все дело заключалось в легитимности. Возникла острая потребность в ощущении авторитета в политической сфере. Коллапс императорской власти привел к тому, что Северная Италия рассыпалась на лоскутное одеяло соперничающих между собой городов-государств, расположенных между Альпами и Папской областью.19 В некоторых, например во Флоренции, Сиене, Перудже и Болонье, преуспевающие торговцы окончательно подавили остатки знати и создали республики, в которых главенство номинально принадлежало «гражданам». В других – Милане, Падуе, Мантуе – города сами (добровольно или недобровольно) пошли под власть всемогующего signore или правителя. Однако, несмотря на все различия, и города-республики, и «деспотии» столкнулись с общей проблемой. Постоянная угроза внешнего владычества и неослабевающая опасность фракционности и гражданской войны заставили города выработать некий метод отстаивания и своего права на самостоятельное существование, и легитимности своей системы правления.
Но существовала также столь же острая потребность в ощущении моральной справедливости к экономической сфере. Разбогатев на расширении торговли, торговых банков и производства тканей, в коммунах и деспотиях появилось множество «новых богатых», которые стремились подтвердить свою важную роль в управлении, а также оправдать приобретенное ими колоссальное богатство.
Появившийся гуманизм предлагал множество различных средств решения этой двойственной потребности в легитимности. Образованные нотариусы и чиновники обеспечивали функционирование городов-государств, опираясь на знания классического наследия. Тем самым они давали богатым и влиятельным столь необходимую им интеллектуальную поддержку.
Однако сколь ни важны были литература и политическая философия в наделении городов-государств ощущением легитимности, этого было недостаточно. Аудитория работ подобного рода была весьма ограничена. Учитывая, что они чаще всего создавались либо чиновниками (а не олигархами и деспотами), либо литераторами, отчаянно стремившимися отвоевать себе место под солнцем, возникал вопрос, а выходят ли подобные труды за рамки самовосхваления.
Альтернативный путь к легитимности заключался в замене уверенного утверждения литературной защитой. Новое просвещение в совокупности с широкомасштабным экономическим ростом и постепенным развитием художественных приемов открыло тем, кто жаждал укрепления своего положения, потенциальную ценность архитектуры и визуальных искусств, которые могли стать полезным инструментом во властной игре. И действительно, вооружившись глубокими знаниями гуманитарных наук, богатые и обладающие властью поняли, что живопись и скульптура открывает возможности, недоступные литературе и даже устной культуре. Строго контролируя вид и композицию художественных произведений и архитектурных проектов, меценаты признали, что визуальная демонстрация власти может быть гораздо более разнообразной, гибкой и тонкой, чем литературная. Искусство могло решать проблемы, которые невозможно было решить на бумаге. Можно было искусно моделировать политические отношения, демонстрировать богатство, укреплять связи с другими группами и индивидуумами через организацию и использование самых разнообразных иконографических средств. Более того, через искусство и архитектуру меценаты могли демонстрировать изысканные и пышные образы легитимности и авторитета широким слоям общества, которые все еще оставались неграмотными или в лучшем случае полуграмотными. Таким образом, хотя и не отрицая «восхождения художника», меценаты в то же время поняли, что потребность в легитимности превратила их в «утонченных, а в некоторых случаях и в высокопрофессиональных создателей образов».20
С конца XIII в. уникальная сила искусства в подтверждении легитимности городов, институтов и индивидуумов привела к взрыву в том, что мы могли бы назвать «рынком образов». Укрепляющиеся города-государства были самыми очевидными меценатами, вкладывающими деньги в искусство. Начали строиться общественные здания, которые отражали величие заказчиков. Ратуши во Флоренции (1299–1314) и Сиене (1298–1310) должны были доказывать стабильность и долговечных коммун.21 Напоминающие крепости дворцы – Палаццо Дукале в Мантуе и Кастелло Сфорцеско в Милане (строительство началось около 1310-1320-х гг.) отражали те же самые качества signori, которые управляли «деспотическими» государствами. Для украшения публичных пространств заказывались произведения искусства, которые прославляли либо независимость коммун, либо безграничное величие деспотов. В коммуне Сиены, к примеру, совет девяти заказал Амброджо Лоренцетти написать на фресках своего зала в Палаццо Публико монументальную фреску «Аллегория хорошего и плохого управления» (1338–1339).22 Фреска должна была стать визуальной демонстрацией достоинств республиканской системы управления. Позже (1465–1474) Андреа Мантенья получил заказ на украшение Камеры дельи Спози в мантуанском Палаццо Дукале фресками, изображающими signore Лудовико Гонзага в окружении семьи во время встречи со своим сыном, кардиналом Франческо Гонзага, императором Фридрихом III и королем Дании Христианом I в Боццоло 1 января 1462 г. После стремительного взлета Ренессанса даже папство ухватилось за идею меценатства обеими руками. К середине XV в. папы стали самыми влиятельными и богатыми покровителями искусств. Институты тоже были готовы использовать новый подход. Совместно с художниками они стали создавать утонченные и «приемлемые» общественные образы. Религиозные братства и гильдии вкладывали большие средства в искусство, свидетельством чему может служить богато украшенный фасад Орсанмикеле во Флоренции. На нем можно увидеть статуи работы практически всех ведущих художников того времени. Не отставали и отдельные граждане. Будь то непристойно богатые торговцы, влиятельные олигархи или воинственные придворные – все следовали примеру коммун и деспотий и использовали живопись и скульптуру для легитимизации своего господства в управлении и богатства. Каждый, кто из себя хоть что-то представлял, использовал искусство как форму власти.
Искусство настолько успешно подтверждало легитимность, что его развитие и переход на более высокий, новаторский уровень был практически неизбежен. Меценаты использовали для этого все имеющиеся у них средства, стремясь к высшей цели. Очень скоро логика этого процесса привела не только к возрастанию «секуляризации» религиозных сюжетов во имя амбиций меценатов, но и к размыванию границ между «публичным» и «личным», а также к расширению иконографии статуса. Козимо де Медичи, его прямые наследники и более предприимчивые современники стояли в авангарде этого развития. Они располагали впечатляющим арсеналом интеллектуальных ресурсов и успешно направляли художников к новым формам, которые отражали их собственные устремления. Яркая фреска Гоццоли «Шествие волхвов в Вифлеем», в которой гармонично сочетались визуальная роскошь, художественное мастерство и невероятное честолюбие, стала первым и наиболее полным выражением желания поставить художественные новации на службу укрепления собственной легитимности.
Хотя всегда есть соблазн сопоставить характер меценатов с красотой картин и скульптур, созданных по их заказам, «власть искусства» доказывает, что меценатство – особенно крупное меценатство – привычно служило собственным, очень циничным и реалистическим целям. Движителем были не культура и просвещение, а внутренняя нелегитимность тех, кто развивал искусство наиболее активно. Если при рассмотрении любой большой картины или фрески копнуть глубже, то непременно найдешь там совершенно иную, более мрачную историю меценатства и жажды власти. Но это лишь начало рассказа об истинной безобразности мецената эпохи Возрождения.
Искусство власти
Хотя Галеаццо Мария Сфорца был молод, он был в состоянии понять, что Козимо де Медичи вместе с Гоццоли создали великолепную иллюстрацию легитимности его правления во Флоренции. Но он смог и понять, что Козимо более других нуждается в такой форме художественной легитимности. Более того, было очевидно, что он решил показать гостю фрески Гоццоли по очень конкретной причине.
Козимо де Медичи не был необычайно успешным человеком, сделавшим себя самостоятельно и проявившим способности, которые просто обязали его принять на себя бремя власти. Его восхождение на вершину не было результатом одного лишь богатства и здравого смысла. Хотя Козимо был человеком богатым и утонченным, по сути своей он оставался алчным и властолюбивым мегаломаньяком, достигшим своего положения с помощью коррупции, насилия и жестокости.
Он сделал состояние, ссужая деньги под проценты и спекулируя на высоковолатильном рынке. Колоссальные ресурсы Козимо поставил на службу своему безграничному честолюбию. Хотя он редко занимал официальные посты, но не стыдился покупать влияние, которого жаждал. Когда нужно было, он откровенно и открыто покупал голоса.
Козимо действовал за сценой. К любой оппозиции он был безжалостен. В начале своих политических авантюр он просто сыпал деньгами, пока не добивался результата. В 1433 г. фракция, возглавляемая Паллой Строцци и Ринальдо дельи Альбицци, изгнала Козимо из города, но он сумел шантажировать Флоренцию, угрожая лишить город столь необходимой ему наличности. Вернувшись во Флоренцию в 1434 г. он добился для Строцци и Альбицци пожизненного изгнания. И это было только начало.
Всего за год до прибытия Галеаццо Марии Сфорца Козимо устроил жестокий и бескомпромиссный переворот. Расставив вооруженных людей вокруг площади, он вынудил общественный parlamento принять новую конституцию, которая давала ему абсолютный контроль над Синьорией и гарантировала, что любое несогласие будет безжалостно подавлено с помощью иностранных наемников. Более того, он не раздумывая начал кампанию преследования. Последние его враги – республиканцы красильщики шерсти и те, кто остался предан Строцци, были мгновенно устранены из органов власти. Был созван новый совет {Cento), который абсолютно поддерживал действия Козимо.
К 1459 г. Козимо полностью контролировал Флоренцию. Но даже несмотря на попытки сделать что-то хорошее для города (о чем пишет торговец Марко Паренти), пятно нелегитимности и незаконности осталось на нем навсегда.23 Как пишет в своих «Комментариях» папа Пий II, Козимо оставался «нелегитимным правителем» города и навсегда виновным в том, что держал «свой народ в жестоком рабстве».24 И как бы он ни старался подавлять оппозицию, какая-то часть населения всегда восставала против тех оков, которыми он его сковал.
Козимо отверг всякую возможность получения законной власти. И ему пришлось вдвое упорнее трудиться, чтобы создать искусственную ауру легитимности. С той же безжалостностью, с какой он прокладывал себе дорогу к вершине власти, он искал в искусстве нечто большее, чем неопределенную и сентиментальную форму респектабельности. Пиком долгой кампании тщательно продуманного меценатства стала фреска «Шествие волхвов в Вифлеем». Она должна была прикрыть многочисленные пороки Козимо. С потрясающим хитроумием Козимо направил художественные способности Гоццоли на устранение ужасного пятна тирании и сумел представить себя великодушным pater patriae, которому должны симпатизировать все здравомыслящие (т. е. доверчивые) граждане.
Учитывая те средства, с помощью которых Козимо установил контроль над Флоренцией, было очень важно, чтобы Галеаццо Мария Сфорца увидел в этих фресках убедительное доказательство власти Медичи. Демонстрируя стабильность и силу (абсолютно незаконные) положения своей семьи, Козимо с помощью визуальных образов устроил решительную демонстрацию силы. Все вращалось вокруг взаимной выгоды, и фрески Гоццоли стали визуальным компонентом большой игры, которая была бы вполне уместна в любой мафиозной драме.
Большой опыт подсказывал Сфорца и Медичи, что они нужны друг другу. В 1440 г. отец Галеаццо Марии, Франческо, установил контроль над Миланом, устранив своего соперника Висконти при поддержке Флоренции, которую обеспечил ему Козимо. Всего за год до этого в 1458 г. свой переворот осуществил Козимо, полагаясь на гарантии военной поддержки со стороны Франческо. Этот союз не только объединил два государства в мирное время, но и наделил два семейства властью перед лицом внутренних и внешних угроз. Чтобы союз сохранился, обе стороны должны были быть уверенными друг в друге. Зная, что можно положиться на флорентийскую поддержку, Франческо с легкостью обманул бы Медичи, если бы ему показалось, что другое семейство сможет лучше обеспечить его деньгами и дипломатическими связями. Продемонстрировав непоколебимую силу и стабильность власти Медичи с помощью «Шествия волхвов в Вифлеем», Козимо тонко подчеркнул, что его семья твердо контролирует город и все еще более чем способна выполнить свою часть сделки. Другими словами, фрески должны были сделать Франческо и Галеаццо Марии предложение, от которого они не могли отказаться.
Дав Галеаццо Марии воможность оценить глубокий смысл фресок капеллы, Козимо мог быть уверен, что, несмотря на его грязное и недостойное прошлое, ось Сфорца-Медичи останется крепкой как никогда. И действительно, несмотря на мелкие проблемы, в течение ближайших 20 лет эти отношения являлись основой итальянской политики. Важнее всего то, что Козимо знал: своего можно добиться не только сложными и утомительными переговорами, но и с помощью искусства.
Этот урок не прошел даром для Галеаццо Марии Сфорца. В 1466 г. он стал герцогом и сразу же заслужил репутацию утонченного мецената. Он во всем стремился превзойти Медичи, что признавали многие его современники. В нем они видели яркого, культурного правителя. Один из современников писал:
Он особо великолепен в обстановке и образе жизни, а его двор роскошен без меры. Он дарил очень дорогие подарки своим помощникам… С помощью больших денег он привлекал к себе людей искусных в разных науках.25
Галеаццо Мария Сфорца славился своей любовью к живописи. Он покровительствовал таким художникам, как Бонифаччо Бембо и Винченцо Фоппа. Он тратил деньги на коллоссальные проекты, например фрески в капелле Портинари. Периодически он устраивал поразительные праздники и вознаграждал тех, кто откликался на его предложения, с легендарной щедростью. Однажды, к примеру, ему захотелось иметь в своем дворце зал, украшенный изображениями «достойных людей», причем сделать это нужно было за одну ночь.26 И он не пожалел денег на то, чтобы исполнить свое желание. Но главной его любовью всегда оставалась музыка. При его дворе постоянно звучали прекрасные новые мелодии. Милан славился своими талантливыми музыкантами, преимущественно из Нидерландов, которых герцог заманивал к своему двору огромными деньгами.27
Страстное покровительство искусствам обеспечило Галеаццо Марии колоссальный авторитет в Милане с самого начала его правления. И даже тот факт, что отец его узурпировал власть, стал изглаживаться из памяти народа по мере того, как миланский двор становился одним из самых блестящих в Европе. Благодаря растущей репутации культурного левиафана Галеаццо Мария заслужил уважение и восхищение королей, пап, signori и олигархов, которым посчастливилось видеть или слышать произведения, созданные по его заказу. Связь между искусством и восприятием власти была насколько тесной, что Лоренцо де Медичи даже повесил портрет Галеаццо Марии кисти Поллайоло в своей спальне.
Но, как и Козимо де Медичи, Галеаццо Мария Сфорца попровительствовал искусствам для того, чтобы скрыть мрачную и неприглядную реальность. Это была дымовая завеса. Без сильного и жесткого отца, который мог держать его в рамках, Галеаццо Мария быстро превратился в садиста и сексуально невоздержанного социопата. Подозревали (и не без оснований), что он убил свою мать, Бьянку Марию.28 Жители Милана боялись герцога из-за его невероятной жестокости и абсолютной несдержанности. Поведение его было настолько ужасным, что его критиковал даже сам Макиавелли. Ему нравилось наблюдать за пытками – порой он сам причинял пытаемым самую сильную боль. Он уморил священника голодом. Но больше всего его боялись женщины его герцогства. Хотя говорили, что у него была гомосексуальная связь с послом Мантуи Заккарией Саджи, он мог принудить любую понравившуюся ему женщину к тому, чтобы она уступила его извращенным сексуальным наклонностям. Его не останавливали ни возраст, ни положение, ни брачные узы. Даже монахини не могли чувствовать себя в безопасности – Галеаццо Мария особенно любил вторгаться в женские монастыри и там выбирать себе жертвы.29 Неудивительно, что 27 декабря 1476 г. Галеаццо Мария был убит в возрасте всего 32 лет. Трое убийц сами были жертвами его выходок. Жену Джованни Андреа Лампуньяни и сестру Карло Висконти герцог когда-то изнасиловал. А образованного наставника Джироламо Ольяти, Колу Монтано, по сфабрикованному обвинению бичами прогнали по улицам города. Хотя правление Галеаццо Марии было недолгим, но удержать власть хотя бы в течение этого времени ему помогла преданность придворных и репутация покровителя искусств.
В молчаливом согласии, возникшем между Галеаццо Марией Сфорца и Козимо де Медичи, и в формах меценатства, которые позднее были использованы в Милане, «Шествие волхвов в Вифлеем» сыграло важную роль. Эта фреска в полной мере демонстрирует нам «возвышение мецената». С одной стороны, она символизирует завершение сложных процессов, которые изменили отношения между художниками и меценатами. В результате ряда радикальных политических и экономических перемен, связанных с крушением старой империи, появилась новая порода меценатов, которые не только придавали огромное значение просвещению как символу статуса, но еще и хотели и были способны использовать свое покровительство для того, чтобы окружить себя атмосферой абсолютной легитимности. Она работали в такой тесной партнерской связи с художниками, что могли считаться соавторами заказанных работ. Их можно считать соавторами искусства Ренессанса. Именно они вознесли искусство на неведомые ранее высоты, чтобы оно служило их потребностям.
С другой стороны, «Шествие волхвов в Вифлеем» демонстрировало также, что новая порода меценатов часто состояла из исключительно неприятных и очень опасных людей, которые были готовы на совершенно безжалостные поступки, удовлетворяя свое честолюбие с помощью возможностей, созданных силами, способствовавшими «возвышению мецената». Хотя они стремились с помощью искусства создать образ легитимности, эта потребность в легитимности была тем более острой, чем более незаконными, аморальными и зачастую насильственными средствами эти люди поднимались к величию. Все это делало их потребность в меценатстве еще более сильной. Образцами «возвышения мецената» могут служить самые жестокие и ужасные мужчины (а порой и женщины). И хотя они остаются «соавторами» произведений искусства, созданных по их заказу, последние чаще всего были призваны прикрыть их самые ужасные преступления. Чем более замечательным и прекрасным было произведение искусства, тем серьезнее были преступления мецената и тем более циничными были его намерения. И хотя Козимо де Медичи и Галеаццо Мария Сфорца вошли в историю как величайшие меценаты своего времени, их же можно назвать самыми отвратительными и циничными людьми того периода. Искусство, которому они покровительствовали, в той же мере доказывает их моральную нечистоплотность, как и талант художников.
Последствия всего этого были значительны. Если меценаты играли столь же важную, как и художники, роль в формировании и определении путей развития искусства эпохи Ренессанса, то невозможно в полной мере понять искусство того периода, не поняв социального мира, в котором эти люди жили, и не погрузившись в мрачные и порой отвратительные детали их личной жизни. Мы не должны соблазняться роскошью заказываемых ими работ. Нам нужно понять мир, который стоял за этими картинами, мир, населенный неидеальными мастерами цвета и гармонии, о которых мы думаем, слыша слово «Ренессанс», но людьми честолюбивыми, алчными, готовыми пойти на насилие и убийство.
Среди множества лиц на «Шествии волхвов в Вифлеем» есть портреты трех мужчин, которые символизировали три самых важных типа меценатства в эпоху Ренессанса. Проследив жизненный путь и карьеру банкиров, наемников и пап, мы откроем для себя новый и совершенно другой Ренессанс – Ренессанс, не такой, каким кажется, а такой, который становится еще безобразнее.
2. Люди с касанием Мидаса
Совершенно ясно, что Козимо де Медичи сознательно использовал фрески Гоццоли, чтобы продемонстрировать свое богатство и власть. Но Галеаццо Мария Сфорца должен был заметить, что «Шествие волхвов в Вифлеем» указывает на еще одну, совершенно иную сторону характера стареющего банкира. Несмотря на роскошь и уверенность композиции, Козимо предпочел сделать собственное изображение довольно скромным. Он не занимает почетного места (хотя этого вполне можно было ожидать), а находится на некотором расстоянии от центра драмы. На маленьком ослике он скромно следует за своим сыном, Пьеро. Козимо почти сливается с толпой. Золоченые поводья и отороченные мехом манжеты ничем особым не выделяются, никакой показной роскоши. Одежда его очень проста – это почти одежда кающегося. Даже красная коническая шляпа написана так, чтобы свести визуальное впечатление к минимуму. Действительно, перед нами не безжалостный гордец, а живое воплощение скромности и смирения.
Это была загадка. Хотя в бизнесе и политике Козимо мог делать практически все, что ему было угодно, но, как узнал Галеаццо Мария, он «всегда старался держаться на заднем плане, скрывая свое огромное влияние и действуя, когда возникала необходимость, через посредника».1 За 10 лет до рождения Макиавелли Козимо интуитивно понял всю ценность маскировки.
Но Галеаццо Марии было трудно избавиться от подозрения, что Козимо неспроста старался казаться скромным и незаметным.2 Было хорошо известно, что он не раз пытался скрыться от жизни, которую сам для себя построил. До Галеаццо Марии доходили слухи, что Козимо любит затворяться в келье, которую специально для него отвели в Сан-Марко. И там он проводил дни в безмолвной молитве или в благочестивых спорах со своим другом, фра Антонио Пьероцци. Человек, спокойно восседающий на осле, не просто притворялся кающимся грешником. Портрет Козимо был очень точным.
Фреска «Шествие волхвов в Вифлеем» была очень точным отражением жизни, характера и «публичного образа» Козимо. Галеаццо Мария увидел перед собой удивительно сложный и даже противоречивый портрет человека, стоящего перед ним. Щедрое великолепие, политические махинации и холодная хитрость в нем сосуществовали рядом с кротостью, колеблющейся между макиавеллиевским обманом и искренним благочестием. Этот старик был «непостижимым сфинксом».3 Казалось, что в Козимо живет не один, а два или даже три человека.
Но, несмотря на очевидные противоречия, Галеаццо Мария видел перед собой абсолютно логичный и последовательный образ Козимо де Медичи. Хотя по масштабу политического и финансового влияния Козимо не знал себе равных, однако он был живым воплощением типичного торгового банкира эпохи Ренессанса. Средства, с помощью которых он приобрел богатство и власть, ярко отраженные на фресках Гоццоли, были сутью процесса рождения новой породы деловых людей. Эти люди всего добивались хитростью. В то же время стремление Козимо к великолепию, щедрости и притворству было живой иллюстрацией новых проблем, с которыми предстояло столкнуться следующим поколениям хитроумным банкирам. И, пожалуй, самое главное. «Шествие волхвов в Вифлеем» отражало ту степень, в какой Козимо и его предки-торговцы использовали меценатство для создания публичного образа, способного решить каждую из этих проблем.
Проследив удивительный и зачастую шокирующий путь, который сделал Козимо де Медичи человеком, способным вселить в Галеаццо Марию столь сильную неуверенность, можно понять теневой и весьма неприятный мир банкиров эпохи Ренессанса и те безобразные и циничные соображения, которые заставили их сыграть столь замечательную роль в искусстве этого периода. Ведь именно эти люди стали самыми известными меценатами Ренессанса. Хотя эта история неразрывно связана с миром политических интриг, коррупции и заговоров, но в то же время и с большими деньгами, колоссальными прибылями и неизбежно с моральным банкротством, которое приводило к скандалам, и сегодня сопровождающим многих банкиров. И, как показывает история, стоящая за «Шествием волхвов в Вифлеем», эта порода сверхбогатых людей жила жизнью, совсем не похожей на красоту и роскошь произведений, созданных по их заказам.
Из менял в банкиры
Во многих отношениях Ренессанс был золотым веком торговых банкиров. В их жизни все определялось их нестабильным богатством – даже в большей степени, чем сегодня. Но в 1459 г. ни одна банкирская семья не была так фантастически богата, как Медичи. Рядом с ними Крез показался бы нищим. В период с 1435 по 1450 г. Козимо де Медичи получил прибыль в 203 702 флоринов.4 Если оценка Джованни Ручеллаи верна, то одна лишь эта цифра равна 13 % всего богатства Флоренции.5 Но тут речь шла только о прибыли, и прибыли всего лишь одного члена семьи. Если принять в расчеты весь объем инвестиций Медичи, то их состояние с легкостью превысит состояние любого крупнейшего государства Европы.
Но Медичи не всегда были богаты. Их состояние росло медленно, над ним терпеливо трудились поколения людей, наделенных хитростью и сгорающих от страстного желания денег. Они прошли долгий путь, и их дорога воплощает собой путь всего банковского дела в Италии эпохи Ренессанса.
Как и у многих других семейств банкиров, происхождение Медичи окутано тайной. Позже они с гордостью вели свой род от легендарного рыцаря Аверардо, который, якобы, убил жестокого великана во времена Каролингов. Но дошедшие до нас сведения говорят о гораздо более прозаических корнях. Как показывает фамилия, скорее всего, Медичи происходили из врачей или аптекарей. Но большинство современников Козимо полагали, что они начинали как обычные ростовщики.6 Одно можно сказать с определенностью: впервые в исторических документах эта семья появилась в начале XIII в., и уже тогда Медичи проявляли недюжинный талант в работе с деньгами.
В то время экономика городов-государств Северной Италии еще только начинала складываться. Торговля тканями и зерном начала расширяться. По всей Европе стали появляться рынки. Итальянские торговцы торговали уже не только с соседями по полуострову, но и с далекими государствами – от Англии и Нидерландов до Египта, Кипра и даже Киевской Руси. Как писал Франческо Бальдуччи Пеголотти в книге «Практика торгового дела» (Pratica della mercatura) (ок. 1335–1343), пожалуй, самом древнем коммерческом руководстве подобного рода серьезный торговец не сможет добиться успеха, если он не владеет в достаточной степени пятью-шестью иностранными языками и не знает в точности, какими товарами торгуют в разных портах и рынках Средиземноморья.7
Но, несмотря на то что торговый бум уже начался, коммерции мешала одна очень серьезная практическая проблема. Все дело было в деньгах. Сегодня любые транзакции в любой точке мира можно легко и просто совершить с помощью бумажных денег, кредитных карт, электронных банковских переводов и определенных курсов обмена валют. В XIII в. ничего этого не существовало. Монеты и слитки драгоценных металлов были единственным средством монетарного обмена. А поскольку в каждом городе были свои монеты, то в мире циркулировали самые разные валюты, и курс обмена представлял серьезную проблему. Было трудно просто пойти на рынок и купить какие-то необходимые товары – ведь нужно было нести с собой мешки с тяжелыми монетами и спорить с продавцами о ценности странной коллекции иностранных монет, скопившихся в ваших кошелях. Вести дела в других странах было еще сложнее. Купцам приходилось везти с собой неудобные сундуки с монетами или груды слитков. В далеком путешествии купцов могли ограбить. Кроме того, вес денег значительно задерживал торговые караваны в пути. Даже если торговец прибывал в точку назначения вовремя и ему удавалось сохранить все свои капиталы, он мог потерять значительные суммы в ходе торговли, поскольку приходилось оперировать множеством незнакомых валют. Хотя в книге Пеголотти содержались полезные сведения об относительной стоимости наиболее распространенных в Средиземноморье золотых и серебряных монет, подобные таблицы не очень помогали в условиях постоянно меняющегося и неопределенного финансового мира.
Двое Медичи, Уго и Гальяно, создали небольшую ростовщическую контору в начале 1240 г., но спустя несколько десятилетий некий Ардиньо и его родственники уже занимались обменом денег на Старом рынке.8 Судя по всему, эти люди знали, с какой стороны хлеб мажут маслом. Только такая профессия могла практически решить проблемы торговли.9 Именно с менял, а не с ростовщиков, началась жизнь великих торговых банков.
Изначально менялы, подобные Медичи, действовали как проводники финансового порядка в мире монетарного хаоса. Обычно они открывали небольшие лавки рядом с городским рынком и обменивали огромную массу разнообразных валют на примерный эквивалент в местной валюте. Это было очень энергичное, живое занятие. Хотя написанная спустя два века после того, как братья Медичи открыли свою лавку на Старом рынке, Маринусом ван Реймерсвеле картина «Меняла и его жена» (Прадо, Мадрид; 1539) дает представление о том, как работали менялы [ил. 19]. Мы видим менялу в окружении мешков с монетами и груд бумаг. Он тщательно взвешивает монеты, чтобы определить их качество, и сверяет их ценность со справочником, который держит его жена. Это был долгий и трудоемкий процесс, но людей, подобных Медичи, это не пугало. Сознание того, что каждый обмен и игра на курсе приносит им прибыль, вполне их утешало.
Торговля постепенно активизировалась и расширялась, и торговцам приходилось возить с собой большие суммы денег. И тогда менялы стали позволять людям оставлять у них депозиты на хранение. Таким образом создавались примитивные валютные счета практически такие же, как и сегодня. На такие счета деньги мог класть сам владелец или его должники в соответствии с полученными инструкциями. Все это заметно облегчало торговлю.10 Но, поскольку все строилось на личном общении за банковским столом, крупная внешняя торговля по-прежнему сталкивалась с серьезными проблемами, а прибыль банкиров была невелика.
Первой серьезной новацией стали коммерческие векселя. Они появились в Генуе примерно в конце XII в. Это позволило торговцам не возить с собой большого количества монет или слитков и не подвергать себя опасности. Одновременно этот процесс облегчил международный обмен валют. Если торговец во Флоренции (плательщик) хотел заплатить другому торговцу из Брюгге (получатель), он мог внести нужную сумму денег плюс комиссионные во флорентийский филиал некоего банка и получить вексель на эту самую сумму. Затем флорентийский плательщик отправлял этот вексель получателю в Брюгге, и тот получал нужную сумму в местной валюте в том же самом банке или банке-посреднике. Хотя подобные операции были связаны с очевидным риском, банкир получал прибыль на основе согласованного обменного курса. Столь же прибыльными были кредитные письма, которые можно сравнить с сегодняшними дорожными чеками.
Вторым полезным изобретением, позволявшим банкам получать прибыль, стали процентные ссуды. Их можно считать дальнейшим развитием депозитных счетов (банки были заинтересованы в подобных счетах и предлагали проценты на сбережения). Векселя давали банкирам «окно» – промежуток времени, в течение которого они могли распоряжаться деньгами, предназначенными к пересылке. Имея на руках значительные суммы наличными, банкир мог использовать этот капитал для крупных ссуд на определенные периоды за установленный процент. Иногда ссуды выдавались под залог, например драгоценностей, но чаще всего это был просто вопрос доверия.
Нет сомнения в том, что Медичи очень быстро поняли потенциал подобных инноваций. Прибыли, полученные от векселей, кредитных писем и процентных ссуд в первой половине XIV в., они стали инвестировать в собственность и торговлю шерстью. И очень скоро людей влиятельных и богатых торговцы со Старого рынка стали сравнивать с Медичи.
Искусство искупления
Но начав делать деньги, Медичи столкнулись с серьезной проблемой. Хотя ранние формы банковского дела почти не сталкивались с практическими препятствиями, приемы осуществления этой деятельности вызывали ряд сложных моральных проблем.
Церковь уже давно считала алчное стремление к богатству одним из самых серьезных угроз для христианской добродетели. Ведь Христос говорил, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богачу войти в Царствие Небесное. И тем, кто хотел следовать за ним, он говорил, чтобы они отказались от всего, что у них есть. Эти слова в начале XIII в. вдохновили святого Франциска Ассизского, который считал, что истинный христианин должен жить в бедности.11 Подпитываемая успехом нищенствующих монашеских орденов и развитием торговли, подобная идея нашла отклик в коммерческих центрах Италии в период раннего Ренессанса. При наличии процветающей торговли и общей подозрительности по отношению к богатству неудивительно, что именно Флоренция стала идеальным местом для внедрения францисканских идеалов в сознание торговцев.12 И неудивительно, что в начале XV в. Поджо Браччолини посвятил целый трактат обличению алчности13, а Кристофоро Ландино сурово обрушился на корыстолюбие.14
Но если стремление к богатству считалось дурным абстрактно, то банковское дело воплощало собой самую суть алчности. Если обычные торговцы порой отличались жадностью, то банкиры возвели это качество в добродетель, поскольку они одалживали деньги ради получения прибыли. Практика «ростовщичества» – одалживания денег под проценты – еще в Новом Завете была названа смертным грехом.15 Церковь со времен Никейского собора в 325 г. запрещала подобную деятельность. Объяснялось это просто: требуя проценты, банкиры взимали с людей плату ни за что. «Брать деньги за ссуду несправедливо само по себе, так как это подобно продаже того, что не существует, – писал святой Фома Аквинский. – Подобное очевидным образом ведет к неравенству, т. е. противоречит справедливости».[12]16 Другими словами, ростовщичество уподоблялось краже. И те, кто делал деньги на банковском деле, пятнали свои души ужасным грехом. Именно так обличал ростовщиков Флоренции пламенный францисканский проповедник Сан-Бернардино из Сиены (1380–1444).17
Ужасные грехи, которые Церковь ассоциировала с банковским делом, постоянно упоминаются в литературе раннего Ренессанса. Действительно, в литературе ростовщичество осуждается еще более сильно, чем в теологических трактатах. К примеру, в трактате «Об алчности» (De avaritia) Поджо Браччолини осуждает ростовщичество как архетип алчности.18 Он нападает даже на печально известного своими грехами Сан-Бернардино за то, что тот не заставляет своих прихожан в полной мере осознать «ужас подобного преступления». Однако никто не испытывал более страстной ненависти к ростовщикам, чем Данте. В «Аду» Данте в мельчайших деталях описал судьбу ростовщиков.19 На шеях «нечестных» ростовщиков висят мошны с геральдическими знаками. Они сидят «близ пропасти в сжигающей пыли» в седьмом кругу ада, тщетно пытаясь отмахнуться от пламени и жгучего песка, словно собаки, пытающиеся избавиться от блох. Среди них Данте увидел представителей двух знаменитых флорентийских банкирских семей – Джанфильяцци и Обриаки – и остановился поговорить со стенающей фигурой Реджинальдо дельи Скровеньи, падуанского ростовщика, который предсказывает скорое появление в аду своего соотечественника Витальяно дель Бейте и флорентийца Джанни Буалмонте.
На банкиров раннего Ренессанса суровость отношения современников к ростовщичеству производила глубокое впечатление. Возможность навеки оказаться в аду реально их пугала. Но даже если их грехи и не заслуживали вечного проклятия, то для страха все основания были. Незадолго до «торгового бума» в Италии теологи разработали тщательно продуманную концепцию чистилища – некоего зала ожидания в преддверии загробного мира.20 Согласно этой концепции чистилище – это место страданий и мучений за грехи, которые не были искуплены. Одной лишь угрозы чистилища было достаточно, чтобы вселить страх в сердца даже самых скептически настроенных банкиров. В старости Джованни ди Биччи де Медичи много беседовал на эту тему с прелатами. И его сына Козимо аморальность ростовщичества с точки зрения Церкви тоже серьезно беспокоила. Он постоянно обсуждал со своими друзьями из монашеских орденов, как лучше искупить свои банкирские грехи.
Предписания Церкви давали совершенно очевидное решение. Когда банкир оказывался на грани смерти, его родственники – или присутствующий доктор – посылали за священником. Затем умирающий исповедовался в своих грехах, и при условии, что его раскаяние было искренним, священник давал ему полное отпущение, тем самым очищая душу для перехода в загробный мир. Это было просто и с теологической точки зрения эффективно. Оставалась последняя проблема – цинизм. Хотя об атеизме в те времена никто и подумать не мог, банкиры, воспитанные в духе католической веры, весьма насмешливо относились к самой идее о том, что исповедь может быть честной.
В «Декамероне» Боккаччо рассказывает веселую историю о том, как нотариус из Прато Сер Чепперелло неожиданно смертельно заболел в Бургундии.21 Страшный грешник Чепперрелло был повинен в обмане, воровстве, пьянстве, азартных играх и прелюбодеянии. При этом он был достаточно верующим человеком, чтобы понимать: перед смертью нужно исповедоваться. Но в то же время он прекрасно понимал, что честная исповедь повредит репутации итальянских торговцев за пределами их родины. Незамедлительно он приказал привести к нему монаха, славящегося своей святостью. Во время исповеди он не признался ни в одном грехе, а наоборот, выставил себя в самом лучшем свете. Впечатленный такими «добродетелями» монах дал Чепперелло полное отпущение грехов. И настолько успешной была ложь Чепперрелло, что после его смерти наивный монах провозгласил его святым – к вящему веселью компании Боккаччо.
Но у банкиров все равно оставалась проблема. Если над честностью исповеди можно было и посмеяться, то как же искупить грех ростовщичества? Как примирить жажду прибыли с желанием избежать чистилища?
Банкиры были людьми практичными. Если на исповедь и полное отпущение грехов положиться нельзя, то можно обратить свою веру в честные наличные. Даже если с помощью слов в райские врата не пробраться, то банкир мог хотя бы надеяться купить себе теплое местечко в раю.
Одновременно со священником к смертному одру банкира приглашали и нотариуса. Его задача заключалась в том, чтобы записать последнюю волю умирающего. И в этой воле крылась еще одна серьезная надежда на спасение в последнюю минуту. В большинстве завещаний (особенно в завещаниях банкиров и торговцев) имелись пункты (mala ablata), согласно которым определенная сумма денег жертвовалась Церкви – пропорционально совершенным грехам. В обмен грешники рассчитывали на то, что священники, монахи и даже обычные прихожане будут молиться за душу умершего и тем самым помогут ему избежать страданий в чистилище.
Позже эту практику недвусмысленно осудили фра Джованни Доминичи (умер в 1420 г.) и будущий архиепископ Флоренции Антонино Пьероцци.22 Но идея жертвовать деньгами в обмен на отпущение грехов ростовщичества приобрела огромную популярность. И множество банкиров воспользовались этим вариантом, чтобы застраховать себя от посмертных проблем. Типичным примером этого может служить завещание Микеле ди Ванни Кастеллани, составленное во Флоренции в 1370 г. Хотя Микеле заявлял, что не имел незаконных доходов, он тут же добавлял:
Я завещаю 100 флоринов епископу в качестве возмещения денег, которые я мог получить незаконно, и деньги эти должны быть использованы на благо душ тех, от которого я получил деньги.23
Чтобы окончательно гарантировать свое спасение, такую же сумму он завещал францисканцам, доминиканцам, августинцам и кармелитам Флоренции.
И все же неприятные сомнения сохранялись. Даже если деньги жертвовались Церкви – иногда с точным указанием количества молитв и месс, отслуженных за упокой души усопшего, – это еще не гарантировало того, что священники и верующие действительно будут вспоминать душу умершего. К счастью, здесь на помощь приходило искусство.
Пожалуй, простейшим и самым прямолинейным способом сохранять память об умершем банкире был заказ роскошного надгробия – он мог сделать это сам или дать инструкции родственникам, чтобы те позаботились обо всем уже после смерти. Обычно такое надгробие содержало тщательно продуманную эпитафию и ряд надписей, восхваляющих качества умершего. Такие надгробия должны были увековечить память о человеке после его смерти. Они напоминали о нем не только прохожим и не только городу, но тем, чьи молитвы были необходимы для того, чтобы умерший или умершая обрели покой на небесах. Так, Никколо Аччайуоли, основатель семейного банковского дома, канцлер Неаполитанского королевства и друг Петрарки, не только заказал для себя пышную гробницу в чертозе Сан-Лоренцо за границами Флоренции, но еще и точно удостоверился, что монахи будут молиться за его душу, оставив им большое наследство при условии, что в течение года после его смерти о нем будет отслужена тысяча месс.24 Никто не жалел денег на подобные «мероприятия». К примеру, в 1471 г. флорентийский торговец Пьеро дель Товалья высказал всеобщее мнение, заявив: «Если я трачу 2000 флоринов на свой дом – мое земное обиталище, то 500 флоринов, потраченных на мой дом в будущей жизни, кажутся мне вполне разумной тратой».25
Однако по мере повышения статуса искусства стали появляться другие более явно демонстративные возможности. С начала XIV в. в завещаниях фигурируют условия о том, что деньги должны быть потрачены на заказ алтарного образа или на отделку капеллы – особенно в церквях нищенствующих орденов.26 Таким образом, верующие просто не имели возможности забыть о необходимости молиться за жертвователя.
В первой половине XIV в. проблема аморальности ростовщичества была решена способом, который приобрел особую популярность среди флорентийских банкиров. Чем больше денег давало банковское дело, тем более ожесточенным становилось соперничество между семьями в демонстрации своей высокой морали путем художественных пожертвований. Такие игры в моральное превосходство разыгрывались вокруг покровительства капеллам в крупных церквях, причем во Флоренции они приобрели особый размах. После «черной смерти», к примеру, в церкви Санта-Мария Новелла «появились личные капеллы Ручеллаи, Барди, Гвидалотти и Строцци, а покровительство хорам за главным алтарем оказывали Риччи и Торнаквини».27 В 1348 г. Турино Бальдези оставил церкви огромную сумму (более 300 флоринов) для создания росписи на сюжеты Ветхого Завета «от начала и до конца». Еще более поразительно другое. В тот же период «Перуцци, Барончелли, Кавальканти, Толозини, Черки, Веллути, Кастеллани, Ринуччини, Рикасоли, Альберти, Макиавелли и несколько других семей» устроили себе личные капеллы в церкви Санто-Кроче, а семья Барди владела целыми четырьмя.28
Иногда в подобных завещаниях ответственность за крупные заказы делилась между семьей умершего и церковью или монастырем, где должно быть размещено произведение искусства. Отличным примером этого может служить капелла Строцци во флорентийской церкви Санта-Мария Новелла. Известный банкир из достойной и богатой семьи Роселло Строцци по завещанию оставил деньги на искупление своих грехов именно таким образом. Его младший сын Томмазо заказал отделку капеллы в левом трансепте фресками с изображением рая, ада и чистилища.29 Заказ получил Нардо ди Чьоне. Кроме того, в 1354 г. он заказал великолепный алтарный образ Орканье (Андреа ди Чьоне). Однако все это время Томмазо Строцци, как и многие меценаты того времени, работал вместе с монахами-доминиканцами, чтобы гарантировать, что заказанные произведения будут приемлемы для Церкви.
Но, если банкиры были готовы тратить деньги на произведения искусства в надежде искупить свои грехи, они все сильнее хотели иметь полный контроль даже после смерти. С начала XIV в. банкиры и меценаты начали бороться за контроль над тем, в каком направлении должно развиваться искусство. Естественно, что они имели на это право, поскольку оплачивали работу. Произведения искусства должны были стереть позорное пятно алчности и ростовщичества и в то же время отвечать конкретным моральным потребностям меценатов.
Прекрасным образцом этого может служить капелла Арена в Падуе. Истинная жемчужина раннего Ренессанса капелла связана с проклятиями Данте в адрес падуанского банкира Реджинальдо дельи Скровеньи.30 Сын Реджинальдо Энрико очень страдал из-за аморальности ростовщической деятельности своего отца. Он решил, что у семьи есть единственный способ освободиться от пятна греха, и способ этот – довести меценатство до предела. Энрико приобрел земельный участок у семьи Далес-манини, получил разрешение на постройку семейной капеллы и сразу же заказал Джотто ди Бондоне потрясающий цикл фресок с изображением сюжетов из жизни Христа и Девы Марии. Чтобы гарантировать себе то, что верующие будут молиться за него и его отца, Энрико предпринял еще один важный шаг: он добился папской индульгенции для всех, кто будет посещать капеллу, что весьма не понравилось монахам соседней церкви Эремитани.31
Но одним лишь желанием банкиров эпохи Ренессанса обеспечить себе спокойное загробное существование история не исчерпывает. Хотя этих людей очень беспокоило, что будет с ними после смерти, не меньше раздражало их то, что суровое отношение Церкви к ростовщичеству портит их репутацию на земле. Если вы – банкир, то никакая художественная «посмертная страховка» не избавит вас от того, что все вокруг будут считать вас виновным в смертном грехе и абсолютно аморальной личностью. Банкирам нужно было не только искупить свои грехи, но и считаться искупившими.
Одним из главных преимуществ новых форм меценатства, которые стали появляться с начала XIV в., было то, что банкиры получили возможность создать образ благочестия и раскаяния, а также обеспечить себе молитвы верующих. Другими словами, искусство позволяло банкирам изменить реальность и замаскировать свои неблаговидные поступки. Даже если те, кто приходил на мессу в церковь Санта-Мария Новелла, не молились за душу Роселло Строцци, визуальное впечатление от семейной капеллы не могло не убеждать их в том, что Томмазо Строцци исключительно благочестивый и достойный человек, старающийся искупить свои грехи. Тем, кто посещал капеллу Арена, невозможно было не поверить в то, что Энрико дельи Скровеньи обладает истинной верой и страстно хочет воссоединиться с Господом.
По мере того как отношения между художниками и меценатами становились более тесными, банкиры получали возможность еще больше расширить границы так называемой моральной рекламы. Активно контролируя сюжет и композицию заказанных работ, банкиры могли подчеркнуть свое благочестие и смирение, включая свои изображения в сцены из христианской истории, где они становились участниками или свидетелями действия. Благодаря этому зрители воспринимали их как людей более моральных, чем их неблаговидное занятие. Памятуя об этом, Энрико дельи Скровеньи, к примеру, изобразил себя в сцене «Страшного суда» на стене у входа в капеллу Арена. На фреске он протягивает модель капеллы Деве Марии. В следующем веке портрет коленопреклоненного и благочестиво сложившего руки на груди Джованни Торнабуони Гирландайо изобразил на фреске в семейной капелле в церкви Санта-Мария Новелла.
Первые Медичи не слишком активно занимались меценатством, но с самого начала своей банковской карьеры они осознали греховность ростовщичества и пользу меценатства для искупления своих грехов.32 Наблюдая за действиями других богатых семей в конце XIII – начале XIV в., они приняли и искусно использовали все формы художественного искупления, примером чего может служить покровительство Беноццо Гоццоли. Козимо де Медичи предпочел, чтобы в «Шествии волхвов в Вифлеем» его изобразили в виде кающегося грешника. Это было весьма убедительное изображение стремления Медичи к искуплению грехов. Такой портрет вполне соответствовал положению семьи среди теневых банкиров Флоренции и точно отражал осознание аморальности основного рода ее занятий.
От банкиров к торговым банкирам
Несмотря на колоссальное богатство Козимо, Медичи довольно поздно (в относительном смысле слова) начали заниматься банковским делом. К середине XIV в. они приобрели влияние, но все еще не были достаточно богаты, а «черная смерть» их еще больше подкосила. Хотя Фолиньо ди Конте де Медичи был уважаемым членом общества, в 1373 г. он с горечью говорил о скромности семейного состояния.33 Примерно в это время «значительная часть Медичи находилась в весьма стесненных экономических обстоятельствах», и «только пять или шесть из них могли считаться довольно богатыми».34 По налоговым документам 1363 г. два члена семьи были обычными рабочими-шерстянщиками, и их состояние было гораздо меньше, чем у многих лавочников.
Проблема Медичи заключалась в том, что они все еще не научились мыслить масштабно. Несмотря на значительные инвестиции в другие сектора экономики, они еще не сделали скачка от банкиров средней руки к колоссально амбициозным торговым банкирам. Именно в сфере торгового банковского дела можно было заработать реальное богатство.
Суть торгового банковского дела заключалась не в выдаче ссуд, но в использовании их для более великих целей. Признанные мастера этого дела Барди, Перуцци и Аччайуоли отлично знали, что поистине гигантские ссуды можно использовать для торговых концессий за рубежом. А затем эти концессии использовались для заключения крупномасштабных и высокоприбыльных экспортных сделок. Перуцци, к примеру, ссудили вечно нуждавшегося в деньгах короля Англии Эдуарда III крупной суммой (по оценкам Виллани, за несколько лет они ссудили ему более 780 тысяч флоринов) в обмен на весьма серьезные привилегии, которые позволяли им не платить таможенных пошлин и вести выгодную торговлю шерстью.35 Столь же выгодной была торговля зерном с Южной Италией.36 Многие флорентийские банкиры направляли свой ссудный потенциал на эксплуатацию королевства Сицилия. Но самые перспективные, хотя и малозаконные, прибыли сулили привилегии в области сбора налогов. Вместо возвращения полученных ссуд прямым образом города и правители могли предложить торговым банкирам возможность сбора определенных налогов в течение некоторого периода времени. В этом случае главная цель банкира заключалась в том, чтобы собрать больше, чем он ссудил, причем любыми средствами.
Какой бы механизм не был избран, для эффективной деятельности торговый банк нуждался в определенных факторах. Во-первых, банку была необходима развитая сеть иностранных филиалов или агентов, способных и выдавать ссуды, и заниматься торговой деятельностью на определенной территории. Во-вторых, банку нужны были значительные депозиты надежных инвесторов. В-третьих, банк должен был иметь возможность выдавать большие ссуды. И в-четвертых, банк должен был заключать весьма спорные сделки с непредсказуемыми иностранными клиентами и действовать с учетом реалий международной политики. Если все эти условия соблюдались, то можно было сделать гигантские состояния. Единственная реальная опасность заключалась в том, что всегда существовал соблазн ссужать слишком многих сомнительных должников в надежде заключения крупных концессий, в этом убедились Барди и Перуцци, когда Эдуард III в 1339 г. объявил «дефолт» по своим долгам. В отличие от современных торговые банки Ренессанса – сколь бы крупными они ни были – не были слишком большими, чтобы рухнуть. Но выдача ссуд и торговля активно развивались, и торговое банковское дело было исключительно выгодным.
Банкиры были не только банкирами, но и торговцами на международной арене. Они смело шли на сомнительные крупные сделки. Подобные супер компании сумели использовать в свою пользу итальянский «торговый бум» и вывели свое богатство на совершенно новый уровень. Компания Перуцци, к примеру, сумела довести свое состояние с крупной суммы в 124 тысячи тосканских лир (lire a fiorino) в 1300–1308 гг. до колоссальной суммы в 149 тысяч тосканских лир (lire a fiorino) в 1310–1312 гг.37 И даже когда семейство находилось на грани банкротства в 1331–1335 гг., активы компании оценивались в 90 тысяч тосканских лир (lire a fiorino). Ресурсы Перруцци были настолько велики, что они смогли ссудить Эдуарду III не менее 175 тысяч флоринов в одном лишь 1337 г. (31 500 000 долларов в золотом исчислении, около 164 937 500 долларов в оплате труда). Даже после катастрофического краха, последовавшего после английского «дефолта», флорентийские торговые банкиры все же очень быстро смогли получить очень крупные суммы. Одна из величайших историй успеха того времени – история семейства Серристори. Несмотря на то что торговым банковским делом Серристори стали заниматься лишь в начале XV в., всего за несколько десятилетий они сумели взлететь на самую вершину богатства и известности. В 1427 г. Антонио ди Сальвестро ди сер Ристоро лично оценил свои активы примерно в 35 тысяч флоринов (около 6 300 000 долларов в золоте; 16 240 000 долларов в оплате труда). Свои ссуды он использовал для увеличения своей доли в экспорте тканей и импорте дерева, серебра, квасцов, сахара и других товаров. За несколько лет ресурсы Антони так возросли, что он, внук скромного нотариуса, сумел женить своих сыновей на дочерях самых знатных семей Флоренции, Строцци, Пацци и Каппони.38
Положение семьи Медичи изменил отец Козимо Джованни ди Биччи. Он вывел состояние семьи на новый уровень. Надо признать, что он не сразу поразил современников некими новациями. Высокий лоб, нависшие веки, тонкие губы – Джованни был спокойным, неразговорчивым и незаметным человеком. Увидев, его легко можно было забыть. И начало его деятельности трудно было назвать благоприятным. От отца Аверардо Джованни унаследовал очень мало. В начале своей карьеры он был обычным флорентийским менялой. Но в отличие от многих своих предшественников за скромной внешностью скрывалось поразительное честолюбие в точное представление о том, каким будет будущее. Его неожиданный «большой скачок» поможет нам представить, насколько мрачным и незаконным могло быть торговое банковское дело в эпоху Ренессанса.
Главная возможность Джованни предоставилась, когда он стал партнером римского филиала банка, приналежавшего второму кузену его отца Вьеро ди Камбио. Эта работа впервые открыла ему глаза на реальные возможности торгового банковского дела. Имея четкое представление о том, как можно заработать деньги, после смерти Вьеро в 1395 г. он основал в Риме собственную компанию. В 1397 г. он вернулся во Флоренцию, чтобы создать новое партнерство, а через несколько лет открыл новый филиал в Венеции.
Но состояние свое Джованни сделал именно в Риме.39 Действуя по собственному разумению, он устремил свой взгляд на церковь. И это был очень умный ход. Церковь обладала уникальным и весьма привлекательным сочетанием качеств. С одной стороны, она располагала колоссальными ресурсами и надежным доходом, поступавшим со всех концов Европы, а с другой – папство постоянно нуждалось в деньгах; эта потребность значительно превосходила краткосрочные доходы Церкви. Церковь была идеальным клиентом. Значительные территориальные ресурсы позволяли получить множество весьма солидных привилегий. Единственная проблема заключалась в том, что в прошлом церковными финансами управлял единственный банкир – и это был не Медичи.
Стратегия Джованни показала не только его искусное умение использовать открывающиеся возможности, но и те довольно сомнительные методы, которыми должны были пользоваться торговые банкиры.40 В 1378 г. в Церкви произошел великий раскол. Вместо одного папы неожиданно появились два, а потом три. Соперничающие между собой понтифики боролись за первенство, и каждому нужен был свой банкир.
Когда в 1410 г. папа Александр V (возглавлявший Пизанский собор) умер, Джованни понял, что это его шанс. Более десяти лет он был банкиром неаполитанского кардинала Бальдассаре Коссы. Мужчины подружились и заключили сделку. Джованни одолжил кардиналу 10 тысяч флоринов на подкуп других кардиналов с тем, чтобы проложить себе дорогу к папскому престолу. Став Папой Иоанном XXIII, Косса отдал в распоряжение Джованни значительные ресурсы Пизанского папства, которое считалось самым «законным» из трех имеющихся. Джованни настолько успешно распоряжался папскими финансами, что даже после смещения Иоанна XXIII и воссоединения Церкви в 1415 г. Медичи остались единственными банкирами Церкви с 1420 г.
Чтобы добиться этого, пришлось идти на подкуп, обман и хитроумные махинации. Но с этого момента прибыли стали практически безграничными. Козимо принял бразды правления семейным банком в 1420 г., когда его отец ушел на покой.41 Он поднял банк Медичи на невероятную высоту, добившись грандиозного успеха и процветания.42 Козимо контролировал все финансовые потоки папства. В период с 1420 по 1435 г. банк Медичи получал от Церкви 63 % своих прибылей. Подняв банк на новый уровень, Козимо значительно расширил операции. Он открыл филиалы в Анконе, Авиньоне, Базеле, Брюгге, Лондоне, Женеве и Пизе, что позволило ему успешно заниматься международной торговлей.
Козимо был достаточно умен, чтобы не вкладывать слишком много собственных денег в облагаемые налогами активы, такие как земля или собственность, и его богатство вскоре превзошло состояния всех, кого считали богатейшими людьми Флоренции. К третьему десятилетию века даже безмерно богатый Палла Строцци поблек перед Медичи. К 1459 г. процветание Козимо стало настолько фантастическим, что Джованни Ручеллаи замечал, что он был «самым богатым не только во Флоренции, но и во всей Италии всех времен».43 Однако, хотя Ручеллаи писал, что Палла Строцци заслужил свое богатство «честным путем», о происхождении капиталов Козимо он не говорил ничего.
Искусство великолепия
Искусство торгового банковского дела делало этические проблемы ростовщичества еще более серьезными. Хотя прибыли были велики, но не следовало забывать о том, что теперь доходы практически целиком и полностью зависели от ростовщичества в гораздо большей степени, чем раньше. Более того, незаконные методы, тайные сделки и открытое вымогательство являлись неотъемлемой частью мира международных финансов, и это делало торговых банкиров уязвимыми для обвинений в откровенной аморальности.
Когда в 1420 г. бразды правления в семейном банке взял в руки Козимо де Медичи, он принял на себя ответственность за коммерческое предприятие, которое стало не только более прибыльным, но в то же время и более преступным, чем когда бы то ни было. Состояние Козимо было навечно отмечено моральным стигматом ростовщичества. И чем богаче он становился, тем более неизгладимым становилось пятно греха. Хуже того, он был не просто ростовщиком, но еще и использовал свое занятие для подкупа или шантажа стесненных в средствах заемщиков. Он держал Церковь в своих руках и даже поощрял продажу и покупку церковных должностей и коррупцию в курии. Как бы вы к этому ни относились, банкирская деятельность Козимо вела к моральному банкротству так же верно, как и к финансовому процветанию.
Новая порода торговых банкиров неизбежно должна была ощущать острейшую потребность тратить еще больше денег на «художественное искупление». Не будет преувеличением отметить, что изобилие богато украшенных капелл и церквей, которыми славилась, в частности, Флоренция, доказывает и чувство вины, испытываемое меценатами, и отчаяние, с которым они пытались спасти свои запятнанные души с помощью искусства.
Будучи богаче всех, Медичи испытывали особо острую потребность в художественном искуплении, поэтому их пожертвования поражали разнообразием и масштабом. В XIV в. они наблюдали за другими и учились у них. В начале XV в. Джованни ди Биччи и Козимо усвоили и довели до совершенства практику использования меценатства для искупления собственных грехов. Они щедрой рукой тратили деньги на пожертвования и дары. Монастырям и церквам они дарили такие работы, как «Мадонна со святыми» Фра Анжелико (церковь Санто-Кроче). В этом члены семьи подражали таким семействам, как Барди и Перуцци. Точно так же они уделяли огромное внимание тому, чтобы их гробницы располагались в таких местах, где молитвы верующих были бы им гарантированы. Джованни ди Биччи был похоронен в центре Старой сакристии в церкви Сан-Лоренцо, а Козимо чуть в стороне – его гробница располагается прямо перед алтарем в главной церкви.
Но было бы ошибкой полагать, что сверхбогатые торговые банкиры Италии покровительствовали искусствам исключительно ради спасения своих черных душ. Даже в начале XIV в. наиболее передовые члены торговой элиты начали ощущать потребность выделиться, и постепенно тема искупления немного отошла в сторону. Украшения семейных капелл и включение портретов в циклы фресок можно легко истолковать как выражение скрытого желания продемонстрировать обществу свое богатство. В начале XV в. торговые банкиры оказались обладателями настолько огромных состояний, что их богатство соперничало, а порой и превосходило состояние королевских домов Европы. Вместе с деньгами приходил и статус. Обнаружив, что короли, папы и принцы зависят от их кредитов, банкирам было трудно не почувствовать себя выше рядовых граждан. Желание выделиться было непреодолимым. В карманах всегда было полно денег, сундуки заполнялись один за другим, и торговые банкиры просто не могли устоять перед соблазном показать свое богатство и престиж изобретательными способами безграничного потребления.
Ренессанс – это время головокружительных расходов, равных которым не знала история. Торговые банкиры Италии быстро поняли, что нет границ ни у денег, которые они могут потратить, ни у того, на что можно эти деньги тратить. Конечно, как многие современные богатейшие мужчины и женщины, они находили определенное удовлетворение в крупных и весьма публичных пожертвованиях благотворительным институтам. Но куда больше довольства приносили им более прямые способы удовлетворения потребности в общественном признании. Ослепительные украшения, изысканные ткани, расшитая золотом одежда, богатейшие шелка и лучшие арабские скакуны приобретались в невероятных количествах. Каждый день устраивались колоссальные банкеты для сотен гостей, и повара готовили десятки изысканных блюд. По самым незначительным поводам устраивались праздники, перераставшие в настоящие вакханалии. Количество слуг во дворцах превосходило все ожидания. Роскошь – вот единственное, что было по-настоящему важно.
Но больше всего денег торговые банкиры тратили на меценатство. Желая продемонстрировать свое богатство потомкам, они заказывали огромное количество тщательно продуманных портретов – портретов в этот период создавалось больше, чем когда бы то ни было. Типичным примером может служить бюст Франческо Сассетти работы Антонио Росселлино. Осознавая растущую социальную ценность изучения античности, банкиры платили художникам, чтобы те писали светские картины на античные сюжеты, создавали скульптуры нимф и богов из камня и бронзы. Многие начали активно коллекционировать античные оригиналы.
Но, по крайней мере, в начале XV в. торговые банкиры сосредоточили внимание на архитектуре. Они стали использовать это средство как самый драматичный и впечатляющий способ демонстрации своего богатства. Общественные пространства, где проистекала городская жизнь, и церкви обладали богатейшим потенциалом для укрепления их статуса. Более озабоченные престижем, чем спасением души, банкиры искали любую возможность для реконструкции и расширения церквей и монастырей, делая свою деятельность максимально известной обществу. Хотя Палла Строцци, Томмазо Спинелли и семейство Пацци44 строили много новых часовен, клуатров и монастырей, Джованни ди Биччи и Козимо де Медичи превосходили их на голову. В 1419 г. Джованни согласился оплатить строительство Старой сакристии в Сан-Лоренцо и пригласил для этой задачи Брунеллески.45 После 1440 г. Козимо занялся перестройкой всей церкви46, превратив ее в гигантский храм семьи Медичи.47 Всего несколькими годами ранее Козимо оплатил перестройку Сан-Марко48 и устроил там библиотеку, где хранились лучшие манускрипты, какие только можно было купить за деньги. Вскоре после этого он занялся аналогичной перестройкой Бадиа Фьезолана.49 А соперничество торговых банкиров за финансовые интересы в Бадиа Фьорентина было настолько ожесточенным, что даже Козимо предпочел выйти из этой игры.
Но, несмотря на колоссальный размер сумм, которые тратились на строительство церквей и монастырей, они не могли сравниться с теми деньгами, что тратились на дворцы и виллы. В конце XIV в. дома даже самых богатых торговых банкиров были довольно скромными, разве что чуть больше остальных. Джованни ди Биччи де Медичи, к примеру, большую часть взрослой жизни провел в ничем не примечательном доме на виа Ларга.50 Даже когда он переехал в большой дом на площади Дуомо, семейная резиденция оставалась очень скромной. Но рост состояний торговых банкиров в начале XV в. привел к бешеному спросу на огромные и богато украшенные дворцы. Стоимость их была головокружительной. По некоторые современным оценкам, палаццо торгового банкира средней руки стоил от 1500 до 2500 флоринов51, а самые роскошные, например, построенные Филиппо Строцци и его наследниками, обходились семейству почти в 40 тысяч флоринов – эта сумма более чем в тысячу раз превосходила годовой заработок самого искусного и квалифицированного работника. Но банкиры денег не жалели. Как писал Джованни Ручеллаи, он «оказал себе больше чести и доставил душе больше наслаждения, тратя деньги, а не зарабатывая их. И это в полной мере относится к дворцу, который я построил».52 Размеры и роскошь семейных дворцов производили глубокое впечатление. Палаццо Строцци по размерам намного превосходит Белый дом. Этот дворец прекрасно показывает, до каких высот могли подняться честолюбие и любовь к роскоши. Тот факт, что Ручеллаи (дворец этой семьи строил Леон Баттиста Альберти в 1446–1451 гг.), Питти (они начали строительство своего дворца в 1458 г.) и Торнабуони изо всех сил старались перещеголять друг друга в величии жилищ, доказывает, насколько престиж торговых банкиров был связан с размерами их домов. Но никто не мог сравниться с Козимо де Медичи, когда речь заходила о масштабах и роскоши. Хотя Козимо отверг первоначальные планы Брунеллески, сочтя их «слишком роскошными и великолепными», дворец Медичи-Риккарди был настолько грандиозен и так роскошно отделан, что Вазари позже писал, что «в наши дни там удобно размещались короли, императоры, папы и все что ни на есть знаменитейшие государи Европы, на все лады восхвалявшие как великодушие Козимо, так и выдающееся мастерство Микелоццо в архитектуре».53 Палаццо Медичи-Риккарди был не единственным домом Козимо. Позже он поручил Микелоццо восстановить виллу Кареджи в двух милях от Флоренции, «сооружение великолепнейшее и богатое», а также построить совершенно новую виллу-крепость в Кафаджуоло близ Муджелло.54
Любому, кто внимательно посмотрел бы на улицы Флоренции, стало бы ясно, что торговые банкиры эпохи Ренессанса, быстро сделав колоссальные состояния, как современные главы хедж-фондов или русские олигархи, ничего так не хотели, как тратить деньги ради демонстрации своего богатства и статуса. Но, начав тратить огромные суммы на архитектуру и искусство, они столкнулись с совершенно новыми проблемами. Не говоря уже об общественном осуждении практики ростовщичества, стало ясно, что богатство и траты ставят собственные и весьма серьезные этические проблемы.
С одной стороны, проблема заключалась в самом богатстве. Проще говоря, деньги порождали в обществе обиду и моральное неодобрение. Как бы они не были получены, общество полагало богатство препятствием на пути к добродетели и помехой общественному образу мыслей. Францисканские идеалы, господствовавшие в гражданской духовности в XIV в., вели к общественному презрению к богатству. В книге «О мирском и о вере» (De se-culo et religione) (1381) Колюччо Салютати высказал общее мнение, восхваляя бедность как состояние, более всего способствующее благочестию, а богатство называя воплощением алчности.55 Но, несмотря на глубокие экономические перемены, происшедшие в начале XV в., презрение к плодам Мамоны глубоко укоренилось в религиозном воображении. В 1445 или 1446 гг. Бартоломео Фацио утверждал, что «богатства не насыщают человека, а порождают все большую алчность и жажду», а следовательно, никто, «кто занимается коммерцией и извлечением прибыли», не сможет обрести истинные «сокровища» христианской веры, «даже если будет обладать состоянием Козимо».56 Отсюда и проистекало социальное недоверие к богатым. Хотя восстание чомпи (1378) было жестоко подавлено, простой народ Флоренции, который собирался слушать проповедников, страстно обличавших богатство и роскошь, испытывал глубокую обиду и ненависть к grassi («жирным котам») просто за то, что они были богаты.
С другой стороны, колоссальные траты сами по себе представляли проблему. Самые строгие нищенствующие монашеские ордена, по-прежнему приверженные идеалу бедности, продолжали осуждать показные траты, полагая их ничем иным, как выражением любви к себе. Огромные дворцы, богато украшенные залы, изысканная одежда и привлекающие взгляды драгоценности подвергались осуждению. Такие проповедники, как фра Джованни Доминичи и друг Козимо, Антонино Пьероцци, осуждали даже тех, кто жертвовал большие суммы на благотворительность, утверждая, что подобные дары диктовались, скорее, гордостью, чем христианским милосердием.57
Путь к легитимизации богатства и широких трат скрывался в том, каким образом представлять это общественности. Многие гуманисты, которые сгруппировались вокруг флорентийских торговых банкиров в начале XV в., понимали, что отчасти проблема заключается в традиционной ассоциации богатства с алчностью. Сколь бы искусственным не было разделение, но появилось мнение, что богатство не всегда идет рука об руку с алчностью, по меньшей мере на моральном уровне. В конце концов богатство – это всего лишь количество денег. Это не процесс, но факт. Как бы человек ни сделал свое состояние, совершенно нелогично испытывать презрение к самим деньгам. Сам факт богатства еще не делает торгового банкира плохим человеком. Например, в комментариях к псевдо-аристотеле-вой «Экономике» (1419) Леонардо Бруни говорил о том, что богатство не ведет к нарушению христианской добродетели, поскольку «само по себе не является ни дурным, ни хорошим».58 Как писал Поджо Браччолини в книге «О благородстве» (De nobilitate) (1440) и Франческо Филельфо в книге «О бедности» (De paupertate) (ок. 1445), богатство морально индифферентно, и невозможно осуждать банкира за то, что он разбогател.
Тем не менее осуждать богатых за то, как они тратят свои деньги, было можно. Определенные траты считались социально аморальными. В добродетельном презрении к ростовщичеству практически все полагали, что идея реинвестиции прибыли для получения дохода абсолютно аморальна. Столь же нежелательны были и чрезмерные траты. Но в то же время было ясно, что полный отказ от трат тоже никому не пойдет на пользу. Печальная тенденция накапливать деньги ради денег являлась классической парадигмой бессмысленной алчности, столь же дурной, как и разврат и распутство.
Но был и средний путь. Определенный уровень трат считался социально приемлемым. Леон Баттиста Альберти, который сам был незаконнорожденным сыном флорентийского банкира, не видел греха в том, чтобы деньги тратились на перестройку церквей или на роскошное украшение личных жилищ.59
По его мнению, подобные расходы несли только радость и наслаждение, а никто не может осудить наслаждение, если оно остается в рамках разумного.
Были и такие траты, которые считались воплощением общественной добродетели. Испытывая необходимость оправдания аристократических дворов прошлого века60, гуманисты начала XV в. разработали целую «теорию великолепия», согласно которой меценатство со стороны банкиров и особенно покровительство архитектуре обладало определенной моральной ценностью.61
Наиболее полное и убедительное доказательство ценности «великолепия», то есть «свершения великих дел», дал августинский монах фра Тимотео Маффеи (ок. 1415–1470) в своей книге «О великолепии Козимо Медичи» (In magnificentiae Cosmi Medicei Florentini detractores) (ok. 1454–1456). Этот диалог посвящен формам меценатства, которые монах наблюдал в окружающем его мире. Он написал его, чтобы ответить хулителям, недовольным теми колоссальными суммами, которые Козимо де Медичи уже потратил на строительство ряда церквей и монастырей. Опираясь на «Сумму теологии» (Summa Tbeologiae) святого Фомы Аквинского, Маффеи утверждал, что строительство и украшение флорентийских церквей и монастырей должны рассматриваться не как проявление безграничной гордыни и высокомерия Козимо, а как воплощение желания восхвалять величие Господа и побуждать людей к добродетели. Щедрое меценатство Козимо не следует осуждать и презирать, поскольку оно свидетельствует исключительно о его добродетели и заслуживает поддержки со стороны всех истинно верующих. Маффеи писал:
…все эти деяния заслуживают замечательной похвалы и должны быть рекомендованы потомству с безграничным восторгом, поскольку благодаря великолепию Козимо в строительстве монастырей и храмов потомки смогут увидеть божественное совершенство и понять, с каким благочестием и с какой благодарностью мы возносили хвалу Господу…62
Чем больше денег торговые банкиры, подобные Козимо, тратили на церковное строительство, тем более добродетельными и благочестивыми людьми они становились в глазах общества.
Конечно, следует отметить, что Маффеи ограничивался только церквями и монастырями. Но не нужно много воображения, чтобы перенести его аргументы на более светские реалии гражданского общества. Как утверждали Франческо Филельфо и Леон Баттиста Альберти, «великолепие», то есть готовность и возможность тратить значительные средства, было добродетелью, которую следовало применять ко всем формам меценатства, при условии, что меценатом двигало не только стремление к самопрославлению, но и другие мотивы. Строя огромный дворец, к примеру, торговый банкир не просто удовлетворял собственное тщеславие, но еще и прославлял собственную семью и свой город. Семьи и города славились своими памятниками. Таким образом, роскошь становилась истинно социальной добродетелью, которая воплощалась и в преданности семье, и в общественном стремлении поднять престиж коммуны.63 Чем грандиознее был дворец, чем роскошнее была его отделка, тем выше добродетель его хозяина. Об этом с поразительной ясностью и силой в 1498 г. написал Джованни Понтано:
Великолепный человек делает великое путем великих трат. Труды великолепного человека проявляются в блистательных дворцах, в церквах превосходной постройки, в театрах, портиках, улицах, морских портах… Но, поскольку великолепие проявляется через великие расходы, нужно, чтобы размеры самих объектов были роскошными и впечатляющими, иначе они не вызовут ни восхищения, ни похвалы. А роскошь в свою очередь достигается путем украшения, качеством и совершенством материала, способностью предмета сохраниться в течение долгого времени. Без искусства же ничто, будь оно малым или великим, не заслужит истинной похвалы. Если что-то выглядит ярко и не имеет украшений или сделано из дешевых материалов, которые не дадут ему долговечности, это не может быть великим и не должно считаться таковым.64
Успех новой концепции богатства и трат легко оценить. Гуманистическая теория великолепия настолько соблазнительна, что даже сегодня торговые банкиры, подобные Козимо де Медичи, желают окутывать себя той же аурой сверхчеловеческого художественного величия.
Тем не менее важно помнить, что теория великолепия – это не что иное, как способ описания реальности более социально приемлемым образом. Однако большинство гуманистов, подобно Альберти и Маффеи, высоко оценивая и прославляя капеллы, церкви и дворцы, появившиеся во Флоренции и ставшие воплощением глубокого внутреннего чувства общественной добродетели, стремились защитить своими трудами сверхбогатых торговых банкиров от обвинений в том, что мы сегодня назвали бы 99 %. Разумеется, нельзя считать, что они описывали реальность.
Несмотря на все гуманистическое приукрашивание, «искусство великолепия» было не чем иным, как гигантским упражнением в демонстративном потреблении и самопрославлении. Украшая капеллы, финансируя реконструкцию церквей и монастырей, строя огромные дворцы и наполняя свои дома лучшими произведениями искусства, какие только можно было купить за деньги, банкиры, подобные Козимо де Медичи, сознательно выставляли напоказ свое колоссальное богатство и самым заметным и видимым образом закрепляли свое финансовое господство.
Однако именно потому, что «искусство великолепия» было результатом богатства, оно скрывало под собой мрачные и неприятные методы, на которых основывалось торговое банковское дело. Каждый кирпич, каждый мазок кисти свидетельствовал о ростовщичестве, вымогательстве и грязных приемах, с помощью которых было сделано каждое состояние.
Несмотря на грязную изнанку, именно «искусство великолепия» так ярко проявилось в «Шествии волхвов в Вифлеем». Хотя Козимо позаботился о том, чтобы его самого художник изобразил в виде кающегося грешника, стремящегося искупить свои грехи, блеск и роскошь фресок свидетельствует о том, что банкир хотел продемонстрировать свое богатство и использовал грязные деньги для того, чтобы предстать перед обществом добродетельным гражданином республики. И совершенно неважно, что в действительности все было совершенно не так.
От торговых банкиров к хозяевам жизни
С первого появления Медичи в исторических документах до визита Галеаццо Марии Сфорца во Флоренцию это семейство прошло большой путь от скромных менял до невообразимо богатых торговых банкиров, способных тратить огромные суммы на искусство искупления и великолепия. Но это лишь часть истории. По мере изменения экономического положения менялось и положение политическое. Хотя Медичи начинали как мелкие игроки в драме общественной жизни, к 1459 г. Козимо де Медичи стал не только самым богатым гражданином города, но еще и некоронованным королем Флоренции. Такой путь замечателен для любой семьи, но факторы, которые вознесли его и его семью к вершинам власти и влияния, были символичны для тесных отношений, сложившихся между торговыми банкирами и политиками в раннем Ренессансе. И если коммерческие приемы торговых банкиров казались темными и туманными, то политический мир, в котором они существовали, был еще мрачнее. Этот мир может показаться во многих отношениях поразительно современным. Он весьма далек от знакомого всем нам представления о Ренессансе. Важны были не политические авантюры, в которых участвовали банкиры, а экономические факторы, позволившем им занять господствующее положение в мире политики.
Учитывая существование системы гильдий, определявшей флорентийскую политику, финансисты и торговые банкиры оказались неразрывно связанными с общественной жизнью. Однако это было не просто формальные узы. Чем успешнее становились торговые банкиры, тем теснее их дела оказывались связанными с политикой ренессансного города. Более того, их состояния зависели от действий правительства. Не вызывает сомнений то, что львиную долю прибылей банкиры получали от правительства. Как справедливо заметил Джин Брукер, самая поразительная черта Синьории заключалась в том, что «она управляла во имя блага богатых и обладающих властью и зачастую во вред бедным и занимающим низкое положение». Львиную долю выгодных должностей получали представители городской элиты. Они процветали на несправедливости и неравенстве налоговой системы и получали дивиденды от долей в финансовой задолженности Флоренции [Monte). Но в то же время им было что терять. Неприятным последствием восстания чомпи стало изменение ставок налогов, уровня зарплат и управления долгом. Все это имело далеко идущие последствия даже для самых скромных предприятий, тогда как решения относительно внешней политики, вопросов войны и мира и распределения принудительных займов могли оказать самое пагубное влияние на состояния городских торговых банкиров.
Для богатейших граждан Флоренции бизнес и политика были двумя сторонами одной и той же монеты. И учитывая, насколько высоки могли быть ставки, они не испытывали сомнений в том, что правительство – вещь слишком важная, чтобы пускать его действия на самотек или того хуже предоставлять обычным людям. Хотя к концу XIV в. структура флорентийского правительства и без того отражала интересы богатейших жителей города (ч. I глава 3), появилась узкая прослойка сверхбогатых патрициев, которые окончательно подчинили политику собственным интересам и держали бразды правления в своих руках.65
Понимая, что флорентийская конституция носит откровенно «республиканский» характер, эти патриции чувствовали, что для управления правительством им нужно найти способ изменить правила.66 И для начала они занялись организацией выборов. Однако в отличие от современности урн для голосования, куда можно было бы подбросить бюллетени, не существовало. Чиновники избирались сознательно «случайным» образом – имена кандидатов-победителей вытаскивали из мешка. Но и случай можно было подтолкнуть в «верном» направлении. Хотя теоретически все члены гильдии могли быть избраны на должности, имена, которые помещались в мешок, называли члены наблюдательных комитетов. Эти комитеты состояли исключительно из элиты гильдий. Они же и определяли, кому можно избираться, а кому нельзя. Но все равно слишком многое зависело от случая. После 1387 г. два – а впоследствии три – из восьми мест в приорате резервировались для особого класса «привилегированных» кандидатов, чьи имена доставали из отдельных небольших мешочков (borsellini). Все такие кандидаты заранее отбирались комитетами. Даже если выборы официально проводились случайным образом, и после восстания чомпи на должностях чиновников появлялись новые люди, патриции Флоренции могли быть уверены в том, что смогут заранее выбрать большинство приоров.
Все это помогало манипулировать результатами выборов. Но горький опыт научил патрициев тому, что слишком жесткий и очевидный контроль выборов может привести к катастрофе. Слишком узкий круг чиновников мог показаться слишком подозрительным. Было понятно, что круг «нужных людей» должен включать в себя более широкие слои граждан, чем раньше. Однако не было смысла ставить нужных людей на должности при отсутствии возможности управления ими. Чтобы сделать наблюдательные комитеты эффективным инструментом власти, нужно было перенести личные и деловые отношения в политическую сферу. Хотя истинные патриции часто становились приорами, но даже если их не избирали, в Синьории хватало их родственников, деловых партнеров и тех, кто от них зависел говоря терминами мафии, «нашими друзьями» и «своими людьми». Заполнив правительство «ручными» чиновниками, связанными с богатейшими людьми коммерческими или семейными узами, торговая элита могла быть уверена, что ее интересы будут соблюдены в первую очередь.67 Как писал вдумчивый хронист Джованни Кавальканти, «многие избирались в советы, но лишь немногие в правительство».68 Бизнес политики и политика бизнеса слились воедино, покровительство и семья стали основными механизмами теневого контроля.
Торговые банкиры быстро поняли, что их положение в этой системе необычайно выгодно. Хотя оно и не было господствующим, но занятия разнообразными торговыми операциями и уникальная роль кредиторов позволяли им не только контактировать с разнообразными сетями клиентов, но еще и в значительной степени влиять на государственные дела. Простое обладание финансовой силой позволило им быстро стать сильнейшими и самыми ловкими игроками в местной политической игре.
Флоренция является самым поразительным примером города с господством торговых элит, которыми управляли теневые банкиры. Но пример этот неуникален. Несмотря на то что в различные периоды Ренессанса морская Республика Генуя оказывалась под иностранным владычеством, ею тоже управляла небольшая клика торговцев и, что значительно более важно, торговых банкиров. После разрушительной гражданской войны и в особенности после отрешения в 1339 г. старых аристократических семейств от политического процесса первым дожем Симоном Бокканегрой городом стала управлять «народная хунта», состоящая из представителей торговых семейств, таких как Монтальдо и Адорно.69 Даже Венеция, которая в 1297 г. ограничила доступ в большой совет, где могли заседать представители лишь определенных аристократических семейств, оказалась под влиянием торговцев, занимавшихся внешней торговлей, и торговых банкиров. Дожем в 1365–1368 гг. был Марко Корнер, а в 1471–1473 гг. Никколо Трон, величественную гробницу которого и сегодня можно увидеть в базилике Санта-Мария Глориоза деи Фрари.
Во Флоренции в политический мир постепенно входили Медичи, которым удалось с окраин «правящего класса» подняться в самый центр власти. Первый член семьи был избран в Синьорию еще в 1291 г.70 В течение следующего века Медичи избирались в Синьорию 52 раза. Они всегда оказывались в центре самых драматических политических бурь города. Сальвестро де Медичи являлся гонфалоньером справедливости в тревожные месяцы, предшествующие восстанию чомпи в 1378 г.71 Другой член семьи Вьери ди Камбио входил в небольшую группу магнатов, которые занимались восстановлением пошатнувшейся республики после того, как восстание было подавлено.
Джованни ди Биччи де Медичи не являлся исключением. Он был первым членом семьи, достигшим реального богатства, и вошел в «ближний круг» флорентийской политики почти в порядке вещей. В правительство его ввел дальний родственник Вьери ди Камбио. В 1408 и 1411 г. Джованни избирался членом Синьории, а в 1421 гг. стал гонфалоньером справедливости. В Синьорию он попал в очень важный момент. В конце XIV – начале XV в. Флоренция вошла в эпоху, которую стали называть политикой консенсуса. Хитроумные конституционные изменения после восстания чомпи привели к консолидации позиции относительно небольшой группы сверхбогатых семейств, превратив их в правящий класс. Группа эта состояла преимущественно из торговых банкиров, объединенных общими интересами и общей войной против Милана. На сей раз эта группа была более четко определена и сплочена. И поскольку она располагала широкой поддержкой, жестким выборным контролем и сложными сетями социального контроля, режим, установленный правящей элитой, был во многих отношениях значительно стабильнее, чем все то, что существовало во Флоренции раньше. О многом говорит рассказанная Кавальканти история патриция Никколо да Уццано, который проспал большую часть дебатов по внешней политике, а потом неожиданно проснулся и предложил политику, которую он уже обсудил с «другими влиятельными людьми» и которая была единогласно принята без дальнейших обсуждений.72 «Консенсус» – и внутри класса патрициев, и между элитой и теми, кто занимал более низкое положение – стал нормой жизни: все чувствовали себя вовлеченными в процесс управления городом, а лидерская группа твердо верила в стабильность своей гегемонии. Настолько велика была уверенность этой патрицианской элиты, что она сознательно пропагандировала образ единой и гармоничной Флоренции, процветающей под правлением «лучшего» класса людей. В «Восхвалении города Флоренции» (Panegyric to the City of Florence) (1403–1404) Леонардо Бруни утверждал, что «во Флоренции всегда случалось так, что взгляды большинства полностью совпадали с взглядами лучших граждан города».73
Джованни ди Биччи, однако, не стремился слишком глубоко вникать в политический процесс. Он был занят собственными делами и отличался склонностью к уединению. Он стремился максимально отдалиться от грубых и несдержанных политических дебатов и всегда старался держаться в тени. Избрание приором и гонфалоньером он принял после серьезных раздумий и старался не принимать участие в консультативных совещаниях (praticbe). На смертном одре он говорил сыновьям:
Не давайте советов, но свободно высказывайте свое мнение в беседе. Остерегайтесь ходить во дворец Синьории, ждите, пока вас пригласят. А когда вас пригласят, делайте то, что вас просят. И никогда не проявляйте гордости тем, что вы получаете много голосов… Избегайте… политических противоречий, и всегда держитесь в тени…74
Он всегда говорил, что, имея выбор, предпочел бы вообще держаться подальше от политики.
Впрочем, Джованни ди Биччи не был стеснительным мизантропом. Напротив, его можно было назвать весьма хитроумным реалистом. Несмотря на риторические заявления о единстве и гармонии, к тому времени, когда он был вынужден в первый раз войти в правительство, между флорентийскими патрициями возникли глубокие разногласия. Хотя богатейших граждан города объединяли некоторые общие интересы, было совершенно очевидно, что этого недостаточно для поддержания длительного согласия внутри правящего класса. У них могли быть общие цели, но это не означало, что у них есть согласие относительно методов достижения этих целей или нет других, более важных, но противоречащих друг другу целей.
Конфликт был неизбежен. Конкуренты в экономической сфере быстро становились политическими противниками. По мере формирования новых фракций политические споры перерастали в гражданские беспорядки, которые возвращали город в мрачные времена начала XIV в. Ставки были высоки, и борьба велась жестко, если не жестоко. В середине 1390-х гг. Мазо дельи Альбицци и Ринальдо Джанфильяцци сумели установить контроль над Синьорией и сразу же добились изгнания своих соперников Филиппо Бастари и Донато Аччайуоли. Лишь в 1400 г. их «заговор» был раскрыт.75 Двух членов семьи Риччи обвинили в организации заговора с целью убийства руководителей фракции Альбицци-Джанфильяцци. Об этой драме живо рассказывает неизвестный флорентийский хронист. Аналогичные «заговоры», изгнания и конфискации происходили и впоследствии, когда Альбицци всеми силами старался не допустисть своих соперников к контролю над правительством.
Амбициозный торговый банкир Джованни ди Биччи понимал, как легко оказаться втянутым во фракционную борьбу и к каким печальным последствиям это может привести. Его родственники несколько раз оказывались в этом мальстреме, и последствия часто были катастрофическими. Родственные узы не были препятствием для раздоров. В 1340-е гг. Вьери ди Камбио пошел против своего кузена Сальвестро. А когда Медичи выбирали сторону, они часто оказывались отнюдь не на стороне победителя. После заговора Риччи нескольких Медичи осудили. Не желая рисковать возможностью изгнания или конфискации собственности, Джованни предпочитал держаться в стороне.
Серьезная проблема заключалась в том, что, хотя во Флоренции было немало богатых торговых банкиров, ни один из них не занимал господствующего положения. Пока финансовое положение основных семейств оставалось вполне сопоставимым, ни одна семья не могла стать бесспорным лидером в политической сфере. Но всему было суждено измениться. К 1420-м гг., то есть к тому моменту, когда контроль над семейным банком перешел в руки Козимо де Медичи, центр тяжести сместился. Козимо понял, что управление папскими финансами упрочило его финансовое положение. Он руководил невероятно широкой сетью клиентов, занимающихся самой разной деятельностью. Среди них были и люди, которые сами по себе располагали огромными состояниями. В то же время финансовые проблемы флорентийской Синьории привели к тому, что главенствующее положение во внутренней политике заняли торговые банкиры, и власть сосредоточилась в руках стремительно сужающейся группы сверхбогатых людей.
Основной проблемой были долги.76 Хотя в конце средних веков правительства городов-государств играли весьма ограниченную роль, благодаря чему бюджет оставался вполне сбалансированным, увеличение расходов на длительные войны и растущая сложность управленческого аппарата зарождающихся государств привели к стремительному росту расходов. Хотя торговля продолжала развиваться, прежних налогов не хватало. И города-государства были вынуждены судорожно искать решение проблем, которые грозили настоящим финансовым кризисом. В удушливой атмосфере грозящей финансовой катастрофы родилась идея правительственного долга. У коммун не было иного выхода – им приходилось занимать деньги, где только возможно. И хотя на бесплодной почве пустых городских закромов появились первые зеленые ростки современного рынка облигаций, способы борьбы с кризисом еще только зарождались. Но, если в современном мире правительства перед лицом банкротства могут надеяться на алчных трейдеров или в худшем случае на получение займов от МВФ или ЕБР, в эпоху Ренессанса не имеющие средств коммуны Северной Италии могли обратиться только к одному источнику – к безграничным ресурсам торговых банкиров. Такие займы стремительно вознесли торговых банкиров к высотам городской политики и ускорили крах «республиканских» режимов, превратив их в настоящие тирании.
В эпоху Ренессанса почти все государства Северной Италии переживали долговой кризис того или иного рода. И города-республики оказались для таких кризисов наиболее уязвимыми. Генуя, которую историки часто несправедливо обходят вниманием, страдала от финансовых кризисов еще со времени правления первого дожа Симона Бокканегры. И такое положение сохранялось до начала XV в. Не будет преувеличением сказать, что хроническая неспособность выполнить свои финансовые обязательства не только привела к росту доминирования новой торговой элиты, но еще и заставляла город в различные периоды своей истории подчиняться иностранному владычеству. Но ни один город не илллюстрирует влияние долга на положение торговых банкиров так хорошо, как Флоренция.
В 1424 г. Флоренция оказалась втянута в серьезный конфликт с Миланом, продлившийся целых девять лет. Вначала положение было угрожающим. Война постепенно выходила из-под контроля, и городу пришлось прибегать к услугам наемников. Но стоимость содержания наемной армии была заоблачно высокой. Хотя Флоренции было не привыкать тратить огромные средства на военные авантюры, на сей раз масштабы оказались иными. В ходе войны Флоренции был выставлен счет на 500 тысяч флоринов в год – намного больше тех средств, которые собирались в виде налогов. Дефицит бюджета в 1426 г. достиг фантастической суммы в 682 тысяч флоринов. Городу нужно было найти деньги – и быстро.
Несмотря на непопулярность, единственно возможным выходом был новый налог на собственность – catasto. С 1427 г. каждое флорентийское семейство должно было подавать декларацию о своем имуществе (с имеющимися вычетами), а город затем определял размер налога. Имущество семьи облагалось налогом в 0,5 % от стоимости, и налог взимался несколько раз в год. Как показывают сохранившиеся документы, это была одна из самых справедливых форм налогообложения в истории Флоренции.77 Многие бедные семейства вообще не платили налогов, а основная тяжесть лежала на плечах богатейших членов общества, то есть торговых банкиров. Если некоторым флорентийцам нужно было заплатить не более нескольких сольдо78, Палла Строцци задекларировал имущество стоимостью 101422 флорина, а это означало, что при каждой выплате он должен был заплатить 507 флоринов. Стоимость имущества Джованни ди Биччи составляла 70 тысяч флоринов, и его налог составлял 397 флоринов.
Единственная проблема заключалась в том, что из-за значительных военных расходов городу приходилось взимать налог по несколько раз в год. С 1428 по 1433 гг. налог взимался 152 раза.79 А поскольку налог был привязан к имуществу, а не к доходам, большое количество выплат (даже при низком уровне ставки налога) делало налоги тяжким грузом для многих флорентийцев. Как писал Джон Наджеми, «на налоги уходило все наследство»80, поскольку семьям приходилось продавать собственность, чтобы оплатить начисленные налоги. Даже известный богач Палла Строцци, состояние которого было связано с землей, в 1431 г. был вынужден просить о снижении налогов. Флоренция была городом-банкротом.
Город решил бороться с финансовым кризисом, заняв крупные суммы у своих богатейших граждан. Группа торговых банкиров занялась подготовкой и составлением условий подобных займов. Чаще всего кредиторами становились именно они. Эта группа во многом напоминает совет директоров Федеральной резервной системы. Банкиры удерживали Флоренцию от банкротства и каждый год предоставляли городу займ в размере 200 тысяч флоринов.
Такое сочетание военных расходов, мучительных сборов налогов и государственных займов определило характер флорентийской политики и привело Козимо де Медичи к вершинам власти. Для Медичи налог был не так неудобен и мучителен, как для других известных банкиров. Инвестиции Медичи в землю и собственность были ограничены, и они тщательно следили за движением капиталов, поэтому сумма налогов у них была меньше, и выплаты не так серьезно вредили активам. Тем не менее Козимо де Медичи и его деловые партнеры не только определяли политику государственного долга, но еще и являлись основными кредиторами Синьории.81 Сохранившиеся документы показывают, что не менее 46 % займов приходилось на долю десяти человек, которые либо принадлежали к семейству Медичи, либо были связаны с ним деловыми интересами. На самого Козимо и его брата Лоренцо приходилось не менее 28 % займов. Не будет преувеличением сказать, что Флоренция находилась в полной финансовой зависимости от Медичи – и конкретно от Козимо.
Хотя Козимо разделял нелюбовь своего отца к официальной общественной деятельности, его финансовое положение сделало его господствующей силой во флорентийской политике. Сознательно или нет, но он купил Флоренцию оптом. Во фракционном и высококонкурентном политическом мире стали распространяться слухи о том, что он собирается установить полный контроль над правительством.
К лету 1433 г. Ринальдо дельи Альбицци и Палла Строцци поняли, что растущее влияние Козимо представляет для них реальную угрозу. Опасаясь в ближайшем будущем быть вытесненными из политики, они решили, что настало время действовать. Как только Козимо уехал из города в свое поместье иль Треббио, они заполнили Синьорию своими сторонниками и попробовали избавиться от него раз и навсегда. Вернувшийся во Флоренцию, Козимо был арестован и заключен в камеру в башне палаццо Синьория. По настоянию Альбицци и Строцци был спешно созван специальный комитет (balia), который должен был принять решение о смещении Козимо. Но все пошло не по плану. Хотя Альбицци настаивал на казни, совет воздержался от вынесения смертного приговора. Ожесточенные споры шли несколько недель. 28 сентября Козимо, его брат Лоренцо и его кузен Аверардо были приговорены к изгнанию.
Ринальдо дельи Альбицци торжествовал. Конечно, он предпочел бы, чтобы Козимо казнили, но даже то, что его устранили из политической игры, уже было хорошим поводом для торжества. Однако это была чудовищная ошибка. Очень быстро Альбицци понял, что Флоренция оказалась в тупике. Изгнав Медичи, город, которым руководил Ринальдо дельи Альбицци, просто не смог платить по счетам. Более того, экономика города после изгнания Козимо практически рухнула. Деньги Медичи смазывали колеса коммерции, теперь же бизнес замер. Синьория не смогла даже конфисковать легендарные сокровища Медичи, поскольку семья позаботилась о том, чтобы спрятать их давным-давно. Альбицци слишком поздно понял, что Козимо сумел шантажировать город.
Произошла настоящая катастрофа. За несколько месяцев экономические проблемы, рост налогов, ряд ужасных военных поражений сделали режим Ринальдо дельи Альбицци чудовищно непопулярным. Союзники начали отказываться от него. Даже Палла Строцци охладел к нему. Хватка Альбицци ослабела. Столкнувшись с необходимостью делать выбор между гражданским банкротством и гегемонией Медичи, торговая элита города в августе 1434 г. избрала Синьорию из сторонников Козимо.
Политическая карьера Ринальдо дельи Альбицци была закончена. Новая Синьория немедленно отправила его в ссылку вместе с Паллой Строцци. Все «реформы» были отменены. А Козимо де Медичи и его родственники вернулись в город победителями. Флоренция нуждалась в его деньгах гораздо больше, чем в «свободе», которую собирался защищать Ринальдо дельи Альбицци.
Осенью 1434 г. Козимо вернулся в город и стал его полноправным и бесспорным хозяином. Измученная войной, нуждающаяся в деньгах и не имеющая иных кредиторов Флоренция видела в Козимо своего крестного отца. Хотя титул «отца нации» (pater patriae) был присвоен ему только после смерти, при жизни он был очень богатым «папочкой».82
Козимо в полной мере использовал свое положение. Он держал власть мертвой хваткой. Козимо переманил на свою сторону прежних врагов, других безжалостно и без колебаний отправил в изгнание, расширил сеть контроля и сосредоточил процессы принятия решений в собственном доме. Он даже продавил принятие новой конституции, по которой вся полнота власти переходила «его» совету, и заключил соглашение с герцогом Милана Сфорца, по которому мог рассчитывать на военную поддержку в случае возникновения непредвиденных беспорядков. К 1459 г. он достиг такой полноты власти и безопасности, о которой мафиозные крестные отцы могут только мечтать.
Заговоры, контрзаговоры и жестокие меры, сопровождавшие взлет Козимо к вершинам политической пищевой цепочки, были уникальными, но траектория его движения показывает, насколько неразрывно богатство торговых банкиров было связано с политической властью. Благодаря занятиям торговлей торговые банкиры получали возможность создать широкие сети, в которых деловые интересы переплетались с семейными узами. Неудивительно, что со временем они заняли господствующее положение в местной политике. В центре перекрывающихся сфер влияния находились богатейшие торговые банкиры, такие как Козимо де Медичи. В их распоряжении имелась готовая политическая машина, которую можно было легко перевести в правительство. Аналогично печальное состояние общественных финансов итальянских городов практически гарантировало богатейшим торговым банкирам ведущее положение в политической жизни. Без них никакая политика была невозможна. Рост расходов, негибкая система налогообложения и безнадежно недостаточные налоговые сборы делали займы единственным выходом для большинства городов. А поскольку занять деньги можно было только у торговых банкиров – и в тех сетях, частью которых они являлись, правительствам неизбежно приходилось поступаться принципами и желаниями. Но самым главным были ставки в этой борьбе. Соперники буквально наступали на пятки. Если торговый банкир хотел выжить, ему нужно было владеть целым рядом навыков. Если он был богат, но неколоссально, то ему следовало забыть о моральных принципах и действовать крайне жестко – только так можно было стать самой большой рыбой в пруду. Если он был очень богат, то ему нужно было оставаться самым богатым, самым безжалостным и самым хитроумным человеком в своем городе. Алчность была хорошим качеством для торгового банкира эпохи Ренессанса. Но в борьбе за главный приз Гордон Гекко и в подметки не годился бы Козимо де Медичи.
Искусство лицемерия
Торговые банкиры из экономических магнатов превратились в хозяев политической жизни, и те, кто добрался до вершины, могли испытывать глубокое удовлетворение. Установив контроль над правительством, они получили в свои руки идеальные средства отстаивания своих коммерческих интересов и открыли двери к безграничному богатству и влиянию. Но в то же время они столкнулись с новыми проблемами, связанными с их собственными нечистоплотными методами. У них не было титулов, которыми обладали другие деспоты и которые давали ощущение безопасности. И потому они не могли довести искусство великолепия до совершенства. В городах, которые, по крайней мере, официально оставались республиками, было опасно демонстрировать свое богатство и власть, поскольку это могло вызвать недовольство рядовых граждан. А тот факт, что власть опиралась на сеть личных отношений, осуществляемых за витриной органов управления, означал, что банкирам нужно было проявлять осторожность, чтобы не отпугнуть своих союзников.
Некоронованный король Флоренции Козимо де Медичи прекрасно все это понимал. Он прошел непростой путь. На заре своей политической карьеры он вкладывал деньги в роскошные дворцы и грандиозные церкви. И тогда он сделал ошибку, с гордостью размещая фамильный герб (семь красных шариков, palle, на золотом фоне) на всем, за что платил. Вскоре невозможно стало пройти по улице, чтобы не почувствовать влияние Козимо. Неудивительно, что многих флорентийцев, особенно принадлежавших к фракции Альбицци, это раздражало. Несдержанный Франческо Филельфо резко критиковал Козимо за подобную гордыню. «Искусство великолепия» зашло слишком далеко. Говоря о повсеместном распространении герба Медичи, Филельфо едко замечал, что гордыня Козимо настолько всеобъемлюща, что он готов украсить своим гербом даже «монашеские отхожие места».83
Как многие другие торговые банкиры, находившиеся в сходном положении, Козимо понял, что лучше держаться на заднем плане и создавать впечатление, что он является всего лишь частью широкой властной сети. Он довел искусство заключения политических союзов и завязывания новых уз до совершенства. Теперь ему нужно было искусство лицемерия.
И тут мы снова возвращаемся к «Шествию волхвов в Вифлеем». То, что Козимо изображен в виде кающегося грешника в стороне от центра, но при этом его окружают люди влиятельные и обладающие властью, явно доказывает его желание произвести на зрителей определенное впечатление. Козимо хотел представить себя скромным человеком, который тем не менее находится в центре почти случайной паутины политических, интеллектуальных и финансовых связей.
Козимо можно считать личностью особо выдающейся в этом отношении. Но и торговые банкиры гораздо более скромных масштабов тоже испытывали аналогичное желание использовать искусство для демонстрации политических связей. Семейные капеллы стали идеальной площадкой для такого искусства лицемерия. Флоренция буквально битком набита примерами этого. Наиболее пристального рассмотрения заслуживают три работы, за каждой из которых стоит мрачная политическая драма.
Фреска Филиппино Липпи «Воскрешение сына Теофила и интронизация святого Петра» в капелле Бранкаччи в церкви Санта-Мария дель Кармине [ил. 20] является не столько изображением религиозной сцены, сколько визуальным выражением властной динамики во Флоренции эпохи Ренессанса. Меценат Феличе ди Микеле Бранкаччи был процветающим торговцем шелком. Одним из морских консулов Флоренции он стал благодаря своему богатству и браку с дочерью Паллы Строцци. Но в то же время он был человеком довольно нервным. Хотя Бранкаччи был очень богат и располагал связями, обеспечивающими ему определенный политический вес, он не был настолько значимым, чтобы не ощущать угрозы из-за серьезных сдвигов, происходивших во флорентийской политике в начале 1420-х гг. Стремясь одновременно и участвовать в политике, и дистанцироваться от нее, он поручил Филиппино Липпи написать фреску, на которой сам Бранкаччи и множество хорошо известных флорентийцев были свидетелями чудесного воскрешения сына Теофила. В толпе можно разглядеть лица не только самого Бранкаччи, но и Колюччо Салютати, поэта Луиджи Пульчи, торговца Пьеро ди Франческо дель Пульезе, Пьеро ди Якопо Гвиччардини (отца Франческо, историка) и Томмазо Содерини (отца Пьеро, позже ставшего пожизненным гонфалоньером Флоренции).
Замысел был грандиозным, но пользы Бранкаччи он не принес. Несмотря на хитроумную визуальную игру фрески Липпи, в борьбе между Альбицци и Медичи Феличе ди Микеле Бранкаччи поставил не на ту лошадь, и в 1434 г. отправился в изгнание вместе со своим родственником Паллой Строцци.
Более успешно и, пожалуй, более амбициозно изобразил себя Джованни Торнабуони на фресках в семейной капелле в церкви Санта-Мария Новелла кисти Доменико Гирландайо (ок. 1485–1490). Торнабуони был весьма успешным человеком. Во времена взлета Козимо де Медичи он оказался в самом центре флорентийской политической жизни. Богатый торговец имел массу полезных деловых связей, которые помогли ему стать казначеем банка Медичи для папы Сикста IV, затем послом Флоренции, а затем гонфалоньером справедливости. Более того, он был еще и дядей Лоренцо Великолепного. Заказывая Гирландайо росписи стен капеллы, Торнабуони позаботился о том, чтобы его самого и его родственников изобразили не как главных героев, а внутри большой группы. На фреске «Изгнание Иоакима из храма» [ил. 21], к примеру, его сын Лоренцо изображен рядом с Пьеро ди Лоренцо де Медичи и еще двумя фигурами, которыми могут быть Алессандро Нази, и либо Джаноццо Пуччи, которого позже обвинили в заговоре против Савонаролы в пользу Медичи, или некий Бартолини Салимбене. На фреске «Благовещение Захарии» [ил. 22] изображены почти все мужчины из семьи Торнабуони, а рядом с ними влиятельные лица, связанные с банком Медичи: Андреа де Медичи; Федерико Сассетти; Джанфранческо Ридольфи. Все остальные изображенные на фреске люди также имели тесные связи с правящей элитой, как, например, Бенедетто Деи. Чтобы еще больше подчеркнуть культурные связи между Торнабуони и Медичи, Гирландайо по просьбе мецената добавил портреты гуманистов Марсилио Фичино, Кристофоро Ландино, Аньоло Полициано и (по-видимому) Деметриуса Калкондилеса. Эта группа находится на переднем плане слева.
Аналогичный, хотя и более амбициозный, подход использовал маклер Гаспаре (или Гуаспарре) ди Заноби дель Лама. Личность скользкая, имевшая немало пятен на репутации, Лама был довольно скромным банкиром, имевшим весьма слабые связи с Медичи. Но его амбиции значительно превосходили и его достижения, и его моральные устои. Он использовал искусство для того, чтобы искусственно преувеличить значение своих связей с господствующей торгово-банковской элитой. Лама заказал Сандро Боттичелли написать фреску «Поклонение волхвов» (ок. 1475) [см. ил. 5] для семейной капеллы в церкви Санта-Мария Новелла.84 После этого Лама украл лист из книги Торнабуони и приказал художнику заполнить фреску изображениями известных людей из мира политики и банковского дела, чтобы продемонстрировать его «близость» с самыми влиятельными людьми Флоренции. Медичи были изображены в виде трех волхвов. Хотя Козимо к тому времени уже умер, ему было отведено почетное место – его коленопреклоненная фигура располагалась прямо перед Девой и младенцем. Боттичелли написал Козимо с поразительной силой (Вазари позже замечал, что это был «самый убедительный и естественный из всех сохранившихся портретов»85 Козимо Старого). Чуть дальше на переднем плане изображены коленопреклоненные фигуры сыновей Козимо Пьеро (в красном) и Джованни (в длинных белых одеждах). Чтобы «набор» Медичи был полным, Лама разместил по краям основной сцены сыновей Пьеро, Лоренцо Великолепного (слева) и Джулиано (справа рядом с Джованни). Чтобы окончательно продемонстрировать свои связи с Медичи, Лама приказал поместить на фреске портреты Филиппо Строцци и Лоренцо Торнабуони, а также известных гуманистов Полициано, Пико делла Мирандолы и даже самого Боттичелли. Несмотря на всю кичливость и недалекость, Ламе хватило политического чутья не изображать себя рядом с Медичи. Хорошо владевший нюансами, подобающими искусству лицемерия, он поместил свой портрет среди других в группе, расположенной в левой части фрески. Его вьющиеся седые волосы хорошо видны. Его фигура в голубой тунике выглядывает из-за плеча Джулиано де Медичи. И хотя он смотрит на зрителей очень пристально, основное намерение Ламы заключалось в том, чтобы лишь намекнуть на возможные связи, а не кричать о своих амбициях всему миру.
В этом и заключалась сущность искусства лицемерия. Сколь бы сильным не был импульс к великолепию, торговые банкиры эпохи Ренессанса отлично знали, что чрезмерно откровенная демонстрация политического влияния вредна для бизнеса. Тщательно направляемая работа искусных художников позволяла им отразить и создать схему власти на холсте или фреске именно так, чтобы их фигуры были окружены аурой величия, но в то же время оставались внутри толпы.
Помимо художественных достижений, созданных благодаря такой форме меценатства, прелесть искусства лицемерия заключалась в том, что оно демонстрировало и маскировало неприглядные действия, которые позволяли торговым банкирам господствовать в городской политике эпохи Ренессанса. Раскрывая сети управления правительством, искусство показывало кровосмесительные отношения между бизнесом и политикой. Тем самым фрески и картины прямо намекали на роль долгов в сосредоточении почти абсолютной власти в руках тех, кто находился в центре этих отношений. Подчеркивая роль связей и принижая индивидуальный статус, искусство лицемерия откровенно закрепляло моральное пятно, низбежное для тех, кто купил себе место на вершине. Как consiglieri мафии, банкиры, подобные Торнабуони и безумно честолюбимого Ламы, показывали, что они принадлежат к определенному кругу и имеют связи с Медичи, а сами Медичи (capi dei tutti capi) были уверены в том, что между ними и широкой публикой всегда найдется немало зависящих от них «друзей».
Хотя Галеаццо Мария Сфорца не до конца понял смысл сигналов, посылаемых фреской «Шествие волхвов в Вифлеем», в портрете Козимо де Медичи он разглядел воплощение эволюции ремесла торговых банкиров. Ему стало понятно, как банкиры использовали меценатство для решения моральных проблем, с которыми они столкнулись.
В портрете Медичи читается путь, который привел Медичи из скромной меняльной лавки в роскошные дворцы папских банкиров и хозяев Флоренции. И в то же время этот портрет был доказательством чудовищного греха ростовщичества, колоссального богатства, привлекательности демонстративности и подчинения правительства интересам бизнеса. Но самое главное масса смыслов, заключенных в фигуре умудренного годами старика, показывает, что торговые банкиры, подобные Козимо, отлично понимали, как использовать искусство для создания публичного образа, весьма далекого от грязных реалий жизни.
Судя по фрескам Гоццоли, ничто не было таким, как казалось. Чем сильнее покаяние, демонстрируемое произведением искусства, тем более алчно меценат эксплуатировал, вымогал и присваивал деньги своих клиентов. Чем роскошнее была отделка капеллы или алтарный образ, тем более грязными были схемы получения прибыли, основанные на подкупе и принуждении. Чем сознательнее меценат прятался среди друзей и знакомых, тем смелее он использовал свое богатство для покупки правительства.
3. Наемники и безумцы
Отведя взгляд от портрета Козимо де Медичи, Галеаццо Мария Сфорца неизбежно должен был увидеть гордую фигуру в левой части «Шествия волхвов в Вифлеем» Гоццоли. Он сразу узнал бы в нем Сиджисмондо Пандольфо Малатесту, «Волка Римини». В фигуре всадника на могучем кауром боевом коне сразу узнается закаленный в боях солдат. Гордо выпяченная грудь шире, чем у всех остальных; шея толстая, как у быка; на красивом лице написана твердая решимость. Художник сознательно изобразил его без головного убора. Всадник готов действовать. При приближении врагов он мгновенно выхватит меч из ножен. Но в то же время в этом человеке чувствуется определенная манерность. На нем дорогая одежда высочайшего качества, и весь его облик излучает ощущение вкуса и физической натренированности.
Галеаццо Мария сразу почувствовал бы абсолютное сходство с оригиналом. У него была возможность общаться с Сиджисмондо очень близко. Несколькими годами ранее Волк предложил свои услуги герцогу Милана Франческо. Он часто бывал при дворе, где проходили заседания военного совета. Репутация Сиджисмондо была известна во всей Италии. Он прославился как смелый, бесстрашный воин и одаренный стратег. В то же время Малатеста отличался гуманистическим складом ума и был известным меценатом. Галеаццо Марии было трудно не согласиться со словами папы Пия II, который говорил, что «и умом, и телом он был невероятно мощным, обладал даром красноречия и великим военным талантом, глубокими знаниями истории и весьма серьезными познаниями в области философии». Понтифик заключал: «За что бы он ни брался, казалось, что он рожден для этого».1
Но портрет Гоццоли не показывал (по крайней мере непосредственно), что у Волка Римини была и другая, гораздо более темная сторона. Несмотря на все достоинства Сиджисмондо, «темная сторона его характера брала верх».2 И это еще слабо сказано. Несмотря на все похвалы смелости и образованности Малатесты, Пий II не сомневался, что он был «худшим из людей, которые когда-либо жили или будут жить, позором Италии, бесчестьем нашего века».3
Портрет Сиджисмондо на фресках Гоццоли – это своеобразный парадокс. С одной стороны, это человек, известный или, скорее, печально известный «нетерпимостью к миру» и «страстью к наслаждениям, безразличием к любым тяготам и страстным желанием войны».4 Тем не менее он явно был человеком культурным и утонченным. Сиджисмондо был известным и щедрым меценатом, и Козимо де Медичи, отлично разбиравшийся в людях, высоко ценил его – неудивительно, что он поместил его портрет среди самых выдающихся и образованных людей своего времени.
Но парадокс был глубже. Во многих отношениях Сиджисмондо был весьма типичен для особого, но часто недооцениваемого, типа меценатов эпохи Возрождения. Его портрет – это мгновенный снимок мира, в котором они обитали. Сколь бы Пий II ни называл его «худшим из людей», Сиджисмондо был воплощением наемника-кондотьера, архетипом нового типа генерала-наемника, который владел искусством войны и держал судьбу Италии в своих руках. Жестокие, сильные, блестящие воины насиловали, грабили и убивали всех, кто встречался им на пути. Они вызывали отвращение у сильных и устрашали всех на своем пути. Но в то же время по мере повышения статуса и значимости они стали играть все более важную роль в развитии искусства – сначала в роли предмета культа гражданского увековечивания, а затем в качестве самостоятельных меценатов. Удивительно, но они были почти одержимы искусством. Хотя руки их были запятнаны кровью, но они заказывали картины, скульптуры, церкви и дворцы несравненной красоты. Их покровительство помогло таким художникам, как Пьеро делла Франческа, войти в пантеон европейской культуры.
Чтобы понять поначалу непонятное появление Сиджисмондо на фреске Гоццоли «Шествие волхвов в Вифлеем» и его поразительную одержимость искусством, нужно узнать подноготную портрета и познакомиться с удивительной историей увлеченности кондотьеров культурой – от ожесточенных войн раннего Ренессанса до абсолютной и пугающей утонченности середины XV в. Эта история совсем непохожа на привычные нам представления о меценатстве эпохи Ренессанса. Это драма войны и предательства, звездами в которой были обычные наемные убийцы, постоянно балансировавшие на грани безумия и безжалостно пронесшие по Италии как воплощение злобы и одновременно исключительно хорошего вкуса. Эта история напоминает старый добрый вестерн, хотя хорошие в ней не так уж и хороши, плохие – хуже не придумаешь, а злоба возведена в разряд искусства.
Искусство войны
Ренессанс был золотым веком наемников. С самого начала этого периода в политической и военной жизни Италии господствовали кондотьеры, которые железной хваткой держали государства полуострова. Хотя практика приглашения наемников существовала еще со времен античности, их положение в Италии эпохи Ренессанса не знало прецедентов. Своим пугающим положением они были обязаны прогрессивной эволюции искусства войны, которая началась в конце средних веков.
К началу XIV в. стало понятно, что мелкие и раздробленные государства Италии обречены существовать в состоянии почти постоянных конфликтов. Но война стала гораздо более техничной, чем раньше. Хотя трехчастная картина Паоло Уччелло «Битва при Сан-Романо» (галерея Уффици, Флоренция; Национальная галерея, Лондон; Лувр, Париж) была написана в начале XV в., она живо показывает сложность военных действий [ил. 23–25]. Художник увековечил сражение между армиями Флоренции и Сиены, произошедшее в 1432 г. Уччелло очень точно передал жестокий хаос войны. Кровавый ужас сражения почти лишил художника возможности использовать перспективу, чтобы хоть как-то упорядочить изображение. Но в зловещем хаосе битвы Уччелло решил показать два самых важных технологических достижения в военной сфере раннего Ренессанса. Обратите внимание на задние планы двух первых панелей («Атака Никколо Маурици да Толентино в битве при Сан-Романо» [Лондон, Национальная галерея]; «Никколо Маурици да Толентино повергает Бернардино делла Чарда в битве при Сан-Романо» [галерея Уффици, Флоренция]). На поле изображено множество вооруженных людей, которые стреляют из арбалетов (balestieri). Арбалет стал ключом ко всему. Наряду с большим луком он изменил саму природу вооруженного конфликта. Дальность, сила и точность стрельбы превосходили все существовавшие ранее виды оружия. Арбалеты и большие луки нельзя было и сравнить с луками и стрелами средних веков. Как показала битва при Азенкуре, при правильном использовании это орудие могло превратить сражение в настоящую бойню.
Все это оказалось серьезное влияние на военные действия. Главная перемена произошла в доспехах. Арбалеты и большие луки легко пробивали кольчуги, в которых раньше сражались пехотинцы и рыцари. Подобные доспехи стали практически бесполезными. Потребовались более тяжелые, кованые доспехи, а в некоторых случаях и защита для лошадей. Вот почему на картинах Уччелло все кавалеристы изображены в полном доспехе, и даже на пехотинцах на заднем плане мы видим металлические кирасы. Технологические сдвиги изменили характер действий кавалерии. Поскольку рыцари могли быть застрелены арбалетными болтами или лучниками (обратите внимание на упавшую лошадь на второй панели Уччелло), они более не могли действовать в одиночку. Им нужна была одна-две запасные лошади и целая команда пехотинцев, которые подавляли огонь и обеспечивали дополнительную защиту. Боевая единица, состоявшая из рыцаря и двух-трех пеших солдат, стала называться копьем.
Из-за технологических изменений война стала более профессиональным занятием. Для овладения арбалетом или большим луком необходима была практика. Только тогда это оружие могло использоваться с максимальной эффективностью. Копью тоже нужны были совместные тренировки. Более того, металлические доспехи, сменные лошади и даже арбалеты стоили очень дорого и не могли попасть в руки кому угодно. И это порождало серьезную проблему. Даже самые богатые граждане не могли обладать подобным оружием и опытом. Усиливающаяся жестокость итальянской гонки вооружений не позволяла государствам возлагать надежды на скромные способности доморощенных волонтеров. Поскольку войны превращались в долгие и требующие значительных расходов кампании, итальянские города-государства и signori вынуждены были искать себе солдат повсюду. Если они хотели добиться успеха в войне, то им нужно было нанимать целые подразделения хорошо вооруженных и натренированных профессионалов и быть готовыми к тому, чтобы использовать часть своего нового богатства на собственное вооружение. Единственным выходом было приглашение наемников. Примерно с 1300 г. большие группы «профессиональных наемников практически вытеснили местные войска и стали основным компонентом итальянских армий».5 А их предводители – первые кондотьеры – сменили местных генералов, занявшись стратегическим планированием каждой военной кампании. Все три командира, изображенные в «Битве при Сан-Романо» – Никколо Маурици да Толентино, Микелетто Аттендоло и Бернардино Убальдини делла Карда, – были кондотьерами.
В XIV в. возникшая потребность в значительном количестве опытных наемников была удовлетворена мгновенным и довольно неожиданным притоком в Италию иностранных солдат. Они прибывали сюда со всех концов континента и самыми разными путями. Немцы и англичане, вроде сэра Джона Хоквуда, искали новое место службы после других европейских кампаний. Другие, преимущественно венгры, французы и каталонцы, пришли на полуостров с завоевателями – иностранными правителями, такими как Людовик Великий Венгерский или папы из Авиньона. Они остались в Италии в надежде заработать на жизнь своим военным искусством. «Иноземность» таких подразделений с самого начала была серьезным преимуществом. Иностранцы не принимали чью-либо сторону по «идеологическим» соображениям. Их интересовали только деньги. В то же время они давали итальянским государствам доступ к новейшим достижениям военной техники (арбалетам, большим лукам и т. п.), которыми лучше всех по общему согласию владели выходцы из Северной Европы.
Первые команды наемников6 например отряд Уильяма делла Торре и наемника под замечательным именем Диего да Рат7, были относительно невелики. Число солдат колебалось от 19 до 800 человек. Структура таких команд была довольно свободной. К третьей декаде XIV в. размеры их заметно увеличились. Они превратились в хорошо организованные подразделения с четкой идентичностью и командными структурами. Некоторые (например, из Сиены или Черрульо) включали в себя солдат самых разных национальностей. Некоторые имели конкретную специализацию, например пехота или кавалерия, но во многих были представители все рода войск, которые одновременно решали все военные задачи. Самые большие – Большой отряд Вернера Урсулингена, а впоследствии «Фра Мориале», Белый отряд сэра Джона Хоквуда и Звездный отряд – насчитывали до 10 тысяч солдат и 20 тысяч сопровождающих гражданских.
Большинство городов и signori нанимали кондотьеров и их отряды на короткий срок (condotte – отсюда и название «кондотьер»). Обычно контракт заключался на четыре-восемь месяцев. Длительность контрактов объяснялась нежеланием платить наемникам дольше, чем было необходимо. Но это не означало, что отряды наемников были какими-то бродячими бандами. Хотя они переходили от одного «заказчика» к другому, большинство периодически возобновляли контракты. Германский капитан Герман Вестерних, к примеру, находился на службе у Флоренции 20 лет (1353–1371, 1380), заключая один за другим четырехмесячные контракты.8 В то же время по-настоящему выдающиеся кондотьеры могли получить более продолжительный контракт, который возобновлялся в течение еще более длительного срока. Хоквуд вместе со своими английскими товарищами Джоном Бервиком и Джонни Ливерпулем заключал контракт на год, прекрасно понимая, что он почти неизбежно будет возобновлен. По той же причине краткость таких контрактов не означала, что они были невыгодны в финансовом отношении. Как раз наоборот. Английских солдат высоко ценили за их боевые навыки, и они могли запрашивать огромные деньги, порой значительно превосходящие жалованье высших чиновников государства.
Заключив контракт, иностранные кондотьеры сражались эффективно и хранили верность. Поскольку они сражались вдали от дома и не имели никаких связей с Италией, их не интересовали тонкости сложной политики разных фракций. Не стремились они и захватывать территории для себя. Отряды итальянцев, изгнанных из своих государств, предпочитали держаться подальше от грязного мира политики. Их уделом была война, простая и чистая. Пока им платили – они воевали.
Хорошие: памятники иностранным кондотьерам и наемникам
У государств Северной Италии были все основания испытывать особую благодарность неожиданно появившимся первым иностранным кондотьерам. И этот факт отражен в соборе Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции. В 1436 г. флорентийская Синьория заказала Паоло Уччелло огромный надгробный памятник одному из самых уважаемых слуг народа [ил. 26]. «Прекрасная работа поразительного величия»9 стала явным – даже слишком явным – признанием заслуг со стороны общества. Хотя надгробие несколько раз переносили10, оно было установлено так, чтобы его видел каждый, кто придет молиться. Надо сказать, это было весьма необычно. Хотя собор всегда являлся эпицентром гражданской и религиозной жизни11, обычно он находился «выше» подобных соображений. Быть увековенным подобным образом – это была великая честь. А то, что подобной чести удостоился иностранец, «варвар»-англичанин, зарабатывавший себе на жизнь продажей собственного меча, вообще выходило за всякие рамки.
Однако сэр Джон Хоквуд не был обычным человеком. Кондотьер высшего порядка, он был одним из самых выдающихся воинов своего времени. Как гласит надпись под конным портретом Уччелло, этот «британский рыцарь» был «самым рассудительным вождем своего времени и самым искусным в военном деле».12 Хоквуд родился где-то на юго-востоке Англии, во время Столетней войны служил во Франции в армии короля Эдуарда III, затем какое-то время оставался не у дел, а примерно в 1360 г. стал капитаном наемников в Бургундии.13 Впервые он обратил на себя внимание итальянских государств во время «белой кампании» против авиньонских пап.14 Джон Хоквуд пользовался уважением за свою смелость и командирские качества. В Италию его пригласили в 1362 г. В течение последующих нескольких лет он неустанно сражался на севере полуострова, служа разным «заказчикам».15 В разгар войны Восьми святых, когда Флоренция и ее союзники в 1375–1378 гг. выступли против папства, Хоквуд сражался на стороне Флоренции. 17 лет Хоквуд практически без перерывов служил городу, где его считали «лучшим капитаном и самым опытным и искусным воином во всей Италии».16 Он возглавил флорентийскую армию в войне против Милана и заслужил репутацию «спасителя» свободы города и самого преданного командира наемников. Благодарность Флоренции была настолько велика, что Хоквуд получил гражданство и весьма приличное содержание. Он умер в 1394 г. и был удостоен офицальных похорон. Хотя великолепное надгробие Уччелло было создано позднее, этот памятник служит доказательством той высочайшей оценки, какую кондотьер заслужил у народа Флоренции.
Джон Хоквуд, несомненно, был выдающимся образцом иностранного наемника, а его конный портрет прекрасно иллюстрирует то, как искусство использовалось для восхваления и возвеличивания подобных людей. Первые кондотьеры, подобные Хоквуду, не имели ни постоянного жилища, ни территориальных интересов, поэтому не могли заниматься меценатством в обычном смысле слова. Но они пользовались такой славой и уважением, что города часто приглашали художников, чтобы в визуальной форме выразить свою благодарность.
Сколь бы ни был впечатляющим памятник Хоквуду, фреска «Гвидориччо да Фольяно во время осады Монтемасси», написанная в 1330 г. Симоне Мартини для зала Маппамондо в Палаццо Пубблико в Сиене, производит еще более глубокое впечатление. Но хотя конный портрет Хоквуда кисти Уччелло был выражением искренней благодарности и высокой оценки, он же показывал иную сторону привычек первых кондотьеров. Несмотря на многие достойные качества, первые кондотьеры не были воплощением добродетели. Честно говоря, они вообще не были достойными людьми – и уж точно не был таким галантный английский рыцарь, изображенный Уччелло.
Хваленая верность Хоквуда может создать ложное представление о преданности первых кондотьеров. Ни иностранные наемники, ни итальянцы, изгнанные из своих городов, не стремились к территориальным завоеваниям. Единственное, что их интересовало, это деньги.
Во время войны командиры наемников, не колеблясь, переходили на другую сторону, если предложенная цена была достаточно высока. Именно так Хоквуд и оказался впервые на службе Флоренции в 1377 г. После двух лет войны Восьми святых папа Григорий XI заключил мир с основным союзником Флоренции, Миланом. Это резко поколебало позиции антипапского альянса. Все ожидали, что Григорий попытается быстро прекратить конфликт, отправив Хоквуда, который в то время был одним из основных командиров армии, сражаться против Флоренции. Чтобы не допустить подобной катастрофы, Флоренция предложила Хоквуду взятку в размере 130 тысяч флоринов, и он перешел на другую сторону.17 Осознавая опасность подобного предательства, коммуны и signori вскоре начали платить лучшим кондотьерам безумные деньги во времена мира и войн не только для того, чтобы сохранить верность наемников, но и чтобы вытеснить с рынка своих врагов.
Но даже в мирное время первые кондотьеры не испытывали угрызений совести из-за того, что добивались своих целей, торгуя своей монополией на насилие. На практике это означало обычное вооруженное вымогательство – не больше и не меньше. Хоквуд был признанным мастером этого дела. В 1379 г. Флоренция не вела войн, и ей не нужна была большая наемная армия. Но, возглавив банду мародеров, бесчинствовавшую на полях Тосканы и угрожающую хаосом и разрушением, Хоквуд вынудил Флоренцию взять его самого и тысячу «копий» на полное содержание – причем весьма приличное.18 Подобные суммы вполне можно было считать постоянной взяткой за гарантии «хорошего поведения».
Наемники и их командиры были людьми жестокими и неприятными, привыкшими к войне и насилию. Даже для «лучших» кондотьеров жестокость была образом жизни. Свои кампании они вели с такой жестокостью, которая выходила за рамки каких бы то ни было стратегических соображений. Восхваляя кондотьера XIII в. Фаринату дельи Уберти (умер в 1264 г.), Леонардо Бруни вынужден был признать, что даже столь выдающийся военачальник «поступал более непростительно по отношению к своим противникам, чем следовало бы в соответствии с умеренностью цивилизованного поведения».19 Столько же непростительными были поступки Хоквуда в следующем веке. В 1377 г. Хоквуд вырезал все население Чезены и командовал убийством 5000 гражданских лиц.20 Одного этого факта достаточно для того, чтобы оправдать все нападки на кондотьеров в современной литературе. Петрарка осуждал использование германских наемников во время осады Пармы в 1344–1345 гг.21 Он писал не только о «продажных сердцах» иностранных солдат, которые с легкостью превращались из «сторонников» во «врагов», но еще и обращал внимание на «тевтонскую ярость», которая делала поля красными от бездумно пролитой итальянской крови. Неудивительно, что в коммунах карикатуры на продажных и жестоких кондотьеров появлялись в публичных местах столь же часто, как и памятники тем же самым людям.22
Кондотьеры несли с собой смерть и разрушение. Их отряды не подчинялись законам и разбойничали – причем зачастую на землях собственных «хозяев». Грабежи, мародерство и изнасилования были для них нормой жизни. Они обогащались по своему желанию, сея вокруг себя страдания и хаос. Сами кондотьеры были еще хуже тех солдат, которыми они командовали. Многие из них были настоящими садистами. Малатеста да Веррукьо (1212–1312), к примеру, обеспечил своей семье господство Римини, убив всех своих соперников с поразительной жестокостью. Неудивительно, что такой человек оказался в «Аду» Данте.23 Его сын был не лучше. Узнав, что его жена Франческа да Полента стала любовницей его брата, Паоло, Джованни Малатеста (1240/44-1304) убил обоих собственными руками.24
Все это представляет портрет Хоквуда работы Уччелло в совершенно ином свете. Флоренция не просто хотела увековечить память достойного командира великолепного отряда профессиональных солдат, но еще и побаивалась человека, от которого так сильно зависела. Хотя кондотьеры могли быть лучшими наемниками Ренессанса, конный памятник Хоквуду показывает, что хорошие были не такими уж и хорошими. Великолепные произведения искусства, созданные в их память, являются свидетельством страха, который они вселяли в сердца окружающих, а вовсе не их добродетельности.
Плохие: владыки войн и короли меценатства
После смерти Хоквуда изменился в следующем веке не только характер кондотьеров, но и их моральный статус. Все изменилось к худшему. И, как это часто было в эпоху Ренессанса, такие перемены стали катализатором сейсмического сдвига в отношении наемников к искусству. В результате этого сдвига они из объекта меценатства сами стали меценатами.
Изначально «Портрет герцога Федерико и его сына Гвидобальдо» (ок. 1478–1477, Национальная галерея Марке, Урбино) кисти Педро Берругете предназначался для герцогской спальни в Палаццо Дукале в Урбино.25
Это очень домашнее изображение одного из самых выдающихся кондотьеров XV в. [ил. 27]. Герцог Урбино, Федерико III да Монтефельтро изображен в полном доспехе в кресле с высокой спинкой. Он читает красивую книгу. Рядом с ним играет сын-наследник. Герцог – живое воплощение просвещенного воина-рыцаря. Его благородство и достоинство не вызывают никаких сомнений. Малиновая мантия, отороченная горностаем, демонстрирует его аристократический титул. Кроме того, художник изобразил много символов рыцарственной натуры герцога. На шее у него висит орден Горностая, пожалованный ему Фердинандом I Арагонским, королем Неаполя. На правой ноге виден знак ордена Подвязки, полученный от короля Англии Эдуарда IV. На полке перед ним стоит украшенная драгоценностями митра, пожалованная султаном Оттоманской империи.
Изображая мецената подобным образом, Берругете сумел отразить величайшие достижения в блестящей кондотьерской карьере Федерико.26 В этом портрете проявился характер второго поколения наемников Ренессанса. Во время ожесточенных сражений XV в. и особенно во время Ломбардских войн (ок. 1425–1454) характер войны кардинально изменился. Кампании стали более жестокими, конфликты длились гораздо дольше, союзы между все более централизованными государствами делали войны более крупномасштабными.27 «Искусство войны» превратилось в «военную науку». Ни города-государства, ни signori не могли более нанимать банды ненадежных бродячих иностранцев для решения очередного неожиданного кризиса. Они начали мыслить в понятиях долгосрочной оборонительной стратегии. А для этого были нужны четко определенные военные подразделения, которые были не только лучше вооружены и подготовлены, но еще и имели иерархическую структуру и были более расположены к верной службе на полупостоянной основе.
В этот период стала появляться новая разновидность кондотьеров. Чаще всего они были итальянцами – иногда младшими сыновьями знатных родов, желавшими сделать собственную карьеру. Имея собственные земли, такие кондотьеры, как Якопо даль Верме (1350–1409), Фачино Кане (1360–1412) и Муцио Аттендоло Сфорца (1369–1424), могли набирать себе людей и получать стабильные доходы для их вооружения. Они всегда могли рассчитывать на то, что им хватит солдат для любой кампании. В силу этого изменился характер их отношений с «заказчиками». Масштабы и профессионализм наемных армий делали их особо ценными. Некоторые кондотьеры получали назначение пожизненно, а другие командиры получали беспрецедентные вознаграждения, которые должны были надолго гарантировать их верность. Помимо значительных денежных сумм, выплачиваемых опытным командирам, города и signori начали дарить самым выдающимся кондотьерам роскошные дворцы, а порой даже города, а также возводить их в дворянство (такой прием технически назывался «пожалованием поместья»).28 Наделяя кондотьеров землей, богатством и квази-феодальной связью с правителем-работодателем, города и правители рассчитывали на то, что у наемников появится убедительная причина для сохранения верности и хорошей службы. Это была попытка превратить наемные отряды в собственные армии.
Федерико да Монтефельтро был доказательством того, насколько эффективными могут быть результаты таких перемен. Портрет кисти Берругете свидетельствовал о том, какого грандиозного успеха добился этот человек. Незаконнорожденный сын графа Гвидантонио да Монтефельтро Федерико вступил в ряды наемников, когда ему было всего 16 лет. Оказалось, что война – это его истинное призвание. Он одержал целый ряд блестящих побед, причем зачастую над превосходящими силами противника. В 1467 г. он лично спас Милан от захвата венецианскими армиями под предводительством Бартоломео Коллеони в битве при Риччардине (Молинелле) и заслужил благодарность папы Пия II за сдерживание амбиций Сиджисмондо Пандольфо Малатесты. После успешной осады Вольтерры в 1472 г. благодарность Флоренции не знала границ. Он стал настолько известным и влиятельным, что ему часто платили просто за то, что он не станет ввязываться в войну: в 1480–1482 гг. во время войны с Феррарой, к примеру, Венеция предложила ему 80 тысяч флоринов с условием, что он просто останется дома.29 Военные успехи принесли Федерико огромное богатство, уважение, почет и восхищение величайших домов Европы. В 1474 г., когда он решил покончить с военной карьерой, ему был пожалован титул герцога, титул апостолического викария, он был назначен главнокомандующим армии церкви и удостоен ряда самых высоких рыцарских орденов.
Как показывает портрет Берругете, Федерико пользовался блестящей репутацией одного из самых выдающихся воинов своего времени. Он воплощал собой все лучшие качества кондотьеров XV в. Еще в 1464 г. Джанмарио Филельфо, сын Франческо, называл его новым Геркулесом и посвятил ему эпическую поэму, в которой воспевал почти мифический статус Федерико – героя-воина.30 Столь же великолепный, героический образ предстает перед нами в хвалебной биографии, написанной Пьерантонио Пальтрони.31 Даже флорентиец Кристофоро Ландино в книге «Диспуты в Камальдоли» (Disputationes Camaldulenses) писал, что Федерико явно «заслуживает сравнения с лучшими капитанами древней эпохи».32 После смерти Федерико был воспет Бальдассаре Кастильоне, который назвал его «светом Италии». Он писал:
очень многие были свидетелями его осмотрительности, человечности, справедливости, щедрости и несгибаемости духа. О его военном таланте говорят многочисленные блестящие победы, способность брать приступом неприступные крепости, стремительные и решительные вылазки, победы над превосходящими силами противника. Федерико не проиграл ни одной битвы. Поэтому его по справедливости можно сравнить с самыми знаменитыми военачальниками античности.33
И действительно, Федерико был практически ходячей рекламой «современного командира наемников».
Более того, Берругете изобразил Федерико с книгой, чтобы продемонстрировать страстный интерес герцога к просвещению и искусствам. Художник очень тонко почувствовал перемены в культурном облике кондотьеров XV в., связанные с развитием военного искусства. Теперь кондотьеры были богатыми, титулованными людьми. И им хотелось легитимизировать свое социальное положение, завоеванное силой оружия. Они сознательно окутывали себя аурой уважения. А для этого им нужно было искусство, которое восхваляло бы их достоинства и наводило блеск на несамые приглядные стороны их занятия.
То, что Берругете изобразил Федерико в полном доспехе, доказывает желание кондотьера подчеркнуть военную сторону своей жизни. Сколь бы успешными и влиятельными ни становились кондотьеры, они понимали, что для большинства людей способ, которым они заработали себе на хлеб, кажется ужасным и пугающим. Жизнь солдата – не самая счастливая, но жизнь наемника, как показывают замечания Макиавелли в «Государе», – это путь неопределенности и предательства, а то и настоящей бойни. Когда социальное положение кондотьеров улучшилось, они, естественно, захотели изменить это неблагоприятное, хотя и справедливое представление о себе.
Гуманистическое увлечение классикой позволяло сделать шаг вперед. Античная история и мифология была полна императоров, военачальников, богов и героев, которые не отличались безупречной репутацией, но тем не менее были вознесены до высот славы благодаря своей силе и воинским талантам. Несмотря на попытки рассматривать отдельные сюжеты как аллегории христианской морали, сильные всегда были правы, а смелость (практически в любом контексте) приравнивалась к добродетели. Геркулес, Кадм, Персей и Тезей воспринимались гуманистами как образцы агрессивного, мускулистого добра, а императоры Адриан и Траян (наряду с Юлием Цезарем, монархия/тирания которого вызывала неоднозначную оценку) служили примером для подражания князей-воинов.
Однако у таких книг была довольно ограниченная аудитория. Командирам наемников нужна была широкая публика. И меценатство предоставляло им идеальную возможность для установления столь желанных и очевидных связей с античными героями.
Одним из самых очевидных и популярных способов было искусство погребальное. Трудно найти более драматичный и впечатляющий пример, чем капелла, построенная Бартоломео Коллеони в родном Бергамо в 1470-е гг. Как было известно всем современникам, этот проект долгое время был очень дорог сердцу Коллеони. Строительство капеллы было для него настолько важно, что он даже ввел в город свои войска и снес старую сакристию, примыкающую к церкви Санта-Мария Маджоре, чтобы церковь не помешала работам на том месте, которое он выбрал для своей капеллы. Хотя эта история вполне может быть апокрифом, нет сомнений в том, что Коллеони считал строительство капеллы идеальным доказательством своей «добродетельности».34 Он тесно сотрудничал с архитектором Джованни Антонио Амадео, чтобы тот не упустил ни одной иконографической детали, которая свидетельствовала бы о величии всех его достижений. О многом говорит фасад капеллы. По обе стороны от большой розетки Коллеони разместил два табернакля – один с бюстом Юлия Цезаря, а другой с бюстом Траяна. Цель подобного украшения совершенно ясна. «Непобедимый генерал» (как гласит надпись на его гробнице) сравнивал свой военный гений с Цезарем и Траяном, чья моральная стойкость, воинское искусство и авторитет, закрепленные в веках, должны были прикрыть кровавую и неприглядную сторону наемнической жизни Коллеони.
Более тонкий подход к параллелям с античными героями проявлялся в конных статуях. Хотя статуя Марка Аврелия, ныне украшающая площадь Кампидольо в Риме, – это единственная дошедшая до нас статуя подобного рода, такие работы часто использовались в античные времена, чтобы подчеркнуть воинский талант, триумфальные победы и справедливость кого-то из военачальников. В средние века подобный прием вышел из моды, но возродился с новой силой в раннем Ренессансе. Порождая ассоциации с выдающимися римскими императорами прошлого, конные статуи (в свое время Уччелло использовал аналогичный прием в живописи, создавая памятник сэру Джону Хоквуду) пользовались особой популярностью у кондотьеров, стремящихся окутать себя нереалистической аурой добродетели. В 1475 г. Коллеони пожертвовал большую сумму, чтобы воздвигнуть в Венеции конный памятник самому себе. Хотя его желание быть увековеченным на площади Сан-Марко так и не реализовалось, впечатляющая и даже пугающая статуя работы Андреа дель Вероккьо сегодня украшает площадь Кампо Санти Джованни э Паоло. Его товарищ по оружию Эразмо да Нарни (1370–1443, более известный как «Гаттамелата») увековечен в сходной, хотя и более мирной, статуе работы Донателло, которая сегодня находится возле Иль Санто в Падуе – Нарни какое-то время управлял этим городом от имени Венеции.
Но существовали и другие более утонченные и хитроумные способы связи кондотьеров с античными героями. И никто не хотел использовать их больше, чем Федерико да Монтефельтро. Помимо картины Берругете такой изобретательный подход проявился в двустороннем портрете герцога и его супруги, написанном Пьеро делла Франческа примерно в 1474 г. (галерея Уффици, Флоренция).35 На обратной стороне панели с профилем Федерико он изображен несущимся на триумфальной колеснице и сидящим на раскладном кресле в полном доспехе и со скипетром в руке. Аллегорическая фигура Победы венчает его лавровым венком, а перед колесницей художник изобразил воплощения четырех основных добредетелей. В этом портрете явно чувствуется влияние античных образцов. Это прекрасная попытка изобразить «торжествующего» Федерико в образе прямого наследника героев Древнего Рима. Одновременно художник подчеркивает, что «победа» является таким же убедительным доказательством моральной стойкости герцога, каким она была для римских военачальников, которыми он восхищался. Как гласила надпись под этой сценой: «Тот славен едет в блестящем триумфе, кого, равного высоким князьям, прославляет достойно вечная слава как держащего добродетелей скипетр».
Портрет Берругете показывает также, что кондотьеры хотели, чтобы их военные достижения считались не только героическими, но и заслуживающими уважения и даже восхищения. Конечно, эта задача была нелегкой. По мнению Церкви, война была оправдана лишь тогда, когда она была связана с добродетельным героизмом или святой целью. Бойня, которую устраивали солдаты удачи, со всех точек зрения была аморальной, а сами они были всего лишь наемными убийцами. Теологи с самых первых дней существования Церкви единодушно осуждали изнасилования, грабежи, пытки и убийства, считая их самыми страшными грехами.
Поскольку наемники не имели ни малейшего желания маскировать свою жестокость, осуждение Церкви представляло собой основную имиджевую проблему.
Помимо значительных сумм, которые привычно жертвовались церквам и религиозным институтам, кондотьеры использовали для придания своим неприглядным действиям ауры уважения и героизма военных святых. И недостатках в святых солдатах не было. Церковь издавна почитала святого Георгия, святого Мартина и святого Евстафия, а также архангела-воина Михаила. Поддерживая культ военных героев, кондотьеры могли успешно ассоциировать себя с христианской добродетелью. Человек, имеющий тесные связи с такими святыми, просто не может быть грешным.
Самым прямолинейным способом было включение портрета в картину на религиозный сюжет. Как и современные им торговые банкиры, кондотьеры с удовольствием изображали себя в виде свидетелей или участников сцен из религиозной истории. Хорошим примером этого может служить картина Пьеро делла Франческа «Алтарь Монтефельтро» (галерея Брера, Милан), которую Федерико да Монтефельтро заказал в 1472–1474 гг. [ил. 28] Центральное место занимают Дева Мария и младенец Христос. Их окружают многочисленные святые, хотя ни один из них ничем не напоминает военного. А на переднем плане изображен коленопреклоненный Федерико. Художник изобразил его в полном доспехе; шлем и латные рукавицы лежат на земле перед ним. Он являет собой образец истинно верующего человека. Смысл картины совершенно ясен. Хотя Федерико и солдат по профессии, но он солдат Христа. Вера для него превыше всего. Тем, кто был знаком с неприглядной историей его жизни, это могло показаться абсолютным нонсенсом. Тем не менее такая визуальная стратегия была очень эффективной. Нет оснований полагать, что картина не оказала желаемого воздействия на зрителей в Урбино.
Но для придания позитивного морального облика убийству выбрать что-то лучше или интереснее чистой, незапятнанной культуры было невозможно. Подражая манерам своих аристократических хозяев, кондотьеры стремились окутать себя аурой справедливости и цивилизованной утонченности. Они содержали большие дворы, художественная культура которых давала им ощущение уважения, которого они так жаждали. Настоящим мастером этого дела, бесспорно, был Федерико да Монтефельтро – иначе зачем бы Педро Берругете изобразил его с книгой в руках?
Федерико наследовал своему сводному брату Оддантонио и стал герцогом в 1444 г. Он превратил Урбино в один из самых ярких культурных центров Северной Италии. Он был классическим ученым – учился у знаменитого Витторино да Фельтре в Мантуе. Его страсть к новым гуманистическим учениям была общеизвестна. Федерико был истинным библиофилом, свидетельством чему могут служить роскошные украшения его кабинетов в Урбино и Губбио.36 По словам Веспасиано да Бистиччи, он потратил не менее 30 тысяч дукатов (т. е. в 4000 раз больше той суммы, какую дворцовый слуга зарабатывал за год), чтобы собрать крупнейшую за пределами Ватикана библиотеку.37 Он окружил себя просвещенными людьми, его двор, как магнитом, притягивал талантливых литераторов. Федерико был знаком с Кристофоро Ландино (его изображение мы видим на двойном портрете).38 Он пригласил ко двору астролога Якова Шпирса, друга Фичино Павла Миддельбургского, Франческо Филельфо с сыном, яркого поэта Джанмарио и восходящих звезд – Порчеллио Пандони, Лилио Тифернате, Агостино Фрегозо и Лодовико Одазио. Герцог высоко ценил одаренных ораторов. Он так высоко оценил латинскую речь, произнесенную Антонио Бонфини в 1478 г., что даже увековечил оратора на картине, написанной Юстусом ван Гентом (ныне хранится в Хэмптон-Корте).
Юность Федерико провел при дворе Гонзага в Мантуе.39 Именно там ему привили любовь к искусству и архитектуре. Подражая Козимо де Медичи, он стремился к «великолепию» и тратил огромные деньги на всевозможные формы меценатства. В 1464 г. он заказал архитектору из Далмации Лючиано Лауране (позже его сменил Франческо ди Джорджо Мартини) полную перестройку Палаццо Дукале, благодаря чему в городе появился один из самых ярких и впечатляющих дворцов эпохи Ренессанса.40 Невообразимо роскошная новая резиденция Федерико была заполнена работами лучших художников того времени. Сам герцог был щедрым меценатом. Его покровительством пользовались такие художники, как Пьеро делла Франческа, Паоло Уччелло, Юстус ван Гент и Педро Берругете. Двор Федерико был настолько блестящим, что впоследствии апостольский секретарь Паоло Кортези (1465–1510) назвал его одним из двух величайших покровителей искусств своего времени (вторым был Козимо де Медичи).41
Но в то же время портрет Берругете явно показывает нам и совершенно иную сторону характера Федерико да Монтефельтро. Как и на всех остальных сохранившихся изображениях кондотьера, на этом портрете Федерико изображен в профиль. Мы видим лишь левую сторону его лица, но бросается в глаза странно искривленный нос. В юности Федерико был тяжело ранен на турнире. Он лишился правого глаза, а на лице остался огромный, ужасный шрам. Поскольку потеря глаза сильно сузила поле зрения, Федерико боялся, что его могут застать врасплох. Он заставил хирургов удалить ему переносицу. Хотя он тщательно следил за тем, чтобы его изображали только с этой стороны, но ему не удавалось скрывать те черты характера, которые выдавали его шрамы. Несмотря на несомненную смелость, совершенно очевидно, что он обладал характером импульсивным и жестоким до крайности. Странный шаг, на который он пошел, чтобы никто не воспользовался его слабостью и не застал его врасплох, граничит с параноей, но в то же время говорит о безжалостном характере человека, для которого заговоры и убийства были естественной частью жизни.
Федерико не был уникальным. Хотя кондотьеры XV в. были более успешными командирами и более внимательными меценатами, в других отношениях они были гораздо хуже кондотьеров XIV в. Не будет преувеличением сказать, что их страсть к искусству росла прямо пропорционально их чудовищной жестокости.
Упрочившиеся интересы, долгосрочные контракты и получение поместий неизбежно политизировало кондотьеров, которые переставали быть просто командирами наемников. Восхваления и вознаграждения, получаемые кондотьерами, отнюдь не способствовали упрочению связей с «заказчиками». Напротив, кондотьеры XV в. превратились в независимую политическую силу. Хотя некоторые, как, например, Бартоломео Коллеони заслужили репутацию людей верных и преданных, большая часть кондотьеров прекрасно поняла, что может участвовать в большой игре итальянской политике и извлечь из нее серьезные выгоды для себя. В аналогичном положении наемники оказывались и раньше (одним из самых печально известных примеров может служить Каструччо Кастракани, signore Лукки). Но они по большей части были изгнанниками или иностранцами, а это означало, что возможности независимой политической деятельности у них были ограничены. А с XV в. такие действия постепенно стали считаться нормой.
И это способствовало проявлению худших качеств во многих кондотьерах. Хотя они никогда полностью не отказывались от привычных грабежей и насилия, некоторые, как, например, Федерико да Монтефельтро, остро осознавали степень своего влияния и пользовались им без угрызений совести. Даже лучшие из них не стеснялись шантажировать своих «заказчиков», добиваясь повышения вознаграждения. Об этом с горечью писал канцлер Флоренции, Леонардо Бруни, в книге «О военном деле» (De militia) (1421).42 В следующем веке Никколо Макиавелли так писал в «Государе»:
Наемники честолюбивы, распущенны, склонны к раздорам, задиристы с друзьями и трусливы с врагом, вероломны и нечестивы; поражение их отсрочено лишь настолько, насколько отсрочен решительный приступ; в мирное же время они разорят тебя не хуже, чем в военное неприятель…
Кондотьеры по-разному владеют своим ремеслом: одни превосходно, другие – посредственно. Первым нельзя доверять потому, что они сами будут домогаться власти и ради нее свергнут либо тебя, их хозяина, либо другого, но не справившись о твоих намерениях. Вторым нельзя довериться потому, что они проиграют сражение.[13]43
В отличие от командиров наемников прошлого новая порода кондотьеров часто желала не только денег. Одной лишь щедрости со сторон signori было недостаточно. Теперь богатые командиры требовали социального статуса. Например, в 1441 г. Никколо Пиччинино (1386–1444) потребовал себе феодальное владение Пьяченца – только после этого он соглашался сражаться за Филиппо Марию Висконти против Папских армий в четвертой ломбардской войне. Взбешенный Висконти писал:
Эти кондотьеры дошли до того, что, когда они терпят поражение, мы оплачиваем их неудачи, а когда они одерживают победы, мы должны удовлетворять их требования и припадать к их ногам – в еще большей степени, чем если бы они были нашими врагами. Должен ли герцог Милана торговаться за победы с собственной армией и унижаться в обмен на их благосклонность?44
Даже получив почетное положение в мирное время, кондотьеры компрометировали себя самым ужасным образом. Когда антипапа Иоанн XXIII в 1411 г. назначил Браччо да Монтоне (1368–1424) правителем Болоньи, тот продолжил брать с соседних городов деньги за защиту.
Однако было бы ошибкой думать, что командиры наемников ограничивались одним лишь вымогательством. Получив собственные территории, достойные кондотьеры возжелали новых земель. Они без малейшего зазрения совести отщипывали кусочки от более крупных итальянских государств, пользуясь хаосом войны. Особенно распространено это явление было среди выходцев с болот – с «нейтральных» территорий, расположенных между сферами интересов Милана, Венеции и папства. Иногда городские центры добровольно выделяли кондотьерам территории в надежде на то, что в будущих конфликтах можно будет рассчитывать на их помощь. Например, в 1407 г. Рокка Контрада (ныне Арчевия в регионе Л а Марке) сама сдалась Браччо да Монтоне в обмен на его помощь в борьбе против Фермо. Но чаще всего кондотьеры захватывали целые города и требовали выкуп, а то и просто становились правителями. Худшим в этом отношении был Пандольфо Малатеста брат Карло и глава одного из самых печально известных наемнических домов в истории. В начале века он воевал за Венецию. Когда в войне наступило затишье, Пандольфо захватил папские города Нарни и Тодо и несколько десятилетий мародерствовал в районе Комо, Брешии и Бергамо, стремясь создать собственную небольшую империю из территорий, принадлежавших его работодателям. Точно так же в 1447 г. в сумятице, возникшей после смерти герцога Милана Филиппо Марии Висконти, Франческо Сфорца не замедлил захватить миланский город Павию, несмотря на то что номинально являлся главнокомандующим миланской армией. Для этих людей не было ничего святого.
Но более всего растущая политическая автономия кондотьеров XV в. располагала их к заговорам, переворотам и поразительным по своей жестокости убийствам. Хотя некоторые из них, такие как Бартоломео Коллеони и Эразмо Нарнийский, в этом отношении были людьми на удивление достойными, все другие, не задумываясь, устраняли тех, кто вставал на их пути к величию. В 1447 г. после смерти Филиппо Марии Висконти Франческо Сфорца не просто захватил Павию, но еще и выступил против недолго просуществовавшей Золотой Амброзианской Республики, граничившей с Венецией. Он вынудил город провозгласить его герцогом. Все, кто выступал против него, были немедленно казнены. Их головы выставили на всеобщее обозрение на Бролетто Нуово как мрачное предупреждение тем, кто решит перейти дорогу Франческо.
Говоря о том, что честолюбивые, независимые и осознавшие роль политической игры кондотьеры были готовы идти к власти по трупам, мы рассматриваем лишь половину истории. Чаще всего они вообще не признавали уз верности, даже если это были узы крови. Поразительное количество кондотьеров убивали, похищали, сажали в темницы и пытали членов собственных семей – причем делали это с удивительным хладнокровием. Правитель Имолы Таддео Манфреди (1431 – ок. 1486) десятилетиями вел войну с собственным дядей, Асторре II Манфреди, правителем соседней Фаэнцы, но при этом все считали, что он проявлял необычную для своего положения мягкость. Несколькими годами ранее Пино I Орделаффи (ок. 1356–1402) захватил власть в Форли, свергнув и заключив в темницу собственного дядю Синибальдо, а впоследствии отравив своего кузена Джованни. Еще более жестоким был Оливеротто да Фермо (1475–1502), которого сам Макиавелли называл воплощением зла. Он не терпел ни малейших помех своему честолюбию, не слушал ничьих приказов – и уж точно не собирался подчиняться своему дяде по материнской линии Джованни Фольяни, который в то время был правителем Фермо. Вот что пишет Макиавелли о том, как кондотьер вернулся в родной город после очередной военной кампании:
Оливеротто устроил торжественный пир, на который пригласил Джованни Фольяни и всех именитых людей Фермо. После того как покончили с угощениями и с принятыми в таких случаях увеселениями, Оливеротто с умыслом повел опасные речи о предприятиях и величии папы Александра и сына его Чезаре. Джованни и другие стали ему отвечать, он вдруг поднялся и, заявив, что подобные разговоры лучше продолжать в укромном месте, удалился внутрь покоев, куда за ним последовал дядя и другие именитые гости. Не успели они, однако, сесть, как из засады выскочили солдаты и перебили всех, кто там находился. После этой резни Оливеротто верхом помчался через город и осадил во дворце высший магистрат; тот из страха повиновался и учредил новое правление, а Оливеротто провозгласил властителем города.45
Предположительное участие Федерико да Монтефельтро в убийстве своего сводного брата удивительно лишь тем, что он потрудился сделать это не слишком откровенно и прямолинейно.
Жестокость и убийство во имя политических целей – это одно, почти садистская порочность – совершенно другое. И, похоже, склонность командиров наемников к насилию и жестокости росла прямо пропорционально их независимости и военной мощи. Например, тиран Болоньи Джованни Бентивольо (1443–1508) печально прославился тем, что пытал и убил астролога Луку Гаурико только за то, что тот дал ему неблагоприятный прогноз. А его современник Эверсо II дельи Ангвиллара (умер в 1464 г.) был «богохульником и жестоким человеком, и мог убить человека так же легко, как овцу».46 Эверсо
…насиловал жен и дочерей своих подданных в собственном дворце; он постоянно предавался распутству и разврату, и его даже обвиняли в инцесте, поскольку целомудрие собственных дочерей для него ничего не значило. Он часто порол своих сыновей и угрожал им мечом.47
Еще хуже был Браччо да Монтойе, которого Майкл Маллетт совершенно справедливо называет одним из двух величайших кондотьеров того времени.48 Хотя папа Пий II считал Браччо «приятным и обаятельным собеседником», в то же время замечал, что «в душе он был жесток»:
Отправляя людей на пытки и подвергая их самым мучительным страданиям, он мог смеяться. Он находил удовольствие, сбрасывая изуродованных жертв с высоких башен. В Сполето, когда гонец принес ему плохие известия, он швырнул его головой вниз с высокого моста. В Ассизи он сбросил троих человек с высокой башни прямо на площадь. Когда 18 монахов монастыря миноритов осмелились выступить против него, он раздробил им яички молотом на наковальне.49
Федерико да Монтефельтро мог не быть столь изобретательно жестоким, но его поведение весьма типично для кондотьеров XV в., скрывавших свою весьма неприглядную натуру под благопристойным публичным имиджем. Незаконнорожденный второй сын герцога прокладывал себе путь к власти железной рукой. Когда в 1444 г. разъяренная толпа убила его старшего сводного брата Оддантонио, 22-летний Федерико сразу же стал графом. Конечно, он утверждал, что не имел никакого отношения к происшедшему. Но нельзя отрицать и того, что он с группой солдат поджидал за стенами города и в нужный момент мгновенно оказался на месте – не успело еще остыть кресло Оддантонио. Кровавые следы Федерико чувствуются во всем, но, судя по всему, чувство вины его не терзало.
Братоубийством Федерико не ограничился. Он был одним из самых жестоких и коварных людей своего времени. Обаятельный книголюб жил и дышал предательством. Он не колеблясь шел на слежку, отравление и убийство. Самым драматичным примером его аморальности может служить предательство одного из ближайших своих друзей и союзников. Несмотря на тесные связи с Козимо де Медичи, в 1478 г. Федерико вступил в заговор с папой Сикстом IV с тем, чтобы натравить семейство Пацци на Медичи. Заговорщики собирались убить внука Козимо Лоренцо, а затем установить контроль над Флоренцией. Связавшись с помощью тайного и лишь недавно расшифрованного кода со своими шпионами и головорезами по всей Италии, Федерико привел к городу около 600 хорошо вооруженных солдат и был готов идти на приступ, как только Медичи потерпят окончательное поражение.50 Лоренцо де Медичи чудом удалось спасти свою жизнь. Но когда предательство Федерико и его участие в заговоре выяснилось, он не снизошел до объяснений. Как истинный кондотьер он считал, что не может позволить себе иметь друзей. Он зарабатывал себе на жизнь мечом, но не собирался от него погибать – и не особо переживал из-за гибели других людей. Именно эти качества он и хотел скрыть портретом Берругете.
Злые: наемники на грани безумия
Если сэр Джон Хоквуд и Федерико да Монтефельтро были плохими, то Сиджисмондо Пандольфо Малатеста был воплощением всего кошмарного, что было в наемниках эпохи Ренессанса. Он вышел за рамки допустимого дальше, чем кто бы то ни было, и сумел сделать это, искусно используя шаткий баланс силы в ренессансной Италии и собственную уникальную психологию.
Изменившийся в XV в. характер войны породил поколение необычайно упорных и опасных кондотьеров. Располагая большими, прекрасно подготовленными и хорошо вооруженными армиями, они стали не просто бесценным военным орудием, но еще и чрезвычайно важными игроками на политической сцене. Те же самые факторы способствовали проявлению в кондотьерах самых худших их качеств. Получив титулы и земли, они стали желать чего-то большего и устремились к новым вершинам. Чем больше был приз, тем более жестокими и безжалостными они становились. В лучшем случае они были высокооплачиваемыми бандитами, не чурающимися грабежей, обманов и вымогательства. В худшем – становились жестокими тиранами, для которых заговоры, отравления и убийства были нормой жизни.
Однако даже кондотьеры знали, когда следует остановиться. По крайней мере, многие из них. Федерико да Монтефельтро и ему подобные могли быть непримиримыми и жестокими, но в первую очередь они всегда оставались деловыми людьми. Они прекрасно понимали, что чрезмерно кровавая бойня вредна для бизнеса. И хотя они использовали фракционную политическую борьбу в своих интересах, но всегда заходили ровно настолько, насколько было приемлемо для других игроков. Другими словами, у наемнического Джаггернаута имелись тормоза.
Даже самые закоренелые в жестокости кондотьеры понимали, что невозможно жить и процветать, когда все вокруг считают тебя убийцей-психопатом. Поэтому они стремились окружить себя аурой древней доблести, христианской добродетели и культурной утонченности. А поскольку города понимали, что им нужно научиться сотрудничать с этими самыми опасными в мире людьми, то периодически восхваляли их как героев. Практическая политика!
И все было нормально, пока кондотьеры соглашались уважать баланс политических сил и прислушиваться к голосу здравого смысла. Разумные ограничения и знакомые формы меценатства делали их вполне достойными политическими фигурами, сохраняющими здравый рассудок. Сиджисмондо Пандольфо Малатеста был другим. Он сам себе был закон и порядок.
Война была у него в крови – он родился в семье кондотьера. История семейства Малатеста началась примерно в VIII в., но заметного положения добилась лишь в 1239 г., когда пра-прадед Сиджисмондо, Малатеста да Верруккьо, стал подестой Римини. С этого времени состояние семьи целиком и полностью зависело от блестящих наемнических способностей ее членов.51 Война стала семейной профессией. Все мужчины были смелыми, умными и честолюбивыми. У них были планы расширения своих территорий, и к моменту рождения Сиджисмондо (1417) они сумели принять под свою руку Римини, Пезаро, Фано, Чезену, Фоссомброне и Червию.
Хотя Малатеста обладали недюжинным военным талантом, насилие и жестокость, характерные для кондотьеров эпохи Ренессанса, проявились в них, как ни в ком другом. Мы уже говорили о том, как в 1285 г. Джованни Малатеста убил свою жену и брата, за что Данте поместил его в свой «Ад». Но было бы неправильным считать, что это нечто из ряда вон выходящее. Жизнь в семействе Малатеста напоминала нечто среднее между мыльной оперой и «Резней бензопилой в Техасе». Малатеста II Малатеста (1299–1364) вошел в историю под прозвищем «Гвастафамилья» («разрушитель семьи») – и тому были весьма веские основания. Он сверг и заточил своего кузена Феррантино. Он посадил в тюрьму и убил сына Феррантино Малатестино Новелло. Чтобы окончательно себя обезопасить, он избавился даже от внука Феррантино Гвидо. Впрочем, еще до собственной смерти Малатестино Новелло (умер в 1335 г.) убил собственного дядю Рамберто, который сам прикончил своего кузена Уберто.
Незаконнорожденный сын крестоносца, командующего венецианской армией Пандольфо III Малатесты, Сиджисмондо овладел искусством войны в весьма юном возрасте. Впервые он взял в руки оружие, когда ему было всего 13 лет. Блестящий военный талант он проявил, возглавив успешную оборону Римини, когда город пытался захватить его родственник, Карло II Малатеста. Спустя два года он сам стал хозяином Римини. Избрав для себя карьеру профессионального кондотьера, он быстро стал самым выдающимся представителем и без того уникальной семьи генералов-наемников. В 1430-е гг. Сиджисмондо укреплял свою репутацию, служа папам и Франческо Сфорца. Несмотря на несколько мелких промахов (например, бессмысленный захват папской Червии), его карьеру по праву можно было назвать головокружительной.
Но даже в юности было очевидно, что Сиджисмондо унаследовал от своих воинственных предков не только блестящие военные таланты. Порочность Малатеста оказала весьма пагубное влияние на состояние его разума. Хотя слова Пия II об инцесте и убийствах можно счесть преувеличением, папа опирался на факты. Будучи еще совсем юношей, в 1434 г. Сиджисмондо женился на собственной племяннице Джиневре д’Эсте. Конечно, ее красота и политические выгоды подобного союза были бесспорны, но выбор столь близкой родственницы для брака вызвал удивление. К 1440 г. Джиневра была уже мертва, хотя ей был всего 21 год. Пошли слухи, что она наскучила Сиджисмондо, и тот ее отравил. Дальше – хуже. Вторая жена, незаконнорожденная дочь Франческо Полиссена Сфорца, кончила так же. В 1449 г. после семи лет брака она умерла при загадочных обстоятельствах, вскоре после того как у Сиджисмондо началась связь с 12-летней Изоттой дельи Атти.52 Возможно, это было простое совпадение, но, скорее всего, он не собирался руководствоваться в своих действиях здравым смыслом, а целиком отдался собственной похоти и безграничному эгоизму.
Нестабильность в личной жизни Сиджисмондо усугублялась усиливающейся несдержанностью на поле боя. Хотя его таланты военачальника были бесспорны, очень скоро стало ясно, что он слишком горяч, не заслуживает доверия и самовлюблен до одержимости.
Отчасти все это было следствием его наглых, порой высокомерных территориальных захватов. Стремясь установить господство над Романьей, Сиджисмондо устремил алчные взгляды на Урбино – графом этого города Оддантонио да Монтефельтро стал в 1443 г. Воспользовавшись политической неопытностью 15-летнего Оддантонио и ограниченностью его финансовых ресурсов, Сиджисмондо сумел убедить наивного подростка в том, что он ему не просто настоящий друг, но еще и истинный защитник Урбино от миланских врагов. Он хотел, чтобы мальчик впал в полную зависимость от него, а затем уже можно было захватывать Урбино для себя – классический кондотьерский заговор. Но Сиджисмондо оказался слишком импульсивен и самоуверен, чтобы выполнить свой план. Он практически не скрывал своих намерений, и старший сводный брат Оддантонио Федерико да Монтефельтро, у которого были свои планы на Урбино, очень скоро понял, что заветный приз может и ускользнуть. В следующем году Оддантонио был убит – в подозрительно подходящий момент. И Федерико не стал тратить время попусту. Он захватил город и оставил Сиджисмондо с носом. В результате Волк не просто потерял Урбино, но еще и нажил себе опасного врага в лице Федерико да Монтефельтро – человека, бороться с которым решались немногие. В течение следующих 14 лет два кондотьера постоянно воевали друг с другом, что в значительной степени дестабилизировало политическую обстановку в Романье и Ла Марке.53
Способность Сиджисмондо наживать врагов отчасти являлась результатом того, что он был одним из самых вероломных кондотьеров эпохи Ренессанса. Казалось, что ему даже нравится предавать людей – просто ради развлечения, как будто одной войны не хватало для того, чтобы удовлетворить его извращенное садомазохистское отношение к политике. Как емко писал папа Пий II:
он обманул доверие короля Альфонсо Сицилийского и его сына Ферранте, Франческо, герцога Миланского. Он обманул венецианцев, флорентийцев и сиенцев. Он постоянно обманывал Римскую Церковь. В конце концов, в Италии не осталось человека, которого он не предал бы, и тогда он обратил свой взор на французов, которые из ненависти к папе Пию решили заключить с ним союз. Но им повезло не больше, чем другим властителям. Когда подданные спросили, не хочет ли он, наконец, удалиться на покой и дать передышку стране, которую он так часто подвергал военным испытаниям, он ответил: «Убирайтесь и не тратьте даром времени! Пока я жив, у вас никогда не будет мира!54
Хотя Сиджисмондо с присущей ему надменностью смеялся над легковерными «заказчиками», но своими действиями он настроил против себя все основные силы Италии. Многие величайшие кондотьеры того времени стали его заклятыми врагами. Но настолько велика была его самоуверенность, что даже это его не беспокоило. Однажды ему представилась возможность исправить некоторые свои ошибки во Флоренции в апреле 1459 г. Но он все испортил – просто ради развлечения. Попытки Пия II восстановить отношения Сиджисмондо с Альфонсо Арагонским закончились полным провалом, и все, кто участвовал в этом процессе, почувствовали себя оскорбленными. Когда в 1454 г. в Северной Италии наконец-то установился мир, Сиджисмондо не было дела до того, что его сознательно исключили из Лодийского мира. Он был преисполнен решимости «быть бичом Божьим» для всех и не быть другом никому.
С каждым днем Сиджисмондо становился все безумнее. Казалось, он находит удовлетворение в каждой немыслимой выходке. Спустя несколько лет Пий II писал:
Он стал рабом алчности – не только грабил, но и воровал. Настолько неукротимой была его похоть, что он насиловал и своих дочерей, и своих зятьев. В детстве он часто играл в невесту, а став взрослым, так часто брал на себя роль женщины и использовал других мужчин, как шлюх. Брак не был для него священен. Он насиловал христианских монахинь и иудеек. Мальчиков и девочек, которые ему сопротивлялись; он либо убивал, либо подвергал ужасным пыткам. Если он становился крестным, то принуждал мать ребенка к супружеской измене, а потом убивал ее мужа. В своей жестокости он превзошел даже варваров. Его окровавленные руки несли ужасные мучения и виновным, и невинным… Он терзал бедных и грабил богатых. Ни вдовы, ни сироты не избегли печальной участи. Под его тиранией никто не мог чувствовать себя в безопасности. Человек, которому Господь послал богатство, красивую жену или очаровательных детей, мог в любой момент оказаться в тюрьме или на плахе по ложному обвинению. Он ненавидел священников и презирал религию… До того как взять Изотту себе в любовницы, у него было две жены, и обеих он убил с помощью насилия или яда… Однажды неподалеку от Вероны он встретил благородную даму, ехавшую на юбилей в Рим из Германии. Он изнасиловал ее (она была очень красива) и бросил на дороге, раненую и истекающую кровью… Правда редко исходила из его уст. Он был настоящим мастером притворства и лицемерия, клятвопреступником и лгуном.55
Пий II объявил настоящий крестовый поход против Сиджисмондо и публично сжег его чучело в Риме, но это лишь позабавило безумного кондотьера.
В определенном отношении Сиджисмондо действительно был безумен. Он не признавал никаких ограничений и довел и без того немыслимые привычки кондотьеров до крайности. Для своих действий ему не нужны были ни причины, ни поводы. Его не беспокоило то, что его поведение было жестоким, упрямым и опасным. Ему казалось, что в мире нет силы, способной справиться с ним.
Однако именно почти безумное стремление Сиджисмондо удовлетворять самые низкие свои желания и делать то, чего не осмеливался до него делать никто из наемников, и превратило его в необычного покровителя искусств. Нет сомнений в том, что Сиджисмондо Малатеста был одним из самых выдающихся военачальников-меценатов своего времени. Но действовал он по-своему. На войне и в политике он был преисполнен твердой решимости превзойти своих соперников. Точно так же он повел себя и в меценатстве. Он изменил привычные стандарты покровительства искусствам с тем, чтобы они удовлетворяли его зачастую экстремальные потребности. Как и другие солдаты удачи, он понимал, что гуманистическое искусство может решить социальные и моральные проблемы наемнического существования и сыграть важную роль в создании «придворной» культуры, вот только все это он понимал не так, как все остальные. Чувство греха его не мучило. Насилие и войну Сиджисмондо считал добродетелями. Он не стыдился того, что сражался за деньги. В себе он видел полубожественного героя. Вместо того чтобы скрывать свои шокирующие преступления за завесой культурной респектабельности, он создал нечто вроде культа личности для непогрешимого себя.
Архитектура и отделка Темпио Малатестиано в Римини – это самая откровенная иллюстрация идиосинкратического отношения Сиджисмондо к меценатству.56 Само здание поразительно красноречиво. Построенный Леоном Баттистой Альберти «храм» всеми признавался «одним из самых знаменитых храмов Италии».57 Могло показаться, что это строение «воздвигнуто на… щедрое пожертвование» во славу Господа.58 Но храм задумывался как святилище самого Сиджисмондо. Он не стал повторять архитектурные приемы, использованные при строительстве других итальянских церквей. Альберти было приказано использовать в качестве образцов триумфальные арки императоров Константина и Августа. Понимая, что такие арки воздвигались только в честь особо значимых побед в бою по приказу благодарного Сената Рима, Сиджисмондо решил не только показать себя античным героем, но еще и продемонстрировать всем, что он – живое воплощение классического триумфатора, хозяина империи, наследника военных достижений величайших военачальников в истории. Он не стеснялся избранной для себя карьеры, но с гордостью нес звание кондотьера, не испытывая ни малейшего стыда. Войдя в Темпио Малатестиано, верующие должны были осознать триумфальное величие его военного гения и отдать дань уважения идеальному, почти мифическому военачальнику.
Интерьер храма был не менее удивительным. Чуть в стороне от впечатляющих гробниц, воздвигнутых Сиджисмондо для себя и в память своих жен, находилась фреска, которую кондотьер в 1451 г. заказал Пьеро делла Франческа.59 Фреска была написана на внутренней стороне фасада и заслуживает нашего внимания [ил. 29]. На фреске Сиджисмондо изображен коленопреклоненным в молитве перед сидящим святым Сигизмундом. Рядом с ним лежит гончая, а чуть дальше изображен его фамильный замок. В этой работе, казалось бы, продолжаются темы благочестия и религиозности, как и в других произведениях искусства, заказанных другими кондотьерами. Но Сиджисмондо изменил привычный порядок вещей, и его фреска несет в себе более глубокий скрытый смысл.
Самая поразительная и сразу бросающаяся в глаза особенность то, что Сиджисмондо отдал дань уважения не Деве Марии и не самому Христу (как это сделал его соперник в «Алтаре Монтефельтро»), но святому. Неудивительно, что он почитал святых, – Медичи, к примеру, в то же самое время создавали культ собственных «фамильных» святых. Удивительно, какого святого он выбрал и как его изобразил художник. На фреске
Сиджисмондо молится святому Сигизмунду – весьма интересной личности. Сигизмунд был не самым популярным святым в Северной Италии. Он был святым покровителем солдат и прославился смелостью и упорством, проявленными перед лицом превосходящих сил противника в сражении в начале VI в. Более того, история Сигизмунда весьма причудлива для святого. Хотя он оставил бургундский трон ради монашеской жизни и принял мученическую смерть за веру, до этого он задушил собственного сына за то, что он оскорбил его жену и противился его власти. Не менее удивительна и внешность святого. Тонкий, плоский нимб над его шляпой почти незаметен. Сигизмунд не похож на святого. Он сидит на троне, держа в руках державу и скипетр, как настоящий король. Мы не видим никаких атрибутов святости. Фигура святого Сигизмунда написана по образу портретов современного императора священной Римской империи Сигизмунда, которому Сиджисмондо Пандольфо Малатеста служил и который произвел его в рыцари. Иконографический эффект очень значителен. С одной стороны, Сиджисмондо беззастенчиво прославлял воинственное правление, полагая его высшим добром, с другой, он хотел сделать реверанс в сторону императора Священной Римской империи. Это был продуманный политический шаг. Хотя титул владетеля Римини Сиджисмондо официально получил от папы, эта фреска показывает его полную подчиненность совершенно иному высшему авторитету. То, что Сиджисмондо, святой Сигизмунд и император Сигизмунд носили одно имя, должно было подчеркнуть единство трех фигур: Сиджисмондо хотел, чтобы в нем видел не просто преданного слугу святого и императора, но человека, равного им обоим. Он был князем-воином, воплощением смелости, несправедливо осуждаемым за его военные кампании, идеальным правителем, властителем земной славы. Благочестивым христианином, которым на самом деле не был. Нет такого аспекта, в каком фреска не прикрывала бы всю аморальность поступков мецената.
Как ни странно это может показаться, портрет Сиджисмондо на фреске Гоццоли «Шествие волхвов в Вифлеем» решен в том же ключе. Немногие так хорошо понимали вероломную, бесчувственную и опасную натуру Сиджисмондо, как Козимо де Медичи. Но это и помогает нам понять, почему хитроумный старый банкир захотел включить его портрет в свою фреску. Мотивы Козимо очень сходны с мотивами флорентийской Синьории при заказе конного памятника сэру Джону Хоквуду – хотя мотивы эти слегка различались в силу особого характера Сиджисмондо. Не то, чтобы Козимо хотел продемонстрировать врагам свою дружбу с Волком Римини. Он хотел большего. В 1444 г. Сиджисмондо служил Альфонсо V Арагонскому, когда тот вел кампанию против Флоренции. За эту службу он получил солидное вознаграждение. У города были все основания трепетать. Но по причинам, известным только ему, Сиджисмондо неожиданно сменил хозяина. Как позже писал Пий II, «нет сомнения в том, что вероломство Сиджисмондо стало спасением для Флоренции…».60 Козимо, который никогда не забывал услуг, был благодарен за то, что Волк Римини оказался настолько фантастически талантливыми предателем. И он захотел его увековечить. Но в то же время Козимо страшно боялся Сиджисмондо. Хотя соперники одержали над ним верх после Лодийского мира, он все еще оставался опасным и непредсказуемым человеком, способным повергнуть Тоскану в хаос. Поэтому с ним нужно было вести себя очень осторожно. Кроме того, продолжающаяся вражда Сиджисмондо с Федерико да Монтефельтро (который в 1440-е гг. служил и Флоренции, и Милану, а в 1468 г. перешел на службу церкви) могла выплеснуться на флорентийскую территорию, что имело бы катастрофические последствия. Учитывая непостоянный и порочный характер Сиджисмондо, Козимо было очень важно поддерживать с ним хорошие отношения. Включив его портрет в фреску Гоццоли, старый банкир послал ясный сигнал – он хотел сохранить нормальные отношения с Волком Римини на обозримое будущее. Сиджисмондо гордился своими «подвигами» кондотьера, и фреска Гоццоли живо показывает, какой шок и трепет он вселял в сердца людей.
4. Нечестивый город
Галеаццо Марии Сфорца было легко не заметить последнюю и самую важную фигуру на фреске гоццоли «Шествие волхвов в Вифлеем».1 В толпе позади Козимо де Медичи портрет этого человека почти теряется среди множества лиц. Но присмотритесь, и в третьем ряду вы увидите унылого кардинала в расшитой красной камилавке за портретами Плетона и Гоццоли. Его голова слегка склонена, а черты лица выдают ощущение дискомфорта – ему словно хочется скрыться от взгляда зрителя. Но в этом кардинале невозможно не узнать Энея Сильвия Пикколомини.
Когда Козимо де Медичи заказывал Гоццоли фрески для фамильной капеллы, у него были все основания настаивать на том, чтобы портрет Энея был изображен обязательно. Обходительный, щедрый кардинал заслужил место среди созвездия влиятельных ученых и художников, составлявших процессию волхвов. Он был одной из восходящих звезд Церкви. Истинный гуманист он прекрасно владел искусством сочинения на латыни, в 1442 г. был увенчан венком лауреата за свои стихи, написал немало трудов в самых разных областях знания – от географии и педагогики до истории и драмы. Ценитель прекрасного и меценат, кардинал отличался поразительно острым умом, был очень начитан и знаком с новейшими тенденциями в визуальном искусстве и литературе. По своим способностям он на голову превосходил своих коллег по курии. Кардинал Пикколомини был той самой интеллектуальной суперзвездой, которая была необходима Козимо. Хотя портрет трудно назвать лестным, но все же это был тонкий, хорошо продуманный комплимент.
Однако недавние события превратили фреску в нечто большее. 19 августа 1458 г. дородного кардинала средних лет избрали папой, и он принял имя Пия II, чтобы продемонстрировать свое понимание христианского благочестия. Портрет Гоццоли неожиданно стал не только подтверждением просвещенной утонченности нового папы, но еще и подчеркнул ту роль, какую культура может играть для папства эпохи Ренессанса.
Всего через восемь дней после приезда во дворец Медичи-Риккарди Галеаццо Марии Сфорца 25 апреля 1459 г. во Флоренцию прибыл Пий II. Он сделал в городе короткую остановку по пути в Мантую. Увидев понтифика во плоти, юный миланский граф понял, что перед ним совершенно другой человек, чем тот, которого изобразил Гоццоли.
Пий II ничем не напоминал статного кардинала, буквально излучающего святость.2 Нет, это была высокомерная гора человеческой плоти. Массивный, тяжеловесный, страдающий подагрой кардинал восседал на огромном золотом троне. Его окружали худшие наемники, каких только можно было найти в Италии. И поведение его было далеким от благочестия. Пий II остановился у ворот Сан-Галло и заставил «благородных правителей и князей Романьи», включая и Галеаццо Марию, которому пришлось подняться на цыпочки, чтобы дотянуться до папского трона, внести его в город на своих плечах. Сгибаясь под его весом, аристократы всю дорогу недовольно ворчали. Сиджисмондо Пандольфо Малатеста пришел в настоящую ярость. «Смотрите, как низко мы пали – мы, властители городов!» – шипел он, переводя дух.3
Когда Пий оказался в городе, стало еще хуже. Хотя Козимо де Медичи надеялся укрепить давние связи своего банка с папством, главная цель визита понтифика заключалась в том, чтобы примирить Сиджисмондо Пандольфо Малатесту, короля Сицилии Ферранте и Федерико да Монтефельтро.4 Но хотя такая миссия идеально подходила для того, чтобы новый папа продемонстрировал свои способности христианского миротворца, он не собирался вести себя сдержанно и скромно, как подобает слуге Господа. Даже по его собственным воспоминаниям ясно, что он вел себя как раздражительный, самовлюбленный, алчущий власти политик. На важнейшей встрече он на всех накричал, оскорбил Сиджисмондо и умыл руки, прежде чем заявить, что только он один способен служить воле Господа и интересам людей.5
Не лучше Пий вел себя на развлечениях, которые для него устраивали. Хотя он оценил художественные зрелища, которыми славилась Флоренция, и получил удовольствие от общения с самыми просвещенными жителями города, гораздо больше его интересовали чисто земные наслаждения. Похотливо наблюдая за танцами на пирах, устроенных в его честь, он отпускал весьма вольные замечания о красоте флорентийских женщин и веселился от всей души. Ему понравился турнир, устроенный на площади Сан-то-Кроче, где «вина было выпито гораздо больше, чем пролито крови».6
Ему понравились флорентийские львы, которых ради его развлечения выпустили на арену, чтобы они растерзали других зверей. Но при этом папа не выражал ни малейшей благодарности. Несмотря на то что на развлечения понтифика ушло около 14 тысяч флоринов, он едко заметил, что денег на него пожалели, и осудил флорентийцев за их «прижимистость».7 Неудивительно, что Козимо де Медичи решил остаться дома, и не участвовать в том, что может вызвать неудовольствие папы.
Как ни парадоксально это может показаться, но и портрет Коццоли, и властный и заносчивый характер папы Пия II прекрасно отражают тайный характер папского меценатства. В характере и жизненном пути Энея Сильвия Пикколомини отразилась суть не только папства эпохи Ренессанса, но еще и роль папского дворца в покровительстве искусствам. По мере нашего знакомства с жизнью Энея то, что казалось конфликтом между верой, культурной утонченностью и мирскими наслаждениями предстанет четким и единым целым. Но, как показывает пример этого самого выдающегося служителя церкви, сложная и неожиданная история покровительства папского двора живописи, скульптуре и архитектуре того времени в меньшей степени опиралась на слабый интерес к просвещению и в большей – на всепоглощающие личные амбиции, страсти и агрессивное властолюбие.
Отсутствующие меценаты
Эней Сильвий Пикколомини родился 18 октября 1405 г. в обедневшей, но уважаемой семье сиенских изгнанников. Он вырос в маленьком городке Корсиньяно в Валь д’Орча. С детства его мир был окружен религией. Каждое воскресенье семья отправлялась к мессе в маленькую церковь Сан-Франческо и внимательно слушала, как священник объясняет с каферды основы веры. Потом все с чувством произносили молитвы за благополучие папы. В этом мире религия, просвещение и культура шли рука об руку. Как отец и дед, Эней изучал основы латинской грамматики по молитвам. И хотя его все еще больше интересовали игры и детские забавы, он уже понимал, что для обретения христианской морали необходимо читать труды классиков. Позже, изучая юриспруденцию в университете Сиены и продолжая гуманистическое обучение во Флоренции, он познакомился с трудами таких авторов, как Колюччо Салютати, и увидел в них прославление учения Христа. Его восхищали художественные достижения своего времени. Молясь в церквах двух великих городов, он поднимал взор к небу, чтобы увидеть прославляющие веру творения таких художников, как Джотто и Дуччо, Гиберти и Мазаччо. Он общался с великими меценатами – Медичи, Бранкаччи и Строцци.
Но хотя юный Эней сумел понять тесную связь между религией, искусством и гуманистическим просвещением, он видел, что чего-то недостает. Да, конечно, по всей Италии строились новые церкви. Пожертвования и завещания церковным институтам позволяли окружить верующих фресками и алтарями несравненной красоты. Гробницы епископов, кардиналов и понтификов придавали материальную форму самому институту церкви. Но довольно любопытно, что папы и кардиналы почти не занимались меценатством. В Риме это было заметно в еще большей степени. Практически ничто не показывало связи папского двора с живописью, скульптурой и архитектурой. Человек, приехавший в вечный город в этот период жизни Энея, вообще не заметил бы, что папство хоть как-то связано с искусством.
В меценатстве раннего Ренессанса зияла пустота. Тогда как все вокруг страстно стремились обеспечить себе хоть какую-то причастность к миру культуры, папский двор не обращал ни малейшего внимания на джаггенаут ренессансной культуры, несущийся мимо него. И в определенном смысле в этом не было ничего удивительного. Отсутствие у папства интереса к итальянскому искусству проистекало из того факта, что в эпоху раннего Ренессанса папства практически не было или в нем царил полный хаос.
С 1309 г. папы жили не в Риме, но в Авиньоне, на юге Франции.8 Этот переезд должен был быть временным. Но, обосновавшись в городе, папский двор обнаружил, что уехать уже нельзя. Французская корона оказывала все более сильное влияние на папство. Между папами и священной Римской империей возник жестокий конфликт. Рим стал слишком сложным местом, чтобы им управлять. Город контролировали воинственные семейства Орсини и Колонна, на улицах шли настоящие бои, а население было запугано. Состояние дел внушало ужас. Вот что писал неизвестный римский хронист о Риме середины XIV в.:
город Рим бьется в агонии… люди сражаются каждый день, грабежи происходят повсюду, монахинь насилуют, нигде нельзя укрыться, маленьких девочек похищают и лишают чести, жен вытаскивают прямо с брачного ложа, работников, возвращающихся домой, грабят… паломники, которые приходят в святые церкви ради спасения души, не защищены, их убивают и грабят… Нет справедливости, нет закона. И негде укрыться; все гибнут; кто силен, тот и прав.9
Даже если папы могли бы освободиться от господства французской короны и разрешить свои разногласия с Империей, Рим был слишком опасным местом, чтобы отправиться сюда из «вавилонского пленения» в Авиньоне.
Прошло более 60 лет изгнания, и папа Григорий XI в конце концов решил вернуть курию в Рим. Это произошло в 1376 г. Но этот шаг еще больше усугубил обстановку. В 1378 г. Григорий умер, и коллегия кардиналов была вынуждена выбрать папу-итальянца. Страшась гнева толпы, собравшейся под стенами Ватикана, и не сумев найти достойного кандидата в своих рядах, кардиналы выбрали папой Урбана VI, никому не известного неаполитанского архиепископа. Тихий аскет показался всем идеальным выбором. Но оказалось, что Урбан страдает от жестокой мании преследования. Одержимый почти патологической ненавистью он обвинил избравших его кардиналов в коррупции, моральном разложении и предательстве. Шесть кардиналов были заточены в темницах Ночеры и подвергнуты жестоким пыткам. Урбан любил сидеть возле камер, читая часослов и слушая крики пытаемых.
Выжившие кардиналы взбунтовались. Не желая более терпеть поведение Урбана, они сбежали в Авиньон и там избрали нового папу. Урбан расколол Церковь надвое, и этот тяжелый раскол просуществовал еще 40 лет.10
Эней стал сыном Церкви, когда в ней царил хаос и беспорядок. Два (а какое-то время и три) папы боролись за признание. Христианский мир воевал сам с собой. Папы и антипапы боролись за контроль над Церковью, вся Европа раскололась на сторонников и противников, и каждый регион почитал своего понтифика. Все стороны упорно доказывали свою легитимность, и никто не хотел отступать.
То, что впоследствии назвали Великим расколом, завершилось лишь с помощью ряда соборов Церкви. Но даже это породило массу серьезнейших проблем. В начале раскола группа служителей церкви решила, что чересчур опасно наделять папу безграничной властью. Они предлагали создать своеобразный церковный «парламент», который регулярно собирался бы и решал вопросы особой важности. Проблема заключалась в том, что подобное предложение полностью противоречило желаниям и интересам пап. Когда в 1417 г. раскол закончился, Мартин V и его преемники решили взять бразды правления в собственные руки, не желая терпеть никакого вмешательства – и менее всего со стороны совета, куда входили провинциальные клирики со всей Европы. Взаимное отвращение двух лагерей повергло папство в очередной виток междоусобиц.
Последствия этого для культурной жизни папского двора были значительными. Конечно, было бы ошибкой думать, что в годы изгнания и хаоса между «вавилонским пленением» и созданием совета папство существовало в культурном вакууме. Папы прекрасно осознавали радикальные перемены, происходящие в раннеренессансном искусстве и философии. Папский двор продолжал привлекать выдающихся гуманистов, жаждущих занятости и продвижения. Многие итальянские художники тоже нашли себе место при дворе понтифика. Петрарка, к примеру, провел значительную часть жизни в Авиньоне и его окрестностях и получил там несколько весьма прибыльных бенефиций.11 Леонардо Бруни почти десять лет (с 1405 по 1415 гг.) занимал пост папского секретаря.12 В Авиньоне жил Симоне Мартини13, а такие художники, как Маттео Джованетти,14 расписали папский дворец яркими фресками, придав ему чисто «итальянский» дух.
Тем не менее папский двор не мог оказывать реальное влияние на итальянское искусство того времени. У пап не было ни ресурсов, ни желания заниматься меценатством, которое приватизировали торговые банкиры и signori. Войны обходились дорого, с деньгами были проблемы, изгнание и раздел не позволяли папству тратить большие суммы на украшение церквей или дворцов, которые находились либо слишком далеко, либо в руках противников.
Рим медленно разрушался и погибал. К третьему десятилетию XV в., когда движение за церковный «парламент» одержало настоящий триумф, город находился в жалком состоянии. Гуманистически настроенные гости были в ужасе от явившейся их взгляду картины. Флорентиец Кристофоро Ландино писал о призраке Августа, рыдающего при виде города, который он построил и который теперь превратился в выгребную яму.15 Его соотечественник Веспасиано да Бистиччи был в ужасе от того, что на форуме пасутся коровы, а великие памятники прошлого разрушаются и превращаются в неузнаваемые руины.16 Даже те здания, которые играли важную роль для идентичности средневекового папства, разрушались на глазах. В тот период в базилике Сан-Джованни ин Латерано (официальная резиденция папы в Риме) дважды случался пожар (в 1307 и 1361 гг.), и впервые со времен античности она находилась в состоянии полного разрушения. Рим не мог соперничать ни с Флоренцией, ни с Миланом, ни с Венецией. Хронист Стефано Инфессура называл Рим рассадником грабежей и убийств, где искусство давным-давно умерло.17
Из глуши
Хотя папский двор более века провел в культурной глуши, к тому времени, когда Эней Сильвий Пикколомини стал превращаться в восходящую звезду Церкви, ситуация начала постепенно меняться.
Прежде чем вступить в монашеский орден, Эней сделал себе имя как один из ведущих теоретиков соборного движения на Базельском соборе.18 Но, несмотря на несамое благоприятное начало, юношеское неприятие папской власти быстро прошло под влиянием очевидных литературных талантов. Очень скоро он оказался втянутым в папскую орбиту. Какое-то время он служил папе Евгению IV, а затем его судьба изменилась к лучшему – в 1447 г. папой был избран его давний друг Томмазо Парентучелли де Сарцана. Он взошел на престол под именем папы Николая V. Пикколомини в том же году стал епископом Триеста, в 1451 г. был переведен в Сиену и выполнил ряд важных миссий. В 1456 г. Эней Сильвий получил кардинальскую шапку.
Стремительный взлет Энея по церковной карьерной лестнице совпал с возрождением папского двора. В политическом, географическом и финансовом отношениях папство наконец-то обрело реальную стабильность и силу. Несмотря на мелкие сложности, Евгений IV сумел окончательно подавить соборное движение, и папа стал единственным и абсолютным главой Церкви. Этот успех позволил Евгению в 1445 г. восстановить курию в Риме. То, что папство вновь вернулось в вечный город, позволило понтификам восстановить ущерб, понесенный в годы междоусобной борьбы. Николай V положил конец спорам и раздорам прошлого и окончательно обосновался в Риме. Он сам и его преемники сумели активно управлять своими землями в Центральной Италии и создали вполне эффективную администрацию, которая впервые с 1308 г. стала контролировать и управлять папскими доходами.
Поскольку статус Энея повысился, он стал проводить в Риме все больше и больше времени. Он заметил, что изменение положения папства сильно повлияло на отношения курии с городской средой и искусством. Рим переживал реальную трансформацию. Известный «своей просвещенностью и интеллектуальной одаренностью» Николай V прекрасно понимал, что годы изгнания и хаоса сильно повредили репутации Церкви и даже пошатнули благочестие рядовых верующих.19 Хотя конец раскола и крах соборного движения укрепил положение папства (впервые за 150 лет), было очевидно, что, если Церковь хочет восстановить понесенный ущерб, нужно что-то большее. Было очевидно, что жалкое состояние Рима начала XV в. не способствует восстановлению веры в обществе. Узкие, грязные улицы, обветшавшие церкви – все это было болезненным напоминанием о жестоком соперничестве и нечестивых раздорах, одолевавших Церковь в прошлом. Над городом витал дух уныния и поражения. Все следовало изменить. Николай считал, что Рим – резиденция папы и эпицентр католического мира – должен стать блестящим символом всего, за что выступает Церковь. Город должен был вселять страстную веру в истинность христианства и безграничное уважение к Святому Престолу. На смертном одре он говорил:
Только просвещенный человек, который изучил происхождение и развитие влияния Римской Церкви, может по-настоящему понять ее величие. Чтобы породить прочные и неколебимые убеждения в разуме непросвещенных масс, необходимо нечто привлекательное для глаза: народная вера, поддерживаемая одними лишь доктринами, всегда останется слабой и шаткой.
Но если авторитет Святого Престола будет воплощен в величественных зданиях и нерушимых памятниках, созданных, казалось бы, рукой самого Бога, то вера будет возрастать и укрепляться от поколения к поколению, и весь мир примет и поклонится ей. Благородные здания, в которых вкус будет сочетаться с красотой и впечатляющими пропорциями, сразу же вызовут восторг перед церковью святого Петра.20
Истинность христианского учения и добродетель наместника Христа на Земле должны были воплотиться в красоте. Литература, музыка и прежде всего живопись, скульптура и архитектура были видимыми иллюстрациями всего достойного, что есть в Церкви и ее главе. Новообретенное богатство папства следовало вкладывать в искусство.
Предшественники Николая уже сделали ряд пробных шагов в верном направлении. В 1427 г. Джентиле да Фабриано и Пизанелло получили заказ на оформление нефа базилики Сан-Джованни ин Латерано.21 Фрески должны были изображать сцены из жизни святого Иоанна Крестителя. В следующем году Мазаччо и Мазолино написали алтарный образ для церкви Санта-Мария Маджоре для семейства папы Мартина V. Примерно в то же время кардинал Джордано Орсини собрал вокруг себя круг гуманистов, среди которых были Лоренцо Валла, Леонардо Бруни и Поджо Браччолини.22 В своем дворце он построил собственный театр (первый театр подобного рода), украшенный фресками работы Мазолино и Паоло Уччелло. Фрески изображали знаменитых людей разных эпох. Чуть позже Евгений IV заказал Филарете новые бронзовые врата для базилики святого Петра. Все это было замечательно, но меценатством папы занимались от случая к случаю. Нужно было нечто более драматическое. Когда папство смогло рассчитывать на ресурсы папских государств, ситуация заметно улучшилась.
Николай решил превратить ветхие руины Рима в величественные памятники папской роскоши. Эпицентр христианского мира должен был превратиться в столицу, достойную самого Господа. Поселившись на Ватиканском холме, он полностью перестроил Апостольский дворец. К старому средневековому зданию было пристроено большое новое крыло. Папский двор стремительно расширялся, и нужны были новые апартаменты для приема послов и монархов. Восточнее папских апартаментов возвели массивную башню (ее развалины сохранились и по сей день). Из Флоренции для оформления личной капеллы папы пригласили Фра Анжелико, знаменитого художника и священника, известного своим благочестием. Великолепный цикл фресок должен был изображать сцены из жизни святых Стефана и Лаврентия.23 Началось создание библиотеки Ватикана.24 А самое главное – для реконструкции базилики святого Петра пригласили известного архитектора Бернардо Росселино.
Но амбиции Николая выходили за границы Ватикана. Он вознамерился осуществить крупномасштабную реконструкцию всего города. Хотя Эней замечал, что Папа начал больше проектов, чем мог завершить при жизни25, Вазари справедливо писал, что он сумел «перевернуть город с ног на голову своим строительством».26 В прежнем великолепии был отреставрирован античный акведук Вирджине. Он снова стал подавать свежую воду в центр города. Благодаря этому заполнился великолепный новый бассейн на площади Крочифери, построенный главным советником Николая по архитектуре, Леоном Баттистой Альберти. Строительные работы начались в районе Борго, примыкающем к Ватикану.27 Куда бы Эней ни обратил свой взгляд, ветхие старые дома сносились, а на их месте под папским покровительством возникали новые впечатляющие строения.
Всплеск художественной деятельности не ограничивался одним лишь папой. Николай задавал тон, а кардиналы спешили ему следовать. Как писал в книге «О кардинальстве» (De cardinalatu) Паоло Кортези, главная функция кардиналов заключалась в том, чтобы служить образцами христианской благодетели, и поэтому они просто обязаны были быть великолепными.28 Князья церкви должны были сиять, как звезды на церковном небе, подражая солнцеподобной роскоши папства и повышая статус культуры вечного города.29 Конечно, каждому кардиналу нужен был дворец. Многие кардиналы, которые происходили из старинных папских семейств, например Колонна или Орсини, или из правящих династий, уже имели хотя бы по одному большому дворцу в центре Рима. Они с радостью начали украшать свои величественные резиденции по последней художественной моде. Но даже новые кардиналы вроде Энея Сильвия Пикколомини были обязаны снимать, занимать или строить себе жилище, подобающее их статусу, и отделывать его с тем, чтобы резиденция вызывала почтение и уважение. Огромные, впечатляющие дворцы стали появляться по всему городу. Каждый кардинал стремился превзойти остальных во вкусе и великолепии. Кардинал Пьетро Барбо, племянник Евгения IV, а впоследствии папа Павел II, расширил и перестроил дворец, носивший его имя. Вероятнее всего, для этой задачи он пригласил Альберти. За 40 лет, прошедших с избрания Николая V, его примеру последовали десятки кардиналов. Рафаэле Риарио построил дворец, который сегодня называют Палаццо Канчеллерия, часто говорят, что это был первый «настоящий» ренессансный дворец. Адриано Кастеллези да Корнето заказал Андреа Бреньо построить величественный Палаццо Торлония. Доменико делла Ровере начал строительство огромного дворца рядом с Ватиканом. Кардинальские дворцы украшали античные статуи и новые произведения искусства. Служить кардиналам, жаждущим прекрасного, съезжались художники со всей Италии.
Вот тогда-то и наступил настоящий Ренессанс. Несмотря на годы изгнания и хаоса (а, возможно, и благодаря им), понтификат Николая V ознаменовал собой начало папского меценатства. Николай задал тон всем своим последователям. Практически все они поддерживали его идею «нового Рима» и следовали его примеру, зачастую ставя перед собой еще более крупномасштабные и амбициозные цели. Преисполненные решимости прославить Церковь и подчеркнуть величие папства, папы не только активно расширяли и перестраивали комплекс Ватикана, но и меняли лицо всего Рима. После смерти Энея Сикст IV заказал постройку новой капеллы, которая сегодня носит его имя (Сикстинская капелла), довел до завершения строительство нового моста через Тибр, значительно расширил библиотеку Ватикана и положил начало новой папской традиции коллекционирования античных статуй.30 Его преемник, Иннокентий VIII, заказал Антонио Поллайоло построить виллу Бельведер31, а Александр VI приглашал для отделки своих папских апартаментов практически всех известных художников своего времени. Самым знаменитым меценатом был племянник Сикста IV Юлий II. Он пригласил Микеланджело расписать потолок Сикстинской капеллы, заказал Браманте спроектировать две большие лоджии, соединяющие Бельведер с Апостольским дворцом, и исполнил великую мечту
Николая V – перестроил базилику святого Петра (на этом проекте обанкротился его преемник Лев X).
Если в предыдущие годы художники считали Рим стоячим болотом культуры, которого лучше избегать, после возвращения пап в вечный город папский двор стал притягивать таланты, как магниты. Соблазненные перспективами щедрой оплаты и возможности работать рядом с величайшими мастерами своего времени художники, скульпторы и архитектуры потянулись в Рим в надежде на заказы, способные заметно продвинуть их карьеру. Очень скоро папы и кардиналы начали ожесточенную борьбу за лучших художников. Мастера не покладая рук трудились над тем, чтобы превратить город в истинную жемчужину христианского мира. В курии все стремились заполучить лучшие работы лучших художников. Кардиналы были готовы на все, лишь бы блеснуть перед другими. В разгар работы над росписями потолка Сикстинской капеллы Микеланджело попросил у папы разрешения съездить во Флоренцию на праздник святого Иоанна – главное событие года. Разговор художника с папой отражает самую суть отношения папского двора к искусству:
Однажды, когда Микеланджело обратился за разрешением на поездку во Флоренцию для работ в Сан Джованни и попросил у него на это денег, он на вопрос папы: «Ну, ладно, а когда же ты покончишь с капеллой?» ответил: «Когда смогу, святой отец». На это папа дубинкой, которую он держал в руках, начал колотить Микеланджело, приговаривая: «Когда смогу, когда смогу, я-то заставлю тебя ее закончить». Однако едва Микеланджело вернулся домой, собираясь во Флоренцию, папа тут же прислал к нему своего служителя Курсио с пятистами скудо в опасении, как бы Микеланджело что-нибудь не выкинул, извинившись перед ним и успокоив его тем, что все это было только проявлением его милости и его любви, а так как Микеланджело знал характер папы и, в конце концов, и сам его любил, он рассмеялся, поняв, что все идет ему на благо и на пользу и что первосвященник не постоит ни перед чем, чтобы сохранить дружбу с таким человеком.32
За пределами веры
За несколько коротких лет Рим прекратился в удивительный город высокой культуры с церквами и дворцами, которые говорили о просвещенности, утонченности и уверенности возродившегося папского двора. Гуляя по улицам Рима и любуясь зданиями, фресками и алтарями, которые появлялись один за другим, Эней Сильвий Пикколомини чувствовал, что на его глазах возникает великий памятник столь дорогой ему христианской веры. Рим смело соперничал с художественными чудесами Флоренции, Милана и Венеции. Наконец-то в нем появилась атмосфера величия Церкви и благочестия ее служителей.
Но хотя новый Рим, возникавший вокруг Энея, должен был демонстрировать силу и мощь возродившейся Церкви, расцвет меценатства при папском дворе был связан не только с верой. За каждой фреской и за фасадом каждого дворца скрывалась иная сторона папского интереса к искусству.
Хотя предсмертные слова Николая V показывают, что папа – это духовный глава христианской веры, действительность была совсем иной – понтифик был в первую очередь политическим лидером. На протяжении веков папство утверждало суверенитет над обширными территориями в центре Апеннинского полуострова, которые назывались папской областью или папскими государствами. Долгое время папы утверждали свое верховенство над самим императором священной Римской империи. Во время авиньонского пленения и раскола эти претензии существовали чисто теоретически. Папы были отделены от своих территорий сотнями миль, претендентов на эти земли было немало. Поэтому папы просто не могли реализовать свое право управления папскими государствами. Теперь, когда раны прошлого были залечены и папство прочно обосновалось в Риме, ситуация изменилась. Папы были преисполнены решимости вернуть бразды правления в свои руки. Понтифик перестал быть всего лишь наместником бога на Земле, а превратился во влиятельного монарха, правителя, слово которого – закон, суверена, которому подчинялись города и signori. Более того, располагая самыми большими территориями в Италии, папа стал видным игроком на европейской политической сцене. Намереваясь защитить границы папских государств и поддержать хрупкий баланс сил, от которого зависела их безопасность, папы стали арбитрами в вопросах войны и мира, искусными дипломатами и командующими крупнейшей в Италии армии.
Если ущерб, нанесенный авиньонским пленением и расколом, заставил пап остро осознать необходимость духовного возрождения, возвращение курии в Рим превратило папство в значительно более «светский» институт. Папы стали равными королям и князьям, и папским двором управляли абсолютно светские соображения. По крайней мере, до начала реформации налоги, счета, права собственности, дипломатия, военные кампании и территориальные претензии занимали пап и кардиналов куда больше, чем молитвы и литургические реформы. Хотя подобные интересы маскировались заботой о земном благополучии Святой Матери Церкви, в действительности речь шла о жесткой политике самого неприглядного вида.
И это изменило характер папского двора, повлияв на все стороны жизни курии. Образ жизни и работы кардиналов и пап учитывал сиюминутные интересы Церкви. Приоритеты, методы и амбиции коллегии кардиналов претерпели серьезный сдвиг в мирскую сторону. Пристрастия высших членов церковного управления еще больше сблизились со склонностями светских правителей. Абсолютно прозрачная граница между «светским» и «религиозным» практически перестала существовать. Люди и семьи свободно передвигались из одного мира в другой. Интриги, заговоры и проекты начинались в одном мире, а заканчивались в другом и снова переходили в первый. Грязные, неприглядные и совершенно несвященные приемы начали господствовать при папском дворе, а восприятие папством своей роли в мире изменилось почти до неузнаваемости.
В свою очередь это изменило характер взаимодействия папского двора с искусством после возвращения в Рим. Дело не в том, что желание Николая V возродить веру рядовых верующих через искусство, было неискренним. Не следует считать, что церкви, фрески и алтари, которые в тот период заказывали сотнями, не были проникнуты христианским духом. Но религиозная «поверхность» папского меценатства сосуществовала рядом с иными более темными и зловещими целями, которые проистекали из светского характера папства эпохи Ренессанса. Как торговые банкиры и кондотьеры использовали религиозные образы и благочестивые пожертвования для создания образа, который прикрыл бы мрачные реалии их существования, так и папский двор использовал меценатство для маскировки совершенно нехристианских целей, ставших неотъемлемой частью жизни курии.
Несмотря на красоту, нежные изображения святых, изящные статуи Девы Марии и элегантные строения, посвященные Святейшему Сердцу Иисусу Христа, скрывали сугубо материалистические амбиции, безумную самовлюбленность, настоящую эпидемию коррупции, похоти, насилия и кровопролития. Но понять, насколько черными и безобразными были сердца и умы людей, стимулировавших «папский Ренессанс», можно лишь после того, как мы глубже проанализируем серьезные и неприятные перемены, произошедшие после возвращения папства в Рим.
Придворные пороки
Вновь приняв бразды правления Папскими государствами, папы взвалили на свои плечи груз правления, хорошо знакомый итальянским королевствам, городам-государствам и signorie. Но речь шла не только об администрировании, бюрократии и дипломатии. Необходимо было создать целую культуру власти. Если папство хотело сохранить полный контроль над Папскими государствами и говорить с соседями с позиции силы, то необходимо было создать образ прочного и устойчивого руководства, способного вселить в подданных и соперников чувство страха и уважения.
Ренессансное государство немыслимо без придворной жизни. При дворе встречались богатые и влиятельные. При дворе разрешались споры и удовлетворялись честолюбивые замыслы. Но самое главное двор был местом демонстрации мирской мощи. Короли, князья, signori и даже некоторые коммуны заботились о содержании блестящих дворов, которые демонстрировали мощь и силу. И папский двор, т. е. двор самого папы и дворы кардиналов, должен был действовать точно так же, как дворы светские – только быть больше и лучше. Как писали придворные теоретики, такие как Пьетро Арентино и Паоло Кортези, папы и кардиналы должны были жить, как правители, если хотели, чтобы их воспринимали всерьез, а живя, как правители, им нужно было быть такими же великолепными, как они.
Став кардиналом и поселившись в вечном городе, Эней Сильвий Пикколомини оказался в самом центре светской жизни возрожденного папского двора. В кулуарах церковной власти, в приемных Ватиканского двора и во дворцах своих коллег – везде его окружало величие и великолепие.
В римском дворе все было колоссальным – почти подавляющим своими огромными масштабами. Ватиканский дворец был «одним из самых роскошных дворцов Европы» 33, резиденции кардиналов мало чем ему уступали. Огромные залы, простоные приемные, широкие внутренние дворы – все это должно было поражать иностранных дипломатов. Фасады и входы были грандиозными и устроенными по последней моде. Поскольку ни один человек, облеченный властью, не мог есть, спать или общаться в тесных, маленьких помещениях, то даже «личные» апартаменты (которые, честно говоря, были вовсе не личными) должны были быть грандиозными. Все поверхности были покрыты фресками и росписями, в каждой нише стояла античная или изысканная современная статуя, каждое окно обрамляли элегантнейшие рамы.
При дворе постоянно роились толпы народу. Не то чтобы курия постоянно принимала иностранных гостей. Придворные правила требовали, чтобы дворец постоянно был центром жизни, а его хозяин всегда был чем-то занят. В каждой резиденции всегда было множество придворных, как предписывалось настоящему правителю того времени. Вскоре после смерти Каликста III двор понтифика насчитывал не менее 150 «управителей» и «министров», а также 80 слуг, деятельность которых регламентировалась почти с военной точностью.34 Точно так же ни один уважающий себя кардинал не мог обойтись без famiglia (семьи), насчитывающей не менее 100–120 родственников и приживалов – значительная часть этих людей приезжала в город вместе с кардиналом. Кроме того, каждый кардинал должен был держать свой дом открытым для всех и постоянно демонстрировать собственную щедрость.35 Папская булла XVI в. предписывала: «Жилище кардинала должно быть открытым домом, гаванью и убежищем особенно для достойных и просвещенных людей, а также для бедных благородных и честных персон».36 Помимо домочадцев в доме постоянно роились десятки просителей, пытающихся получить приходы, стипендии или какие-то иные милости. Поток просителей не иссякал с утра и до ночи. Все надеялись на то, что великий человек обратит на них благосклонное внимание или введет их в свой дом. Но этим дело не ограничивалось. У ворот кардинальского дворца вечно собирались нищие, выпрашивающие еду или деньги. Хороший кардинал должен был творить милостыню.37
Больше всего поражает масштаб развлечений, устраиваемых при папском дворе. Дворец был местом истинных вакханалий. На Бельведерском дворе в Ватикане в эпоху Ренессанса устраивались грандиозные турниры и бои быков.38 В папских садах содержали множество экзотических животных (там жил и знаменитый белый слон Ханно). Во дворце регулярно устраивались великолепные спектакли. Папы и кардиналы были просто обязаны регулярно устраивать колоссальные пиры немыслимой роскоши. На таких пирах подавали десятки разнообразных блюд, выпивали бесчисленные бочки лучших вин. Звучала музыка, и веселье затягивалось до самого утра. В июне 1473 г. кардинал Пьетро Риарио устроил пир с 40 переменами блюд, среди которых был невероятный позолоченный хлеб и запеченный медведь.39
Но сколь бы великолепной ни была придворная роскошь, за все нужно было платить. Сколько бы курия ни пыталась оправдать свой роскошный образ жизни желанием заслужить уважение и поддержать авторитет Святого Престола, вести подобное существование, не пав жертвой пороков дворов светских, было просто невозможно. Мораль курии в Риме разрушалась с той же скоростью, с какой росло величие папства.
Главной заботой были деньги – и они же являлись источником главного греха. Разумеется, создать образ безграничной власти, не имея солидных доходов, было невозможно.40 Кардиналам нужны были деньги. Хотя не все жили одинаково, но, по некоторым оценкам, доход 25–30 кардиналов, которые жили в Риме в начале следующего века, составлял от 2000 до 3000 дукатов (а дукат примерно равен флорину). Но даже эти колоссальные суммы бледнеют в сравнении с повседневной стоимостью придворной жизни. В 1540-е гг. гуманист Франческо Пришьянезе писал, что кардинал Никколо Ридольфи каждый год тратил не менее 6500 скуди (скудо по стоимости примерно равнялся дукату и флорину) на содержание сотни домашних слуг. Но в этой сумме учитывались лишь самые необходимые расходы.41 Покупка, аренда, строительство или содержание дворца обходилось в тысячи дукатов. С огромными расходами были связаны заказы на художественное оформление кардинальских апартаментов. Время шло, и конкуренция между кардиналами усиливалась, а вместе с ней усиливалось и финансовое давление. К началу XVII в. кардинал Франческо Гонзага признавался, что он не сможет достойно жить в Риме, не получая ежегодно 36 тысяч скуди, и угрожал покинуть город, если не получит этой суммы.42 Как показывают эти поздние примеры, почти с самого возвращения папства в Рим кардиналы – и папы – постоянно испытывали недостаток средств.43 Несмотря на периодические субсидии тем, кто не мог рассчитывать на династические резервы, им часто бывало нелегко свести концы с концами. Как писал в 1563 г. венецианский посол Джироламо Соранцо, «те, кто был очень беден, не могли позволить себе многое из того, что было необходимо для поддержания их статуса».44
Необходимость поддерживать собственный статус заставляла кардиналов целиком и полностью сосредоточиваться на увеличении доходов – способами достойными или грязными. Алчность при папском дворе расцвела пышным цветом. Каждый из князей Церкви был одержим желанием иметь еще больше приходов, сколь бы мало денег они ни приносили. В своих мемуарах Эней описывает Пьетро Барбо, племянника Евгения IV, позже ставшего папой Павлом II. Его он считал истинным воплощением алчного кардинала. Назвав патологически толстого Пьетро «опытным искателем мирских благ»45, Эней описывает, как тот после смерти ректора потребовал себе довольно небольшую церковь Санта-Мария в Импрунете и был страшно недоволен, когда папа ему отказал.46 В 1484 г. флорентийский гуманист Бартоломео делла Фонте (Бартоломео Фонцио) жаловался на то, что при папском дворе «не процветает более ни вера во Христа, ни любовь, ни благочестие, ни милосердие; добродетели, неподкупности, и просвещению там более нет места».47 «Следует ли мне упомянуть, – спрашивал он у Лоренцо Великолепного, – о грабежах, оставшихся безнаказанными, и о том почете, в каком нынче алчность и расточительность?»48 В тот же день делла Фонте написал Бернардо Ручеллаи. В письме он описывал «водоворот порока», поглотивший курию. Кардиналы, «становясь пастырями порока… уничтожают паству, порученную их заботе», потому что «удовлетворить их алчность невозможно».49
Другие грехи курии были еще отвратительнее. Учитывая роскошь и блеск дворов эпохи Ренессанса, всегда существовала серьезная опасность вседозволенности. Чем больше властители стремились к великолепию, тем сильнее были соблазны телесных наслаждений. Как писал Кастильоне в «Придворном», «сегодня правители настолько подвержены дурному… и так трудно открыта им глаза на истину и привести их к добродетели..».50 И то, что относилось к дворам светским, в еще большей степени относилось к двору папскому, который превосходил все остальные по роскоши.
Чревоугодие было, по замечанию Бартоломео Фонте, пороком вездесущим.51 Типичным примером мог служить кардинал Жан Жуффруа, епископ Арраса, которого Эней живо описывает в своих мемуарах. Хотя Жуффруа «желал казаться благочестивым», он был «человеком безрассудным и развращенным». Он не мог устоять перед соблазнами стола папского двора, но огромные количества поглощаемой пищи пагубно на нем сказывались:
За обедом он приходил в ярость от малейшего замечания и швырял серебряные тарелки и хлеб в слуг, а порой даже в достойных гостей, присутствовавших за столом. В ярости он мог опрокинуть стол со всеми блюдами. Он был чревоугодником и не знал умеренности в питье. Будучи разгоряченным вином, он не мог сдерживаться.52
Хотя не все были похожими на пресловутого кардинала, пьянство и обжорство были нормой жизни для кардиналов эпохи Ренессанса. Даже после избрания папой Александр VI постоянно напивался: как замечал Бенвенуто Челлини, «это был его обычай, раз в неделю устраивать безумную попойку, после которой его сильно рвало».53 Папа Павел II ел и пил так много, что даже на самых лестных его портретах он предстает перед нами гротескно ожиревшим.
Но главным грехом папского двора была похоть. Разумеется, в этом не было ничего нового. Во время авиньонского пленения Петрарка с горечью писал о сексуальной невоздержанности кардиналов. Для него Авиньон был воплощенным примером греховности. Он писал:
Здесь старики и девы Сатане Обязаны, резвясь, игривым ладом, Огнем и зеркалами на стене.[14]54Но когда папский двор вернулся в Рим, все стало еще хуже. Во дворцах поселились куртизанки, разговоры об обете целомудрия встречались с изумленным презрением. О многом говорит нам тот факт, что одной из самых популярных работ Энея была эротическая новелла55 (кроме того, его перу принадлежил весьма вольная сексуальная комедия «Хризида» (Chrysis). Своих любовниц кардиналы содержали открыто, и неизбежные сплетни более напоминали современные мыльные оперы, чем нечто подобающее Церкви. До принятия монашеского сана Эней сам стал отцом по меньшей мере двух детей, но даже он не смог удержаться от того, чтобы не осудить сексуальные наклонности печально известного кардинала Жуффруа, и его слова могут служить прекрасной иллюстрацией норм придворной жизни:
Он любил женщин и часто проводил дни и ночи в обществе куртизанок. Когда римские матроны видели его на улице – высокого, широкогрудого, с багровым лицом и волосатыми руками – они называли его венериным Ахиллесом. Куртизанка из Тиволи, которая спала с ним, сравнивала его с винным бурдюком. Флорентийская крестьянка, бывшая его любовницей, разозлившись на него по какой-то причине, дожидалась, когда кардинал, возвращаясь из курии, будет проходить мимо ее дома, а потом плевала ему на шляпу слюной и слизью, которую долго копила во рту, и называла его прелюбодеем и другими ужасными ругательствами.56
Папы тоже не чурались наслаждений плоти. У Юлия II было множество детей, и он даже не пытался тщательно скрывать этот факт. Печально известный Александр VI спал со всем, что движется. Говорили, что он занимался сексом со своей любовницей, Ваноццо деи Каттанеи, своей дочерью от нее, Лукрецией, и ее матерью, и при этом произвел на свет нескольких отпрысков.
Гомосексуальные связи также были распространены не менее (если не более), чем связи гетеросексуальные. Содомия при папском дворе превратилась в настоящую эпидемию.57 Гомосексуальность нескольких пап стала темой ряда сатирических пасквилей. О Льве X (Джованни ди Лоренцо де Медичи) Гвиччардини писал: «В начале его понтификата большинство людей считало его очень благонравным; но потом оказалось, что он весьма склонен (и с каждым днем все бесстыднее и бесстыднее) к тому роду удовольствий, которых не позволяет мне назвать скромность».58 Судя по всему, подобные удовольствия были связаны с любовью к юным мальчикам – ту же страсть разделял и Юлий II. И другие папы тоже были любителями подобных развлечений. Сикст IV дал своим кардиналам особое разрешение заниматься содомией в летние месяцы – по-видимому, чтобы самому предаваться излюбленному пороку, не страшась обвинений.59 Еще хуже был Павел II, который не только появлялся на людях нарумяненным, но еще и умер во время гомосексуального акта с мальчиком-пажом.
На заре кардинальства Энея папский двор состоял из богатых, влиятельных церковников, которые бесстыдно предавались алчности, чревоугодию и похоти. Великолепные залы их дворцов были свидетелями всех возможных грехов, что весьма пагубно сказывалось на репутации курии, особенно в глазах таких гуманистов, как Бартоломео делла Фонте, которые приезжали в Рим, чтобы заниматься своими науками и искусствами. Просвещенные литераторы писали гневные инвективы против растленных кардиналов эпохи Ренессанса. Папский двор вызывал осуждение даже простых жителей города. Несмотря на великолепие кардинальских дворцов, само слово «кардинал» стало оскорблением, свидетельством чего может служить диалог из анонимного пасквиля (разновидность римских сатирических поэм, получивших название от античной статуи, которая была обнаружена в XV в. и получила имя «Пасквино»):
Марфорио: Почему, Пасквино, ты вооружен до зубов? Пасквино: Да потому что я чертовски зол, Мне оскорбленье причиняет страшные мученья, И свой кинжал смертельный я достал из ножен. Марфорио: Но кто же оскорбил тебя, Пасквино, что за недомерок? Пасквино: Он мерзкий плут! Марфорио: Так что ж с того? Пасквино: Ты глупец: Пусть лучше кости мне переломают на колесе, Чем я снесу подобное оскорбленье. Марфорио: Тебя лжецом назвал он: что за стыд! Пасквино: Хуже! Марфорио: Вором? Пасквино: Хуже! Марфорио: Рогоносцем? Пасквино: Обычный человек пожал плечами бы от прозвищ этих, Простак ты, так иди своей дорогой. Марфорио: Что же тогда? Фальшивомонетчиком? Иль симонистом? Иль от тебя девчушка понесла? Пасквино: Марфорио, дитя ты, и кормилица тебе нужна: Есть оскорбленье хуже прочих всех — Назвать мужчину «кардиналом»! Но тот, Кто так назвал меня, повинен в смерти и сбежать не сможет.60Но сколь бы постыдными ни считали современники обычаи папского двора, важно подчеркнуть тот факт, что совершенно иначе они относились к меценатству курии. Хотя грандиозные, богато украшенные дворцы, античные статуи и изысканные фрески были необходимы для подобающей обстановки ренессансного двора, намерения и повседневная жизнь меценатов, заказавших эти произведения искусства, выходила далеко за рамки строгих требований придворной жизни и художественного видения, заложенных Николаем V.
Великолепие папского двора было обманчивым. За величием Апостольского дворца и дворцов кардиналов скрывался двор, которому не просто постоянно не хватало денег, но который буквально сжигало неумеренное честолюбие и безграничная алчность. Святые и ангелы, изображенные на стенах резиденций курии, взирали на людей, которые сознательно посвящали свою жизнь безумному разврату и греховности. Интересно, что фреска Рафаэля «Афинская школа», пожалуй, самое поразительное подтверждение страстного желания папства представить себя центром гуманистического просвещения и подчеркнуть гармоничный союз между античной философией и святоотеческой теологией, была создана по заказу Юлия II, любвеобильного (возможно, гомосексуального) понтифика, восхождение которого на Святой Престол диктовалось колоссальной алчностью. Чем более развратными становились нравы папского двора, тем больше была потребность в подобных нереалистических публичных образах.
Однако художественные вкусы пап и кардиналов не были ни примитивными, как это может показаться на первый взгляд, ни четко определенными, что может вытекать из предсмертных слов Николая V. Хотя придворный статус и процветание веры оставались главными воеводами для сохранения тщательно продуманного публичного образа, группа подобных людей просто была не в состоянии не проявить своих истинных чувств.
При светских дворах Италии побочные эффекты «придворного» поведения зачастую не скрывались и даже заслуживали восхваления и одобрения. Алчность, чревоугодие и похоть проявлялись в декоративных схемах, которые были призваны замаскировать греховность существования папского двора. Когда Рафаэль отделывал ванную комнату кардинала Биббиены в Ватиканском дворце, его попросили написать фрески с сюжетами из античной мифологии, отнюдь не соответствующими принципу целибата. Хотя эти фрески ныне утеряны, одна сцена изображала пышнотелую Венеру, которая весьма соблазнительно поднимала ногу, чтобы вытащить шип из ступни.61 На другой Пан готовился овладеть Сирингой. Микеланджело изваял своего Вакха – истинный шедевр пьяного буйства – по заказу кардинала Раффаэле Риарио. Еще более откровенными были фрески свода входной лоджии палаццо Фарнезе, написанные Джулио Романо, Джованни да Удине и другими художниками по эскизам Рафаэля. На сей раз темой была эротическая история Купидона и Психеи. Потолок самых элегантных залов был разделен на панели, на каждой из которой была изображена некая сцена сюжета. И каждая такая сцена содержала намеки на повседневную жизнь кардиналов – хозяев дворца. В «Пире богов», к примеру, вино льется рекой, а боги возлежат за столом в обществе богинь с обнаженной грудью или предаются ласкам под украшенными цветами балдахинами, а соблазнительные девушки танцуют перед ним с глазами, горящими страстью. На другой сцене, изображенной над поднятой рукой Меркурия, мы видим еще более яркое проявление вкусов курии [ил. 30]. Среди фруктов и листьев бордюра скрывается явная и абсолютно откровенная сексуальная пародия.62 Некий плод чисто фаллической формы впивается в плод инжира, который распадается на две части, принимая вид, сходный с женскими половыми органами. Не слишком тонко, но это именно то, что любили видеть папы и кардиналы, подобные Энею Сильвию Пикколомини, скрывая свои пристрастия от глаз общества.
Дела семейные
У Энея была возможность наблюдать моральное разложение папского двора с самых первых дней пребывания в Риме. Но долги, пьянство и разврат, которые он видел в величественных дворцах пап и кардиналов, были лишь частью мрачной истории, стоящей за папским меценатством. Помимо внезапного и стремительного усиления алчности, чревоугодия и похоти в курии разительные перемены произошли в сфере власти. Главным стремлением пап стало укрепление власти в папских государствах, и это изменило сам подход к использованию власти, что повлияло на характер папского двора. Основным фактором теперь стало всепоглощающее честолюбие.
Очень скоро Энею предстояло впервые столкнуться с самой безобразной стороной папства эпохи Ренессанса. Через два года после того, как он стал кардиналом, умер папа Каликст III, и Энею предстояло принять участие в конклаве по выборам нового папы. На этом важнейшем церковном событии начала проясняться внутренняя политика курии.
Конклав собрался в соответствии с древними и достойными традициями Церкви. Это было очень торжественное событие. После завершения похорон коллегия кардиналов в парадных одеяниях направилась в определенные залы Ватиканского дворца. Там кардиналы должны были находиться в полной изоляции до тех пор, пока не будет избран новый папа. Когда двери за ними закрылись, 18 кардиналов поклялись в сохранении тайны и полном подчинению решению конклава. Еще восемь членов коллегии присутствовать на конклаве не смогли. После общей молитвы о даровании Господнего наставления начались серьезные размышления и обсуждения. Фреска Пинтуриккьо, написанная для библиотеки Пикколомини в Сиене, прекрасно показывает этот торжественный и важный для Церкви процесс. Хотя кандидатов на Святой Престол было несколько, Эней чувствовал, что все предрешено заранее.63
Конклав был чистой игрой. Уже после первого голосования стало ясно, что ни один из кандидатов не набирает подавляющего большинства. Теперь победителя следовало определить путем переговоров. Но решающим фактором были неблагочестие и святость кандидатов. Атмосфера конклава более всего напоминала нечестивую торговлю. Как только были объявлены первые результаты, то
самые богатые и самые влиятельные члены коллегии начали вызывать к себе остальных. Добиваясь папства для себя или своих друзей, они умоляли, давали обещания, даже прибегали к угрозам. Некоторые из них забыли о достоинстве и стыде и настаивали на своем, требуя Святой Престол для себя.64
Тайно встречаясь с другими кардиналами в туалетных комнатах, кардинал д’Эстутвиль – самый амбициозный член коллегии пытался склонить их на свою сторону с помощью угроз и подкупа. Он обещал самые ценные приходы тем, кто проголосует за него. Он давал понять, что, будучи избранным, он лишит тех, кто его не поддержит, всех церковных должностей, которые у них были. Даже внушающий страх кардинал Родриго Борджиа – вице-канцлер церкви – был напуган подобным напором.
Однако, несмотря на все усилия д’Эстутвиля, в 1458 г. удача ему не улыбнулась. Во втором туре голосования он получил всего шесть голосов, тогда как Эней (его методы убеждения остались для нас покрытыми тайной) – девять. Стало ясно, что следующее голосование еще больше ухудшит ситуацию. Поскольку ни один из кандидатов не получил требуемых двух третей голосов (12 голосов), коллегия решила использовать процесс «присоединения». Кардиналы получали возможность изменить свое голосование и «присоединиться» к другому кандидату. Вместо того чтобы облегчить процесс, это способствовало еще более неприглядному поведению.
Чувствуя, что д’Эстутвиль не одержит победу, Родриго Борджиа первым поддержал Энея. Его примеру последовал кардинал Джакомо Тебальди. Теперь Энею нужен был всего один голос для того, чтобы занять Святой Престол. Но в этот момент конклав превратился в фарс:
Кардинал Просперо Колонна решил присвоить себе честь провозглашения имени следующего понтифика. Он поднялся, чтобы произнести вслух свое решение… и тут кардиналы Ниццы и Руана [Бессарион и д’Эстутвиль] неожиданно схватили его и резко отчитали за желание присоединиться к Энею. Когда же он проявил упорство, они попытались вытолкать его из комнаты силой – один держал его за правую руку, а другой за левую… Настолько преисполнены они были решимости лишить Энея папства.65
Но Просперо принял твердое решение. Когда два самых влиятельных во всем христианском мире кардинала пытались вытолкать его из капеллы, он выкрикнул слова поддержки Энея. Голова Энея шла кругом от церковных потасовок, в ушах его звучали отчаянные крики д’Эстутвиля. Так он стал новым папой – Пием II.
Подобное начало понтификата трудно считать благоприятным. Вместо того чтобы являть собой образец христианского согласия, конклав превратился в жестокую потасовку, где в ход шли самые грязные средства. Подобное поведение показалось бы недостойным даже современному клубу регби. Но в этом не было ничего необычного. В эпоху Ренессанса каждый конклав был по меньшей мере «бурным». Крики и потасовки возникали сплошь и рядом. Подкуп (правильнее «симония») считался нормой жизни. В 1410 г. Бальдассаре Косса занял 10 тысяч флоринов у Джованни ди Биччи де Медичи, чтобы стать антипапой. После воссоединения Церкви ситуация еще более ухудшилась, несмотря на постоянные попытки конклавов положить конец практике симонии. Впрочем, попытки подкупа, предпринятые д’Эстутвилем, бледнеют в сравнении с тем, что в 1492 г. сделал Родриго Борджиа.66 Этот перспективный испанский кардинал предложил одному лишь Асканио Сфорца четыре повозки серебра и приходы, которые приносили доход более 10 тысяч дукатов в год. По стандартам других конклавов выборы Пия II прошли вполне спокойно и гладко.
Но такая ожесточенная борьба на конклавах эпохи Ренесанса объяснялась вовсе не ростом духовного престижа папства. Святой Престол стал призом, материальную и политическую ценность которого было просто невозможно определить.
После возвращения в Рим папство стало оказывать серьезнейшее влияние на баланс сил в Италии. Разумеется, папы играли важную роль в политике международной, и влияние их значительно превышало влияние любого другого государства. Любые союзы, куда входил папа, любые кампании, которые он начинал, угрожали стабильности коммун, королевств и signorie на полуострове. Но не менее серьезное влияние папа оказывал и на внутреннюю политику отдельных государств, непосредственно вмешиваясь в судьбы различных семейств. Он мог закрепить или разрушить суверенитет семейства над территорией, назначив собственного наместника в викариат конкретного города или сняв его с этой должности. Он мог даровать дворянский титул по своему усмотрению. И он мог серьезно увеличить или уменьшить доходы семейства в зависимости от распределения приходов и доходов Церкви.
Все это было бы не так важно, если бы курия оставалась институтом, стоящим выше национальных и семейных интересов, если кардиналы были достойными, честными людьми, заботящимися исключительно о духовном благополучии Церкви. Но все было не так, и кардиналы были совсем не такими. Папы не только руководствовались в своей деятельности интересами собственных территорий, но еще и о семье не забывали – и неважно, происходили ли они из знатных правящих династий или из зарождающихся новых кланов. Стоило очередному папе заполучить Святой Престол, как он сразу же начинал использовать свою колоссальную власть в интересах родного региона, наполнять закрома родственников (впрочем, семейные интересы часто шли рука об руку с интересами «национальными) и укреплять сети личной власти.
Неудивительно, что каждый, кто обладал хоть каким-то честолюбием, делал все возможное, чтобы угодить папам, в надежде ухватить какие-то крошки, падающие с папского стола. Короли Франции, Англии, Испании и Венгрии, самые знатные семейства Италии – все старались сделать кого-то из родственников кардиналами. Но, возможно, самым явным знаком роли папства как источника денег и власти являлась коррумпированна я практика непотизма. Хотя папы назначали своих родственников в коллегию кардиналов еще со средних веков, в эпоху Ренессанса эта практика достигла апогея.67 Появление кардиналов-племянников превратилось в настоящую эпидемию. Мартин V, к примеру, не только наделил своего племянника Просперо Колонну кардинальской шапкой, но еще и использовал все свое влияние к тому, чтобы его семья получила под полный контроль весь Рим. Евгений IV, которого кардиналом сделал дядя, Григорий XII, ввел в коллегию двух своих племянников. Каликст III был настолько бесстыдным, что одного из его протеже, Бернардо Роверио, прозвали «чудовищным Папой», который «осквернил Церковь Рима мздоимством».68 Даже вполне респектабельный Николай V сделал кардиналом своего сводного брата. Дальше хуже. Стремясь сделать малоизвестное семейство делла Ровере одним из самых знатных в Италии, Сикст IV вводил своих родственников в коллегию кардиналов такими темпами, что превзошел даже самых коррумпированных своих предшественников. По словам Макиавелли, «этот Папа был первым, показавшим, что способен сделать глава Церкви и каким образом многое, считавшееся до того времени неблаговидным, может благодаря папской власти обрести вид законности».[15]69 За семь лет он возвысил не менее шести своих прямых родственников, и они составили почти четверть конклава, собравшегося после его смерти. Павел III сделал то же самое для двух своих внуков, причем одному из них, Рануччо, было в то время всего 15 лет. Александр VI, который сам был кардиналом-племянником Каликста III, ввел в коллегию кардиналов десять своих родственников, включая сына Чезаре Борджиа и двух внучатых племянников. В период с 1447 по 1534 г. шесть из десяти пап получили кардинальские шапки из рук своих родственников.
Каждый кардинал-племянник получал доходные приходы и обширные земли, что усиливало престиж и власть семейства, к которому он принадлежал. Неудивительно, что семья делла Ровере достигла величия в конце Ренессанса исключительно благодаря богатствам кардиналов-племянников.70 А Пьетро Риарио, ставший кардиналом при папе Сиксте IV, сумел стать одним из богатейших людей Рима.
Но это еще не все. Помимо желания заполнить коллегию кардиналов своими родственниками папы, высоко чтившие семейные узы, были готовы оказывать поддержку родственникам и вне Церкви. Вскоре после окончания раскола Мартин V предоставил своим родственникам Колонна полную свободу действий в Риме и даровал им большие поместья в Неаполитанском королевстве. Его действия стали примером для подражания. Светский непотизм Сикста IV дошел до такой степени, что возмутил даже Макиавелли.71 В 1508 г. Юлий II (племянник Сикста IV) даровал герцогство Урбино своему племяннику Франческо Марии делла Ровере. Климент VII сделал своего незаконнорожденного сына Алессандро де Медичи герцогом Флоренции. Герцогом Пармы стал незаконнорожденный сын Павла III, кондотьер Пьер Луиджи Фарнезе. Но самым печально известным в этом отношении был, конечно же, Александр VI. Вот что писал о нем Гвиччардини:
Бесстыдно лживый, коварный, вероломный, безбожник, одоленный алчностью и пожранный честолюбием он был жесток до дикарства и жаждал лишь возвышения своих внебрачных детей, ради которых он был полон решимости пожертвовать всем.[16]72
По честолюбию Александр превзошел всех своих предшественников. Он решил создать империю Борджиа в Северной Италии – не больше и не меньше. Своего второго сына, Хуана, он сделал главнокомандующим армией Церкви и убедил короля Испании даровать ему титул герцога Гандии. После смерти Хуана Александр позволил своему другому сыну, Чезаре, покинуть коллегию кардиналов, стать герцогом Валентинуа и завоевать Романью. Во властной игре отца участвовала даже дочь Александра Лукреция. Она трижды выходила замуж за членов знатных итальянских семейств.
Не был исключением из правил и Эней Сильвий Пикколомини. Несмотря на призывы к благочестию и смирению, он был столь же привержен непотизму, как и все другие понтифики того времени. Он тоже хотел обеспечить своей семье процветание за счет растущего папского богатства. Неудивительно, что первые его действия на Святом Престоле были связаны с родственниками. Повысив статус прихода Сиены, он сделал первым архиепископом города своего родственника Антонио д’Андреа да Моданелла-Пикколомини, а после его смерти назначил преемником сына своей сестры, Франческо Тодескини Пиккколомини.73 Затем новый папа сделал Франческо кардиналом – вместе с Никколо Фортегуэрри (родственник Пия II по материнской линии) и Якопо Амманати Пикколомини (приемный член младшей ветви семейства), которых ранее он сделал епископами Теано и Павии. Не ограничившись этим, он назначил своего кузена Грегорио Лолли одним из самых доверенных секретарей74, а племянника, Никколо д’Андреа Пикколомини, командиром замка Святого Ангела в Риме. Пий II даже отправил Никколо Фортегуэрри с секретной миссией в Неаполь – он должен был договориться об обручении еще одного племянника папы, Антонио Тодескини Пикколомини, с дочерью короля Ферранте.
Учитывая огромные возможности семейного обогащения, нетрудно понять, почему соперничество за Святой Престол после возвращения курии в Рим стало настолько ожесточенным. За такой приз стоило побороться. Поскольку ставки были невероятно высоки, конклавы неизменно были связаны с симонией и даже с насилием. Редкий кардинал не мечтал стать папой. История практически не знает кардиналов, имевших шансы на избрание, которые не пытались бы подкупить своих коллег. И хотя прямых свидетельств того, что Эней Сильвий Пикколомини в 1458 г. действительно предлагал другим кардиналам какие-то финансовые вознаграждения, его непотизм не позволяет предположить, что он не пытался подкупить влиятельных кардиналов, чтобы повысить свои шансы на Святой Престол, что заметно улучшило бы пошатнувшееся положение семейства Пикколомини.
Одержимость пап властью над Папской областью вела к насилию, коррупции и подкупу на выборах. И эти негативные перемены превратили папство в площадку, на которой соревновались самые знатные и богатые семьи Италии. Несмотря на то что в эпоху Ренессанса коллегия кардиналов значительно расширилась (в 1458 г. она насчитывала 26 кардиналов, в 1513 г. – 32, а в 1549 г. уже 54) и в ней постоянно появлялись кардиналы, назначаемые по просьбам европейских монархов, господствующее положение по-прежнему занимали несколько итальянских кланов, преисполненных решимости использовать Церковь – и папство – в собственных интересах. Делла Ровере, Борджиа, Медичи, Фарнезе и благодаря Пию II Пикколомини получили огромное количество кардинальских шапок, а вместе с ними и миллионы флоринов из казны Церкви. И чем больше они жаждали денег, власти и влияния, тем сильнее была их решимость сохранить папство «в семье». Из 18 пап, занимавших Святой Престол в период с 1431 по 1565 г., 12 происходили всего из пяти семей. Не менее четырех понтификов (Иннокентий VIII, Лев X, Климент VII и Пий IV) были либо прямыми членами семьи Медичи, либо имели к ней косвенное отношение. Выборы Пия II стали началом очередной попытки создания выборной монархии, которая по мере возможности превратила бы папство в институт престолонаследования.
Все это оказало сильнейшее – и весьма заметное – влияние на папское меценатство. Как показывала жесточайшая критика папства со стороны Савонаролы, а впоследствии Кальвина и Лютера, для курии было очень важно создать у паствы впечатление хорошего вкуса и христианской добродетели, даже если в действительности все обстояло иначе. Параллельно с этим папы и кардиналы стремились упрочить выгоду для семьи визуальными средствами. Чем более влиятельной и честолюбимой была семья, господствовавшая в курии, тем сильнее было ее желание легитимизировать свое положение в Риме и у себя на родине путем создания образа справедливой власти. И это делает неудивительным стремление не только к роскоши и величию, но еще и к укреплению семейных уз почти династическим образом.
Ярче всего это проявилось в архитектуре. Для богатейших кардиналов курии дворцы были выражением семейного престижа и придворного величия. Люди, видевшие дворец, должны были четко понимать, кому принадлежит это роскошное строение. Хозяева дворцов всегда помещали свои гербы (или хотя бы соответствующую надпись) на самом видном месте. Когда в 1496 г. новый дворец строил для себя кардинал Раффаэле Риарио (ныне это Палаццо делла Канчелерия), он не только позаботился о том, чтобы дворец был самым большим в Риме, но еще и разместил на верхнем карнизе соответствующую надпись, чтобы все понимали – это его дворец, а столь высокое положение он получил благодаря своему родственнику, папе Сиксту IV. 75 В 1515 г. кардинал Алессандро Фарнезе (впоследствии папа Павел III) пригласил для строительства своего дворца Антонио да Сангалло. Одно из основных условий заключалось в том, чтобы на фасаде огромного строения (сегодня здесь располагается посольство Франции) над главным входом был размещен большой фамильный герб.
Хотя официальной резиденцией пап был Апостольский дворец, и поскольку их потребности слегка различались, папы подняли эту тенденцию на новый более высокий уровень. Стремясь утвердить семейное положение в Ватикане, каждый понтифик пристраивал к комплексу что-то новое и подчеркивал значимость своей семьи, помещая на видных местах свой герб. Папа Павел III разместил фамильные лилии Фарнезе в Королевском зале над главным входом. Когда была достроена новая базилика святого Петра, Сикст V поместил вдоль основания фонаря надпись, утверждающую его право на этот храм.76 Павел V попытался присвоить весь проект себе – свое тронное имя и семейную фамилию он разместил прямо на фасаде.
Однако одними лишь гербами и надписями тенденция не ограничивалась. Были и более тонкие и эффективные способы. Апартаменты Борджиа украшали фрески кисти Пинтуриккьо, где был даже портрет любовницы Александра VI, Джулии Фарнезе.77 Художник изобразил ее в виде Девы Марии. Эти залы были настолько тесно связаны с печально известной семьей пресловутого понтифика, что после его смерти на долгое время остались заброшенными. Но, пожалуй, лучшим примером является Сикстинская капелла. Хотя другие папы вносили в ее оформление что-то свое, она навсегда осталась храмом семейства делла Ровере. Капелла была построена Сикстом IV (Франческо делла Ровере). Он же заказал росписи стен, над которыми трудились Боттичелли, Гирландайо и Перуджино. Его честолюбивый племянник Юлий II (Джулиано делла Ровере) пригласил Микеланджело расписать потолки капеллы – так продолжилось прославление достижений семейства делла Ровере.
Когда же папы происходили из семейств, которым нужно было повысить свою до того весьма ограниченную роль в собственном регионе, то крупномасштабные архитектурные и декоративные проекты осуществлялись вне Рима. Стремясь создать и упрочить положение «династии» Пикколомини, Пий II поручил Бернардо Росселлино полностью перестроить свой родной город Корсиньяно.78 Архитектор использовал новейшие достижения городского строительства, и Корсиньяно, позже получивший название Пиенца, превратился в идеальный город эпохи Ренессанса, где Пий II мог отдыхать, удаляясь из Рима. Почти на всех крупных зданиях (даже на колодце на площади перед Палаццо Коммунале) красовался семейный герб. Кроме того, главным украшением нового города стал массивный дворец – резиденция семьи Пикколомини.
Но самым прямым способом упрочения «династической» власти внутри курии было, конечно же, использование портретов и живописное увековечение. С одной стороны, второе и третье поколение пап использовало достижения своих предшественников для закрепления их силы и мощи. Папа Пий III, к примеру, заказал Пинтуриккьо написать в библиотеке Сиенского собора (ныне библиотека Пикколомини) великолепный агиографический цикл фресок с изображением сцен из жизни и деятельности Пия II. 79 Чтобы зрители не упустили связи папы настоящего с добродетелями первого понтифика из семьи Пикколомини, художник сделал соответствующую надпись, подтверждающую семейные связи между ними. Но, с другой стороны, все папы стремились иметь портреты в окружении других членов семьи (особенно, если те были кардиналами). У зрителя не оставалось никаких сомнений в династических устремлениях изображенных. В 1477 г. Мелоццо да Форли получил заказ написать фреску «Папа Сикст IV назначает Бартоломео Платину префектом библиотеки Ватикана» [ил. 31]. Ныне эта фреска хранится в пинакотеке Ватикана. На ней мы видим не только преклонившего колена перед понтификом просвещенного Платину, но еще и портреты четырех племянников папы – кардиналов Пьетро Риарио и Джулиано делла Ровере справа, а правителя Имолы и Форли, Джироламо Риарио, и кондотьера Джованни делла Ровере – слева. Позже Рафаэль написал знаменитый портрет толстого, близорукого Льва X с кузенами, кардиналами Джулио ди Джулиано де Медичи (впоследствии папа Климент VII) и Луиджи де Росси [ил. 32]. На зловещем портрете дряхлого Павла III Тициан изобразил его внуков, кардинала Алессандро Фарнезе и льстивого Оттавио Фарнезе, герцога Пармы, Пьяченцы и Кастро.
Чревоугодие, алчность и похоть превратили римские дворцы в дома разврата и мирских наслаждений. Столь же неприглядные (и нехристианские) чувства стоят за самыми впечатляющими примерами папского меценатства. Самые знаменитые произведения ренессансного искусства отражают не одни лишь высокие идеалы и глубокую христианскую веру. Сикстинская капелла, апартаменты Борджиа и даже сам собор Святого Петра – все это свидетельства всепоглощающего честолюбия, которое заставляло пап и кардиналов подчинять волю Церкви интересам собственных семей и набивать свои карманы пожертвованиями простых верующих. Сколь бы прекрасными ни были дворцы, церкви и капеллы папского двора, эта сторона папства в эпоху Ренессанса была мрачной, коварной и абсолютно продажной – и Эней Сильвий Пикколомини убедился в этом по тому насилию и симонии, с которыми было связано его собственное избрание.
Тайны, ложь и кровопролитие
Вскоре после коронации Пий II понял, что у папы есть и другие обязанности, кроме светских развлечений и обогащения собственной семьи. Римский двор был не самым подходящим местом для углубленного созерцания собственного пупка. Курия не была оторвана от внешнего мира. Папский двор был одним из эпицентров итальянской политики. И очень скоро Пий оказался втянутым в сложнейшие международные проблемы.
Новый папа столкнулся с двумя серьезными кризисами. Первый был связан с Сицилией. Незадолго до избрания Пия II между Каликстом III и королем Сицилии Альфонсо произошла жестокая ссора. По каким-то только ему самому известным причинам Альфонсо высокомерно потребовал, чтобы папа признал его законным королем Сицилии, да еще и отказался от Анконы и ряда других церковных земель. Естественно, Каликст отказался. 27 июня 1458 г. Альфонсо безвременно скончался, и тогда папа объявил, что остров возвращается под папское управление на основании того, что королевство давным-давно являлось папским феодом.80 Только смерть Каликста предотвратила полномасштабное вторжение папских армий на Сицилию. Папе Пию II предстояло решить эту проблему. Сын Альфонсо Ферранте хотел, чтобы папа подтвердил его права на трон, папа хотел обеспечить безопасность владений Церкви – и в то же время успокоить церковных «ястребов».81
Второй кризис был связан с проблемой самой Папской области. Во время заседания конклава кондотьер Якопо Пиччинино воспользовался отсутствием папы и вторгся на папские территории в Центральной Италии. В ходе молниеносной кампании он захватил Ассизи, Гуальдо, Ночеру и навел ужас на всю Умбрию.82 Папе нужно было срочно изгнать Пиччинино с земель, принадлежавших папству.
Оба кризиса были сторонами одной монеты. Единственный выход заключался в одновременном решении обоих. Чтобы обеспечить безопасность Папской области, Пий решил заключить сделку с Ферранте. Это не только решало проблему Сицилии, но еще и устраняло все опасности, которыми грозил Альфонсо. Более того, Ферранте пообещал Пию помощь в деле изгнания Пиччинино из Умбрии. Оставалось единственное затруднение: Пий согласился помочь Ферранте разрешить его конфликт с Сиджисмондо Пандольфо Малатестой и стабилизировать ситуацию на севере. Именно для того, чтобы решить эту труднейшую задачу, папа и остановился во Флоренции по пути в Мантую весной 1459 г.
Став папой, Пий сосредоточил в своих руках огромную политическую и дипломатическую силу, но при этом ему приходилось постоянно решать самые разные задачи, связанные друг с другом. Он чувствовал себя жонглером: если одна тарелка упадет, то за ней посыплются и все остальные. Но трудности папы были всего лишь проявлением проблем, с которыми папство сталкивалось на протяжении всей эпохи Ренессанса. После возвращения пап в Рим и установления контроля над Папской областью они более не могли воздерживаться от участия в сложной политической игре в Италии. Семейные заботы и пьяные пиры, которыми так славился папский двор, зависели от активного участия папы в сложном и опасном деле международных связей. Ключом ко всему была Папская область. Именно оттуда поступала львиная доля доходов, от которых зависел папский двор. Поэтому Папскую область следовало защищать, сохранять, и по возможности расширять. Сделать это было очень трудно, и папы должны были вести себя точно так же, как главы всех других государств Италии, т. е. заниматься делами дипломатическими, обороной и вопросами собственности. Единственная проблема заключалась в том, что политика была весьма далека от представления Николая V о Церкви как об оплоте истинной веры и символе неземной добродетели. Если повседневная жизнь папского двора была пронизана пороком, мздоимством и аморальностью, то политика была делом еще более зловещим – самым зловещим из всего, что творилось в Риме. И, как все остальные в Вечном городе, папы и кардиналы не упускали возможности использовать меценатство для того, чтобы замаскировать или восславить свои самые мрачные и безобразные стороны.
Жить по лжи
В основе кризисов, с которыми Пий II столкнулся в 1458–1459 гг., лежала жгучая проблема авторитета. Хотя некоторые, например, Марсилий Падуанский, подвергали авторитет пап сомнению, в эпоху Ренессанса их духовное верховенство прочно закрепилось в Церкви. Папы считали себя прямыми наследниками первого апостола – и свидетельством тому слова Христа, начертанные огромными буквами вокруг купола базилики Святого Петра: «Ты – Петр, и на сем камне я создам Церковь Мою». Но если папы могли обосновать свой примат в религиозных вопросах, обращаясь к Писанию, то в вопросах власти мирской все было не так просто. Как уже давно указывали францисканцы, в Библии ничего не говорится о том, что Христос хотел, чтобы Его Церковь обладала чем бы то ни было, не говоря уже о нескольких миллионах акров земель в Центральной Италии. Напротив, в Евангелиях было немало пассажей, которые можно было бы истолковать как требование абсолютной евангелической бедности.
Официальные же толкователи Библии находили весьма хитроумные аргументы из Евангелия, которыми папы могли обосновывать – и обосновывали свое богатство и власть. Учитывая неоднозначность Евангелий, слова Христа можно было использовать для того, чтобы оправдать практически все, что угодно. Но даже если Церковь могла обладать собственностью и земной властью вполне законно, то в Библии все равно ничего не говорилось о том, что бог наделил пап правом распоряжаться такими колоссальными территориями. Чтобы закрепить свое положение, папству нужно было изобрести нечто другое.
И решение дала им сама история. Многие исторические эпизоды прошлого, например изгнание папой Львом I Аттилы и коронация Карла Великого можно было истолковать как доказательство права папства на управление центральными районами Италии и его превосходство над всеми другими формами светской власти. Но одно «доказательство» выделялось среди всех. В средние века и в эпоху Ренессанса папы основывали свое право на земную власть документом, получившим название Константинов дар. Предположительно этот текст был составлен в начале IV в. Согласно ему, в благодарность за исцеление от проказы после крещения и конфирмации император Константин передал власть над всей Римской империей папе Сильвестру I. После этого папы сохраняли суверенные права над Империей и вплоть до недавнего времени просто доверяли императорам управление их территориями, за исключением территорий Папской области.
Беда была в том, что «Дар» был подделкой, написанной примерно в начале XI в. Папы эпохи Ренессанса не могли об этом не знать. Еще до окончания раскола кардинал Николай Кузанский оспаривал подлинность документа. В 1439–1440 гг. Лоренцо Валла использовал свой филологический опыт, чтобы однозначно доказать его недостоверность. 83 До избрания папой Эней Сильвий Пикколомини сам написал трактат о недостоверности данного текста.
Но «Константинов дар» был слишком полезен, чтобы открыто говорить о том, что это фальшивка. Папы эпохи Ренессанса отвергли трактат Валлы и труд Пикколомини. Они продолжали вести себя так, словно документ был абсолютно подлинным. Даже если после понтификата Николая V он перестал упоминаться в папских буллах, папы один за другим создавали визуальные подтверждения подлинности «Дара». Искусство могло дать такую жизнь утверждениям, воплощенным в фальшивом тексте, какой не могли дать ни юридические, ни филологические аргументы.
Самым ярким примером этого может служить зал Константина в личных апартаментах Апостольского дворца.84 Папа Юлий II заказал роспись этого зала мастерской Рафаэля. Фрески огромного зала должны были четко показывать, что даже если «Константинов дар» – это фальшивка, документ все равно остается основой папской политики. В руках Джулио Романо, Раффаэлино дель Колле и Джанфранческо Пенни история жизни Константина стала воплощением легитимности верховенства Церкви в земных вопросах – и особенно в Италии. Художники показали видение Константину креста и последующую победу в битве у Мильвийского моста. Крещение и предположительное дарение Империи изображено на двух крупных и очень драматичных фресках. Хотя некоторые фигуры изображены в исторически достоверных костюмах, папа Сильвестр и другие клирики написаны в одеяниях начала XVI в., чтобы подчеркнуть легитимную связь понтифика IV в. с Юлием II.
Та же идея была еще более убедительно подчеркнута в другом зале новых папских апартаментов, в станцах Элиодора.85 Написанные самим Рафаэлем фрески еще более расширили смысл «Константинова дара», показав добродетель и силу мирской власти папства на примере исторических и псевдоисторических эпизодов. В «Изгнании Элиодора» и «Встрече Папы Льва I с Аттилой» Юлий II и Лев X предстают врагами безбожных тиранов и защитниками Рима, а на фреске «Месса в Больсене» второй понтифик делла Ровере становится свидетелем чуда XIII в., которое служит доказательством высшей истины веры, защищаемой папством. Заключительная фреска «Чудесное изведение апостола Петра из темницы» венчает художественный замысел: «князя апостолов» освобождает из темницы милосердный ангел, что показывает «тщетность применения силы против первого викария Христа».86
Жить с мечом
Сколь бы убедительными ни были территориальные претензии пап, для подтверждения нужно было что-то более материальное. Опасность грозила повсюду. Папской области со всех сторон угрожали сильные и агрессивные государства. Папы постоянно опасались неаполитанского или французского вторжения. Вассалы Церкви в Центральной Италии – города и signori – были настолько непостоянными и хитроумными, что на их верность никогда нельзя было положиться. Кроме того, на полуострове постоянно орудовали алчные кондотьеры вроде Якопо Пиччинино, которые только и ждали случая, чтобы отщипнуть кусок от папской собственности. Если папы хотели и дальше сохранять в своей собственности Папскую область, им нужно было что-то делать, чтобы удержать контроль над этой территорией.
Дипломатия предлагала удобное решение. Понимая, что лучший (и самый экономичный) способ защиты Папской области – это сохранение баланса сил, папы постарались обеспечить столь желанную безопасность своей миротворческой деятельностью. Возможно, под влиянием остаточного чувства христианского долга Николай V постарался добиться стабильного и долгосрочного мира между воинственными итальянскими государствами.87 Он не раз отправлял молодого Энея Сильвия Пикколомини с миротворческими миссиями в Неаполь и Милан. Результатом этой деятельности стал заключенный весной 1454 г. Лодийский мир – истинный триумф папской дипломатии. Он не только положил конец длительным и жестоким войнам в Ломбардии, которые так тревожили предшественников Николая, но еще и вселил надежду на то, что безопасность Папской области обеспечена на обозримое будущее.
Но приверженность папства миру была столь же циничной, как и использование «Константинова дара». Мир был желанен лишь до того момента, пока он отвечал интересам пап. И даже в этот хрупкий период Николай и его преемники с радостью брались за оружие, чтобы обеспечить приток средств из Папской области. Понтификам нужна была армия, чтобы отражать нападения кондотьеров. Так Каликст III отправил Джованни Вентимилью, чтобы изгнать из Папской области армию Якопо Пиччинино.88 Но армия была нужна и для других целей. Папы были готовы подавить любой намек на недовольство своих подданных – причем весьма жестоко. Папы с тревожащей регулярностью нанимали кондотьеров. Воевать начали даже сами кардиналы – многие из них унаследовали воинственность своих благородных предков. Пий II поставил собственного племянника, кардинала Никколо Фортигуэрру, во главе папской армии, которая вместе с армией Федерико да Монтефельтро сражалась с Сиджисмондо Пандольфо Малатестой, папским викарием Римини.89 Эта кампания оказалась на редкость жестокой. Точно так же Сикст IV приказал жестоко разграбить взбунтовавшийся город Сполето – суровое предупреждение любому городу, который вздумает вырваться из папской хватки.90
Но одновременно с укреплением своих позиций в Папской области, папы необдуманно открылись для более вероломного насилия. В кулуарах стали формироваться дестабилизирующие обстановку союзы. Все чаще сталкиваясь с папской жестокостью, signori Папской области стали объединяться с теми, кого начала тревожить воинственность Рима. Заговоры множились. Опасность угрожала даже столь уважаемому понтифику, как Пий II. Поссорившись с Пием из-за правления Вико, Эверсо дельи Ангвиллара в 1461 г. заключил союз с кондотьером Якопо Пиччинино и флорентийским торговцем Пьеро Пацци с целью убийства папы. Хотя заговор не удался, канцлер Пиччинино утверждал, что он нашел «яд, который, будучи в очень малом количестве втертым в папский трон, убил бы папу, как только он сел бы». 91
Несмотря на условия Лодийского мира, папы должны были реагировать на эти угрозы. Они стали настоящими мастерами в искусстве заговоров. Папы и кардиналы, не раздумывая, организовывали перевороты и убийства, если это могло послужить их интересам. Хотя Пий II был довольно умеренным в этом отношении, его преемник Сикст IV занимался заговорами с настоящей страстью. За кровавым заговором Пацци 1478 г. стоял именно Сикст, для которого усиливающееся влияние Медичи было угрозой.
Сикст приобрел пограничный город Имола и назначил новым правителем своего племянника Джироламо Риарио. И сразу же он начал планировать отстранение Медичи от власти во Флоренции с помощью семейства Пацци (именно они дали папе деньги на покупку Имолы) и Франческо Сальвиати (этого члена семьи папских банкиров Сикст сделал архиепископом Пизы).92 Кроме того, Сикст тайно заручился поддержкой Федерико да Монтефельтро, который пообещал предоставить заговорщикам 600 солдат. Хотя Сикст старался не вникать в детали, он знал, что свергнуть Медичи можно только с помощью убийства. План был дьявольски простым. Все началось со смерти. 26 апреля на мессе в соборе Франческо де Пацци и Бернардо Банди закололи Джулиано де Медичи на глазах у сотен верующих. Они намеревались убить и его брата Лоренцо, но смогли его лишь ранить. А тем временем Франческо Сальвиати и его родственники ворвались в Палаццо Веккьо в надежде захватить самое сердце Флоренции и мгновенно установить новый режим. Ситуация действительно находилась на грани. Только благодаря энергичным и быстрым действиям Лоренцо де Медичи и его соратников заговор не удался. Якопо де Пацци выбросили из окна, а Франческо Сальвиати повесили на стене Палаццо Веккьо. Но это никак не повлияло на Сикста и его преемников.
После краха Лодийского мира папство оказалось втянутым в ряд беспощадных военных кампаний, являвшихся частью того, что мы сегодня называем итальянскими войнами. В тот период папы стали серьезным источником нестабильности на полуострове. Устав от 60 лет непрерывных войн, Александр VI заключил с Неаполем союз для борьбы с армиями Милана и Франции (французский король Карл VIII хотел отвоевать Неаполитанское королевство для себя).93 Из-за катастрофически неудачного командования Папская область погрузилась в полную анархию. Только несколько лет спустя агрессивный и воинственный Юлий II решил присвоить венецианские области в Романье и заключил пакт с императором Священной Римской империи, королем Франции и королем Неаполя. Кровопролитная битва при Аньяделло (1509) стала триумфом папского честолюбия, но лишь еще больше осложнила ситуацию. У Юлия возник конфликт с Францией, для чего ему пришлось объединиться со своим заклятым врагом – Венецией. Этот весьма противоречивый союз Дезидерий Эразм Роттердамский высмеял в своем сатирическом диалоге «Юлий, изгнанный с небес» (Julius exclusus de caelis). Несмотря на чудовищную сложность конфликта, преемники Юлия из династии Медичи, Лев X и Климент VII, взялись за дело с поразительной энергией. Они увеличили масштаб итальянских войн и пролили еще больше крови, хотя по воинским талантам явно уступали своим предшественникам на Святом Престоле. Положение настолько ухудшилось, что в 1527 г. император Священной Римской империи Карл V осадил Рим и заключил Климента в темницу.
Подогреваемое атмосферой почти непрерывных военных кампаний честолюбие пап пробуждало в них еще большую склонность к заговорам. Но никто не довел это неприглядное искусство до таких вершин, как Александр VI, которое Макиавелли описывает весьма резко – даже по его стандартам. В «Государе» он писал так:
Александр VI всю жизнь изощрялся в обманах, но каждый раз находились люди, готовые ему верить. Во всем свете не было человека, который так клятвенно уверял, так убедительно обещал и так мало заботился об исполнении своих обещаний. Тем не менее, обманы всегда удавались ему, как он желал, ибо он знал толк в этом деле.94
Макиавелли замечал, что Александр сумел укрепить светскую власть папства, уничтожив потомков тех, кого Церковь ранее поддерживала.95 Самую печальную известность принесло ему искусство отравлений и убийств. Хотя трудно найти тому убедительные доказательства, но последние дни папы явственно свидетельствуют о его пристрастии к подобным методам. 10 августа 1503 г. Александр VI и Чезаре Борджиа присутствовали на роскошном пиру, устроенном очень богатым кардиналом Адриано Кастелли ди Корнето. Но до кардинала дошел слух о том, что папа собирается отравить его вареньем и присвоить себе его деньги и имущество. Решив опередить заговорщиков, Кастелли подкупил человека, который должен был его отравить, и тот подал отравленное варенье Александру и Чезаре. Через два дня папа смертельно заболел. Чезаре тоже был нездоров. Но что-то пошло не так. Пока Александр боролся за свою жизнь (он все же умер 18 августа), Кастелли обнаружил, что он тоже случайно употребил яд. Долгое время он сильно страдал от последствий этого события.
С момента возвращения в Рим папство было исключительно милитаристским институтом, поэтому папы весьма снисходительно смотрели на заговоры и кровопролитие, которые были неотъемлемой частью войн эпохи Ренессанса. Это противоречило христианской морали, но папы всегда демонстрировали поразительное бесстыдство. Они даже гордились своими военными достижениями. С помощью искусства они придали фальшивому «Константинову дару» налет легитимности и уважения и точно так же сумели прославить в веках и узаконить свои успехи на военной ниве и ниве заговоров.
Идея зародилась очень давно. На фресках библиотеки Пикколомини в Сиене, где увековечена жизнь Пия II, Пинтуриккьо изобразил сцену, на которой Эней Сильвий Пикколомини призывает папу Каликста III собрать армию для войны. Точно так же Сикст IV, который не имел желания раскаиваться ни в своей агрессивности, ни в то, что он поощрял самые жестокие заговоры, положил начало новой тенденции соединения понтификов с военными достижениями римских императоров: он заказал памятные медали, которые по внешнему виду напоминали античные монеты.96
Во времена правления Юлия II эскалация милитаризма и насилия достигли зенита. Оправдывая свою репутацию «Папы-воина», Юлий никогда не упускал возможности оставить потомкам свое изображение в виде настоящего супермена. Вазари пишет, что однажды, когда Микеланджело заканчивал работу над глиняной статуей папы, предназначенной для Болоньи, папа заговорил с ним, и этот разговор отражает истинную природу представления понтифика о себе:
Эту статую Микеланджело вылепил из глины еще до того, как папа уехал из Болоньи в Рим; когда же Его Святейшество пришел взглянуть на нее, он еще не знал, что вложить ей в левую руку, а так как правая была гордо поднята, папа спросил, что же он делает: благословляет или проклинает? Микеланджело ответил, что он увещевает болонский народ вести себя благоразумно. Когда же он спросил, как полагает Его Святейшество, не вложить ли ему в левую руку книгу, тот ответил: «Дай мне в руку меч – я человек неученый.97
Та же самая гордость военными успехами просматривается в старании Юлия использовать искусство для проведения визуальных параллелей между его понтификатом и правлением Юлия Цезары. По примеру своего родственника Сикста IV Юлий заказал Джанкристофоро Романо и Кристофоро Карадоссо отлить медали, которые связывали бы его образ не только со строительством базилики Святого Петра, но и с постройкой укрепления в Чивитавеккья и «защитой» церковных земель в Центральной Италии.98
Преемники Юлия также часто заказывали изображения исторических побед, чтобы восхвалить или оправдать собственные действия или планы. Одним из самых поразительных примеров является одна из сцен, написанных художниками из мастерской Рафаэля в станцах Пожара в Борго в Ватикане. Я говорю о «Битве при Остии». Эта фреска увековечивает победу Льва IV над сицилийскими сарацинами в 849 г. Сцена замечательна тем, что в роли своего великого предшественника Лев X изобразил себя. Так первый папа из династии Медичи продемонстрировал свою связь с триумфом далекого прошлого. Произведение искусства стало визуальным оправданием военных действий Льва X.
Но какими бы жестокими ни были папы после возвращения в Рим, сколько бы жизней ни требовало их безмерное честолюбие, искусное манипулирование меценатством прикрыло их грехи, насилие, убийства и заговоры. Все это стало считаться печальной необходимостью ради святой славы Церкви. Конечно, это чистая ложь, но ложь, вполне вписывающаяся в атмосферу папского Ренессанса.
Ill. Ренессанс и мир
1. Филиппо и пираты
Фра Филиппо Липпи стал монахом кармелитского ордена в юном возрасте – в 17 лет.1 Но религиозная жизнь была не для него. Среди благочестивой, мирной братии монастыря Санта-Мария дель Кармине он выделялся духом буйным и беспокойным. Он высмеивал рутинные задания, поручаемые послушникам в течение нескольких лет перед вступлением в орден. Вот что пишет о нем Вазари: «Мальчик проявил себя столь же ловким и находчивым в ручном труде, сколь тупым и плохо восприимчивым к изучению наук, почему он никогда и не испытал желания приложить к ним свой талант и с ними сдружиться. Мальчик этот… вместо учения не занимался ни чем иным, как только пачкал всякими уродцами свои и чужие книги».2 Даже когда ему дали возможность целиком посвятить себя живописи, его воображение выходило за узкие рамки собственного монастыря. Вдохновленный фресками Мазаччо и начинающий осознавать свой художественный талант, Филиппо начал подумывать о том, чтобы оставить жизнь монашескую и отправиться в мир.
В 1423 г., когда Филиппо не исполнилось еще 18, он сделал свой выбор, «слыша, как все в один голос его хвалят, он семнадцати лет от роду смело снял с себя рясу» и покинул монастырь.3 Не сохранилось никаких документов, которые рассказали бы нам о его жизненном пути, но – если верить Вазари – он направился на восток через Умбрию и дальше, к восхитительным просторам Адриатики.4
Жажда странствий завела Филиппо гораздо дальше, чем он рассчитывал. Как-то раз он с друзьями взял небольшую лодку, чтобы покататься по морю вдоль побережья Анконы. Юноши собирались просто отдохнуть, но они забыли о пиратах, которые постоянно охотились в этих водах. Мавританская галера захватила лодку, и юноши оказались в цепях. Их обратили в рабство, увезли в Берберию и продали на засыпанном песком рынке рабов Хафсидского королевства.5
Жизнь Филиппо была погублена. Он находился вдали от родины, лишенный всех прав. Ему приходилось заниматься тяжелым ручным трудом под палящими лучами африканского солнца. И хотя он был «дружен» с хозяином, трудно поверить в то, что он не тосковал по Флоренции и той жизни, какую там вел.
Но даже в рабстве Филиппо не мог подавить свои художественные инстинкты. Однажды он нашел на земле уголек и начал рисовать на побеленной стене хозяйского жилища. Очень быстро он нарисовал портрет своего хозяина в полный рост в характерном мавританском одеянии.
Увидев, что нарисовал Филиппо, другие рабы поспешили сообщить об этом тому человеку, которого он нарисовал. Учитывая положение рабов в Хафсидском королевстве, Филиппо должны были жестоко наказать за то, что он испортил стены хозяйского дома. Но рисунок стал его спасением. Как позже писал Вазари,
это всем казалось чудом в тех краях, где не знали ни рисунка, ни живописи, то это и стало причиной освобождения его от цепей, в которых его продержали столько времени. Поистине величайшей славы достойна добродетель того, кто, имея законное право осуждать и наказывать, поступает обратно, а именно вместо пыток и смерти прибегает к ласкам и дарует свободу.6 Филиппо освободили от тяжелого рабского труда. Теперь он занимался только живописью и радовал хозяина каждой новой своей работой. Вскоре он занял почетное положение и заслужил уважение среди берберского народа.
Через полтора года после пленения Филиппо наконец-то позволили покинуть Берберское побережье. Поднявшись на борт корабля, он простился с Африкой, пересек Средиземное море и высадился в Неаполе. Оттуда он двинулся через всю Италию в родную Флоренцию. Но хотя палящее солнце черного континента осталось в прошлом, хотя он никогда больше не чувствовал едких запахов оживленных восточных базаров и не слышал протяжных криков муэдзинов, созывающих правоверных к молитве, Филиппо Липпи навсегда сохранил острое ощущение экзотики, которое сохранил до последнего дня жизни. Продвигаясь на север по Апеннинскому полуострову, он все сильнее чувствовал, что родная страна ему чужда, как это было в далеком детстве.
Хотя в юности Филиппо мог этого и не понимать, но в XV в. Италия обладала исключительно «международным» характером. После пребывания в Северной Африке он не мог этого не заметить. В Неаполе, где постоянно происходило смешение религий, культур и ремесел всего Средиземноморья, испанские мавры говорили по-арабски, иудейский язык изучали ученые, жаждущие знаний, а в церквях господствовала мистическая атмосфера восточного православия. Во Флоренции «чуждость» была еще более очевидна. К моменту возвращения Филиппо его родной город уже превратился в один из самых важных перекрестков мира. На рынках процветающего города торговали экзотическими специями и роскошными тканями с далекого Востока. Флорентийские торговцы знали Константинополь, Москву и Левант так же хорошо, как свой родной город. Во флорентийских дворцах можно было увидеть слуг и рабов самых разных национальностей и цвета кожи. На улицах и площадях рассказывали истории о странных и удивительных дальних краях. Более того, когда Филиппо вернулся в Санта-Мария дель Кармине, во Флоренции заседал большой экуменический совет, который Гоццоли позже прославил в «Шествии волхвов в Вифлеем». По улицам ходили бородатые византийские священники, высокопоставленные представители Восточной империи в ярких шелковых кафтанах, а в тавернах слышала греческая речь и оживленные беседы стремительно продвигающихся на запад турок из Оттоманской империи.
Филиппо понял, что такие города, как Неаполь и Флоренция, вовсе не оторваны от жизни большого мира. Нет, они сами стали центрами, в которых ощущалась жизнь всего мира, где соединялись люди и идеи из самых далеких уголков земли. И чем острее он осознавал всю значимость этого культурного обмена, тем ярче взаимодействие различных обществ, с которыми ему довелось столкнуться, стало проявляться в его искусстве.
Примерно в 1438 г. Филиппо Липпи написал «Алтарь Барбадори» (Париж, Лувр). Эта работа показывает, насколько широко стал мыслить живописец. В его работе уже ощущается влияние самых разных культур [ил. 33]. Изображенная в центре Дева Мария стоит на слегка приподнятой платформе, держа на руках младенца Христа, а перед ней молятся коленопреклоненные святые Августин и Фредиано. Слева и справа от Мадонны художник изобразил ангелов и херувимов. Но если присмотреться, то сразу замечаешь множество иных, совершенно не итальянских особенностей. Совершенно ясно, что Филиппо был в курсе новейших достижений североевропейского искусства – наверное, он говорил об этом с флорентийскими купцами, которые регулярно отправлялись в чужие страны. В отличие от работ более ранних итальянских художников Филиппо расположил фигуры не на безликом золоченом фоне, а в некоем очень точно изображенном помещении. На левой стене мы видим окно, за которым виднеется сельский пейзаж, – эта новация впервые появилась в работах таких художников, как Ян ван Эйк. Но еще более важно, что в картине ощущается не только свойственное Филиппо увлечение экотикой, но и понимание религиозных норм в диалоге с иными культурами. Филиппо не задрапировал Деву Марию некоей простой тканью, а одел ее в синюю мантию с искусно выписанной золотой каймой, украшенной рядом сложных символов, напоминающих восточную вязь. Хотя они не несут какого-то смысла, но в то же время символизируют арабскую письменность (такие орнаменты называют псевдокуфийскими). Находясь в Африке, Филиппо должен был овладеть настоящим арабским языком. Этот орнамент он использовал для придания Деве истинно «восточного» колорита, хотя все остальные фигуры одеты сугубо «по-западному». Эта мелкая деталь очень чутко, деликатно и с поразительной точностью объединяет Восток и Запад.
Открытие «иных»: Ренессанс становится глобальным
Пребывание Филиппо Липпи в Берберии показывает, что Ренессанс был не просто эпохой великих художественных инноваций, но еще и временем разрушения границ известного людям мира.
С античности и до конца средних веков наследие, торговые связи и географическое положение Италии приводили к частым контактам не только с другими регионами средиземноморского бассейна, но и с более далекими уголками земли. Из трудов античных авторов, таких как Плиний и Страбон, мы знаем о походах Александра Македонского в Персию и до берегов Инда. Римская империя простерлась от северных берегов Британских островов до безжизненных пустынь Нубии, от атлантического побережья Испании до берегов Каспийского моря. Торговля, смуты и войны средних веков познакомили Флоренцию с блекнущей роскошью Византийской империи – следы этого до сих пор можно видеть на юге и в бывшем экзархате Равенны. С мусульманами флорентийцы встречались в Андалусии, на Сицилии, в Египте и Святой Земле. Флорентийские купцы доходили даже до необычных, занесенных снегами просторов Киевской Руси. Оправившись от неожиданного шока монгольского вторжения XIII в., средневековые итальянцы задумались о дальнейшем расширегии географических границ воображения. Увлеченные pax Mongolica, Великим шелковым путем через Центральную Азию в Китай любознательные европейские исследователи (а среди них были фламандский францисканец Вильям Рубрук и венецианец Марко Поло), возвращаясь домой, рассказывали соотечественникам о дальних уголках Земли.
Однако, хотя средневековая Италия была «встроена» в большой мир, случайные, не всегда проходимые и зачастую опасные пути передачи знаний делали контакты с другими культурами не просто неровными. В конце средних веков представления о неитальянском мире оставались фантастическими, волшебными и абсолютно невероятными. Несмотря на то что в рассказе Марко Поло о его путешествиях немало точных наблюдений, не меньше там совершенно фантастических выдумок, родившихся в богатом воображении автора, а не увиденных собственными глазами. Ходили рассказы об единорогах, о людях с «хвостами в ладонь длиной… и толстыми, как собачьи», о долинах, наполненных алмазами, об островитянах с собачьими головами.7 Даже строительство реальной Великой Китайской стены было окутано странными и фантастическими выдумками. Подобные сказочные фантазии вовсе не были нетипичными. Мир воображения был наполнен необычными и невероятными созданиями. Легенда о пресвитере Иоанне, невероятно добродетельном и богатом короле, потомке одного из трех волхвов, сыграла чрезвычайно важную роль в формировании представлений о Востоке и Африке за Сахарой.8 Поскольку пресвитер Иоанн был христианином, то легенда о нем стала основой даже для международной политики. То же можно сказать о различных вариантах истории любви Александра Македонского к королеве амазонок. Аль-Идриси, географ XII в., живший при дворе короля Сицилии Рожера II, утверждал, что в Японии так много золота, что там даже собакам делают золотые ошейники.9 А сэр Джон Мандевиль (вероятно, вымышленный) рассказывал в своей книге о землях, где живут фениксы, плачущие крокодилы и люди, у которых голова на груди.10
А вот начало Ренессанса ознаменовало собой радикальный отход от представлений прошлых лет. Хотя контакты с другими странами, народами и культурами случались и прежде, XIV в. стал началом беспрецедентного расширения горизонтов знаний, которое повлекло за собой колоссальный рост знаний и понимания окружающего мира.
Не следует считать, что единственным источником новых знаний об окружающем мире стала вновь открытая человечеством античная и, в частности, греческая литература.11 На полуостров постоянно прибывали «другие» – и, в частности, евреи из Испании, Португалии, а впоследствии из Германии. И это открывало пути к огромному социоэкономическому разнообразию, к получению медицинских, лингвистических и философских знаний огромной ценности. Но самым главным источником знаний в эпоху Ренессанса стали путешествия. И вынужденное путешествие Липпи в Берберию стало воплощением духа времени. Особенно много сулил Восток. В 1338 г. флорентийский путешественник Джованни де Мариньоли стал первым человеком после Марко Поло, достигшим Китая и вернувшимся обратно. По поручению папы Бенедикта XII он установил дипломатические отношения и привез массу коммерчески полезной информации. Торговля с армянским королевством Киликия, мамлюкским султанатом в Каире, королевском Хафсидов в Северной Африке, империей Тимуридов в Центральной Азии и с зарождающейся Оттоманской империей развивалась стремительно. А вместе с ней росла и жажда новых, более точных знаний о народах, языках и обычаях других стран. Знания расширялись постоянно. Европейцы неожиданно открыли для себя Африку за Сахарой. Путешественники пересекали пустыни и моря в поисках новых земель и новых богатств. Но и на западе их ожидали неожиданные открытия. В 1312 г. на Канарских островах высадился Ланчелотто Малочелло (в его честь был назван остров Лансароте), и все взоры устремились на закат.12 Всем хотелось открыть новый морской путь в Китай. Генуэзец Христофор Колумб и другие мореплаватели вслед за ним устремились на запад и открыли совершенно новые земли за Атлантическим океаном. Вместо мифотворческого невежества прошлого появилась богатая и подробная картина мира, который оказался гораздо больше и интереснее, чем кто-либо себе представлял.
Историки придают огромное значение тому, как грандиозно расширились знания об «иных» землях в XIV в. И это расширение определило форму самого Ренессанса. Совершенно естественно будет воспринимать развитие натурализма в искусстве как результат растущего осознания реалий окружающего мира. Даже начало современного критического изучения самой идеи «Ренессанса» самым тесным образом связано с идеей «открытия». Уже в XVIII в. Джироламо Тирабоски называл расширение интеллектуальных и коммерческих горизонтов через путешествия одной из главных и определяющих особенностей эпохи.13 В XIX в. великий швейцарский историк Якоб Буркхардт последовал примеру Тирабоски и сделал «открытие мира и человека» центральной идеей своей концепции Ренессанса. Сегодня, когда развитие межкультурных исследований избавило нас от романтического представления об эпохе просвещения, ученые продолжают утверждать, что Ренессанс стал истинным началом «эпохи великих географических открытий».14 Несмотря на определенные сомнения, Питер Берк все же связывает эти исторические периоды воедино.15
Значимость идентификации «Ренессанса» с «открытиями» кроется не столько в совпадении двух явлений, но в том сильнейшем влиянии, какое исследование других земель и культур оказало на характер эпохи, и в той степени, в какой в результате межкультурного обмена изменилось отношение к окружающему миру. Для Тирабоски «открытие Америки» столь же важно, как и «открытие книг» и «открытие античности». Все эти явления дали толчок к самосознанию, которое, по мнению ученого, являлось неотъемлемой частью самой сути Ренессанса. Для Буркхардта расширение интеллектуальных горизонтов является центральной идеей его концепции индивидуализма эпохи Ренессанса. И хотя работы таких ученых, как Эдвард Саид, проливают свет на взаимный характер культурного обмена, все больше современных историков продолжают придерживаться тех же представлений. Многие полагают, что мужчины и женщины эпохи Ренессанса не смогли бы осознать собственную уникальную идентичность без четкого и точного знания о «других».
Причина этого совершенно понятна. Трудно избавиться от ощущения, что вот наконец-то возник тот самый аспект Ренессанса, который совпадает со знакомыми нам представлениями об этом периоде. Несмотря на мрачные реалии ренессансного общества, открытие новых земель принесло с собой свежее ощущение открытости и терпимости, которое нашло отражение в литературе и визуальных искусствах. Вступив в контакт с новыми народами и культурами, итальяцы эпохи Ренессанса начали активнее менять свои прежние представления о человечности. Столкнувшись с цивилизацией Оттоманской империи, странными обычаями жителей Явы и незнаковыми привычками североамериканских индейцев, люди избавились от шовинизма, осознав, что, несмотря на поверхностные различия, неизменная человеческая природа является общей для всех жителей Земли. И это не только способствовало развитию ренессансного представления о человеке как о независимой, творческой личности (ярче всего это проявилось в трактате Пико делла Мирандолы «Речь о достоинстве человека»), но еще и помогло избавиться от фантастических предубеждений прошлых лет. Люди всегда люди, и неважно, откуда они пришли. Все обладают одинаковым потенциалом, все могут воспарить к головокружительным высотам человеческих достижений, ожидаемых флорентийскими неоплатониками. Некоторые, как, например, Пико делла Мирандола, даже заговорили о том, что у христианства гораздо больше общего с языческими религиями разнообразных культур, чем это считалось прежде.
На первый взгляд, «Алтарь Барбадори» и рассказ Вазари о приключениях Филиппо Липпи в Берберии вполне согласуются с такой интерпретацией. Но, включив псевдокуфийский орнамент в свою картину, Липпи продемонстрировал знакомство с мусульманской и левантийской культурой, а также с общим наследием, объединяющим христианство и ближневосточные традиции. То, что на Деве Марии характерная арабская мантия, показывает готовность художника поместить раннехристианскую историю в адекватный географический контекст и признать, что у христианства и ислама общие корни. И решение Вазари включить историю пребывания Липпи в рабстве в Хафсидском королевстве на севере Африки в жизнеописание художника убедительно доказывает, что эстетические воззрения других народов позволили им оценить талант итальянского живописца и что «иностранное» не всегда чуждо жизни мастера.
Совершенно нетрудно найти сходные параллели, и наибольший интерес в этом отношении представляют многочисленные литературные примеры. Уже в середине XIV в. в «Декамероне» Боккаччо появились первые намеки на расширение горизонтов воображения – другие народы и земли изображены писателем гораздо более позитивно, чем раньше. В первой книге, к примеру, еврей Авраам демонстрирует ханжество Римской Церкви, а в следующем его единоверец Мельхиседек посрамляет Саладина.16 Для последующих новелл Боккаччо выбирает еще более экзотические места действия и удивительных персонажей. Самые интересные и драматичные герои у него не только итальянцы, но и «иностранцы». Читатель узнает о дипломатических отношениях султана Вавилона с королем Алгарве, о торговле генуэзцев с Александрией, о мореплавателях короля Туниса, о повседневных драмах Китая.17 Вспомните восхитительную эротическую историю Алибек и Рустико (ч. I глава 5). Действие происходит в Гафсе, на территории современного Туниса. А тайный побег трех сестер достигает своей кульминации на Крите.18 В последующие века подобные тенденции стали еще более ярко выраженными. «Влюбленный Роланд» Боярдо (ок. 1478–1486) начинается с прибытия ко двору Карла Великого Анджелики, дочери короля Китая. Одна из главных тем поэмы – борьба между ее отцом и татарами и между франками и маврами. А в поэме Тассо «Иерусалим освобожденный» (1581) враги христиан, мусульмане, действуют в Святой Земле с таким рыцарством, не обратить внимания на которое просто невозможно.
Аналогичные примеры можно найти и в визуальном искусстве. Не случайно на таких картинах, как «Шествие волхвов в Вифлеем» Гоццоли, встречаются и удивительно точные изображения представителей византийского двора, и слуга типично африканского происхождения. Знакомые мифы также менялись и расширялись с учетом новых знаний о других странах. Заметно изменились изображения каппадокийца святого Георгия, история которого существует в различных христианских традициях и служит символом отношений между востором и западом, поскольку дракон предположительно был поражен в Ливии.19 Святого Георгия все чаще стали изображать в ближевосточном одеянии, чему способствовало развитие межкультурных отношений. Витторе Карпаччо написал сцены из жизни святого Георгия для капеллы Сан-Джорджо в Венеции в 1504–1507 гг. На ней мы видим группу мусульман в тюрбанах на фоне городского пейзажа, в котором странным образом сочетаются итальянские и «восточные» черты. На фреске Пинту-риккьо «Мистическое обручение святой Екатерины» (ок. 1492–1494) в зале Святых в ватиканских апартаментах Борджиа [ил. 34] император изображен в окружении людей, представляющих все средиземноморские культуры конца XV в. Мы видим здесь и греков, и мусульман из Северной Африки, и турок. Фреска буквально излучает ощущение того, что в большом мире для людей не существует никаких барьеров.
Навсегда чужие?
Однако, как это часто бывало в эпоху Ренессанса, внешнее впечатление оказывается удивительно обманчивым. Сколь бы ни соблазнительно было приравнять открытия к знаниям, а знания к терпимости, важно помнить, что подобные связи более свойственны современному образу мыслей и романтическому отношению к Ренессансу, чем той эпохе. Да, конечно, открытия того времени были грандиозными и многочисленными, но не было никакой объективной причины к тому, чтобы расширение контактов с «чужими» культурами начало разрушать давние и глубоко укоренившиеся предубеждения и моральные стандарты. Возникновение искреннего интеллектуального любопытства в отношении окружающего мира спокойно и легко сосуществовало рядом с невежеством, ненавистью и эксплуатацией. Путешественники не всегда смотрели на новые земли широко распахнутыми от изумления глазами. Чаще всего они видели именно то, что хотели увидеть, и истолковывали увиденные крохи в соответствии с унаследованными идеями. Более того, отношения между путешественниками эпохи Ренессанса и иными культурами часто определялись политическими конфликтами, экономическими интересами или культурным паразитизмом. Хотя информацию тщательно собирали и высоко оценивали в определенных кругах, непонимание ширилось, мифы подстраивались под меняющиеся обстоятельства, прежняя нетерпимость принимала новые, столь же уродливые формы. И в результате под блестящей поверхностью прекрасных произведений искусства, которые кажутся столь невинными и открытыми, скрывалась более удивительная и неприятная картина.
Каким бы ни было первое впечатление от картины Липпи «Алтарь Барбадори» и жизнеописания художника в книге Вазари, они скрывают не только тот факт, что понимание по-прежнему сдерживалось невежеством, но и то, что культурный релятивизм и терпимость были всего лишь тонкой пленкой, под которой скрывались жестокий фанатизм и прежние предубеждения. Какова бы ни была природа знакомства Липпи с исламской культурой, в «Алтаре Барбадори» не чувствуется искренней симпатии. Да, он поместил псевдокуфийский орнамент на одеяние Девы Марии, но это всего лишь довольно грубая и любительская имитация арабского письма. Художник не пытался выйти за рамки поверхностного стереотипа, способного одурачить невежд. Склонность воспринимать исламскую культуру с презрительной снисходительностью еще более заметна по истории жизни Липпи. Жизнеописание Вазари, которое невозможно проверить по другим источникам, является в той же мере демонстрацией невежественных культурных карикатур, в какой и свидетельством межкультурного релятивизма. Хотя он отдает должное эстетическим воззрениям рабовладельца-бербера, его изумление перед этим фактом отражает привычное для того времени восприятие арабского мира как мира «варварского». Несмотря на то что мусульманские общества Северной Африки постоянно производили огромное множество великолепных и разнообразных произведений искусства – керамику, ковры, шедевры архитектуры, каллиграфии и иллюстрированные манускрипты, Вазари сознательно утверждает, что в Хафсидском королевстве не знали рисунка и живописи. Он заходит настолько далеко, что помещает это абсурдное утверждение в свой биографический скетч. Эта карикатура вполне соответствует устаревшим стереотипам – точно так же, как и использование псевдокуфийского орнамента на алтаре Липпи. Но в то же время она отражает стремление писателя сделать повествование увлекательным и приемлемым для современного ему читателя, пусть даже и в ущерб точности.
Воображение Липпи и Вазари по-прежнему находилось в рамках прошлого. И все же их работы можно отнести к «лучшим» примерам художественной увлеченности иными культурами. Если говорить об искусстве, то плоды открытий были чаще всего гнилыми. В то же самое время, когда итальянские художники и писатели вступали в более близкий контакт с большим миром и интересовались обычаями и привычками других народов и религий, злобное невежество, безнадежные предубеждения и безумный фанатизм развивались с пугающей скоростью и находили выражение в более коварных формах искусства и литературы.
Флоренция, где большую часть сознательной жизни жил и работал Филиппо Липпи, была микрокосмом среды, в которой формировалось отношение к «другим», характерное для эпохи Ренессанса. Будучи одним из эпицентров международной торговли и важнейшим культурным центром, город был фокусом, притягивающим людей и товары из самых удаленных уголков известного мира. Именно здесь происходили решительные перемены, которым суждено было кардинально изменить интеллектуальную атмосферу эпохи. Но в то же время эти же факторы делали Флоренцию центром развития более неприятных аспектов межкультурного обмена.
Чтобы проиллюстрировать эту мысль, в каждой из последующих глав будет приведен пример отношения к «чужим» (евреям, мусульманам, чернокожим африканцам и представителям атлантических культур) во Флоренции примерно в тот период, когда Липпи заканчивал работу над «Алтарем Барбадори». Это позволит нам показать отношения Ренессанса с большим миром в широком контексте культуры, общества и идей. И по мере расширения горизонтов Флоренции эпохи Липпи нам станет ясно, что под цивилизованной и утонченной поверхностью современного искусства и литературы скрывалась гораздо более безобразная сторона Ренессанса.
2. Преступление Саломоне
Саломоне ди Бонавентура был процветающим и во всех отношениях выдающимся членом общества Тосканы XV в.1 На первом месте для него всегда стояла семья. Он был почтительным сыном, хорошим и заботливым мужем. он был гордым отцом и тщательно заботился об образовании и благополучии двух своих сыновей. Как любой порядочный человек того времени, Саломоне упорно трудился, чтобы его домашние ни в чем не нуждались. В 1422 г. он начал работать вместе со своим отцом и стал успешным менялой. Клиенты и партнеры уважали его за честность и цельность характера.
Саломоне работал в маленьком городке Прато, расположенном примерно в десяти милях от Флоренции. Точно в срок он выплачивал ежегодный налог в 150 флоринов во флорентийскую казну за возобновление своей лицензии. Трудился он почти без нареканий – жалоб была крайне мало. Конечно же, у него, как и у всех, были враги. Но в этом не было ничего необычного. Флоренция всегда была рассадником злобных сплетен и мелочных придирок. В торговом мире всегда существовала конкуренция, подпитываемая чувствами ревности и соперничества.
К 1439 г. Саломоне почувствовал, что дело можно расширить. Прибыль неуклонно росла. В 1430 г. он приобрел в папской канцелярии разрешение на расширение своих операций в Сан-Сеполькро, а теперь ему были нужны новые возможности. Чиновники казны уже намекали ему на то, что вскоре он сможет открыть меняльную лавку в самой Флоренции. Когда его друг, Авраам Даттили, неожиданно предложил ему создать компанию по приглашению флорентийского правительства, Саломоне сразу же согласился. Предложение было слишком хорошим, чтобы его упускать.
Судя по сохранившимся свидетельствам, Саломоне по натуре был человеком осторожным. Сознавая, что флорентийцы могут повредить ему, если он слишком явно заявит о своих амбициях, при составлении контракта он пошел на определенную хитрость – включил в контракт имена своих сыновей, а не собственное.2 И это был очень мудрый шаг. В то время меняльная деятельность строго регулировалась. Хотя сам Саломоне еще не получил разрешения для работы во Флоренции, он считал, что, управляя делом от имени сыновей, ему удастся остаться в рамках закона.
Два года все шло хорошо. Но в 1441 г. мир Саломоне неожиданно рухнул и разбился вдребезги. То, что казалось идеальной схемой, в действительности было далеко от идеала. Без какого-либо предупреждения Саломоне отправили под суд по ложному обвинению в нарушении закона. Хотя официально партнерами Даттили были его сыновья, обвинители указывали на то, что в действительности дела вел сам Саломоне. А поскольку у него не было разрешения на ростовщическую деятельность во Флоренции, то, значит, он совершал преступление. Саломоне пытался указать на то, что он никогда не действовал от собственного имени, а лишь представлял интересы сыновей. Следовательно, в его действиях нет состава преступления. Он был убежден в том, что закон победит, а опытные адвокаты сумеют отстоять его интересы. Обвинение было абсолютно ложным и не имеющим никаких реальных оснований.
Но Саломоне глубоко заблуждался.3 Его невиновность ничего не значила. Суд был фарсом с самого начала. Флорентийскому правительству необходимы были деньги, поскольку значительные суммы ушли на покупку городка Борго Сан-Сеполькро. Поскольку получить деньги законными способами было невозможно, приоры решили украсть их у подходящих состоятельных граждан. Саломоне стал сакральной жертвой, и единственная задача суда заключалась в том, чтобы вытянуть из него все до последней монеты.
Судья презрительно отмахнулся от всех возражений Саломоне, объявил его виновным и приговорил к штрафу в размере 20 тысяч флоринов. Сумма была немыслимой. Она вдвое превышала ту сумму, которую Джованни ди Биччи де Медичи одолжил Бальдассаре Коссе на подкуп кардиналов всего 30 годами раньше. Эта сумма превышала королевский выкуп. Саломоне был уничтожен. Его мечты рухнули, а семья осталась в нищете.
Известия о суде распространились быстро. Но они никого не удивили. Никто не возмутился столь явным нарушением законов. Напротив. Канцлер Леонардо Бруни был в курсе процесса.4 Поскольку перспектива приобретения Борго Сан-Сеполькро была весьма радужной, то он считал обвинения в адрес Саломоне совершенно обоснованными – свидетельством тому являются его письма. Однак, ни Бруни, ни остальные флорентийцы не считали, что он нарушил закон. Практически все понимали, что его наказывают по совсем другой причине. «Преступление» Саломоне заключалось в том, что он был евреем.
Тоскана и евреи
Несмотря на свое необычное богатство и еще более необычное наказание, Саломоне ди Бонавентура был вполне типичным представителем процветающей еврейской общины в Италии эпохи Ренессанса. Он вырос в этом обществе, поэтому мог с полным основанием рассчитывать на честность и справедливость со стороны флорентийского суда.
Евреи жили на полуострове со времен античности. Довольно большая, хотя ничем не примечательная прослойка еврейского населения существовала в различных городах Италии в средние века. Но с началом Ренессанса количество евреев, живущих в Италии, начало стремительно расти. Вынужденные покинуть свои дома в Испании, Португалии, а позже в Германии, евреи устремились в процветающие итальянские города. Особенно привлекательным для них был север. В такие города, как Болонья, Венеция, Падуя и Милан, евреи переселялись не только из-за Альп, но и из Рима и с Сицилии. К середине XV в. в одной лишь Северной Италии существовало более двухсот еврейских общин.5 В отличие от других регионов, таких как Эмилия и Ломбардия, Тоскана не имела давней истории проживания евреев, но активная иммиграция пошла региону на пользу. Скорее всего, отец Саломоне, Бонавентура, был одним из множества евреев, перебравшихся в Прато в начале XV в. Торговый бум давал беспрецедентные возможности для развития нового дела. Многие ремесла, которыми евреи занимались в тот период, весьма пригодились в тосканских городах XV в. К тому времени, когда Саломоне начал заниматься меняльной деятельностью, во Флоренции насчитывалось около 400 еврейских семейств и чуть меньше в самом Прато.6
Это была не самая большая община в Италии – в Венеции проживало около тысячи семей, а в Папской области в то же самое время – не менее 12 500. Во Флоренции большая часть евреев проживала в северо-восточной части города там, где сейчас за Санто-Кроче находится современная синагога. Менее состоятельные часто находили себе жилища на узких, грязных улочках близ монастыря Филиппо Липпи в Олтрарно. Евреи быстро обживались на новом месте. Они с поразительной скоростью и удивительной эффективностью встроились в жизнь Флоренции. Как замечал один историк, «к середине XV в. отличить евреев от христиан стало очень трудно. Они говорили на том же языке, жили в таких же домах и одевались точно так же. Евреи, которые прибывали в Италию из немецких городов, были поражены тем, насколько ассимилировались их итальянские единоверцы…».7 Конечно, это относилось к тем евреям, которые занимались самыми уважаемыми профессиями (например, медициной) или добились такого успеха в торговле, что сумели встать вровень с богатейшими банкирами Флоренции.8 Еврейская элита умело вошла в высшие эшелоны гражданского общества. Даже по тем немногим деталям, которые известны нам о жизни Саломоне ди Бонавентуры, совершенно ясно, что он был одним из тех, кто сумел ассимилироваться лучше всех.
Интеграция евреев в городскую жизнь Северной Италии, несомненно, была связана с теми ценными ролями, которые они играли в обществе того времени.9 Воспользовавшись торговым бумом, многие флорентийские евреи занялись спекулятивной торговлей (особенно драгоценными камнями и металлами) и ростовщичеством. Неудивительно, что один из первых евреев, поселившихся во Флоренции, Эмануэль беи Уцциель даль Камерино, занимался именно этим. Еврейские ростовщики и менялы часто работали в небольших поселениях за пределами Флоренции. Работы у них хватало. Поскольку законы о ростовщичестве технически запрещали христианам одалживать деньги под проценты, евреи-ростовщики выполняли очень важную и необходимую экономическую функцию: поскольку они всегда были готовы одолжить денег, тогда как другие сделать этого не могли, то именно они и обеспечивали «масло», столь необходимое колесам тосканской экономики. Предоставляя важный капитал самым разным предприятиям, некоторые, как Саломоне ди Бонавентура, серьезно разбогатели и смогли предоставлять займы на уровне самых богатых торговых банкиров. Именно евреи-ростовщики обеспечили папу Мартина V деньгами, когда этого не смогли сделать христиане.
Однако роли, исполняемые еврейской общиной в итальянском (и особенно флорентийском) обществе, не ограничивались одной лишь коммерцией. Евреи часто обладали самыми разнообразными навыками, которые делали их незаменимыми для существования общества. В конце Ренессанса еврейские врачи, которые в процессе обучения имели более тесный контакт с арабскими и греческими трактатами и манускриптами, чем их итальянские коллеги, завоевали себе высокую репутацию и стабильное положение. В Мантуе и Милане возникли целые «династии» еврейских врачей, которые стали настолько незаменимыми, что получили признание и высокую оценку при дворе.
Учитывая важную роль, которую евреи играли в итальянской жизни, неудивительно, что в обществе должна была существовать определенная терпимость и уважение к этой национальной группе. И качества эти должны были распространяться не только на коммерцию и меценатство, но и на закон и политику. Папы были серьезно озабочены сохранением прав и привилегий еврейской общины Рима. Еще в 598 г. Григорий Великий объявил, что евреи «не должны сталкиваться с препятствиями и помехами в осуществлении дарованных им привилегий».10 Такое отношение сохранялось и дальше. В XIII в. понтифики даровали евреям статус граждан Рима.11 Всего за три года до того момента, когда Саломоне начал работать со своим отцом, в 1419 г. папа Мартин V пошел еще дальше и объявил, что евреям
… никто не должен досаждать в их синагогах; не следует вмешиваться в их законы, статусы, обычаи и постановления…; никто не должен нападать на них лично или иным образом, кроме как по требованию закона; и никто не должен требовать от них, чтобы они носили какой-то опознавательный знак…12
То, что делалось в Риме, часто повторялось во Флоренции. Хотя во флорентийском обществе евреи составляли абсолютное меньшинство, их положение было тщательно закреплено соответствующими документами. Иногда они исполняли важные политические поручения, особенно, когда требовались дипломатические или финансовые услуги. Интересно, что один историк даже замечал, что «по стандартам своего времени флорентийское общество отличалось поразительной толерантностью»13, а другой оптимистически заявлял, что даже в конце Ренессанса «евреи чувствовали себя защищенными юридической системой и знали, что смогут найти в гражданском суде реальных защитников своих прав»14. Тосканские евреи восхваляли достоинства и Флоренции, и тех флорентийцев, которые их поддерживали, особенно в более позднее время. Энергичный и восторженный Иоканан Алеманно, к примеру, называл Лоренцо де Медичи царем Соломоном своего времени, архетипом идеального еврейского правителя.15
Помимо прагматических соображений города, подобные Флоренции, с энтузиазмом принимали евреев и по соображениям культурным. В середине XV в. евреи играли все более важную роль в интеллектуальной жизни. Многие из них сами были выдающимися гуманистами. Кроме того, они являлись агентами культурных связей и распространителями иудейских знаний. Иуда Мессер Леон (Иуда беи Иехиель Рофе, ок. 1420/25 – ок. 1498) написал ряд интереснейших комментариев к философским трудам Аристотеля и Аверроэса, а также важный трактат по ораторскому искусству (Nofet Zufim), в котором использовал парадигмы латинского красноречия и Моисеевы тексты.16 Ученик Мессера Леона, Иоканан Алеманно (также известный как Джоханан Алеманно, ок. 1435 – после 1504) был автором глубоко философских каббалистических комментариев к Торе и просветителем. Именно он познакомил с древнееврейским языком Джованни Пико делла Мирандолу, который «собрал школу еврейских ученых, помогавших ему в поисках религиозного синкретизма».17
Религиозные факторы также способствовали тому, чтобы евреи стали равными и активными участниками социальной драмы Ренессанса. В конце концов, Христос был евреем и казнили его за то, что он, якобы, провозгласил себя «Царем Иудейским». Даже самый узкомыслящий теолог не мог отрицать тот факт, что авраамические религии, т. е. иудаизм и христианство, имеют общие корни, а пророки Ветхого Завета занимают столь же важное место и в Торе. В XV в. Марсилио Фичино «утверждал, что труды иудейских каббалистов… вполне согласуются с христианским учением», и писал о сходстве между двумя религиями.18 Флорентийцы не стыдились отмечать место евреев в христианской традиции в городских ритуалах. Например, во время празднования дня Святого Иоанна Крестителя в 1454 г. процессия изображала сцены из библейской истории – от Сотворения мира до Воскресения. Каждый эпизод представляли видные горожане, имеющие особое отношение к изображаемой сцене религиозной драмы. При изображении Моисея фигуру библейского пророка окружали «вожди народа Израиля», роль которых исполняли флорентийские евреи.19 Другими словами, городская еврейская община принимала столь же заметное участие в праздновании важного для города дня, как и христианские братства.
Подобная толерантность часто находила выражение в визуальных искусствах. При жизни Саломоне ди Бонавентуры и Филиппо Липпи в тосканских церквах часто хранились произведения искусства, которые не только доказывали сходство между иудаизмом и христианством, но еще и демонстрировали культурное влияние социальной и легальной интеграфии. Особый интерес представляют изображения Сретения Девы Марии и Сретения Господня. Этот эпизод библейской истории важен в двух отношениях. Во-первых, он связан с чисто иудейским ритуалом. В отличие от христианских традиций все еврейские женщины должны были в течение 40 дней после родов вместе с ребенком прийти в храм, чтобы очиститься в глазах бога. Чтобы исполнить свой долг истинной иудейки, Мария принесла младенца Иисуса в храм. И это очень важный момент в жизни Христа. В глазах христиан, например Иакова Ворагинского, введение младенца в храм символизирует смирение Богоматери перед богом, исполнение Христом Ветхого Завета и начало христианской драмы очищения, которое и знаменуется Сретением.20 Художники эпохи Ренессанса двойственно трактовали эту историю. Она давала возможность подчеркнуть роль Христа в соединении евреев и христиан и продемонстрировать уважение и чуткость к нормам еврейской культуры. Христианские художники стремились подчеркнуть «иудейский» характер драмы. Удивительно похожи друг на друга картины Амброджо Лоренцетти (1342) [ил. 35] и Джованни ди Паоло (1447–1449). Обе они были написаны в Сиене, но одна ныне хранится в галерее Уффици во Флоренции, а вторая в Национальной пинакотеке Сиены. Оба художника окружили Деву с младенцем ключевыми фигурами иудейской истории и религии. В центре мы видим первосвященника в характерном одеянии. Он готовит жертвоприношение. Над Марией высится статуя Моисея (он же изображен и слева от нее). Моисей держит в руках скрижали Ветхого Завета; над Христом мы видим статую Иисуса Навина, освободителя еврейского народа. Слева от Христа – Малахия, который держит свиток, где написано, что Иисус – обетованный Сын Божий. Лицу Марии художник придал характерные еврейские черты и показал их исключительно точно. На картине Лоренцетти Мария одета в богато расшитое платье в восточном стиле. На ней покрывало, напоминающее иудейский талис. А самая важная деталь – Лоренцетти изображает на Деве Марии серьги. В то время христианки редко носили серьги, и этот знак явно показывает принадлежность женщины к еврейской общине, соблюдение ею иудейского закона.21 И одновременно мы понимаем, что эта женщина привела в мир христианского мессию. Таким образом, иудаизм и христианство сплетаются вместе в визуальной демонстрации толерантности и принятия.
Ярость Бернардино
Несмотря на признание общих корней иудаизма и христианства, антисемитизм в эпоху Ренессанса носил религиозный характер. Служителям церкви, таким, как Филиппо Липпи, было недостаточно того, что христианство выросло из иудаизма: евреи всегда были другими. Даже сама близость двух вероисповеданий подчеркивала, что евреи всегда останутся «другими». Хотя евреи свидетельствовали истину явления Христа, но они отказались принять его как мессию, посланную для исполнения Ветхого Завета, и это отдаляло их от христианской веры. Отъявленный антисемит Сан-Бернардино Сиенский и его последователи среди францисканцев самого строгого толка постоянно проповедовали ненависть с кафедры флорентийского собора.22 Как бы ни близок был иудаизм христианству, эта вера всегда останется низшей, ложной и даже еретической, поскольку она отрицает божественность Христа. Это пятно никогда не смыть. Метафора нечистого знака присутствует даже в тех произведениях искусства (например, на картине Лоренцетти), которые пытались показать иудаизм в «позитивном» свете. Хотя смысл алтарного образа Лоренцетти заключается в том, что Христа принесли в храм, чтобы исполнить Ветхий Завет, данный евреям Моисеем, явно еврейская внешность Марии отдаляет ее от собственного сына – ей нужно очиститься от «пятна» своего иудейского происхождения.
Для христиан, подобных Филиппо Липпи, «проблема» евреев заключалась не только в том, что они отрицали божественность Иисуса. Главное было в том, что они несли ответственность за мучения и казнь Христа. Каждую Пасху христиане вспоминали и переживали драму Страстей Господних, и центральным ее элементом было предательство Иуды и несправедливое осуждение Христа синедрионом. Поскольку именно неверующие евреи мучили и убили Сына Божьего в древности, христиане эпохи Ренессанса были совершенно уверены в том, что живущие рядом с ними евреи, которые отказались принять Иисуса как Христа, несут на себе вину за Его страдания.
И все же идея о том, что иудаизм – это источник еретической лжи, а евреи отвечают за вину своих предков, была отнюдь не абстрактной. Само существование еврейской «ошибки» считалось смертоносной угрозой христианской вере. И эта идея стала основой для более активной формы религиозной ненависти. В глазах современных служителей церкви иудаизм был заразой, которая может легко и быстро распространиться по христианскому миру. Даже если влияние евреев в сфере финансов, культуры и медицины делало их в определенном смысле «необходимым злом», сопоставимым с ролью проституток, то их присутствие в христианском обществе несло в себе серьезную угрозу цельности веры и могло стать злокачественной опухолью на социальном теле.23 Именно такие мысли роились в умах неизвестных «врагов» Саломоне ди Бонавентуры в годы, предшествующие его осуждению.
Вдохновленные пламенными антисемитскими проповедями Сан-Бернардино и его последователей флорентийские гуманисты начала XV в. полагали, что на них возложена святая обязанность найти интеллектуальное «лекарство» для лечения еврейской «заразы». Эти люди не стеснялись занимать деньги, учиться и лечиться у евреев Флоренции, но в то же время посвящали свою жизнь раскрытию и истреблению лживой иудейской веры. Даже те христианские гуманисты, которые много сил потратили на изучение древнееврейского языка и интересовались каббалой, чтобы использовать самые изощренные элементы иудейской философии в собственных трудах, получив арсенал знаний, необходимых для критики иудаизма, делали это и с целью обращения евреев в христианство, и для преследования тех, кто не хотел расставаться с верой предков. В 1454 г. – в том самом году, когда флорентийская Синьория позволила евреям принимать участие в празднике карнавала, – Джаноццо Манетти написал трактат «Против иудеев и язычников» (Contra ludeos et Gentes), в котором беззастенчиво попытался использовать свое знание библии для критики основ иудейской философии и склонения евреев Флоренции к обращению в христианство.24 Позже Марсилио Фичино использовал Талмуд, «Седер олам» и ряд комментариев по иудейской теологии в своем трактате «О христианской религии» (De religione Christiana). Но, как и Манетти, он сделал это для того, чтобы поразить евреев их же оружием. Хотя трактат был весьма аргументирован, в то же время он был в высшей степени оскорбительным. У читателя не оставалось сомнений в том, что Фичино считает иудаизм религией греховной и полагает, что иудейскую веру необходимо искоренить во имя торжества христианской истины. По его утверждению, евреи не заслуживают прощения за свою «ересь» и не могут рассчитывать на милосердие – ни со стороны бога, ни со стороны людей. По Моисееву завету они получили предсказание, которое явился исполнить Христос. Из слов собственных пророков они знали, что Он явится. А знаки, явленные после Его рождения, явственно показали им волю Господа.
Однако, хотя многие полагали, что инвективы против «ошибок» иудаизма способствуют предотвращению отступления от христианства и обращению в христианскую веру евреев, многие современники Саломоне ди Бонавентуры полагали, что угроза, которую представляет собой иудаизм, гораздо более сложна и тонка, чем могло показаться на первый взгляд. Как постоянно повторял Сан-Бернардино, христианской вере угрожают не только идеи иудаизма, но сам характер поведения евреев. Он подчеркивал, что «коварная ложь» евреев, подобно опасной болезни, может распространиться через повседневный бытовой контакт с их обычаями и привычками.
Даже самым невежественным людям эпохи Ренессанса было очевидно, что уклад жизни евреев сопровождается сложными ритуалами, описанными в книгах Талмуда. Многие такие ритуалы (особенно обрезание и пищевые обычаи) были совершенно чужды христианской традиции. Все такие обычаи могли передать «болезнь» иудаизма ничего не подозревающим христианам. Те, кто утверждал подобное, даже не задумывались над тем, что все эти ритуалы были созданы для того, чтобы защитить чистоту иудейской веры. Поскольку у евреев были строгие правила в еде, особенно в отношении приготовления и употребления мяса, считалось, что любой христианин, который случайно приобретет мясо у мясника еврея, может «заразиться» религией продавца.25 Вот почему во многих городах существовали законы, по которым представители каждого вероисповедания должны были иметь собственные мясные лавки. Не меньшую проблему представлял и секс. Строгость еврейских брачных ритуалов и иудейские церемонии очищения привели к тому, что был принят полный запрет на сексуальные отношения между евреями и христианами. И хотя наказания за подобные «нарушения» встречались крайне редко, суды над теми, кто все-таки стал жертвой таких обвинений (например, дело Консильо, сына Мюзетто, который пытался заняться сексом с проститутками в Болонье в 1456 г. и в Лукке в 1467 г.), показывают, что христианское общество было охвачено латентной истерией, связанной с межкультурным промискуитетом.26
Но в некоторых случаях иудейские ритуалы сознательно истолковывали неверно, что еще более усиливало извращенное ощущение чуждости, которое уже жило в воспаленном воображении проникнутых ненавистью христиан. Изобретались самые пугающе абсурдные глупости, которые служили опасным целям. Многие из них нашли свое отражение в литературе и визуальных искусствах. Среди самых печально известных примеров – «Новая хроника» Джованни Виллани и «Чудо оскверненной гостии» Паоло Уччелло (ок. 1465–1468) [ил. 36].27 Картина была создана по заказу Федерико да Монтефельтро, который начал широкую кампанию преследования евреев. Сюжет абсолютно смехотворен, однако он основан на обвинениях евреев в осквернении гостии. По таким обвинениям евреев преследовали по всей Европе начиная по меньшей мере с 1247 г. и особенно часто в Германии в XIV и начале XV в. Еврейский ростовщик украл часть освященной гостии в соседней церкви и принес ее домой, чтобы приготовить для своей семьи. Однако во время этого святотатства он с изумлением и страхом увидел, что из хлеба чудесным образом начала течь кровь. Кровь залила весь пол и стала вытекать на улицу. Зловещее кровотечение заметили прохожие, они вызвали солдат, те взломали дверь еврейского дома и увидели охваченного ужасом хозяина и его нечестивое семейство. Хотя ничего подобного в реальной жизни никогда не случалось, современники Саломоне считали, что эта история является яркой иллюстрацией той угрозы, какую иудейские ритуалы представляют для христианской жизни.
Для францисканцей-антисемитов, подобных Сан-Бернардино, опасность иудаизма означала одновременно и маргинализацию евреев, и строгое отделение христианской жизни от иудейских традиций. И это отделение не ограничивалось одним лишь запретом на сексуальные отношения и созданием отдельных мясных лавок. Проповедуя в 1423 г. в Падуе, Сан-Бернардино высказал свою убежденность в опасности контактов с еврейскими ритуалами и обычаями самым ужасным образом:
Я слышал, что здесь в Падуе живет много евреев, и поэтому я хочу сказать вам несколько истин о них. Первая истина: если вы будете есть или пить с ними, то совершите смертный грех. Как им запрещено есть с нами, так и мы не должны вкушать пищу вместе с ними. Вторая истина: заболевший человек, стремящийся исцелиться, не должен обращаться к еврею; это тоже смертный грех. Третья истина: христианин не должен мыться вместе с евреем.28
Безжалостно обрушиваясь на евреев Северной Италии, Бернардино и его последователи утверждали, что не только христиане должны избегать всяких контактов с еврейскими ритуалами и обычаями, но и евреи должны абсолютно четко понимать, что все христиане знают о необходимости держаться от них подальше. Конечно, эта идея была ненова. Со времени четвертого Латеранского совета 1215 г. Церковь предписывала всем евреям носить особую одежду.29 К 1257 г. все евреи Рима (за исключением врачей и некоторых других профессионалов, находившихся под защитой) должны были носить круглые желтые нашивки – за нарушение этого закона налагался большой штраф. Впрочем, подобные ранние попытки выделить евреев публично были довольно мягкими и никогда не проводились в жизнь силой. Поняв, что провести в жизнь такую политику невозможно, папство смирилось, и города Северной Италии со спокойной душой об этом забыли. Но страстные проповеди Сан-Бернардино и францисканцев строгого правила все изменили. Охваченные ненавистью к иудейской вере и обычаям города Северной Италии спешно начали принимать новые антисемитские законы. В 1427 г. в Анконе всем евреям было приказано носить желтый знак – причиной тому стали проповеди фра Джакомо делла Марки. Прислушавшись к пламенным проповедям Сан-Бернардино, такой же закон в 1430 г. приняла Падуя.30 В 1432 г. законы об особой одежде были приняты в Перудже. В 1439 г., когда Саломоне заключил судьбоносное соглашение с Даттили, такие же законы были приняты во Флоренции.31 Впоследствии законы эти несколько раз пересматривались – и каждый раз в сторону ужесточения. В следующем веке пугающее предвосхищение ужасов XX в. получило такое распространение, что появилось даже на потолке Сикстинской капеллы – так Микеланджело изобразил Аминадава в одном из люнетов.32
Огромное преступление
Сколь бы хорошо Саломоне ди Бонавентура ни интегрировался в тосканское общество, он должен был замечать мощную религиозную нетерпимость во время своих приездов во Флоренцию. Он вынужден был носить большую желтую нашивку на груди, все видели, что он еврей. И даже если он не обращал внимания на насмешки жителей города, не чувствовать их предубеждения он не мог. Но путь к ложному обвинению и суду проложило очень конкретное и серьезное изменение растущих антисемитских настроений.
Если в эпоху Ренессанса веру и ритуалы иудаизма считали скрытой угрозой для христианства, то коммерческую деятельность евреев воспринимали как активную угрозу благополучию христианского общества. Самое сильное неприятие вызывало ростовщичество, хотя может показаться удивительным, что евреи желали одалживать деньги христианам, которые относились к ним с такой ненавистью.33 Неприятие евреев-ростовщиков существовало в Европе со средних веков. Обвинения евреев в алчности устарели уже к началу XIV в. В XIII в. святой Фома Аквинский яростно боролся с ростовщичеством, и его учение стало теологической основой для повсеместного запрета подобной деятельности (ч. II глава 2). А поскольку многие евреи занимались именно этим, то они сразу же подверглись преследованию. Король Франции Людовик IX не менее двух раз приказывал арестовывать евреев-ростовщиков и конфисковывать их имущество – так были оплачены Седьмой и Восьмой крестовые походы. Филипп IV изгнал всех евреев из своего королевства в 1306 г. – основанием стали все те же религиозные запреты на ростовщичество. Король Англии Эдуард I издал «Статус еврейства» (1274), согласно которому евреям запрещалось «богохульно» давать деньги в долг под проценты. В 1290 г. был издан эдикт об изгнании, в котором изгнание евреев объяснялось продолжением запрещенной деятельности. Но неожиданный и стремительный рост торгового банковского дела в Италии в начале эпохи Ренессанса сделал этот повод особо ханжеским. Тогда был найден новый. Стали говорить, что евреи нарочно повышают процент, чтобы эксплуатировать «добрых» христиан из чувства религиозной или этнической ненависти. Антисемитизм усилился еще больше.
В начале XV в. францисканцы строгого правила – Джакомо делла Марка (1391–1476), Джованни да Капистрано (1386–1456) и Бернардино да Фельтре (1439–1494) – вновь обрушились на евреев-ростовщиков и сумели придать этой форме антисемитизма отвратительную видимость общественной пользы. И снова за всем этим стоял Сан-Бернардино Сиенский, поскольку его пропитанные духом ненависти проповеди пользовались огромной популярностью. Во время одной особо ядовитой проповеди он осудил «сосредоточение денег и богатства» в руках «все меньшей группы людей» и яростно обрушился на евреев, назвав их архетипом антихристианского ростовщичества.34 Пыл его был настолько силен, что перед ним поблекли бы даже средневековые антисемиты. Флорентийским олигархам нужно было именно такое оправдание для начала войны с евреями-ростовщиками, которые для кого-то были опасными конкурентами, а для кого-то неудобными кредиторами. Не особо раздумывая над ханжеством подобной политики, Флоренция начала кампанию политического преследования. В 1406 г. (в год рождения Филиппо Липпи) Синьория издала указ, по которому евреям категорически запрещалось давать деньги в долг под проценты – впоследствии это условие было повторно закреплено в 1430 г. во имя защиты «бедного народа Флоренции».35
На практике подобные указы часто оказывались неисполняемыми. Строго запрещая ростовщичество, Синьория непредусмотрительно наносила самой себе серьезнейший финансовый ущерб. Без евреев-ростовщиков, благодаря которым крутились колеса экономики, поток кредитов быстро иссяк, и огромная машина коммерции начала буксовать. Почти одновременно с указами принимались исключения, по которым некоторые евреи получали разрешение заниматься ростовщичеством по лицензии, а другим просто позволяли работать, не обращая внимания на юридические запреты, хотя некоторые ограничения в сфере коммерции и владения собственностью все же сохранялись.36 Такое исключение и позволило Саломоне ди Бонавентуре вести дела в Прато, а затем создало условия для судьбоносного партнерства Авраама Даттили и сыновей Саломона, заключенного в 1439 г. Но все это вовсе не сдерживало антисемитские настроения, а лишь усиливало ненависть. Именно животная ненависть к евреям-ростовщикам и стала причиной для чудовищного приговора Саломоне.
Но позже даже такие колоссальные штрафы перестали удовлетворять жажду «мести», обуявшую население итальянских городов. В Италии творилось что-то ужасное. В марте 1488 г. Бернардино де Фельтре произнес в соборе очередную пламенную проповедь против ростовщичества.37 После проповеди группа молодых людей напала на соседнюю еврейскую меняльную лавку, что стало началом бунта, подавить который оказалось очень непросто. В такой воспаленной атмосфере требовались более прямые и широкие меры. Во времена Джироламо Савонаролы в декабре 1495 г. был учрежден ломбард (monte di pieta).3S Это была первая по-настоящему системная попытка подавить «позорную» практику еврейского ростовщичества раз и навсегда. Первый ломбард появился в Перудже в 1462 г., и после этого подобная практика распространилась по всей Северной Италии. Флорентийский ломбард был государственным институтом, который предоставлял кредиты любым приличным гражданам города. Цель заключалась в том, чтобы выдавить из ростовщической деятельности евреев, не ограничивая при этом поступление кредитных средств.39 Новая стратегия оказалась настолько успешной (если можно так сказать), что Савонарола сумел использовать худшие аргументы своих соперников францисканцев и призвал к полному изгнанию евреев. Даже в 1441 г., когда был осужден Саломоне ди Бонавентура, христианские художники, такие как Филиппо Липпи, с пониманием воспринимали подобные аргументы и не пытались возражать против предложенных реформ, направленных на избавление общества от позорного «пятна» еврейского ростовщичества.
От унижений и насилия в гетто
Суд над Саломоне ди Бонавентурой и приговор ему можно считать проявлением широко распространенного во Флоренции начала XV в. ханжеского антисемитизма. Он доказывает, насколько жестоким было восприятие «других» в эпоху Ренессанса. От социального заклеймения и экономической маргинализации был всего один шаг до открытого преследования. Бытовая ненависть, свойственная многим итальянцам XV в. и нашедшая выражение в искусстве Лоренцетти и Уччелло, очень скоро могла перерасти в нечто более зловещее и пугающее.
Благодаря проповедям францисканцев строгого правила, подобных Бернардино да Фельтре, жесткий антисемитизм нарастал. Сдержанная толерантность прошлого уступила место острому желанию запугивать и унижать евреев почти ритуальным образом. Многие христиане считали «забавным» мучить евреев гротескно публичным образом. В XIV в. евреи являлись неотъемлемой частью ежегодного римского карнавала.40 Они были обязаны платить специальный налог искупления за предательство и казнь Христа. Но ко второй половине XV в. антисемитские настроения стали настолько сильными, что в 1466 г. папа Павел II решил изменить характер участия евреев в программе карнавала. Вдоль виа Лата (ныне Корсо, то есть «Бега») устраивались забеги на 500 метров. По приказу папы было устроено специальное состязание – для евреев. «Участники» должны были бежать босиком, в одном лишь тонком жилете, напоминающем современную футболку. Чтобы зрители-христиане не заскучали, за несколько часов до забега евреев насильственно кормили – во время забега им становилось плохо, а некоторые даже теряли сознание. Шли годы и фантазия устроителей подобных развлечений развивалась вместе с ними. В 1570-е гг. англичанин, посетивший Италию, писал:
Евреи бежали почти обнаженными… И всю дорогу [римские солдаты] скакали за ними на своих огромных конях. Они были вооружены железными пиками с острыми наконечниками… и постоянно подгоняли евреев, коля их в обнаженные спины… А потом я увидел сотню мальчиков… и они… бросали камни в бедных евреев.41
Самое тревожное заключалось в том, что ужасные эпизоды публичных унижений были всего лишь цветочками.
Антисемитизм эпохи Ренессанса был бочкой с порохом. Достаточно было мельчайшей и глупейшей искры, чтобы Европа превратилась в пылающий ад жестокости и насилия. Истерия, подпитываемая рассказами о странных ритуалах и еретических убеждениях, была настолько сильна, что насилие могло в любой момент выплеснуться на улицы городов. Саломоне еще повезло, что он потерял всего лишь состояние. Но ближе к концу XV в. периодические всплески открытой агрессии превратились в систематическое преследование.
Незадолго до Пасхи 1475 г. (спустя 34 года после процесса Саломоне) в Тренто пропал двухлетний христианский мальчик Симон. Родители были в ужасе.42 Начались поиски. Когда в пасхальное воскресенье тело маленького Симона было обнаружено в подвале дома еврейской семьи, трагедия переросла в настоящее безумие. Обвинения, получившие название кровавого навета, были распространены в Европе еще с начала XII в. Наслушавшись на Страстной неделе откровенно антисемитских проповедей Бернардино да Фельтре, отец Симона решил, что евреи похитили его сына, убили и выкачали из него кровь, чтобы использовать в неких неизвестных ритуалах Песаха. Жители города были готовы поверить этим обвинениям, поскольку в душах жил страх перед ритуальными убийствами, совершаемыми евреями. Свою роль сыграли и проповеди Бернардино да Фельтре. Естественно, что городские власти сразу же открыли антисемитскую кампанию. Были арестованы 18 евреев и еще пять женщин. Их обвинили в ритуальном убийстве. Мужчин несколько месяцев пытали. В конце концов не силах терпеть страшные муки они «сознались» в преступлении. 13 из них были сожжены на костре.
Маленького Симона позднее канонизировали, и Церковь делала все, чтобы развивать и пропагандировать его культ. Почти сразу же аналогичные преследования евреев развернулись во многих городах Апеннинского полуострова. Как это часто случалось с «кровавыми наветами» в прежние века (особенно в Германии), «мученичество» Симона послужило оправданием всех страхов, которые францисканцы, подобные Бернардино да Фельтре, упорно вселяли в души легковерного населения. Печальное событие послужило поводом для жестокого и открытого преследования евреев. Трагическая история, произошедшая в Тренто, часто становилась сюжетом для картин и иллюстраций (например, «Мученичество Симона Трентского» Гандольфино ди Рорето д’Асти [Израильский музей, Иерусалим]), и это доказывает, что убежденность в преступности еврейских «еретиков» жила в мозгу каждого христианина. Произведения искусства становились гарантией того, что антисемитизм может быть почти священным, как вопрос веры. Превентивное насилие считалось вполне разумной мерой и встречало всеобщее одобрение.
Близились более тщательно продуманные усилия по маргинализации, изгнанию и даже уничтожению еврейской «угрозы». В 1516 г. в разгар войны Камбрейской лиги в Венеции, которая всегда считалась самым космополитическим городом Италии, было объявлено, что евреи должны жить в новом гетто – первом поселении подобного рода в Европе.43 Гетто сохранилось и по сей день – это живое свидетельство того, что привело к четырем векам постоянного преследования. С каждым днем положение евреев ухудшалось. Итальянские города один за другим следовали примеру Венеции. В 1533 г. евреев изгнали из Неаполя. В 1553 г. в день Рош Ха-Шана в Риме были сожжены все экземпляры Талмуда. Папа Павел IV запретил евреям заниматься любыми профессиями, и в Риме они превратились в настоящих рабов. Когда в Европе стал распространяться печально известный трактат
Лютера «О евреях и их лжи» (1543), то люди с протестантскими убеждениями начали призывать к сожжению синагог и разрушению домов еврейских семейств.
* * *
Выйдя из Палаццо Веккьо, совершенно убитый Саломоне ди Бонавентура шел по городу, который буквально излучал сияние культуры эпохи Ренессанса. Флоренция была оживленным метрополисом, крупным торговым центром. В городе жили множество иммигрантов. Здесь творили такие художники, как Филиппо Липпи. Они меняли мир своими работами. Более того, Флоренция была столицей процветающего государства, которое многое получало от культурного обмена между евреями и христианами. Невозможно было не поразиться величию этого прекрасного города. Но, как показал суд над Саломоне, в этом городе средневековые предрассудки развивались теми же темпами, что и художественные новации. Терпимость была всего лишь фасадом, который сохранялся лишь до тех пор, пока отвечал интересам христиан. Сколько бы евреи, подобные Саломоне, ни дали Флоренции, к ним относились с презрением, пренебрежением и откровенной ненавистью. Их заставляли носить унизительные желтые нашивки, изгоняли из общества и преследовали, не задумываясь о правосудии и справедливости. Флоренция даже гордилась своим ханжеством и фанатизмом. В церквах красовались алтари, на которых евреев изображали существами странными, чуждыми и заслуживающими осуждения. В монастырях за древнееврейскими книгами корпели гуманисты, но полученные знания делали их едкие памфлеты еще более ядовитыми. Во многих отношениях антисемитизм во Флоренции эпохи Ренессанса превратился в настоящее искусство.
Раздавленный и страдающий меняла не мог знать, что ему еще повезло. Он мог жаловаться на свое несчастье и молча проклинать чудовищную несправедливость по отношению к себе, но его единоверцев ждала более ужасная судьба. Их осмеивали, переселяли в гетто, на них охотились и их убивали в таких количествах, равных которым (с небольшими колебаниями в конце XVI в.) Италия не знала до расцвета фашизма. А хуже всего было то, что художники того времени не только не осудили этот позорный эпизод в истории человечества, но и поставили свое искусство ему на службу.
3. Восход полумесяца
Летом 1439 г., когда Саломоне ди Бонавентура заключил злополучное соглашение с Авраамом Даттили, вскоре после того, как Филиппо Липпи закончил работу над «Алтарем Барбадори», Флоренция установила активные контакты с исламским миром. Повсюду на улицах и площадях города были видны сигналы оживленного двустороннего обмена с «мусульманской империей», охватывающей огромные просторы от Андалусии в Испании до Хафсидского королевства на севере Африки, от Оттоманского султаната до далеких степей Татарии. В грандиозных дворцах богатейших граждан города трудились рабы и слуги, привезенные с востока. Везде слышалась чужая речь. Гуманисты, собиравшиеся в монастырских клуатрах, начали изучать арабские тексты. На церковных алтарях (например, «Алтарь Барбадори) появились явные визуальные отсылки к исламской культуре. Купцы свободно рассказывали о заморских путешествиях в Александрию, Константинополь, о пыльных персидских городах империи Тимуридов. Огромный выбор трав и специй с далекого Востока на флорентийских рынках поражал воображение. В воздухе стоял резкий аромат гвоздики из Индонезии, майорана из Малой Азии, кумина из Леванта, корицы из Аравии и еще более экзотических специй – ароматного перца кубеба и «райских зерен» (кардамона – афрамомума).
Ислам и Запад
Как заметил бы любой флорентиец, отношения между Апеннинским полуостровом и королевствами полумесяца к началу XV в. начали приносить весьма ощутимые плоды.
Итальянцы начали воспринимать ислам как влиятельную в Средиземноморье политическую силу и как силу культурную и религиозную почти за 700 лет до пленения Липпи. С начала Средневековья мусульманская вера стала играть важную роль в европейской истории – и не только в политике и коммерции. Ислам становился основой концепции инородности и различий. Христианские королевства Западной Европы впервые столкнулись с исламом в 710 г., когда мавры вторглись на территорию Андалусии. В следующем веке арабы высадились на Сицилии, и итальянцы поняли, кто такие последователи Мохаммеда. Хотя арабы совершали набеги на остров и до падения Андалусии, разногласия в Византийской империи позволили североафриканским мусульманам пойти на полномасштабное завоевание. К 902 г. Сицилия была полностью покорена. Но хотя период исламского господства продлился чуть больше полутора веков и завершился после того, как Южную Италию завоевали норманны, он оставил после себя долгое наследие. Мусульманское владычество оказало глубокое влияние на Сицилию. Несмотря на ожесточенные сражения, между христианской и исламской культурами начался активный и двусторонний обмен. После падения Сицилийского эмирата многие мусульмане остались жить на острове. Культурное влияние ислама было настолько сильным, что многие христианские короли считали необходимым изучать арабский язык и продолжали покровительствовать таким формам искусства и архитектуры, которые несли на себе явный отпечаток мавританского стиля. Благодаря притоку арабских знаний медицинский факультет университета Салерно заметно превосходил все другие образовательные центры. Арабские комментарии к трудам Аристотеля задали тон развитию философии на юге, которое шло иным путем, не так, как на севере. Но, несмотря на все эти позитивные влияния, почва для презрения и даже ненависти существовала. Опыт Сицилии принес с собой одновременно и культурную «инакость», и экспансионистские тенденции ислама в Италии. Образ мусульманина как главного врага итальянского католицизма был высечен в камне. Идея о том, что Италия находится на передовой в столкновении культур, получила широкое распространение. В средневековых трудах по истории и географии полным-полно комментариев, в которых мусульмане изображаются варварами, еретиками, угрожающими цельности всего христианского мира.
Ислам вышел на первый план в итальянской картине мира благодаря крестовым походам. Первый крестовый поход был организован в 1095 г. для освобождения Святой Земли от (надо сказать, весьма толерантных) мусульманских захватчиков. Последующие крестовые походы окончательно убедили итальянцев и остальных европейцев в том, что жестокое противодействие исламу – это святая обязанность истинного христианина.
Было создано множество злокозненных мифов, представляющих мусульман врагами христианства и оправдывающих ненависть к их религии. В «Песни о Роланде», к примеру, говорилось, «Марсилий-нехристь, там царит всевластно, чтит Магомета, Аполлона славит». В «Деяниях франков» (Gesta Francorum) мусульман обвиняют в поклонении Мохаммеду как одному из пантеона богов. Рассказывали о безбожных идолах, установленных в христианских церквях, о волшебных коровах, которые соблазняют верующих и склоняют их к ереси, о самых извращенных сексуальных приемах. «Варваров»-мусульман обвиняли даже в отсутствии мужественности, в женственности характера, называли их недостойными уважения и врагами рыцарской чести.1
Однако, несмотря на однозначно негативный характер восприятия ислама христианами в средние века, рассвет Ренессанса открыл возможности для более позитивной и конструктивной формы культурного обмена. После падения Византийской империи в 1261 г. страсть к идеологии крестовых походов заметно ослабела. Когда Джотто впервые взялся за кисть, лишь немногие искренне верили в то, что Ближний Восток может или должен быть объектом военного внимания. Еще меньше было тех, кто призывал бы к повтору ужасающих войн прошлого. Нравилось это или нет, но мусульмане, пусть даже раздробленные и разделенные, сохраняли контроль над Левантом. В Анатолии укреплялись позиции Оттоманской империи, которая вот-вот должна была покорить Константинополь. Более того, как видели путешественники в конце средних веков, мусульмане подчинили себе подавляющее большинство территорий от Босфора до Китая. Они были не только невероятно разнообразны, но еще и колоссально сильны – ив военном, и в экономическом отношении. Когда в морских республиках Северной Италии начали возникать торговые банки, появилась возможность крупномасштабной внешней торговли. Стремление к прибыли потребовало более тонкого подхода к пониманию ислама. Христианству и исламу нужно было сосуществовать друг с другом, и с годами эта потребность все более усиливалась.
Хотя венецианские купцы вели дела с мусульманским миром уже несколько сотен лет, итальянские торговцы стали понимать колоссальную выгоду, которую сулила им торговля с Ближним и Средним Востоком лишь в начале XIV в. Имея официальные представительства в Константинополе и Пере, Венеция и Генуя энергично изучали потенциал региона по поставкам сырья (металлов, квасцов и т. п.), шелка и специй. Товары можно было доставлять через Черное море или по суше, через Анатолию. Флоренция и ее конкуренты начали обдумывать, какую прибыль можно получить, экспортируя свои ткани в Египет и Левант, а оттуда привозя зерно и другие необходимые продукты. К 1489 г. три четверти тканей, производимых во Флоренции, изготавливались специально для Оттоманской империи, где существовала острая потребность в недорогих материалах.2 Флорентийские купцы придавали огромное значение поддержанию (если уж нерасширению) торговли с турками, поскольку до открытия новых запасов в Вольтерре в 1470 г. турки оставались монополистами на рынке квасцов. И это делало их главными игроками на рынке тосканских тканей. Большой коммерческий интерес представляли рабы.3 Оттоманская империя и Мамлюкское королевство являлись неистощимыми источниками рабской силы, поскольку сами эксплуатировали соседние народы, например татар.
В то время как растущая прибыльность торговли с исламскими территориями заставляла города, подобные Флоренции, строить еще более амбициозные коммерческие планы, политические перемены, произошедшие в последние годы, усилили связи Италии с мусульманским Востоком.4 В 1375 г. мамлюки захватили армянское королевство Киликия, и один из самых важных маршрутов к Великому шелковому пути оказался в руках мусульман.5 Теперь ценнейшие товары можно было получить только путем тщательно продуманных переговоров с исламскими правителями. Массивное расширение территории Оттоманской империи сделало почти невозможным поддержание выгодной торговли с государствами юго-восточной Европы, региона Черного моря и Леванта, – те, кто хотел торговать, должны были поддерживать теплые отношения с султанами. В конце XIV в. Оттоманская империя окончательно закрепилась в Анатолии, на берегах Мраморного моря и вышла на Балканы. К 1453 г. был захвачен Константинополь. Завоевание Тамерланом значительной части Центральной Азии имело серьезные последствия для развития торговли с государствами Востока. Нужно было построить и поддерживать конструктивные отношения с империей Тимуридов. Коммерсантам нужны были дипломаты. В 1452 г. Козимо де Медичи вместе с тремя родственниками вложил 5000 флоринов в торговое предприятие, и ему нужны были переговоры с оттоманским двором для получения торговых привилегий.6 Эту стратегию весьма энергично проводил его внук, Лоренцо. В 1455 г. Венеция и Генуя отправили посольства в мусульманский Константинополь, чтобы заполучить права на разработку квасцовых шахт. Этот минерал был необходим для производства тканей.
По мере развития отношений особую значимость приобретали знания. На заре Ренессанса близкое знакомство с мусульманским миром считалось великим достоинством. В трактате «Практика торговли» (Pratica della mercatura) Пеголотти не просто называет мусульманские города, такие как Александрия, Дамиетта, Акри ди Сориа (современная Анталья), Лаяцо д’Эрминия (Аяс) и Торизи ди Персия (Табриз), торговыми центрами, чрезвычайно важными для любого честолюбивого торговца, но еще и уделяет немало внимания описанию самых прибыльных маршрутов между ними. Более того, Пеголотти подчеркивает важность хорошего знания иностранных языков, в том числе арабского, персидского и татарского, – это самая большая обсуждаемая в трактате языковая группа, отличная от итальянских диалектов.7 Позже с развитием Мамлюкского королевства и Оттоманской империи ценность точной информации возросла безмерно. Коммерческие интересы сплелись с античными изысканиями гуманистов, и возникла острая потребность в информативных «путеводителях» для торговцев и путешественников. До падения Константинополя «было обычным делом для образованных людей отправляться в Левант и записывать, что… они там видели»8. В 1419 г. венецианский торговец Никколо да Конти отправился в Дамаск, где так хорошо выучил арабский язык, что смог лучше понять разные культуры и традиции. Путешествуя с арабскими купцами, он достиг Багдада и Персии (где выучил и местный язык тоже), а потом отправился в Юго-Восточную Азию – посетил Индию, Суматру, Бирму и Яву. Там он собрал массу полезной информации о торговле специями и добыче золота. О своих путешествиях Конти впоследствии рассказал Поджо Браччолини, который составил обширный трактат, подтолкнувший многих картографов XV в. (в том числе и блестящего фра Мауро) к изменению своих представлений о географии Востока.9 Впоследствии количество путешественников-гуманистов увеличилось, и путевые заметки того или иного рода стали одной из самых увлекательных форм литературы. Вернувшись из Оттоманской империи, где он находился на службе султана, Кириак Анконский (Чириако де Пиццеколли) живо описал свои путешествия по Ближнему Востоку и снабдил свои заметки богатыми иллюстрациями.10 По тому же пути пошли Гуарино Веронезе, Джованни Ауриспа, Франческо Филельфо, Кристофоро Буондельмонти, Бернардо Микелоцци и Бонсиньоре Бонсиньори.11
После захвата Константинополя Оттоманской империей исламский мир вступил в открытый конфликт с итальянскими государствами. Но и военные столкновения часто служили сближению двух культур. Государства были вынуждены сталкиваться друг с другом на поле боя и за столами переговоров, и это знакомило итальянцев с внутренним миром мусульманского общества. В преддверии конфликта художники и гуманисты, особенно из Венеции и Неаполя, много путешествовали по Востоку. По условиям мирного договора 1479 г. венецианский Сенат отправил Джентиле Беллини в Константинополь в качестве своеобразного посла культуры. Там он изучал жизнь оттоманского двора и даже написал поразительный портрет султана Мехмета II (ныне хранится в Национальной галерее в Лондоне). Впоследствии, когда между Мехметом и королем Неаполя Ферранте были установлены дипломатические отношения, со сходной культурной миссией в 1475–1478 гг. на Восток отправился Костанцо да Феррара. Там Костанцо выполнил целый ряд очень значимых и интересных работ, в том числе весьма лестную портретную медаль с изображением султана (Национальная художественная галерея, Вашингтон) и поразительно детальный эскиз придворного («Стоящий турок», Париж, Лувр [ил. 37]).12 Но конфликты и интриги при оттоманском дворе могли привести к еще более глубоким обменам в ходе войны. После не увенчавшейся успехом попытки захватить трон своего сводного брата Баязида II, Кем Султан (1469–1495) был изгнан сначала на Родос, а затем в Италию.13 Он был передан в руки папы Иннокентия VIII, и Баязид регулярно выплачивал большие суммы на его содержание. Присутствие турка в Риме привело к увлечению христианской столицы всем восточным.
Однако время от времени такое сближение приводило к редким, но по-настоящему выдающимся культурным взаимодействиям между христианами и мусульманами, которые выходили за рамки войны и коммерции. История, напоминающая пленение и обращение в рабство Филиппо Липпи, произошла с аль-Хасаном ибн Мухаммедом аль-Ваззаном. Этот мусульманин родился в Испании, но вырос в Фесе и вошел в историю под именем Лев Африканский. Пираты захватили его в плен в начале XVI в. и преподнесли в дар папе Льву X. В Риме он неохотно уступил попыткам обратить его в христианство и стал для итальянских гуманистов бесценным источником информации об арабском языке и его родной вере – исламе. Он очень тщательно перевел Коран на латынь для Эдижио да Витербо и сделал перевод посланий апостола Павла на арабский язык для Альберто Пио.14
Но если люди, занимающие высокое положение, в эпоху Ренессанса свободно и часто курсировали между Востоком и Западом, то на уровне рядовых граждан существовал более приземленный, хотя и не менее важный обмен людьми. Оживление работорговли в Италии сделало мусульман самого разного происхождения менее «чуждыми» итальянцам. Превратности завоеваний и торговых соглашений привели к тому, что подавляющее большинство рабов, покупаемых и продаваемых в восточном Средиземноморье, были мусульманами.15 Во многих домах состоятельных торговцев из Северной Италии обязательно имелись рабы-мусульмане. Хотя положение рабов в итальянском обществе не давало возможности для реального обмена идеями и обычаями, но сам факт исламского присутствия – любого рода – делал жителей Востока менее таинственными и мистическими, какими их считали прежде. Их одежда, привычки и язык стали более знакомы итальянскому обществу.
С начала XIV в. торговля, дипломатия, политика, война и даже обычные совпадения привлекали к исламу – и особенно к культуре Оттоманской империи – более пристальное внимание, чем раньше. Знаний о мусульманском мире стремительно становилось все больше. Очень скоро Ближний и Средний Восток заняли прочное место в литературе и визуальных искусствах. Особенно восприимчивой к исламским влияниям была Венеция – возможно, в силу тесных коммерческих связей с восточным Средиземноморьем.16 Хотя точно определить траекторию культурных переносов гораздо труднее, чем кажется, совсем не трудно почувствовать ощутимые усилия по интеграции форм и мотивов мусульманских построек в архитектуру светлейшей республики. В форме дворцовых окон, выходящих на Большой канал, в интерьерах собора Сан-Марко чувствуется готовность впитывать, усваивать и трансформировать художественные достижения исламского мира. То же самое происходило и в живописи. Даже если отвлечься от портретов, созданных Беллини и Костанцо да Феррарой, понятно, что итальянские художники со значительно большим интересом стали включать в свои картины мусульман с Ближнего и Среднего Востока – будь то оттоманские придворные, солдаты-мамлюки или жители империи Тимуридов – и изображали их весьма точно. Пьетро Лоренцетти написал для церкви Сан-Франческо в Сиене фреску «Мученичество францисканцев в Тане». На ней он максимально реалистично изобразил средиземноморских мавров и татар, которые недавно захватили порт Тана. Картина Джентиле и Джованни Беллини «Святой Марк проповедует в Александрии» (Милан, пинакотека Брера) [ил. 38], написанная в 1504–1507 гг., несмотря на сознательное использование элементов венецианской архитектуры, говорит о тщательном изучении мусульманских костюмов и обычаев. Но влияние христианско-мусульманского культурного обмена можно проследить и в более разнообразных и тонких элементах визуальных искусств. В весьма свежем и оригинальном исследовании Лайза Жардин и Джерри Броттон выявили явные признаки того, что конное искусство Ренессанса испытало на себе сильнейшее влияние контактов с исламским миром – не меньшее, чем влияние знакомства с античной скульптурой.17 Но один из самых интересных – и довольно неожиданных – примеров открытой ассимиляции исламского влияния – это появление на итальянских картинах восточных ковров.18 С XIV в. персидские и турецкие ковры все чаще появляются на картинах итальянских художников. Этому явно способствовало развитие контактов с государствами Ближнего и Среднего Востока. Ковры на картинах четко показывали статус объекта или место действия. Яркие и богатые восточные ковры мы видим на таких картинах, как «Благовещение» Карло Кривелли, «Мадонна Брера» Пьеро делла Франческа и «Милостыня святого Антония» Лоренцо Лотто. И это говорит нам об искреннем и позитивном контакте двух культур.
Столкновение цивилизаций
Хотя накопление знаний и культурный обмен, свидетельством чему являются подобные художественные представления о мусульманском Востоке, заставили некоторых ученых утверждать, что в эпоху Ренессанса негативное отношение к исламскому миру изменилось, а прежние предубеждения исчезли, в действительности налет толерантности был очень и очень тонким. За фасадом открытости и ассимиляции скрывались абсолютная нетерпимость и ненависть к исламской культуре, превосходящие любые чувства, существовавшие ранее. «Мыслители эпохи Ренессанса относились к мусульманам еще более враждебно, чем их средневековые предшественники».19
Как и в отношении к евреям, главным препятствием на пути принятия мусульман как равноправных культурных партнеров была религия. И одного этого было достаточно для сохранения и усиления прошлых предубеждений. Много ли, мало ли гуманисты знали о деталях исламской теологии, они четко осознавали, что мусульмане отвергают божественность Христа, а, следовательно, само их существование является угрозой всему, что дорого христианскому сердцу. Именно по этой причине гуманисты XIV и XV вв. считали допустимым не только сравнивать ислам с величайшими ересями истории (иудаизмом и арианизмом), но еще и нападать на самого Мухаммеда, называя его порочным, одержимым похотью прелюбодеем, погрязшим в грехе и извращениях. В трактате «Об уединенной жизни» (De vita solitaria) Петрарка называет Пророка «прелюбодеем и развратным человеком», «злобным, бесчестным грабителем», «мясником», «создателем нечестивого суеверия», автором «ядовитого учения» и «искусным сластолюбцем и пособником самой непристойной похоти».20 Веком позже папа Пий II еще более смехотворно и сурово описывал происхождение ислама, не упуская ни одной возможности обвинить эту веру в ереси и грехе. Пий пишет о том, что Пророк отрицал доктрину Святой Троицы, а потом добавляет:
Мухаммед был арабом, погрязшим в языческой ереси и иудейском вероломстве, построившим свое учение на несторианской и арианской ересях. Он разбогател, соблазнив богатую вдову, и был печально известен своей неверностью. Слава его привлекла на его сторону банду разбойников, и с их помощью он сделался повелителем арабов. Будучи знакомым с Ветхим и Новым Заветами, он извратил оба. Он имел наглость называть себя пророком…
Он так покорил свой примитивный народ, что сумел убедить их отказаться от Христа Спасителя и принять вместо этого новую религию, придуманную им. Для этого он использовал магические заклинания и трюки и позволял совокупляться в самых немыслимых формах. Но это давало ему возможность с легкостью соблазнять простых людей, которые всегда были рабами чувственных наслаждений.21
По мнению Пия и его современников, Мухаммед был не только лжепророком, но ересиархом, колдуном, вором, тираном и сексуальным извращенцем, источником всего, что чуждо христианской вере, и вернейшим доказательством того, что все мусульмане – «враги Креста». Грехи пророка ложились на плечи его последователей: осуждая Мухаммеда, папа осуждал всех мусульман.
Если сосуществование христиан и мусульман в государствах крестовых походов в средние века заставляло многих средневековых историков тщательно изучать исламскую историю и в религиозной, и в светской формах, то интерес гуманистов эпохи Ренессанса к написанию истории мусульманских народов не сопровождался желанием правильно и глубоко понять их прошлое. Несмотря на огромное количество доступных материалов, историки начала XV в., такие как Андреа Билья и Флавио Бьондо, «не интересовались точностью или даже исторической достоверностью создаваемых ими сюжетов из исламской истории».22 Их цель была не научной, но полемической, а их тон был в высшей степени оскорбительным. Они были готовы использовать псевдоисторию, чтобы представить мусульман (особенно мамлюков и турок) варварами, низшими существами, воплощающими в себе противоположность цивилизации и существующими только ради того, чтобы нести миру жестокость и страдания. Невзирая на массу доказательств и свидетельств, приводимых в классических трактатах, гуманисты взяли из средневековых текстов худшие фантазии, отказались от трезвого взгляда и доводов рассудка и приправили все худшее щедрой дозой желчи. Даже такой человек, как Никколо Сагундино, который провел долгое время в Оттоманской империи, забыл о собственном опыте и изобразил турок как людей, которые всегда были жестокими и злобными варварами.23 Для гуманистов того времени такого понятия, как хороший мусульманин, не существовало – и никогда не было.
До последней капли крови
Гуманисты эпохи Ренессанса были присполнены жгучего желания возродить угаснувшее пламя крестовых походов и освободить Иерусалим от египетских мамлюков. В начале XIV в. идею организации нового крестового похода различные европейские страны выдвигали несколько раз – король Франции Филипп IV заявил, что готов пожертвовать Францией ради Иерусалима. Но в силу необычно крепких связей с Востоком ранние гуманисты вскоре сменили тон. Теперь их труды подстегивали и без того существовавшую в народе жажду жестокого преследования мусульман. В 1321 г. во время Венского собора венецианский купец Марино Санудо Торселло подарил папе Иоанну XXII экземпляр своей недавно законченной книги «Книга тайн верных Креста» (Liber Secretorum Fidelium Crucis). Трактат полон благочестивых поучений и ядовитой ненависти. Санудо объяснял необходимость «защиты верных, обращения и уничтожения неверных и завоевания и удержания святой земли…».24 Книга вполне соответствовала духу времени. Несколько лет гуманисты всей Италии упорно призывали к новому походу против мусульман, захвативших святой город. Одним из самых убежденных сторонников такой точки зрения был Петрарка. Несмотря на то что он упустил возможность отправиться в паломничество в Левант, свою затаенную ненависть к исламской вере он излил в обширных рассуждениях в «Уединенной жизни» (De vita solitaria), в которой призывал католических властителей Европы начать новый крестовый поход.25 Осуждая королей и правителей за нежелание прислушиваться к стонам Иерусалима, он сокрушался из-за того, что «святые земли» христианства «попираются» и «безнаказанно калечатся египетскими псами». Петрарка скорбел из-за того, что «богомерзкая нога» попирает и «оскорбляет святилище Иисуса Христа».26 Надо сказать, что это было откровенной ложью, – мамлюки весьма терпимо относились к христианам и уважали святые для христиан места. Мало того, многие такие места были священными и для них. Но Петрарка призывал Европу подняться в едином порыве во имя истребления «пятна» ислама на Святой Земле. Эту мечту разделял и пропагандировал большой почитатель Петрарки Колюччо Салютати. Устремив свой взгляд не только на мамлюков, но и на Оттоманскую империю, Салютати призывал к еще более глобальному крестовому походу, который могли бы возглавить папа и императоры. Когда турки захватили всю Анатолию и берега Мраморного моря, Салютати преисполнился убеждения в том, что Святую Землю необходимо освобождать срочно. Он призывал все христианские народы мира объединиться и уничтожить мусульманскую угрозу, пока она не распространилась дальше. Если ничего не сделать, писал он, «злобные» враги креста скоро будут угрожать самой Италии.27
Салютати оказался провидцем. Мусульмане уже вышли на марш. Захват Оттоманской империей Анатолии, Ближнего Востока и Балкан еще больше усилил ненависть гуманистов к исламу. Впервые с начала средних веков мощное исламское государство угрожало территориальной целостности западного христианского мира. Возможность захвата мусульманами Европы стала вполне реальной. Ферраро-Флорентийский собор 1439 г. (именно этому событию посвящена фреска Гоццоли «Шествие волхвов в Вифлеем») стал последней тщетной попыткой воссоединить восточную и западную Церкви и выступить единым христианским фронтом против турецкого порабощения. Но падение Константинополя в 1453 г. показало масштаб угрозы и всю тщетность подобных теологических усилий. Столица первого христианского императора Римской империи после тысячи лет христианства оказалась в руках неверных. Последние обломки Римской империи были повержены, и последствия этого ощутила на себе вся Италия. Гуманисты чувствовали, что нужно действовать. И немедленно. Прежнее желание отомстить на бесславный провал крестовых походов переросло в стремление сокрушить Оттоманскую империю всеми доступными средствами, чтобы Италия не стала следующей ее жертвой.
Почти сразу же после восхождения на Святой Престол в 1455 г. Каликст III начал «готовиться к поддержке христианства, которое все сильнее оказывалось под господством турок». По всей Италии отправились проповедник, такие как фра Джованни да Наполи, Микеле Каркано, фра Роберто Каррачьоло да Лечче и Сан-Бернардино Сиенский. Они должны были «убедить королей и народы вооружиться во имя своей религии и поддержать выступление против общего врага своими деньгами и участием».28
Хотя это ни к чему не привело, но преемник Каликста Пий II продолжил его дело с еще большим рвением.29 Заявив, что Мехмед Завоеватель собирается «править всей Европой» и «искоренить святое Евангелие и священный Завет Иисуса Христа», Пий попытался объединить христианский мир для святого дела покорения турок.30 Объявление войны стало единственной целью созыва особого конгресса в Мантуе в 1459 г. Напомнив присутствовавшим князьям, что «после покорения венгров турки устремят свои взгляд на германцев, итальянцев и на всю Европу – и это станет катастрофой, которая может привести к разрушение [христианской] веры», Пий постарался максимально убедительно обосновать острую религиозную потребность в начале немедленной военной кампании против Оттоманской империи.31
Хотя поначалу воинственные правители Италии отнеслись к этой идее прохладно, в искусстве того времени ядовитая ненависть, испытываемая верующими, мгновенно нашла отражение. В 1439 г. Пизанелло завершил работу над фреской «Святой Георгий и принцесса» для церкви Святой Анастасии в Вероне. (К сожалению, до наших дней фреска дошла в сильно поврежденном виде.) Эту работу можно считать убедительной иллюстрацией возродившегося духа крестовых походов. Святой Георгий, архетип воинственного христианского святого, спешит на помощь принцессе Трапезундской. Этим городом в конце 1430-х гг. управляла изгнанная из Константинополя семья Комнинов. Трапезунд оставался одноим из последних оплотов христианства в Малой Азии, и Оттоманская империя представляла для него реальную угрозу. Две части фрески были мощным напоминанием итальянским христианам о необходимости прийти на помощь таким регионам, как Трапезунд, чтобы остановить продвижение ислама, пока не стало слишком поздно. Через несколько лет Аполлонио ди Джованни и Марко дель Буоно расписали великолепную панель для сундука «Покорение Трапезунда» [музей Метрополитен, Нью-Йорк], по-видимому, по заказу флорентийского семейства Строцци.32 Темой этой тщательно проработанной панели была турецкая угроза Трапезунду. В этой работе чувствуется тот же призыв к оружию. Интересная деталь – наездник, который говорит о том, что во имя Креста следует призвать на помощь Тимуридов.
28 июля 1480 г. оттоманский флот, состоявший из более сотни тяжело вооруженных кораблей после захвата Родоса атаковал порт Отранто, входивший в состав Неаполитанского королевства. За две недели город пал. Епископ и командующий были зарезаны. Та же судьба постигла около 800 жителей города, отказавшихся принять ислам. Вдохновленный блестящими успехами султан Мехмет II собирался использовать Отранто, как аванпост для кампании по захвату самого Рима. Паника нарастала. Христианство столкнулось с реальной и весьма ощутимой угрозой. Мешкать было нельзя. Король Неаполя Фердинанд с помощью итальянских союзников срочно собрал армию и контратаковал противника. Благодаря неожиданной смерти Мехмета 3 мая 1481 г. город удалось вернуть. Эта война стала первым шагом в долгом и тяжелом конфликте. Хотя торговля с Оттоманской империей продолжалась, и внутренние проблемы отвлекли союзников от крупномасштабных военных действий, государства Италии следующие 90 лет вели почти постоянную войну с Оттоманской империей, которая закончилась лишь кровопролитным сражением и тяжелейшей победой в битве при Лепанто (1571).
Все это время Отранто оставался важной вехой памяти, и наследие его дает нам полное представление отношения к исламу в эпоху Ренессанса. 800 христиан, которые были убиты за отказ поступиться своей верой, стали мучениками. Их мощи заключены в массивный стеклянный ларец, который установлен за главным алтарем собора Отранто. Это было предостережение о том, что могло случиться, если бы турок не удалось остановить. Но гораздо важнее то, что этот мрачный церковный памятник служит серьезным напоминанием о том, что, несмотря на прочные экономические связи Италии с Ближним Востоком, в эпоху Ренесанса христиане часто хотели не только сокрушить, но уничтожить ислам. Сколь бы величественной ни была оттоманская культура, сколь бы важны ни были исламские государства для итальянской торговли, художники и гуманисты продолжали видеть в мусульманской вере потенциальную угрозу для христианского мира. Они с готовностью ставили свои таланты на службу тем, кто хотел развязать войну с исламом, несмотря на то что призывы к новым крестовым походам в последующие десятилетия не находили отклика.
4. Бремя страстей человеческих
1441 г. монах-францисканец Альберто да Сартеано вернулся во Флоренцию после двухгодичного отсутствия.1 Тихий 56-летний монах нищенствующего ордена вряд ли привлек бы к себе внимание. в иных обстоятельствах появление в городе столь скромной фигуры вообще осталось бы незамеченным. Но стоило Альберто войти в городские ворота, как его тут же окружили толпы изумленных горожан, которые отталкивали друг друга, чтобы лучше его рассмотреть. Да, конечно, Альберто пользовался определенной известностью во Флоренции благодаря своим гуманистическим трудам и прежним поездкам в Византию и Палестину. Но на сей раз внимание толпы привлек не он. Внимание флорентийцев было приковано к его необычным спутникам. Альберто да Сартеано сопровождала целая делегация египетских коптов во главе с бородатым аббатом Антонием. Кроме того, он привез с собой двух чернокожих африканцев из Эфиопии.
Хотя Флоренция уже «была полна необычных лиц и нарядов», небольшая процессия Альберто привлекла всеобщее внимание – и особый интерес вызвали чернокожие эфиопы.2 Хотя к африканцам в Италии относились пренебрежительно и снисходительно (кто-то писал, что они были «неинтересными и неловкими» и «очень слабыми»3), но даже самые утонченные гуманисты высыпали на улицу, чтобы увидеть, как по городу идут столь странные и незнакомые люди.
Но Альберто не случайно вернулся во Флоренцию со столь экзотическими и необычными спутниками именно сейчас. Вместе со своими коптскими и эфиопскими друзьями он исполнял важную миссию великого экуменического собора, который проходил в городе. Летом 1459 г. папа Евгений IV решил, что настало время объединить христианский мир во имя борьбы с Оттоманской империей. Он хотел объединить всех верующих во Христа, где бы они ни жили. И для этого папа отправил Альберто в путешествие на край известного мира. Альберто не только сообщил экуменическому собору о коптах и мелькитах из Иерусалима и Александрии, но еще и установил контакт с полулегендарными христианскими мирами, которые существовали за пределами Египта. Ему было поручено доставить сообщения таинственному «Пресвитеру Иоанну» и не менее загадочному «Фоме Индийскому», которых считали последователями христианства.
Несмотря на годы, проведенные на Ближнем Востоке, в путешествие Альберто отправился, располагая минимумом надежной информации. В те времена Африка была окутана атмосферой тайны. О землях, расположенных за великой южной пустыней, было известно очень мало – практически ничего. Не имея надежного проводника, Альберто мог только догадываться, где можно искать «Пресвитера Иоанна» и «Фому Индийского».
Однако ему удалось превзойти все ожидания. Путешествуя по Египту, которым в те времена правил мамлюкский султан Саиф-аль-Дин Джакмак, он не нашел никаких следов легендарных правителей, к которым обращался папа Евгений. Но зато ему удалось найти императора Эфиопии Зара Ягоба, в христианской вере которого не было никаких сомнений, и который вполне мог происходить от царя Соломона. Многие эфиопские христиане жили в Иерусалиме. Экуменический собор их очень заинтересовал, поскольку им нужны были прочные связи с христианами Италии и таинственными землями за великой пустыней.
Успех Альберто вдохновил папу Евгения.4 31 августа он очень торжественно и официально принял делегацию коптов в церкви Санта-Мария Новелла. Спустя два дня с еще большей торжественностью принимали загадочных представителей Эфиопии. Несмотря на их сложный язык и довольно неожиданные привычки, гости Евгения из далекой африканской страны стали реальным доказательством того, что христианский мир больше, чем казалось раньше. На какое-то время показалось возможным объединить все народы христианского мира – итальянцев, греков, левантийцев, египтян и даже эфиопов – и под знаменем общей веры нанести поражение ненавистным туркам.
Хотя переговоры не привели к созданию прочного союза, барьеры мифов были разрушены, и общность людей и культур стала очевидна, как никогда прежде. Папа поручил Филарете увековечить присутствие на соборе коптов и эфиопов на бронзовых вратах базилики святого Петра [ил. 39].5 Филарете изобразил путешественников очень точно и детально. Две сцены прекрасно передают и поразительную экзотичность африканцев, и теплоту, с какой Евгений приветствовал в них братьев во Христе. Однако у его эфиопских друзей эта встреча вызвала иные чувства.
Свет на Черном континенте
Путешествие Альберто да Сартеано и прибытие эфиопов во Флоренцию в 1441 г. было символично для взаимодействия Европы с Тропической Африкой. Хотя историки часто преуменьшают значение этого события, но встреча с папой Евгением знаменовала собой большой скачок в области исследования континента, который до того времени оставался для европейцев загадкой и тайной.
Нельзя сказать, что внутренние районы Африки были до возвращения Альберто совершенно неизвестны итальянцам. Гуманисты знали о контактах европейцев с черными африканцами во времена античности. Из греческих книг, например из «Истории» Геродота6, итальянцы знали, что древние египтяне пытались продвигаться на юг. Из римских источников стало известно о торговле с народами, которые жили вовсе не на берегах Средиземного моря.7 Итальянцы и сами сталкивались с черными африканцами. Дипломатия уже открыла новые пути. Государства Италии начали активно искать другие страны, которые могли находиться дальше к югу. В 1291 г. Генуя отправила посольство туда, где теперь находится город Могадишо. Цель этого путешествия заключалась в поисках братьев Вивальди, которые пропали некоторое время назад. Африканцы тоже постепенно начали протягивать Европе руку дружбы. Император Эфиопии Ведем Арад отправил в Испанию своих послов, но они в 1306 г. осели в Генуе и развлекали любопытных горожан невероятными историями из жизни своей родины. Небольшая группа чернокожих африканцев несколько веков жила на Апеннинском полуострове. Поскольку Сицилия являлась крупным торговым центром Средиземноморья, незначительное число африканцев через этот остров попало в Европу и оказалось при средневековых дворах. В конце 1430-х гг. арабские купцы привезли чернокожих во Флоренцию. Из Африки в Испанию и Португалию привозили не только мавров и берберов, но и чернокожих девушек-рабынь.8 К 1427 г. во Флоренции насчитывалось около 360 рабынь. Девушки поступали преимущественно с Кавказа, но среди них были и африканки.
Но, несмотря ни на что, итальянцы очень мало знали об Африке южнее Сахары. Карты того времени показывают полное отсутствие серьезных знаний об африканской географии за пределами бывших римских колоний. Европейцы вообще не представляли себе, что им предстоит открыть. Ныне утерянный портолан (разновидность карты), составленный в 1306 г. генуэзским священником Джованни да Кариньяно, не показывает ничего ниже верховий египетского Нила. На карте мира Пьетро Весконте (ок. 1320) южнее Сахары вообще показано море. Европейцы не знали о крупных городах дальше североафриканского побережья и нижнего Нила. Естественно, что и о народах, населяющих Африку, никто ничего не знал. До возвращения во Флоренцию Альберто да Сартеано пробелы, связанные с подобным невежеством, заполнялись с помощью мифотворчества, а не путем серьезных исследований. В 1367 г. венецианцы Доменико и Франческо Пиццигано составили весьма символичный портолан, на котором была показана река золота, впадающая в Нил и имеющая истоки в Лунных горах, описанных Птолемеем. Пытаясь придать своей карте дополнительную привлекательность, братья поместили в неисследованные районы Западной Африки легендарного христианского короля «Пресвитера Иоанна» (Марко Поло писал, что он жил на Востоке). Они заявили, что в его королевстве столько золота, что этот металл потерял там какую-либо ценность. Даже в 1430-е гг. эти фантазии принимались за чистую монету.9 Неудивительно, что письма, которые Евгений IV вручил Альберто, основывались на таких слухах о Пресвитере Иоанне, а не на фактической информации.
Возвращение Альберто да Сартеано и его эфиопских спутников было знаком того, что в воздухе витает дух перемен. Активизация турок на Ближнем Востоке стала мощным стимулом для изучения Африки. На религиозном уровне европейцы хотели найти новых христианских союзников. Это стало бы мотивом для проверки легенд и сбора новой информации о неизвестных землях. Но основным стимулом географических открытий очень быстро стало стремление к коммерческой выгоде. Падение Константинополя в 1453 г. оказало самое серьезное влияние на торговлю. С одной стороны, выход на Великий Шелковый путь стал более опасным, чем когда-либо прежде. Поток специй и сырья с Дальнего Востока оказался под угрозой. С другой стороны, захват Оттоманской империей Босфора перекрыл путь на Кавказ, который до этого времени оставался основным источником рабов (пусть даже рабство и было запрещено законом). Потребность в решении этих проблем дала мощный толчок к исследованиям. В поисках новых путей в Индию в обход контролируемого Оттоманской империей Ближнего Востока португальские моряки проникли во внутренние районы Африки, где сейчас располагаются Сьерра-Леоне, Гана и Золотой Берег. Они открыли не просто неизвестные земли, но богатейшие источники драгоценных металлов и рабов. Новые территории сулили сказочные прибыли, и стремление к новым открытиям становилось все сильнее. Хотя основную роль по-прежнему играли португальцы, не отставали от них и итальянские путешественники, такие как Альвизе Ка’да Мосто и Антониотто Узодимаре, которые в 1455–1456 гг. изучили реку Гамбия и открыли острова Зеленого Мыса.
Хотя в эпоху Ренессанса итальянцы имели весьма туманное представление об Африке за Сахарой, их общение с Черным континентом и знания об Африке и ее народах значительно расширилось. Путешественники возвращались с горами новой информации. Записки о путешествиях по Африке пользовались огромной популярностью. «Навигация» (Navigazioni) Ка’да Мосто стала настоящим «бестселлером».10 Несмотря на то, что в книге Ка’да Мосто есть несколько старых легенд, автор дает поразительно подробные описания увиденного. В основном его наблюдения были особенно выгодны для купцов. Рассказывая о двусторонней торговле золотом и солью между королевством Сонгей (на территории Мали) и Марокко, Тунисом и Египтом, он живо описывает жару и сушь, царящую в рыночных городах Тимбукту, Тегаха и Оудан. Читателей увлекало яркое описание берберских караванов, медленно бредущих через Сахару. Очень точно и подробно автор описал королевство Волоф (Сенегал). Впервые европейцы узнали о незнакомых обычаях танцах и способах ведения сельского хозяйства. Поразительна точность наблюдений Ка’да Мосто в области топографии, флоры и фауны. Своим читателям он рассказал о реках Сенегал и Гамбия, об африканских слонах и гиппопотамах, о множестве незнакомых растений и цветов, которые он открывал для себя практически ежедневно.
Но даже те итальянцы, которые сами не путешествовали и книгами не увлекались, все чаще сталкивались с жителями тропической Африки. После путешествия Альберто да Сартеано «торговля черными рабами стала для Италии весьма доходным делом».11 Хотя это событие положило начало «одному из самых ужасающих и постыдных эпизодов мировой истории», но в то же время оно дало возможность итальянцам близко познакомиться с чернокожими африканцами. Португальские корабли все чаще стали привозить рабов в портовые города Ливорно, Венецию и Геную. Богатые жители этих городов с удовольствием приобретали черных рабов. Несмотря на то что Церковь запрещала рабство, флорентийские банки, всегда остро чувствующие возможность прибыли, активно занимались работорговлей. Поскольку спрос на цветных рабынь (а порой и рабов) был велик, то банки не чурались подобной деятельности. В июле 1461 г. деловой партнер банка Камбини Джованни Гвидетти сообщил, что в Ливорно прибыл португальский корабль «Санта-Мария ди Назаретте», на борту которого находились три чернокожие рабыни, Изабелла, Барбера и Марта.12 Стоимость этих девушек колебалась от 8500 до 6500 реалов (в зависимости от степени «черноты») – квалифицированный ремесленник зарабатывал столько за целый год. Этих девушек мгновенно переправили в дома семейства Камбини, Джованни дельи Альбицци и Ридольфо ди сер Габриэлло. В сентябре 1464 г. в бухгалтерских книгах Камбини появилась запись о том, что Пьеро и Джулиано ди Франческо Сальвиати заплатили колоссальную сумму в 3618 флоринов «за черную голову, которую они получили от нас… для домашнего использования».13 К концу XV в. практически у каждого состоятельного купца имелся хотя бы один чернокожий раб. Впоследствии наличие чернокожих рабов считалось обязательным для каждого знатного семейства Италии.
Чада Божии
По мере того как с тропической Африки стала спадать завеса тайны, итальянцы начали задумываться над своим отношением к ее народам. Появление Альберто да Сартеано на Флорентийском соборе вместе с посланниками Эфиопии свидетельствовало не только о любопытстве, которое пробуждали жители этого региона, но и о готовности итальянцев эпохи Ренессанса воспринимать чернокожих африканцев в позитивном свете.
И повод для путешествия Альберто, и та теплота, с какой Евгений IV встретил эфиопов, весьма показательны. Такое отношение разительно контрастирует с отношением к евреям и мусульманам. Итальянцы никогда не испытывали религиозных предубеждений в отношении чернокожих африканцев. Как раз наоборот. Христианские убеждения заставляли итальянцев эпохи Ренессанса относиться к народам тропической Африки с теплотой и интересом.
Хотя такие путешественники, как Альвизе Ка’да Мосто, писали о преобладании языческого анимизма в королевствах вроде Бенина, но чернокожих африканцев с самого начала воспринимали как чад Божьих вне зависимости от того, вошли они в лоно христианской веры или нет. Для церковнослужителей поколения Филиппо Липпи они были родственными душами уже в силу своего происхождения. Опираясь на библейскую историю изгнания Хама, итальянцы эпохи Ренессанса полагали, что сын Ноя ушел из Святой Земли в Африку, осел там, женился и имел детей. И его потомки стали предками тех самых эфиопов, которые в XV в. прибыли во Флоренцию. Поскольку обитатели тропической Африки мало отличались друг от друга, то итальянцы считали всех чернокожих африканцев потомками Хама, т. е. членами большой христианской семьи.14
Помимо происхождения от сына Ноя были и другие доказательства того, что чернокожих африканцев можно считать истинными последователями христианства. Царица Савская – вот еще одно звено цепи, которое связывало Африку с историей Ветхого Завета. И в этом свете особую важность приобретает история путешествия волхвов в Вифлеем. Хотя в библейском повествовании не упоминаются ни имена волхвов, ни их происхождение, раннехристианские христиане быстро заполнили этот пробел и начали связывать Каспара, Мельхиора и Валтасара с тремя землями известного мира. Если Каспара и Мельхиора чаще всего связывали с Индией и Персией, то Валтасару отводилась роль африканца, причем с поразительно раннего времени.15 К IV в. святой Иларий писал о том, что Валтасар был выходцем из тропической Африки. Медленно, но верно образ «черного мага» прочно укоренился в европейском сознании, и в XIV в. получил широкое распространение. По мере знакомства итальянцев с обитателями Черного континента после прибытия во Флоренцию Альберто да Сартеано художники начали все шире использовать образ чернокожего Валтасара. На «Поклонении волхвов» Мантеньи (галерея Уффици, Флоренция; обычно эту картину датируют примерно 1489 г., но вполне возможно, что она была написана в 1462–1470 гг.) [ил. 40] коленопреклоненный Валтасар – настоящий чернокожий африканец. Совершенно ясно, что и художник, и зрители воспринимали этот образ как символ важной роли чернокожего населения в событии христианской истории.
С годами эта идея укреплялась все больше. С середины XV в. сложилось мнение о том, что чернокожие африканцы исторически являются членами семьи христианских народов. И наиболее продвинутые художники и гуманисты смело стали включать их в библейские сюжеты, несмотря полное отсутствие каких бы то ни было доказательств. Изабелла д’Эсте стремилась заполучить чернокожих слуг для своего мантуанского двора16, и Мантенья включил чернокожую служанку в изображение истории обезглавливания Олоферна Юдифью. В феврале 1492 г. он сделал рисунок пером (галерея Уффици, Флоренция), на котором служанкой Юдифи стала настоящая африканка. Этот мотив повторяется на трех других работах Мантеньи, а впоследствии он же был использован и другими художниками, в том числе Корреджо. Поскольку Юдифь являлась хрестоматийным примером жертвенной добродетели – она соблазнила ассирийского военачальника и убила его ради блага своего народа, – то присутствие чернокожей служанки на холсте свидетельствует о готовности разделить немеркнущую славу с африканцами и еще сильнее подчеркнуть их роль в библейской традиции.
То, что обитателей тропической Африки все чаще стали воспринимать как чад Божьих, доказывает желание Церкви позитивно воспринять новые народы и стимулировать столь же позитивное отношение к чернокожим африканцам и в самой Африке, и в Италии. За 60 лет, прошедших с момента возвращения во Флоренцию Альберто да Сартеано, Церковь активно действовала с целью включения чернокожих в лоно римско-католической веры. Такое воссоединение служило бы доказательством наступления золотого века католичества.17
Евгений IV хотел объединить христианский мир и укрепить цельность христианства. И Церковь начала искать различные методы пропаганды католицизма среди народов, которые либо являлись христианами, либо считались «инстинктивно» склонными к обращению. К началу XVI в. святой Игнатий Лойола предложил отправить миссионеров в Эфиопию, чтобы укрепить узы, возникшие на Флорентийском соборе. Очень скоро иезуиты отправились нести слово Божие в Западную Африку. Делались определенные попытки подстроить христианские устои под местные обычаи. Толерантность считалась важнейшим условием проповеди христианства в Африке. В 1518 г. король Португалии Мануэл обратился к папе Льву X с просьбой о посвящении незаконнорожденного сына короля Конго 23-летнего Ндоадидики He-Кину из племени мумемба, в епископский сан и о предоставлении ему штата миссионеров.18 Несмотря на то что Ндоадидики (более известный как «Энрике») сана не получил в силу своей незаконнорожденности и молодости, Лев счел подобное предложение блестящей идеей. Он не только назначил Ндоадидики епископом без епархии в Утику, но еще и прислал к нему нескольких теологов, которые наставляли юношу, пока он не достиг канонически необходимого возраста 27 лет. Лев был убежден в том, что в Африке должны служить местные прелаты – и такое убеждение можно считать явным знаком межкультурной открытости.
В Италии тоже формировалась склонность к ощущению врожденного религиозного родства с чернокожими африканцами. И склонность эта активно поощрялась Церковью. С начала XV в. Церковь уделяла серьезное внимание адекватному пастырскому попечению африканцев из тропической Африки – особенно рабов и бывших рабов на Сицилии и в Неаполе.19 Детей крестили, проповедники отправлялись в поля, на рынки и верфи.20 Позже черные рабы с ведома Церкви стали создавать собственные братства – такое братство в 1584 г. было создано в церкви Сан-Марко в Мессине. Еще более удивительно, что рабов и бывших рабов с радостью принимали в религиозные ордена. Самый поразительный пример – Сан-Бенедетто «мавр» (ок. 1524–1589).21 Он родился в семье неграмотных рабов (или освобожденных рабов) на Сицилии и в возрасте 21 года вступил в орден францисканцев. Его благочестие и аскетизм были настолько велики – молодой монах регулярно занимался самобичеванием, что после смерти конгрегации Южной Италии, где, несомненно, преобладали белые итальянцы, стали почитать его святым.
Атмосфера религиозной открытости, окружающая чернокожих африканцев на Апеннинском полуострове, постепенно проникала и в другие сферы жизни. Общество всегда видело в африканцах людей. Несмотря на то что статус рабов или освобожденных рабов ограничивал открытые для них сферы деятельности, они обладали таким количество навыков, что могли служить не только при дворах аристократов. Им были близки идеалы воинской добродетели, высоко ценимые такими авторами, как Кастильоне. Они занимались борьбой и нырянием.22 Высоко ценились их воинские качества и умение обращаться с лошадьми, что считалось признаком достойного и «цивилизованного» нрава. В 1553 г. Медичи взяли к себе на работу некоего африканца Граццико «иль Моретто», который служил у них конюхом и пажом.23 Африканский раб Бастиано охранял гробницу португальского кардинала Жайме в церкви Сан-Миниато аль Монте в Олтрарно. Для этой цели его выбрали благодаря прекрасной воинской подготовке. Еще более удивителен деревянный барельеф 1505 г., на котором показано, как чернокожий раб отважно (но тщетно) защищает Галеаццо Марию Сфорца от убийц в 1476 г. Чернокожих африканцев считали музыкально одаренными людьми, имеющими особую склонность к танцам, а такие способности высоко ценились при аристократических дворах.24
Чернокожие африканцы настолько плотно вписались в итальянское общество эпохи Ренессанса, что серьезным преступлением перестало считаться даже рождение детей смешанного происхождения, причем даже в высших эшелонах городской элиты. Алессандро де Медичи в 1532 г. стал герцогом Флоренции.25 Ходили слухи (и довольно обоснованные), что он был сыном папы Клемента VII и чернокожей африканки. На многочисленных портретах явственно видны типично «африканские» черты лица, и это говорит о том, что религиозная близость, осознанная после прибытия во Флоренцию в 1441 г. Альберто да Сартеано с его эфиопскими спутниками, постепенно переросла в реальное социальное приятие.
Человеческое, но не слишком
К чернокожим африканцам итальянское общество во многих смыслах относилось лучше, чем к евреям или мусульманам, но в отношении ренессансной Италии к выходцам из тропической Африки был и еще один более коварный аспект. Эфиопов, прибывших с Альберто да Сартеано, встречали с широко распахнутыми от изумления глазами. Но степень этого изумления показывала, что прежние контакты отнюдь не способствовали формированию адекватного принятия африканцев. Самые образованные гуманисты города по-прежнему относились к ним с определенным презрением – так, как могли бы относиться к какому-нибудь научному виду. А это говорит нам о том, что африканцы оставались для Италии «чужими», причем не в самом теплом смысле слова.
За фасадом церковной приветливости и католического экумензима скрывалось глубокое презрение и снисходительность. Хотя народы тропической Африки считали членами большой христианской семьи, это не означало, что итальянцы воспринимали чернокожих как равных. Скорее, в них видели больших детей. И поскольку итальянские гуманисты не считали культуры тропической Африки достойными внимания и упоминания, то африканцам отводилась роль нецивилизованных варваров.
Такую тенденцию сформировали первые путешественники. Несмотря на увлеченность, с какой они изучали социальные обычаи Волофа или Сонгея, первые путешественники воспринимали тропическую Африку в рамках грубых предубеждений, а не с объективным интересом. Рассказывая о своем путешествии через пустыню, Антонио Мальфанте презрительно замечал, что чернокожие, с которыми он проделал этот путь, «неграмотны и не имеют книг».26 Он даже проводил параллель между замеченной им культурной примитивностью и демоническим колдовством: «Они были великими магами, способными вызывать дьявольских духов». Альвизо Ка’да Мосто с отвращением писал о «распутстве» обитателей этого региона. «Варварство» тех, с кем ему довелось столкнуться, заметно поумерило его восхищение их христианским происхождением.27
Подобные взгляды находили отклик к Италии. Столкнувшись с потоком чернокожих африканцев, итальянцы в эпоху Ренессанса с готовностью стали считать их примитивными варварами, хотя и признавали религиозное родство с ними. Для того чтобы представить чернокожих нецивилизованными простаками, не способными встать вровень с белым большинством, использовались всевозможные стереотипы. У португальцев появилась метафора «счастливого чернокожего». Они считали африканцев детьми или дикарями, способными на свободные от любых запретов радости. В Европе распространилось убеждение в том, что все выходцы из тропической Африки ленивы от природы и неспособны достичь чего-либо по-настоящему великого. В налоговых документах 1480 г. наследники флорентийца Маттео ди Джованни ди Марко Строцци в числе движимого имущества указали чернокожую рабыню, «которая работает плохо и не стоит ничего». Они писали: «Она ленива, как все черные женщины».28 Гораздо более тревожным было убеждение в том, что все африканцы морально нечистоплотны и просто неспособны сдерживать свою склонность к чревоугодию и сексуальные аппетиты. Ка’да Мосто писал, что к югу от Сахары широко распространен инцест.29 И итальянские гуманисты стали приравнивать физическую силу и «дикарство» чернокожих африканцев к неутолимой похоти, которая должны удовлетворяться при любой возможности. Даже музыкальность африканцев объясняли тщетными попытками дать выход своей сексуальности через ритмичные танцевальные движения.30 Любовь африканцев к золотым серьгам будила подозрения в том, что у них есть что-то общее со всеми ненавидимыми евреями – в народном сознании подобные украшения были неразрывно связаны именно с ними.
Представление о культурной неполноценности, варварстве и дикарстве чернокожих африканцев серьезно влияло на отношение к ним в повседневной жизни. Поскольку большинство итальянцев не испытывало ни малейших сомнений в том, что африканцы «в меньшей степени люди», чем белые христиане, то ни о какой самостоятельности и независимости и речи быть не могло. И неважно, насколько конструктивным и позитивным ни было поведение африканцев. Хотя чернокожих часто изображали художники того времени, всем им (за исключением Валтасара) отводилась роль второстепенная и вспомогательная. Изображая Юдифь с головой Олоферна, Мантенья сделал героиню белой, а пассивную служанку – чернокожей, несмотря на то что их этническое происхождение, скорее всего, было одинаковым. На фреске Гоццоли «Шествие волхвов в Вифлеем» мы видим единственное черное лицо – скромный паж, бегущий рядом с конями Медичи. Такое отсутствие независимости неизбежно несло с собой убеждение в том, что к чернокожим можно и должно относиться так, как пожелают те, кто самой природой поставлен выше их. Чернокожие рабыни постоянно становились жертвами сексуальных посягательств со стороны своих хозяев. Когда же подобное отношение перерастало в насилие, то виновной всегда признавалась жертва, а не насильник.
Однако самое серьезное влияние подобное восприятие культурной и моральной неполноценности оказало на легальный статус африканцев. Хотя среди цветного населения Италии в эпоху Ренессанса всегда были и рабы, и свободные люди, убежденность в «естественном» варварстве привела к тому, что цветных стали воспринимать как «естественных» рабов. Опираясь на извращенные идеи рабства, предложенные Платоном и Аристотелем, гуманисты, адвокаты и священнослужители стали считать, что нецивилизованные общества Черного континента созданы для того, чтобы ими управляли цивилизованные белые люди. И неважно, что чернокожие были братьями по вере, отношения с тропической Африкой в эпоху Ренессанса формировались под влиянием вредоносной идеи о расе рабов.
Церковь категорически запрещала порабощение христиан, но теологи быстро сформировали убеждение о том, что африканцы из тропической Африки – это особый случай, поскольку к рабству их предрасположила сама природа. Прошло всего 12 лет с момента возвращения во Флоренцию Альберто да Сартеано с его эфиопскими спутниками. Папа Николай V выпустил буллу «Dum diversas», которая должна была примирить Испанию и Португалию, соперничавших друг с другом за господство над новыми, только что открытыми землями. В обширном и всеобъемлющем документе Николай утверждал, что короли обеих стран имеют полное право вторгаться в любые королевства по своему желанию и порабощать население новых территорий вне зависимости от вероисповедания. Хотя папа Пий II впоследствии отверг этот документ, позже те же самые идеи вновь и вновь повторялись в других буллах, которые целиком и полностью оправдывали абсолютное порабощение африканцев. Так была сформирована тенденция, которая сохранялась веками и стала одним из самых печальных и тягостных эпизодов человеческой истории. Как это ни странно, но именно открытость Ренессанса и привела к появлению одного из величайших зол человечества.
* * *
После завершения экуменического собора Альберто да Сартеано и его эфиопские спутники покинули Флоренцию. Монах с полным основанием мог испытывать глубокое удовлетворение. Сознательно и бессознательно он способствовал расширению границ ренессансного мира. Он сломал барьеры мифов и легенд. Он способствовал гуманистическому постижению мира тропической Африки и проложил путь новым поколениям путешественников. Благодаря ему возникли связи с совершенно новыми землями. И самое глубокое удовлетворение он должен был испытывать от того, что христианский мир практически в мгновение ока стал намного больше, чем считалось раньше.
Хотя не сохранилось никаких письменных свидетельств, но, скорее всего, эфиопы подобного восторга и удовлетворения от своего итальянского путешествия не испытывали. Несмотря на то что их принимали очень тепло и роскошно, им вряд ли могло понравиться то подчиненное положение, в каком находились другие африканцы в Италии. Презрение, с которым они сталкивались на улицах, тоже никак не могло их вдохновить. Они были такими же христианами, как и все остальные, но было очевидно, что их не воспринимают как равных. Возможности учиться и торговать с белыми итальянцами должны были вселить в них надежду, но эта надежда не могла истребить чувства страха и тревоги. Поскольку они были христианами, то должны были отвергнуть подобные мысли, но для них и их соотечественников было бы гораздо лучше, если бы они сломя голову помчались прочь из Флоренции и предупредили свой народ о том, что его ждет. Терпимость и широта взглядов была лишь фасадом. И приехавшие во Флоренцию эфиопы, наверняка, понимали, что для африканцев было бы куда лучше, если бы Ренессанс оставил их в покое.
5. Дивные новые миры
В период завершения работы над «Алтарем Барбадори» Филиппо Липпи, сам того не сознавая, вступил на порог одного из величайших периодов путешествий и открытий в истории человечества. Хотя в эпоху Ренессанса Италия все больше сближалась с иудейской, исламской и африканскими культурами, головокружительным путешествиям было суждено до основания потрясти представление человечества о мире. Великие мореплаватели навсегда изменили лицо планеты. Всего за 50 лет Атлантика была покорена, и нога итальянского мореплавателя ступила на землю Америки.
Но, несмотря на грандиозный масштаб совершаемых одно за другим открытий, они почти не повлияли на культурную жизнь того времени. С конца 1430-х гг. итальянцы практически не проявляли любопытства к новым и неизвестным землям, о которых рассказывали путешественники. До Апеннин доходили лишь крохи сведений о таинственных новых островах. Кроме того, интеллектуальное высокомерие не позволяло ожидать от атлантического мира чего-то значимого и ценного. От путешественников не ожидали ничего, кроме новых путей к уже хорошо знакомым территориям. В лучшем случае предполагалось, что удастся подтвердить неопределенные намеки античных авторов на существование неких островов или открыть новые пути для торговли с Востоком – но не более того. И даже если во время путешествий откроется что-то неожиданное, то все были убеждены в том, что все цивилизованное уже давно открыто.
Преисполненные абсолютной уверенности в себе гуманисты превозносили героизм отважных мореплавателей, но об открытых ими территориях и народах писали со снисходительным презрением. Художники (и среди них Филиппо Липпи) даже не понимали, что судьба человечества меняется у них на глазах. Если не брать картографию, то в искусстве XIV–XV вв. нет ни единого намека на земли, расположенные за Атлантическим океаном. Кажется, что художники сознательно игнорировали сделанные путешественниками открытия.
Сегодня нам может показаться, что это самая удивительная и противоречивая особенность Ренессанса. Но если мы потянем за разные ниточки, то станет понятно, что, вступая в контакты с землями и народами, живущими за западным океаном, мужчины и женщины Ренессанса демонстрировали свои двойные интеллектуальные стандарты и цивилизационный цинизм.
Расширение горизонтов
До XIV в. Атлантический океан вызывал лишь косвенный интерес. Его считали всего лишь удобным путем для торговли с Дальним Востоком. Хотя Плиний Старший и Исидор Севильский намекали на существование островов, разбросанных вдоль африканского побережья, а в нордических сагах говорилось о таинственной земле, которую называли «Винландом», у итальянцев не было времени на подобные мифы, не имевшие практической ценности. Для них Атлантика была бескрайним океаном, отделяющим Европу от Китая, Явы и «Чипанго» (Японии). И такой подход нашел отражение в тщательно выполненных, но поразительно неточных картах. Еще в XIII в. Марко Поло убедительно доказывал, что Чипанго – это остров, до которого можно добраться прежде, чем до Китая, если поплыть из Португалии на запад.1 Средневековые авторы писали об островах в Атлантике, например, об «Острове Семи Городов», колонизированном христианами, которые бежали из Испании от мусульманских завоевателей.2 Считалось, что эти острова – часть огромного, неисследованного архипелага, лежащего к востоку от Индии и являющегося неиссякаемым источником специй. И хотя в представлениях об этих «индийских» островах по-прежнему присутствовали люди с собачьими головами и реки золота, никто не рассчитывал найти там нечто совершенно неожиданное.
Впрочем, главным стимулом атлантических путешествий были поиски нового морского пути в Индию. Идея открытия нового пути для торговли с Востоком принесла первые плоды еще до наступления эпохи Ренессанса. В 1291 г. два венецианца, братья Вандино и Уголино Вивальди, отплыли на двух кораблях к марокканскому побережью, чтобы достичь Индии.3 Экспедиция бесследно исчезла, но морские города-государства уже почувствовали привлекательную возможность. В начале XIV в. стали предприниматься более осознанные усилия. В 1321 г. генуэзский мореплаватель Ланчелотто Малочелло открыл остров Лансароте, и это событие стало грандиозным водоразделом.4 Хотя Малочелло тоже не удалось открыть столь желанный путь в Индию, но Европа поняла, что в античных и средневековых трудах гораздо больше правды, чем предполагалось ранее. И еще более это впечатление укрепили новые более систематические экспедиции на Канарские острова в 1341 г. Атлантика оказалась не пустым океаном. В ней явно было что-то интересное. А обитатели «Блаженных островов» (так тогда называли Канары) доказывали, что и в Атлантике могут жить люди.
Ко времени завершения «Алтаря Барбадори» начались путешествия на запад от Геркулесовых столпов. Стремительное возвышение Оттоманской империи создавало новые барьеры для доставки товаров по Великому шелковому пути, поэтому морские путешествия стали казаться все более привлекательными. Надежды найти новый путь на Восток не иссякали.5 Но постепенно становилось ясно, что Атлантика – это гораздо более оживленное и богатое место, чем представляли себе поколения дедов Филиппо Липпи. Хотя ведущую роль в исследованиях играли испанцы и португальцы, итальянские моряки принимали участие в самых далеких путешествиях. Каждый день во Флоренцию приходили известия об открытии невероятных новых земель. В 1418–1419 гг. Жоао Гонсалвеш Зарду и Тристау Вас Тейшейра открыли Порту-Сайту и Мадейру.6 Спустя восемь лет, в 1427 г., Диего да Силвеш, отправившись на запад от побережья Африки, открыл Азорские острова. В последующие годы Энрике мореплаватель отправлял новые экспедиции для разработки ресурсов открытых островов. Португальские экспедиции собирали сведения об островах и при возможности создавали на них постоянные торговые поселения, подчиняющиеся португальской короне. Полномасштабное завоевание Канарских островов началось в 1402 г. с экспедиции Жана де Бетанкура и Гадифера де ла Салля и продолжалось почти сто лет. Покорение островов породило еще более острую жажду в новой информации, имеющей коммерческую и военную ценность.
В конце 1492 г. почти неизвестный генуэзский капитан пересек Атлантику и изменил наш мир навсегда. Несмотря на то что поначалу он не понимал, что за земли перед ним, Христофор Колумб утром 12 октября высадился в Сан-Сальвадоре и через две недели, 28 октября, стал первым европейцем, ступившим на землю Кубы. Сколь бы туманны и неточны ни были представления Колумба о географии, он открыл двери в совершенно новый мир и проложил путь к активному исследованию обеих Америк. Во время экспедиций 1493–1494 гг. Колумб закрепил свои первые успехи – он открыл Ямайку, Пуэрто-Рико и Малые Антильские острова. Спустя три года Жуан Каботто (Джон Кэбот) высадился на Ньюфаундленде, а в последние годы XV в. Колумб, Алондо де Охеда и флорентиец Америго Веспуччи начали проникать в таинственные дебри Южной Америки. К началу XVI в. Атлантика превратилась в надежный путь к приключениям и открытиям.
Получение новостей
По значимости и масштабу великие географические открытия, начавшиеся в начале XIV в. и продолжавшиеся вплоть до XVI в., были гораздо грандиознее первой высадки человека на Луну. Трудно по-настоящему понять чувства, которые охватили в то время европейцев. Неудивительно, что «открытия» должны были стать неотъемлемой частью Ренессанса. И это странным образом согласуется с взглядами Буркхардта на воздействие этой эпохи на судьбы человечества. Швейцарский историк так пишет о Колумбе:
Снова и снова мы с восхищением обращаемся к благородной фигуре великого генуэзца, который захотел найти новый континент за океаном, искал и нашел его. Он первым смог сказать: «il mondo е росо» – «мир не так велик, как думали люди.7
Воображению людей открывались новые горизонты. Каждый год приносил знакомство с новыми людьми. Мир и человечество постепенно становились совершенно другими. Хотя чаще всего известия о новых открытиях поступали от великих морских держав Португалии и Испании, итальянцы с огромным энтузиазмом впитывали эти новости повсюду – от Венеции до Неаполя. А потом эта информация находила свое выражение в трудах гуманистов и ученых, работавших на Апеннинах.
Еще до открытия архипелага Мадейра и Азорских островов флорентийцы в XIV в. ощутили невероятную жажду познания океанских территорий и народов, их населяющих. Питер Берк справедливо заметил, что с самого начала итальянцы «играли важную роль» не только в «процессе открытий», но и «в распространении известий».8 Опираясь на истории мореплавателя и авантюриста Никколо да Рекко, Боккаччо написал восторженный рассказ о путешествии на Канарские острова (De Canaria) с обилием информации об экзотической одежде местных жителей, их социальных институтах, приемах ведения сельского хозяйства и музыкальных обычаях.9 Чуть позже интерес к новым землям проявил сам Петрарка. Его источником информации был «человек благородного происхождения, в жилах которого текла кровь королей Испании и Франции», предположительно Луис де ла Серда. В книге «Об уединенной жизни» (De vita solitaria) Петрарка увлекательно рассказывает о жизни и обычаях жителей Канарских островов.10 Обе эти книги демонстрируют пристальный интерес авторов к точному, порой даже педантичному, изложению подробной информации о новых землях, жажду знаний о топографии и антропологии атлантических территорий и невероятную любознательность.
Во времена Филиппо Липпи скорость поступления информации с Канарских и Азорских островов пробуждала еще больший интерес к получению точных знаний. О многом говорит тот факт, что папа Евгений IV назначил двух каноников для обсуждения будущего юридического статуса островитян на Базельском соборе – Антонио Минуччи да Пратовеккьо и Антонио Роселли.11 Более всего священнослужителей интересовали религиозные и социальные обычаи обитателей Канар. Богато иллюстрированные истории путешествий Бетанкура и де ла Салля (особенно «Канарец» Ле Веррье и Бонтье) были чрезвычайно популярны в Европе и помогали удовлетворить растущий интерес образованных людей к новому Атлантическому миру.
После смерти Липпи усилились не только литературные аппетиты. Невозможно было утолить голод итальянцев, жаждавших новых известий, которые с каждым днем становились все необычнее и разнообразнее. Еще до того как Колумб высадился на Сан-Сальвадоре, Полициано с восторгом писал королю Португалии об «открытиях новых земель, новых морей, новых миров». Невозможно представить себе, какое изумление охватило всех при известии о великих открытиях генуэзского капитана. XVI в. едва начался, как повсюду стали распространяться известия об этих путешествиях – сначала в виде манускриптов, затем в красиво переплетенных печатных томах. Рассказы Колумба о путешествиях быстро распространились по всей Европе. Не меньшей популярностью пользовались записки Веспуччи о его путешествии. Все буквально зачитывались рассказами флорентийца Джованни да Вераццано (он сосредоточился исключительно на побережье Северной Америки), несмотря на то что сегодня они малоизвестны.12 Огромной популярностью пользовались книги даже тех, кто не путешествовал сам. Восторг и возбуждение не знали границ. Вскоре после опубликования писем Веспуччи итальянцец Пьетро Мартире д’Ангиера (1457–1526) напечатал ряд работ, посвященных исследованию Америк, в том числе Decades (Декады) и De orbe novo (О Новом свете). Эти труды способствовали распространению информации о новых землях среди самой широкой публики. Венецианский чиновник Джанбаттиста Рамузио, почувствовав интерес читателей к более точным описаниям топографических и антропологических особенностей Америк, написал многотомный труд «О мореплавании и путешествиях» (Delle Navigationi et Viaggi) (1550–1559). Этот труд часто называют одной из первых по-настоящему современных географических работ. Казалось, что все вокруг хотят знать, насколько маленьким оказался наш мир.
Вдохновленные этими открытиями картографы, такие как Паоло дель Поццо Тосканелли (1397–1482) и Джованни Маттео Контарини (умер в 1507 г.), начали совершенствовать свое искусство, чтобы максимально точно отразить меняющийся мир.13 Гуманисты соревновались друг с другом, кто лучше воспоет «героические» достижения современных путешественников в чисто античной манере. В 1589 г. Джулио Чезаре Стелла (1564–1624) счел необходимым напечатать незаконченный вариант своей книги «Колумбиада» (Columbeis).14 Это была первая попытка описать путешествия Колумба в псевдо-вергилиевой манере. Стелла хотел опередить пиратов, которые уже были готовы отпечатать его книгу, предвидя колоссальный спрос. Если древние завоеватели и мореплаватели заслуживали дифирамбов, то неужели этого не заслужили те, кто сделал наш мир таким небольшим и доступным?
Невидимые миры
Надо сказать, что естественная жажда информации о сделанных открытиях была не простым любопытством, возбуждающим воображение, как это полагают многие современные историки. Вполне можно предположить, что культурное воздействие мореплавателей эпохи Ренессанса ощущалось более в восприятии сложнейшей ценности «научной» новизны, чем в реалиях художественного воображения того периода. Сколь бы замечательным ни было открытие миров Атлантики, художники и до, и после Филиппо Липпи не слишком вдохновлялись образами новых земель на Западе.
Не то чтобы путешествия Малочелло, де Силвеша, Бетанкура, Колумба и Веспуччи вовсе не нашли визуального отражения в итальянском искусстве. После создания печатного пресса географические труды, хроники и рассказы о путешествиях широко печатались в Италии. Обычно в таких книгах имелись не только подробные карты, но и тщательно исполненные гравюры – иллюстрации. Так, в третьем томе «Мореплаваний и путешествий» Рамузио (Венеция, 1556) читатели могли увидеть детально проработанные изображения незнакомых растений – маиса и банана, а также характерных орудий туземцев, например палочек для добывания огня. Но по большей части такие визуальные образы Нового Света редко считались серьезными художественными работами. Они почти никогда не создавались путем прямого наблюдения (художников не считали необходимыми в путешествиях). Обычно гравюры и рисунки основывались на слухах и фантазиях. Мастера стремились заинтересовать и увлечь читателей, а вовсе не давать им точную информацию. Хуже того, большое количество гравюр, которые мы видим в книгах, посвященных атлантическим путешествиям, были просто взяты из других печатных текстов, по большей части вообще не имеющих отношения к Новому Свету. Так, в некоторых ранних изданиях книги Америго Веспуччи Quattuor Navigationes («Четыре путешествия») путешественник встречается с племенами туземцев-каннибалов, которые уже заготовили человеческие конечности себе на ужин.15 В других текстах встречаются изображения коренных американцев, плавающих по рекам в ваннах, а в самих реках полным-полно русалок.
В большинстве путевых заметок иллюстрации носили именно такой характер. Никто, за исключением самых отъявленных дилетантов-резчиков, не имел ни малейшего представления о том, что приходило из-за Атлантики. В эпоху Ренессанса земли к западу от Гибралтара практически не оказывали никакого влияния на искусство в любой его форме. Даже самые глубокие знатоки будут тщетно искать в живописи и скульптуре того времени хоть какие-то намеки на Канары, Азоры или Америку. Хотя из-за океана в Европу поступали экзотические предметы, которые в середине XVI в. оседали в коллекциях придворных ценителей, но ни один итальянский художник не пытался кистью, углем или резцом отразить открытие Нового Света.16 Испанский хронист Гонсало Фернандес де Овьедо и Вальдес (1478–1557) с грустью и тревогой писал о том, что ни Леонардо да Винчи, ни внимательный и чуткий Андреа Мантенья никак не отразили на своих холстах ничего «американского». В мире нет другого региона, другой культуры и других народов, настолько слабо отраженного в искусстве. Даже евреи, мусульмане и чернокожие африканцы, которых в Европе слепо ненавидели, и те были лучше отражены в живописи XV–XVI вв. Если бы мы использовали для анализа эпохи одни лишь произведения великих художников эпохи Ренессанса, то нам могло бы показаться, что великих географических открытий вовсе не было.
Никакой прибыли и никакой человечности
Несправедливое и жестокое отношение к евреям, мусульманам и чернокожим африканцам кажется противоречащим нашему привычному представлению о Ренессансе как о периоде открытости, свободомыслия и толерантности. Полное же невнимание художников того времени к миру Атлантики поднимает еще более сложные вопросы. Какую роль «открытия» сыграли в формировании характера эпохи, которая прославилась своей просвещенностью и широтой интересов? Художники эпохи Ренессанса знали о мирах, расположенных за великим океаном, но не проявляли к ним ни малейшего интереса. И этот парадокс требует объяснений – хотя бы для того, чтобы попытаться спасти хоть что-нибудь из той чудовищной грязи, с какой было связано взаимодействие с «другими» в эпоху Ренессанса.
Но объяснять, почему чего-то не случилось, это дело сомнительное, поскольку доказательств, по определению, не существует. Хотя совершенно ясно, что художники эпохи Ренессанса не обращали никакого внимания на великие географические открытия, отсутствие визуальных элементов, связанных с Атлантическим миром, не позволяет нам определить, почему так произошло. Но хотя найти убедительные доказательства довольно трудно, два параллельных пути развития кажутся привлекательным, пусть даже и не совсем обнадеживающим, объяснением поразительной слепоты великих мастеров.
Первый путь связан с главной заботой эпохи Ренессанса, т. е. с деньгами. В ту эпоху деньги царили безраздельно – их власть была даже сильнее, чем сегодня. Как вам уже стало ясно из предыдущих глав, художники следовали за финансовыми интересами меценатов с тем же пылом, с каким голодные щенки бегут за повозкой мясника. А великие географические открытия не оказались практически никакого влияния на Италию эпохи Ренессанса. Хотя поток золота и серебра из Нового Света впоследствии затопил всю Европу и привел к кровопролитным войнам, первые путешествия в Атлантический мир почти не давали доходов. Нет, нельзя сказать, что они не вызывали никакого интереса. Генуэзцы, к примеру, с начала XV в. энергично поддерживали португальские и испанские заморские экспедиции – отчасти это объяснялось тем, что из восточной части Средиземноморья их уверенно вытеснили венецианцы.17 В нескольких заморских экспедициях приняли участие флорентийские торговцы и представители торговых банков. Джованни да Эмполи отправился в такое плавание по поручению своего банка уже в 1503–1504 гг.18 Перспективы обогащения интересовали всех. И все же ни один из крупных торговых центров Италии не ощутил реальной финансовой выгоды, которая была бы связана с открытием новых островов в Атлантике и первыми путешествиями по Америке. Единственное, что давало хоть какой-то доход, это займы, предоставляемые каталонским путешественникам под заоблачные проценты. Прибрежные территории Западной Африки казались неиссякаемым источником доходов, а вот Канарские и Азорские острова, Вест-Индия и Америка казались чем-то далеким и совершенно невыгодным.19 Даже косвенная торговля через иберийские государства, между которыми уже был поделен Новый Свет, мало влияла на рынки Флоренции, Рима и Милана. Лишь в XVI в. начала ощущаться какая-то реальная выгода. И только тогда люди, подобные флорентийскому торговому банкиру Луке Джиральди (умер в 1565 г.), отправились искать счастья в Новый Свет.20 Но к тому времени Ренессанс уже заканчивался. Итак, поскольку меценаты проявляли весьма слабый интерес к Атлантическому миру, то и у художников эпохи Ренессанса не было никаких материальных стимулов к тому, чтобы интересоваться этим регионом в большей степени.
Но если первая причина отсутствия у художников эпохи Ренессанса интереса к географическим открытиям может показаться довольно циничной, то вторая выглядит более тревожно. Итальянцы поколения Филиппо Липпи были буквально одержимы деньгами. И они совершенно не стремились открывать для себя что-то новое, если их к тому не вынуждали.
Представление о том, что открытия, объективные знания и толерантный релятивизм неразрывно связаны между собой – это чисто современный вымысел. Как уже было показано в предыдущих главах, где мы говорили о взаимодействии итальянцев эпохи Ренессанса с другими народами, приобретение знаний редко выходило за рамки дела сугубо субъективного. Этот процесс почти никогда не вел к критическому самоанализу и терпимости, которые стали естественными для тех, кто жил в эпоху Просвещения. Напротив, приобретение знаний и развитие понимания приводили лишь к закреплению предубеждений и усилению ненависти. Открытие Атлантического мира еще больше усилило и без того хорошо сформировавшуюся зловещую тенденцию.
Потенциально бесценный клад информации о новых землях Атлантического мира, полученной мореплавателями и путешественниками, не стал для итальянцев эпохи Ренессанса источником свежих и незамутненных знаний. Напротив, эти знания стали «крохотной верхушкой колоссальной горы сплетен, слухов, предубеждений и бесконечно повторяемых вымыслов».21 Фрагменты реальной и полезной информации привычно искажались и принимали фантастические формы в произведениях авторов, которые были более склонны доверять собственному воображению, чем рассказам настоящих путешественников. Да и сами путешественники зачастую воспринимали новые земли через призму мифов, вымыслов и откровенных предубеждений. Путешественники и толкователи их рассказов использовали огромное множество «побочных» источников – от безнадежно устаревшей античной географии до средневековых легенд и народных сказок. Но главным фактором, влияющим на восприятие знаний о новых западных территориях и населяющих их народах, оставались религиозные чувства глубоко католической Европы. Именно религиозные предубеждения настраивали европейцев против коренных жителей Канарских островов и Америки. Их не считали цивилизованными и мыслящими людьми – да и людьми-то тоже не считали.
С одной стороны, всегда существовало тревожное подозрение в том, что ранее неизвестные территории населены монстраными, которые либо абсолютно отвратительны и опасны, либо лишены физиологической «человечности», присущей жителям Европы. В Библии полным-полно историй о необычных великанах и ужасных существах, которые жили до потопа. Людям было трудно избавиться от мыслей о том, что некоторые из них могли уцелеть и продолжать жить на далеких заокеанских землях. С другой стороны, даже если новые народы могли пройти проверку «физической или биологической антропологии», это еще не означало, что их автоматически можно было считать нормальными представителями человечества.22 Пристальный анализ первых глав «Бытия» мог привести мыслителей эпохи Ренессанса к приравниванию человечности к определенным, довольно жестким стандартам существования. Одним из основных критериев определения «человеческого статуса» новых народов были «свидетельства социальной антропологии», т. е. «поведение, образ мыслей, технология». Однако Дэвид Абулафиа с присущим ему блеском замечает, что любые отклонения от общепринятых норм «цивилизованного» существования могли считаться доказательством того, что человекообразные существа не являлись людьми и были лишены души, которая имелась даже у столь ненавидимых еретиков, как евреи и мусульмане.23 Поскольку новые народы оценивались именно по таким критериям, неудивительно, что им было отказано в том, чтобы считаться людьми. Ни один туземец не мог убедить путешественника эпохи Ренессанса в том, что является человеком, если не был одет по последней европейской моде и не говорил на безупречной латыни, встречая гостя на пороге своего каменного дома.
Хотя Боккаччо во многом опередил свое время, попытавшись представить жителей Канарских островов как обитателей некоей пасторальной идиллии, которым чужды грехи тех, кто живет в итальянских городах, в целом итальянцы эпохи Ренессанса относились к народам Атлантических земель весьма негативно, что и неудивительно.24 И в свидетельствах путешественников, и в рассказах из вторых рук подчеркивались их антихристианское варварство и нечеловеческая жестокость. Петрарка с нехарактерной для себя жесткостью обрушился на своего друга Боккаччо и написал, что обитатели Канарских островов вообще не заслуживают внимания истинных христиан. Даже признавая, что жители «Блаженных островов» в определенном смысле являются представителями столь ценимой им «уединенной жизни», Петрарка замечал, что
им свойственны животные привычки, которые делают их подобными диким зверям, руководствующимися в своих действиях природными инстинктами, а не разумным выбором. То есть они стремятся к уединенной жизни не больше, чем дикие звери.25
Вряд ли это можно считать подтверждением «человечности» даже в самом ограниченном ее виде. И все же подобное отношение было гораздо более позитивным, чем то, что сформировалось довольно скоро. В 1436 г., всего за два года до того как Липпи завершил работу над «Алтарем Барбадори», король Португалии Дуарте написал папе Евгению IV. Он хотел получить исключительные права на все Канарские острова, что позволило бы ему полностью поработить их жителей, оправдывая свои действия их варварством и дикарством. Само то, что они понятия не имели об основных нормах цивилизованного существования (обработке металлов, кораблестроении, письменности), показывало их несоответствие христианскому представлению о человеческой природе. Дуарте писал, что островитяне – «настоящие дикари», не имеющие представления о законе и порядке и живущие «подобно диким зверям».26
Но худшее было еще впереди. Письмо Дуарте Евгению IV призывало к откровенному насилию. Рассказ Америго Веспуччи о первом путешествии в Америку был не столь жестким. Однако его описание жизни и быта туземцев имело еще более тяжкие и печальные последствия. Любые аргументы в пользу их «человечности» были окончательно отвергнуты после таких бездумных и высокомерных описаний:
Жизнь у них варварская, ибо едят они в неопределенное время и так часто, как хотят. Для них не имеет никакого значения, если это желание придет к ним в полночь или днем, ибо едят они во все часы. Едят они на земле без подстилки или другого какого-нибудь покрова, ибо мясная пища находится у них в глиняных мисках, которые они изготовляют для этой цели, или же в половинках тыквы… Никаких свадебных обычаев у них не существует. Каждый мужчина берет себе столько женщин, сколько пожелает, и, когда захочет отказаться от них, отказывается, не принося себе никакого ущерба или позора для женщины, ибо в этом отношении у женщины столько же свободы, сколько у мужчины. Они не очень ревнивы и безмерно сладострастны, и женщины гораздо больше, чем мужчины. Из скромности я опускаю искусство, которым они пользуются для того, чтобы удовлетворить свою безмерную похоть.[17]27
Свобода в питании, отсутствие скатертей и салфеток, гендерное равенство и свободная любовь сегодня не кажутся нам признаками, доказывающими или опровергающими принадлежность к человеческому роду. Но для выросшего во Флоренции Веспуччи все это было признаком дикарства, пугающего скотства. Трудно избавиться от подозрений в том, что он находился под влиянием предубеждений в отношении других народов (первым на ум приходит осуждение исламской полигамии), которые и подкрепляли его оценки. Но, словно этого было недостаточно, Веспуччи счел необходимым подчеркнуть абсолютное варварство коренных американцев, дав краткое описание их религиозных обычаев, т. е. их отсутствия:
Мы не смогли узнать, был ли у этих людей какой-нибудь закон. Их нельзя было назвать маврами или же евреями. Они были хуже, чем язычники, ибо мы никогда не видели, чтобы они приносили какие-нибудь жертвы. Также нет у них молельни. Их образ жизни, я сказал бы, эпикурейский. 28
Худшей услуги жителям Америки Веспуччи оказать не мог, даже если бы захотел. В глазах его соотечественников-флорентийцев стремящиеся к наслаждениям туземцы были еще более отвратительны, чем евреи или мусульмане. Людей, не имеющих религии, невозможно считать людьми.
И хотя Атлантика почти не представляла реального материального интереса для городов Северной Италии вплоть до конца XVI в., именно такое восприятие и стало причиной отсутствия интереса к жителям Канарских островов или Америки у художников эпохи Ренессанса – у того же Филиппо Липпи. Не имевшие даже зачатков культуры (в европейском понимании), отвергавшие нормы цивилизованного существования и пренебрегавшие какой бы то ни было религией туземцы не могли считаться людьми и не заслуживали внимания со стороны уважающего себя художника, подобного Филиппо Липпи. Евреи, мусульмане и чернокожие африканцы имели хотя бы зачатки человечности, несмотря на жестокие предубеждения христиан в их отношении. Народы же Атлантики и их земли попросту не заслуживали никакого внимания художников. Их невидимость была самой тяжкой формой презрения и неприятия, какую только можно вообразить, и в то же время красноречивым подтверждением отношения, которое не только позволило «цивилизованным» европейцам жестоко и без малейших угрызений совести разграбить Новый Свет, но еще и долгие века с чудовищным остервенением порабощать, угнетать и истреблять его народы.
* * *
Презрение к эпохальным открытиям XV в. – не самое необычное, но о многом говорящее доказательство того, как итальянцы эпохи Ренессанса воспринимали свои отношения с бескрайними горизонтами Атлантического мира. Великие путешествия и географические открытия не стали центром новой эпохи открытости, интеллектуальной любознательности и просвещения. Это событие не стало стимулом к познанию и открытию самих себя. Напротив, оно пробудило в людях худшие чувства, которые только можно представить. Разумы закрылись, границы человечности стали еще более тесными, целые народы были признаны не заслуживающими включения в человеческий род. И в то же время путешественников и мореплавателей приветствовали как героев, а все ужасные события и деяния скрывались за завесой молчания – самого поразительного художественного молчания всех времен.
Но самое замечательное заключается в том, что судьба народов Атлантики была самым ярким и поразительно недооцененным примером исторической тенденции безобразного Ренессанса. Ренессанс не был эпохой терпимости и понимания – это был период жестокой эксплуатации и грабежа. Всего за несколько коротких лет в одной лишь Флоренции – эпицентре потрясающих культурных инноваций, которые окутали всю эпоху аурой художественного блеска и величия – Саломоне ди Бонавентура столкнулся с первыми тревожными сигналами воинствующего антисемитизма, Альберто да Сартеано стал свидетелем начала угнетения и подавления народов тропической Африки, а Филиппо Липпи приветствовал всплеск исламофобии, одновременно не обращая никакого внимания на разграбление
Атлантики. Да, Ренессанс был эпохой колоссального культурного развития, но в тот период новые миры становились легкой добычей. И единственной наградой за страдания могло стать крохотное изображение в углу картины художника вроде Филиппо Липпи. Такое искусство прославляло исторический период, который мы привыкли восхвалять за поразительную «современность». Но в то же время картины мастеров, подобных Филиппо Липпи, скрывали самую безобразную сторону Ренессанса.
Эпилог Окно и зеркало
Из всех многочисленных и разнообразных достижений Леона Баттисты Альберти самым значительным и важным его вкладом в Ренессанс стала его утверждение о том, что идеальная картина должна быть такой живой, чтобы изображение реальности на стене можно было ошибочно принять за «открытое окно» (finestra aperta). Он полагал, что искусство художника заключается в том, чтобы убедить зрителя: то, на что он смотрит, это не картина, но реальный мир.1
Эта идея, которую можно считать квинтэссенцией увлечения Альберти перспективой, является фундаментом, на котором стоит величественный храм искусства Ренессанса. Иллюзорные эффекты линейной перспективы, столь ярко описанные в труде Альберти «О живописи» (De pictura) – позволяли искусству Ренессанса не только подражать совершенству античной скульптуры, но и копировать саму природу. Такое беспрецедентное сочетание потрясающего классицизма и ошеломляющего натурализма придало искусству этого периода величественную красоту, не знающую себе равных.
Альберти оказал колоссальное влияние на визуальные искусства. Созданный им образ «открытого окна» играет важную роль в общем восприятии эпохи Ренессанса. Возьмите любое великое произведение искусства того периода – от созданного неизвестным художником «Идеального города» и «Бичевания Христа» Пьеро делла Франческа до «Тондо Донн» Микеланджело и «Моны Лизы Леонардо да Винчи, – и вам сразу же захочется увидеть в нем окно в Ренессанс. Так оно и есть, если ограничиться жизнью только таких людей, как Альберти. Эти люди вызывали то же восхищение, что и великие картины, на которые мы смотрим.
Но в идее «открытого окна» скрыт иной смысл. Это лишь иллюзия. Хотя искусный художник может обмануть зрителя и заставить его думать, что картина – это окно в реальный мир, полотно всегда останется всего лишь картиной. Картина показывает мир не таким, каков он есть, но таким, каким хотят его видеть художник и его покровитель. Это лишь фантазия.
Идеальный художник Альберти – это искусный фокусник. Но это не означает, что визуальные искусства не открывают нам окно в Ренессанс. Как раз наоборот. Нужно лишь заглянуть поглубже, не ограничиваясь одним лишь прекрасным фасадом. И тогда нам откроется социальный мир, который питал воображение художника. Он проявится в особенностях композиции, в отношениях, воплощенных на холсте, в мелких деталях, использованных мастеров. И тогда нам станет ясен подлинный характер Ренессанса. Это не была идеальная эпоха, способная вызвать лишь неподдельное и безграничное восхищение. Это было время секса, скандалов и страданий. В городах царили порочность и неравенство, на улицах кишели проститутки, священники не являли собой образец нравственности. А в домах и дворцах жили болезни, страдания, шантаж, темные сделки и всевозможные заговоры. Художники находились в полной власти своих покровителей, а покровителями этими были нечистоплотные банкиры, жаждущие власти, кровожадные наемники, балансирующие на грани безумия, и безбожные папы, для которых главным в жизни были деньги и влияние. Это было время, когда иные народы и культуры подвергались безжалостному угнетению, когда пышным цветом расцвели антисемитизм и исламофобия, когда в результате великих географических открытий сформировались самые отвратительные виды фанатизма и предубеждений. Если окно Альберти действительно открылось в Ренессанс, то Ренессанс этот оказался очень безобразным.
Хотя такой взгляд на Ренессанс заметно отличается от привычного отношения к этому периоду, не следует считать его обвинением. Не следует думать, что это каким-то образом принижает художественные и литературные достижения таких людей, как Филиппо Липпи, Микеланджело, Петрарка и Боккаччо. Как раз наоборот. Поняв, насколько ужасной и порой отвратительной была социальная жизнь в эпоху Ренессанса, начинаешь ценить их творчество еще больше. Далеко не все в этом историческом периоде было прекрасным и достойным. И тем больше восхищения вызывают художники и литераторы, создавшие истинные шедевры, равных которым нет и по сей день. Ведь эти люди жили в эпоху ужасов, страданий, фанатизма и нетерпимости. Все это вызывает еще больший восторг перед лицом этого необыкновенного исторического периода. Если бы деятели культуры Ренессанса были богами, жившими в настоящем раю, то созданные ими шедевры не вызывали бы изумления и не производили бы такого мощного впечатления. Но когда мы понимаем, насколько безобразен был тот исторический период, то наше восхищение людьми, стремившимися к идеалу и мечтавшими создать нечто более прекрасное и совершенное, чем все созданное до них, становится еще больше. Если перефразировать эту мысль иначе, то можно сказать, что человек, лежащий в грязи, но устремленный к звездам, вызывает больше уважения, чем олимпийский бог, творящий херувимов из облаков.
Однако, если считать визуальное искусство окном в Ренессанс – такой, каким он был на самом деле, то культура того выдающегося периода человеческой истории может послужить зеркалом современного мира. И тогда восторг прошлого должен уступить место обвинениям в адрес настоящего.
Одной из самых поразительных особенностей «безобразного» Ренессанса является то, что, за исключением достижений технологии, он ничем не отличается от современного мира. Страданий сегодня не меньше, чем было в Италии 600 лет назад. Улицы по-прежнему остаются вместилищем порока, на городских площадях людей по прежнему насилуют, грабят и убивают. Среди политиков пышным цветом цветет коррупция, в разных уголках мира, как и прежде, сражаются наемники, а банкиры по-прежнему жиреют на своих темных делишках. Даже если папы стали лучше, чем были в эпоху Ренессанса, Ватикан по-прежнему сотрясают скандалы – финансовые и сексуальные. Нетерпимость и фанатизм не ослабели, болезни и неравенство не исчезли. Бедность по-прежнему остается бичом нашего общества, а расизм остается неотъемлемой стороной современной повседневной жизни. Ненависть между нациями становится только сильнее, а уважение к другим культурам меркнет перед глубоко укоренившимися предубеждениями, невежеством и стереотипами. Но если порочность Ренессанса подталкивала и меценатов, и художников к чему-то более высокому и прекрасному, современный мир чувствует себя вполне комфортно в океане тупой и бессмысленной серости. Несмотря на то что достижения техники позволяют творить настоящие чудеса, никто не пытается выйти за рамки обычных функций. Никто не стремится к чему-то большему или более совершенному. Возникает ощущение удовлетворенной потребности, некоей культурной стагнации и сознательного презрения к красоте и совершенству.
История показала себя плохим учителем, и к тем урокам, которые она может нам преподать, следует относиться чрезвычайно осторожно. Но, поднося зеркало Ренессанса к лицу современного мира, трудно не почувствовать, что это тот самый урок, которые нужно усвоить – и как можно быстрее. Сколь бы ужасной ни казалась нам современная жизнь, не следует считать, что материальные проблемы и тяготы оправдывают культурную посредственность, беззастенчивое безобразие и отказ от идеалов. Как раз наоборот. Чем темнее ночь, тем более страстно люди должны стремиться к яркому рассвету, и тем сильнее должно быть их желание наполнить свою жизнь красотой и чудесами. Если без скандалов, страданий и коррупции не обойтись, то пусть они существуют сами по себе. А мы будем наполнять мир памятниками поразительным высотам человеческого воображения. Мы превратим землю в живой, дышащий памятник совершенной красоте, чтобы через 600 лет люди обратили свои взгляды к нашей эпохе и замерли в изумлении перед сотворенными нами чудесами. Мы снова должны начать мечтать. Давно пришло время для нового Ренессанса.
Приложения
Приложение 1 Медичи
Древо Мидичи
Приложение 2 Папы эпохи Ренессанса
Авиньонское папство
Климент V 1305–1314
Иоанн XXII 1316–1334
[Николай V 1328–1330]
Бенедикт XII 1334–1342
Климент VI 1342–1352
Иннокентий VI 1352–1362
Урбан V 1362–1370
Григорий XI 1370–1378
Великий раскол
Рим
Урбан VI 1378–1389
Бонифаций IX 1389–1404
Иннокентий VII 1404–1406
Григорий XII 1406–1415
Мартин V 1417–1431
Авиньон
Климент VII 1378–1394
Бенедикт XIII 1394–1423
Пиза
Александр V 1409–1410
Иоанн XXIII 1410–1415
Возвращение в Рим
Примечания
Вступление: Возвышенное и земное
1 Лучшее жизнеописание Пико деяла Мирандолы см. Е. Garin, Giovanni Pico della Mirandola: Vita e dottrina (Florence, 1937).
2 Giovanni Pico della Mirandola, Oration on the Dignity of Man; trans. by E. Livermore Forbes In E. Cassirer, P. O. Kristeller, and J. H. Randall Jr., eds., The Renaissance Philosophy of Man (Chicago, 1948), 223–254, P. 223).
3 Ibid.
4 Ibid.
I: Мир художника эпохи Ренессанса
1. Нос Микеланджело
1 Giorgio Vasari, Lives of the Artists, trans. G. Bull, 2 vols. (London, 1987), 1:332.
2 Vasari, Lives, 1:418.
3 Vasari, Lives, 1:331; W. Wallace, Michelangelo: The Artist, the Man, and His Times (Cambridge, 2010), 53, n. 4.
4 Vasari, Lives, 1:332.
5 Benvenuto Cellini, Autobiography, trans. G. Bull, rev. ed. (London, 1998), 18.
6 Vasari, Lives, 1:332.
7 Ascanio Condivi, Michelangelo: Life, Letters, and Poetry, trans. G. Bull (Oxford and New York, 1987), 72–73.
8 Vasari, Lives, 1:332.
9 Condivi, Michelangelo, 72.
10 Говорили, что отец Микеланджело происходил «из благороднейшего и древнейшего семейства», но, скорее всего, это лишь выдавание желаемого за действительное. Wallace, Michelangelo, 36; Michelangelo Buonarroti, II Carteggio di Michelangelo, ed. P. Barocchi and R. Ristori, 5 vols. (Florence, 1965-83), 4:249–250.
11 В Сиене были художники, которые входили в органы местного управления. Дуччо ди Буонисенья (1255/60-1315/19) был членом Народного совета Сиены в 1289 г. Его имя дважды упоминается в связи с другими органами управления в 1292 и 1295 гг. 8 февраля 1340 г. Симоне и Донато Мартини были назначены прокураторами папской курии. В Сиене были художники необычно высокого происхождения. Бартоломмео Булгарини (ум. в 1378 г.), судя по документам гильдии художников, родился в благородном семействе. Происхождение его было настолько высоким, что его семье было запрещено занимать должности в органах управления из-за их высокого статуса. Н. В. J. Maginnis, The World of the Early Sienese Painter (Philadelphia, 2001), 76–82.
12 M. V. Schwartz and P. Theis, «Giottos Father: Old Stories and New Documents», Burlington Magazine 141 (1999), 676–677.
13 Maginnis, The World of the Early Sienese Painter, 46–47.
14 Особенно хорошо эта тема раскрыта в книге A. Martindale, The Rise of the Artist In the Middle Ages and Early Renaissance (London, 1972).
15 P. L. Rubin, Giorgio Vasari: Art and History (London, 1995), 292–293; J. Larner, Culture and Society In Italy, 1290–1420 (London, 1971), 305; Maginnis, The World of the Early Sienese Painter, 80–81.
16 Larner, Culture and Society, 279–280; Maginnis, The World of the Early Sienese Painter, 80.
17 Великолепный обзор контрактных отношений между художниками и меценатами можно найти в книге Е. Welch, Art and Society In Italy 1350–1500 (Oxford, 1997), 103–130.
18 Cellini, Autobiography, 130.
19 P. Barocchi, ed., Scritti darte del cinquecento, 3 vols. (Milan and Naples, 1971–1977), 1:10.
20 Vasari, Lives, 1:423.
21 Michelangelo, verse 83,11.1–4; trans. from Poems and Letters, trans. A. Mortimer (London, 2007), 23.
22 Об обвинении Леонардо в содомии см., к примеру, L. Crompton, Homosexuality and Civilization (Cambridge MA, 2006), 265; G. Creighton and M. Merisi da Caravaggio, Caravaggio and his Two Cardinals (Philadelphia, 1995), 303, n. 96; R. Wittkower and M. Wittkower, Born Under Saturn: The Character and Conduct of Artists: A Documented History from Antiquity to the French Revolution (New York, 2006), 170–171.
23 Подробное описание сексуальной жизни Челлини дается в статье Р. L. Rossi, «The writer and the man – real crimes and mitigating circumstances – II caso Cellini», In K. Lowe and T. Dean, eds., Crime, Sexual Misdemeanour and Social Disorder In Renaissance Italy (Cambridge, 1994), 157–183. Необходимо также отметить, что в 1543 г. Челлини обвиняли в содомии некое Катерины: Cellini, Autobiography, 281–283.
24 Cellini, Autobiography, 91, 128–129.
25 Ibid., 184–189.
26 См. C. Grey and P. Heseltine, Carlo Gesualdo, Musician and Murderer (London, 1926).
27 J. Burckhardt, The Civilization of the Renaissance In Italy,trans.S.G. C. Middlemore (London, 1995), 87, 90–91.
28 Точка зрения Буркхардта на «открытие личности» подвергалась серьезному пересмотру. Аргументы против подобного подхода можно найти в ряде источников, в том числе: Н. Baron, «Burckhards Civilization of the Renaissance a Century after Its Publication», Renaissance News 13 (1960): 207–222; Macginnis, The World of the Early Sienese Painter, 83-113; M. Baxandall, Painting and Experience In Fifteenth-Century Italy (Oxford, 1972); B. Cole, The Renaissance Artist at Work from Pisano to Titian (London, 1983); A. Thomas, The Painters Practice In Renaissance Tuscany (Cambridge, 1995); M. Becker, «An Essay on the Quest for Identity In the Early Italian Renaissance», In J. G. Rowe and W. H. Stockdale, eds., Florilegium Historiale: Essays Presented to Wallace K. Ferguson (Toronto, 1971), 296–308; W. Stedman Sheard and J. T. Paoletti, eds., Collaboration In Italian Renaissance Art (New Haven, 1978); M. M. Bullard, «Heroes and their Workshops: Medici Patronage and the Problem of Shared Agency», Journal of Medieval and Renaissance Studies 24 (1994): 179–198; A. Guidotti, «Pubblico e private, committenza e clientele: Botteghe e produzione artistica a Firenze tra XV e XVI secolo», Richerche storiche 16 (1986): 535–550.
29 S. Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare (Chicago, 1984).
30 S. Y. Edgerton, The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective (New York, 1975); E. Panofsky, «Die Perspektive als symbolische Form», Vortrage der Bibliothek Warburg 1924–1925 (1927): 258–330. Дополнительную информацию о взглядах Панофски на линейную перспективу в эпоху Ренессанса см. С. Landauer, «Erwin Panofsky and the Renascence of the Renaissance», Renaissance Quarterly 47/1 (1994): 255–281, esp. 265–266; К. P. F. Moxey, «Perspective, Panofsky, and the Philosophy of History», New Literary History 26/4 (1995): 775–786.
31 См. H. Wohl, The Aesthetics of Italian Renaissance Art: A Reconsideration of Style (Cambridge, 1999); см. Также статью C. R. Mack, Renaissance Quarterly 53/2 (2000): 569–571.
32 В этой связи см., к примеру, следующие статьи и книги: Е. Н. Gombrich, «From the revival of letters to the reform of the arts», In D. Fraser, H. Hibbard, and M. J. Lewine, eds., Essays In the History of Art Presented to Rudolf Wittkower (London, 1967), 71–82; R. Weiss, The Renaissance Discovery of Classical Antiquity (New York, 1969); B. Rowlands Jnr., The Classical Tradition In Western Art (Cambridge MA, 1963).
33 См. Panofsky, Renaissance and Renascences, 9; M. Baxandall, Giotto and the Orators: Humanist Observers of Painting In Italy and the Discovery of Pictorial Composition, 1350–1450 (Oxford, 1971); С. E. Gilbert, Poets Seeing Artists' Work: Instances In the Italian Renaissance (Florence, 1991).
34 Dante, Purg. 11.91-6. Перевод дается по изданию: Данте А. Божественная Комедия: Ад. Чистилище. Рай / пер. М. Лозинского. М., 2014.
35 См. R. W. Lee, «Ut Pictura Poesis: The Humanistic Theory of Painting», Art Bulletin 22/4 (1940): 197–269, here 199–200; E. Hazelton Haight, «Horace on Art: Ut Pictura Poesis», The Classical lournal 47/5 (1952): 157–162, 201–202; W. Trimpi, «The Meaning of Horaces Ut Pictura Poesis», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 36 (1973): 1-34; W. K. Ferguson, «Humanist views of the Renaissance», American Historical Review 4 (1939): 1-28; M. L. McLaughlin, «Humanist concepts of Renaissance and Middle Ages In the tre- and quattrocento», Renaissance Studies 2 (1988): 131–142.
36 Petrarch, Africa, 9.451-7. Перевод дается по изданию: Петрарка Ф. Африка / пер. С. К. Апта. М., 1992. Полный текст эпического труда Петрарки см. Africa, ed. N. Festa, Edizione Nazionale delle Opere di Francesco Petrarca (Florence, 1936). Классическое истолкование этого пассажа дается в статье Т. Е. Mommsen, «Petrarchs Conception of the «Dark Ages», Speculum 17 (1942): 226–242. Однако остаются определенные сомнения в том, насколько полно можно принимать мнение Моммзена: см. также A. Lee, «Petrarch, Rome, and the «Dark Ages», In P. Prebys, ed., Early Modern Rome, 1341–1667 (Ferrara, 2012), 9-26, esp. 14–17.
37 Giovanni Boccaccio, Lettere edite ed Inedite, ed. F. Corazzini (Florence, 1877), 187; Decameron, 6.5. Здесь и далее перевод дается по изданию: Бокаччо Д. Декамерон / пер. А. Н. Веселовского. М., 2001.
38 Marsilio Ficino, Opera Omnia, (Basel, 1576; repr. Turin, 1962), 944 (974); trans. in A. Brown, The Renaissance, 2nd ed. (London and New York, 1999), 101.
39 Leonardo Bruni, Le Vite di Dante e di Petrarca, In H. Baron, Humanistisch-philosophische Schriften (Berlin 1928), 66; trans. from. D. Thompson and A. F. Nagel, eds. and trans., The Three Crowns of Florence. Humanist Assessments of Dante, Petrarca and Boccaccio (New York, 1972), 77; О взглядах Бруни на Петрарку и Данте см., к примеру, книгу G. Ianziti, Writing History In Renaissance Italy. Leonardo Bruni and the Uses of the Past (Cambridge MA and London, 2012), 177–178.
40 Matteo Palmieri, Vita civile, ed. G. Belloni (Florence, 1982), 43-4; trans. In Brown, The Renaissance, 102.
2. В тени Петра
1 Микеланджело знал Франческо Граначчи (1469–1543) с детства. Они вместе учились в мастерской Доменико Гирландайо, их одновременно отправили в школу Бертольдо ди Джованни. См. Vasari, Lives, 1:330. Впоследствии Франческо выполнил несколько работ для Сан-Марко по поручению Лоренцо де Медичи, а затем отправился в Рим, чтобы помогать Микеланджело в процессе росписи Сикстинской капеллы.
2 О жизни Бертольдо ди Джованни (ок. 1440–1491) мы знаем очень немного. До нас дошла лишь малая часть его работ, преимущественно медали. Хотя трудно понять точный смысл замечания Вазари, но, судя по всему, в течение нескольких лет до 1491 г. он был болен и к моменту появления Микеланджело не мог продолжать работать самостоятельно. Достоверно известно, что в 1485 г. он сопровождал страдавшего от подагры Лоренцо де Медичи на воды в местечко Баньи ди Морба – возможно, это свидетельствует об определенных узах дружбы, соединяющих этих людей. Есть сведения о том, что несколько месяцев он серьезно болел и скончался 28 декабря 1491 г. на вилле Лоренцо в Поджо а Кайяно на 51-м году жизни. Таким образом, можно считать, что сцена из Деяний апостолов (5:12–16), изображенная Мазаччо на фреске «Святой Петр исцеляет больного своей тенью», может иметь определенное отношение к этому событию.
3 О появлении городов-государств Северной Италии см. D. Waley, The Italian City-Republics, 3rd ed. (London, 1988); P. Jones, «Communes and despots; the city state In late-medieval Italy», Transactions of the Royal Historical Society 5th ser., 15 (1965): 71–96; Idem, The Italian City-State: From Commune to Signoria (Oxford, 1997); J. K. Hyde, Society and Politics In Medieval Italy. The Evolution of the Civil Life, 1000–1350 (London, 1973); L. Martines, Power and Imagination. City-States In Renaissance Italy (London, 1980).
4 Существует два классических (хотя и противоположных) исследования этой тенденции: Н. Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance, rev. ed. (Princeton, 1966); Q. Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, 2 vols. (Cambridge, 1978). Хотя труды эти вполне доступны, относиться к ним следует с осторожностью. Каждая книга противоречива по-своему, и ученые продолжают спорить по этому вопросу.
5 Полезную и вполне доступную информацию по этой теме можно найти в книге D. Norman, ed., Siena, Florence, and Padua. Art, Society and Religion 1280-MOO, 2 vols. (New Haven and London, 1995), esp. 2:7-55.
6 См. G. A. Brucker, Renaissance Florence (Berkeley, Los Angeles and London, 1969), 51.
7 Ibid., 52.
8 См. F. Franceschi, «The Economy: Work and Wealth» In J. M. Najemy, ed., Italy In the Age of the Renaissance 1300–1550 (Oxford, 2004), 124–144, p. 129. Конечно, ученые продолжают спорить о крепости и силе флорентийской экономики, особенно в период после кризисов середины XIV в. Но многочисленные свидетельства показывают, что до середины XVI в. значительного спада деловой активности не наблюдалось. Интересный и глубокий обзор экономической истории Флоренции дается в книге R. A. Goldthwaite, Private Wealth In Renaissance Florence: A Study of Four Families (Princeton, 1968).
9 См. R. Black, «Education and the emergence of a literate society», In Najemy, ed., Italy In the Age of the Renaissance, 18–36, p. 18.
10 Цитата приводится в книге Brucker, Renaissance Florence, 29.
11 Работа Бруни упоминается в книге В. G. Kohl and R. G. Witt, ed., The Earthly Republic. Italian Humanists on Government and Society (Philadelphia, 1978), 135–187, p. 135.
12 Ibid.; Kohl and Witt, ed., The Earthly Republic, 139.
13 Ibid.; Kohl and Witt, ed., The Earthly Republic, 140.
14 Ugolino Verino, De Illustratione urbis Florentiae, работа цитируется в книге S. U. Baldassarri and A. Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence. Selected Writings In Literature, History, and Art (New Haven and London, 2000), 208–212, p. 210.
15 Giovanni Rucellai, Zibaldone, ed. A. Perosa, 2 vols. (London, 1960), 1:60; приводится в книге Baldassarri and Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence, 73.
16 Ugolino Verino, Ad Andream Alamannum de laudibus poetarum et de felicitate sui saeculi; приводится в книге Baldassarri and Saiber, eds. Images of Quattrocento Florence, 94.
17 L. Martines, Scourge and Fire. Savonarola and Renaissance Italy (London, 2007), 103.
18 Неравенство потребностей делает точное сравнение цен и заработка в XIV–XVI вв. практически невозможным. Однако мы располагаем информацией, которая позволяет довольно четко проследить тенденцию к снижению реальных заработков неквалифицированных работников. См. R. A. Goldthwaite, The Economy of Renaissance Florence (Baltimore, 2009), 570–574; С. M. de La Ronciere, «Poveri e poverta a Firenze nel XIV secolo», In C. – M. de la Ronciere, G. Cherubini, and G. Barone, eds., Tra preghiera e rivolta: le folle foscane nel XIV secolo (Rome, 1993), 197–281; S. Tognetti, «Prezzi e salari nella Firenze tardomedievale: Un profile», ASI153 (1999): 263–333.
19 G. Brucker, ed., The Society of Renaissance Florence: A Documentary Study (New York, 1971), 214–218, docs. 102–104.
20 Vasari, Lives, 2:42. По информации Веспасиано да Бистиччи, Козимо пожертвовал такую крупную сумму, поскольку хотел искупить грехи неблаговидных поступков, которые позволили ему сделать огромное состояние. Brucker, Renaissance Florence, 108. Но, по мнению Доменико ди Джованни да Корелла, щедрость Козимо превосходила даже королевскую. Domenico di Giovanni da Corella, Theotocon, цитата приводится в книге Baldassarri and Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence, 246–251, p. 250.
21 Ugolino Verino, De Illustratione urbis Florentiae, цитируется по книге Baldassarri and Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence, 210.
22 Ibid.
23 Corella, Theotocon, 250.
24 Цитата приводится в книге R. Trexler, Public Life In Renaissance Florence (Ithaca and London, 1980), 190.
25 Глубокий и подробный анализ жизни и деятельности Савонаролы приводится в книге Martines, Scourge and Fire, а также в более недавнем труде D. Weinstein, Savonarola. The Rise and Fall of a Renaissance Prophet (New Haven and London, 2011).
26 Об этом см. Vasari, Livesy, 1:227.
27 Ascanio Condivi, Vita di Michelangelo Buonarroti, ed. G. Nencioni (Florence, 1998), 62; M. Hirst, Michelangelo, vol. 1, The Achievement of Fame (New Haven and London, 2011), 25–26.
28 Очень живое описание осады Сан-Марко вы найдете в книге Martines, Scourge and Fire, 231–243.
29 Michelangelo, verse 267,11.7–9; trans. from Poems and Letters, trans. Mortimer, 56.
30 Об этом см. Vasari, Livesy, 1:160.
31 Ibid., 1:123.
32 Цитата приводится в книге Baldassarri and Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence, 63.
33 Hirst, Michelangelo, 7.
34 Цитата приводится в книге Brucker, Renaissance Florence, 40–41.
35 Здесь я использовал статью W. J. Connell, G. Constable, «Sacrilege and Redemption In Renaissance Florence: The Case of Antonio Rinaldeschi», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 61 (1998): 63–92.
36 Brucker, The Society of Renaissance Florence, 156–157.
37 Ibid., 190, doc. 89.
38 Antonio Beccadelli, The Hermaphrodite, ed. and trans. H. Parker (Cambridge MA, 2010), 108–111; II, xxxvii, 11. 9-18, 21–32. Хотя даже здесь мне пришлось опустить самые откровенные строки, «Гермафродит» считается одной из самых скромных и сдержанных произведений Беккаделли.
39 Документ о создании этого борделя в переводе приводится в книге Brucker, The Society of Renaissance Florence, 190, doc. 88.
40 Petrarch, Sen. 11.11; цитируется по изданию Francis Petrarch, Letters of Old Age. Rerum Senilium Libri I–XVIII, trans. A. S. Bernardo, S. Levin, and R. A. Bernardo, 2 vols. (Baltimore and London, 1992), 2:414–415.
41 Brucker, Renaissance Florence, 29–30.
42 Petrarch, Sen. XIV, 1; приводится в книге Kohl and Witt, ed., The Earthly Republic, 35–78, here, 52.
43 Судя по флорентийскому catasto, средняя годовая плата за жилье в квартале Сан-Фредиано в Олтрарно составляла от одного до двух флоринов в год. Brucker, Renaissance Florence, 25.
3. Что видел Давид
Francesco Guicciardini, Storie fiorentine, ed. R. Palmarocchi (Bari, 1931), 94; цитата приводится в статье A. Brown, The Early Years of Piero di Lorenzo, 1472–1492: Between Florentine Citizen and Medici Prince», in J. E. Law and B. Paton, eds., Communes and Despots In Medieval and Renaissance Italy (Farnham, 2011), 209–222, p. 209.
2 О побеге Микеланджело см. Hirst, Michelangelo, 21–22.
3 Michelangelo, Carteggio, 1:9.
4 Ibid., 1:8.
5 Hirst, Michelangelo, 44.
6 Goldthwaite, Economy of Renaissance Florence, 576.
7 О переговорах с членами комитета собора в январе 1504 г. см., к примеру, Hirst, Michelangelo, 45–46.
8 Об этом см. Vasari, Livesy, 1:322.
9 Ibid., 2:32.
10 Ibid., 1:282.
11 Ibid., 2:167.
12 Ibid., 1:197.
13 Подробную информацию вы найдете в книге Goldthwaite, Economy of Renaissance Florence, 204.
14 Goldthwaite, Economy of Renaissance Florence, 74–75.
15 Ibid., 308–309.
16 Rucellai, Zibaldone, 1:62; 75.
17 Определять стоимость флорина в современном эквиваленте – дело сложное. Во-первых, во Флоренции использовались различные монеты (серебряные и золотые). Относительная ценность монет колебалась с течением времени. Кроме того, покупательная способность флорина на протяжении веков значительно менялась (Goldthwaite, Economy of Renaissance Florence, 609–614).
Поэтому любые оценки будут весьма приблизительными и очень грубыми. Золотой флорин в среднем содержал 3,536 г золота. При текущей цене золота в 51 доллар за грамм можно сказать, что монета стоила около 180 долларов. Но покупательная способность флорина была значительно выше. Можно использовать различные ориентиры для сравнения. Например, средний дневной заработок неквалифицированного строительного рабочего (см. таблицу в книге Goldthwaite, Economy of Renaissance Florence, 613, а также книгу R. A. Goldthwaite, The Building of Renaissance Florence: An Economic and Social History [Baltimore, 1980], 436–437) можно считать наиболее удобной, хотя и не вполне удовлетворительной, отправной точкой. Учитывая, что в 1450 г. такой работник получал 10 сольди в день, то есть около 0,12 флорина и сравнивая эту сумму с современной минимальной оплатой в 58 долларов в день, можно сказать, что покупательная способность флорина на рынке труда середины XV в. составляла около 493 долларов.
18 Hirst, Michelangelo, 132–133.
19 Franceschi, The Economy: Work and Wealth, 141.
20 D. Herlihy and C. Klapisch-Zuber, Fes Toscans et leurs families (Paris, 1978), 295.
21 Об условиях труда низшего социоэкономического слоя флорентийского общества см., к примеру, S. К. Cohn, Jr., The Laboring Classes In Renaissance Florence (New York, 1980).
22 Brucker, Renaissance Florence, 61–62.
23 См., к примеру, статью J. C. Brown and J. Goodman, «Women and Industry In Florence», Journal of Economic History 40/1 (1980), 73–80.
24 Brucker, Renaissance Florence, 26.
25 Goldthwaite, Economy of Renaissance Florence, 362–363.
26 Wallace, Michelangelo, 140–141.
27 Цитата приводится в книге Brucker, The Society of Renaissance Florence, 235.
28 Ibid.
29 Ibid., 236.
30 Ibid., 237–238.
31 Ibid., 239.
32 Положение в этой схеме художников, подобных Микеланджело, было двойственным. Хотя некоторые из тех, кто работал вместе с ним над скульптурными проектами с 1501 по 1505 г., входили в структуру гильдий или полностью находились вне ее, положение самого Микеланджело было довольно любопытным. Во Флоренции не существовало гильдии художников. Самым приближенным к этому понятию институтом была Компанья ди Сан-Лука, членом которой был Пьеро ди Козимо. Но это было, скорее, религиозное братство, чем гильдия. Лишь образование в XVI в. Академии дель Дисеньо позволило собрать художников под одной крышей. В силу неопределенности своего статуса Микеланджело не мог быть членом какой-либо гильдии. М. A. Jack, «The Accademia del Disegno In Late Renaissance Florence», Sixteenth Century Journal 7/2 (1976), 3-20. Об основании Академии см. К. – Е. Barzman, The Florentine Academy and the Early Modern State (Cambridge, 2000), 23–59.
33 О жизни и деятельности Содерини см. статью R. Cooper, «Pier Soderini: Aspiring Prince to Civic Leader», Studies In Medieval and Renaissance History, n. s. 1 (1978): 67-126. Пожалуй, лучшим трудом, посвященным флорентийской политике того времени, остается книга Н. С. Butters, Governors and Governmnetln Early Sixteenth-Century Florence, 1502–1519 (Oxford, 1985).
34 Хотя Вазари пишет о том, что основную роль в осуществлении этого проекта играл Содерини, Херст выражает сомнение в справедливости этого утверждения. Vasari, Livesy, 1:337; Hirst, Michelangelo, 43.
35 Политический смысл фресок Лоренцетти справедливо привлекает внимание ученых и является предметом оживленных споров. Две наиболее значимые точки зрения высказаны в статьях N. Rubinstein, «Political Ideas In Sienese art: the frescoes by Ambrogio Lorenzetti and Taddeo di Bartolo In the Palazzo Pubblico», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 21 (1958), 179–207 и Q. R. D. Skinner, «Ambrogio Lorenzetti: the artist as political philosopher», Proceedings of the British Academy 72 (1986), 1-56.
36 Gregorio Dati, Istoria di Firenze dallanno MCCCLXXX allano MCCCV, ed. G. Bianchini (Florence, 1735), IX; цитата приводится в книге Baldassarri and Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence, 44–54, p. 48.
3719 июня 1489 г. Макиавелли был назначен вторым канцлером. О роли Макиавелли в правительстве Флоренции в тот период см., к примеру, статьи S. Bertelli, «Machiavelli and Soderini», Renaissance Quarterly 28/1 (1975), 1-16; N. Rubinstein, «The Beginning of Niccolo Machiavellis Career In the Florentine Chancery», Italian Studies 11 (1956), 72–91.
38 Brucker, Renaissance Florence, 268.
39 См. J. Najemy, Corporation and Consensus In Florentine Electoral Politics, 1280–1400 (Chapel Hill, 1982), 301–318, esp. 305–306; см. также статью D. Kent, «The Florentine Reggimento In the Fifteenth Century», Renaissance Quarterly 28/4 (1975): 575–638, p. 612.
40 Цитата приводится в книге Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance, 419.
41 Najemy, Corporatism and Consensus, 180–181; Brucker, Florentine Politics and Society, 1343–1378 (Princeton, 1963), 213.
42 Цитата приводится в книге Najemy, Corporatism and Consensus, 203.
43 В произведении «Ад» Данте с невыразимым удовольствием погрузил своего главного врага Филиппо Ардженти в грязные воды Стикса. Dante, Inf. 8.32–63.
44 Классический анализ режима Медичи приводится в книге N. Rubinstein, The Government of Florence under the Medici (1434 to 1494) (Oxford, 1966); интерес представляет также книга J. Hale, Florence and the Medici. The Pattern of Control (London, 1977).
45 Aeneas Silvius Piccolomini, Commentaria, II; перевод дается по книге Secret Memoirs of a Renaissance Pope. The Commentaries of Aeneas Silvius Piccolomini, Pius II, trans. F. A. Gragg, ed. L. C. Gabel (London, 1988), 101.
46 Ibid.
47 Самый недавний и, пожалуй, самый доступный анализ заговора Пацци вы найдете в книге L. Martines, April Blood: Florence and the Plot Against the Medici (London and New York, 2003).
48 Цитата приводится в книге Baldassarri and Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence, 69–71, p. 70.
49 Самые интересные выдержки приводятся в книге Baldassarri and Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence, 103–114.
50 Girolamo Savonarola, Trattato circa II reggimento e governo della citta di Firenze, ed. L. Firpo (Turin, 1963); информацию о политических взглядах Савонаролы вы найдете в книгах Martines, Scourge and Fire, 106–110; G. C. Garfagnini, ed., Savonarola e la politica (Florence, 1997); S. Fletcher and C. Shaw, eds., The World of Savonarola: Italian elites and perceptions of crisis (Aldershot, 2000).
51 Najemy, Corporatism and Consensus, 323.
52 Хотя c 1498 no 1512 г. не был казнен ни один политический «предатель», поразительно, насколько резко возросло количество смертных приговоров (вместо штрафов и изгнания) за предательство перед заговором Пацци (3 казни в 1481 г.), в период правления Савонаролы (6 казней в 1497 г.) и после восстановления Медичи после падения Содерини. Информацию можно найти в статье N. S. Baker, «For Reasons of State: Political Executions, Republicanism, and the Medici In Florence, 1480–1560», Renaissance Quarterly 62/2 (2009): 444–478.
53 См. Brucker, The Society of Renaissance Florence, 93-4, doc. 45.
54 Verino, De Illustratione urbis Florentiae, II; цитируется в книге Baldassarri and Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence, 241–243, p. 241–242.
55 Об этом см. Vasari, Livesy, 1:214, 216.
56 E.g. Boccaccio, Decameron, 3.3.
57 Там же, 3.8.
58 Там же, 1.4.
59 Brucker, Renaissance Florence, 180–181.
60 Ibid., 176.
61 Goldthwaite, Economy of Renaissance Florence, 370.
62 Ibid., 368.
63 D. Hay, The Church In Italy In the Fifteenth Century (Cambridge, 1977), 10.
64 N. Ben-Aryeh Debby, «Political Views In the Preaching of Giovanni Dominici In Renaissance Florence, 1400–1406», Renaissance Quarterly 55/1 (2002): 19–48, q. at 36–37.
65 Ibid., 40.
66 Martines, Scourge and Fire, 103.
4. Мастерская мира
1 Vasari, Fives, 1:338, amended.
2 M. Kemp, ed., Feonardo on Painting (New Haven and London, 1989), 39.
3 Vasari, Fives, 1:173.
4 Ibid., 1:186-7.
5 E. S. Cohen and T. V. Cohen, Daily Fife In Renaissance Italy (Westport CT and London, 2001), 54.
6 D. Herlihy and C. Klapisch-Zuber, Tuscans and Their Families: A Study of the Florentine Catasto of 1427 (New Haven, 1985).
7 J. Kirshner, «Family and marriage: a socio-legal perspective», In Najemy, ed., Italy In the Age of the Renaissance, 82-102, here 90.
8 Michelangelo, Carteggio, 1:9.
9 Ibid., 1:7–8; цитата приводится по книге Wallace, Michelangelo, 25.
10 Vasari, Fives, 1:278.
11 Michelangelo, Carteggio, 1:140–141.
12 R. Hatfield, The Wealth of Michelangelo (Rome, 2002), 207.
13 G. Brucker, «Florentine Voices from the Catasto, 1427–1480», I Tatti Studies 5 (1993): 11–32, p. 11–13,31.
14 С лета 1497 г. Лодовико часто принимал финансовую помощь от добившегося успеха второго сына: Hirst, Michelangelo, 32, 95, 101, 108–109, 128–133, ISO-183. Однако заметно, что Лодовико не ценил работу Микеланджело, и это глубоко огорчало художника. Например, в конце 1512 г. Микеланджело с горечью писал, что, хотя он, как вол, трудился на семью 15 лет, но не услышал от близких ни слова благодарности. Из письма видно, что более всего художник обижен на отца: Ibid., 109. К 1521–1522 гг. отношения между сыном и отцом испортились настолько, что они стали ссориться из-за денег: Ibid., 180–181.
15 Michelangelo, Carteggio, 1:88.
16 Petrarch, De remediis utriusque fortunae 7.11.4.
17 О взглядах Петрарки на дружбу см. книгу A. Lee, Petrarch and St. Augustine: Classical Scholarship, Christian Theology, and the Origins of the Renaissance In Italy (Leiden, 2012), 229-75.
18 О дружбе в эпоху Ренессанса см. книгу R. Hyatte, The Arts of Friendship. The Idealization of Friendship In Medieval and Early Renaissance Literature (Leiden, 1994).
19 Boccaccio, Decameron, 10.8.
201. Origo, The Merchant of Prato. Francesco di Marco Datini, 1335–1410 (New York, 1957); Trexler, Public Life In Renaissance Florence, 131–158.
21 Lapo Mazzei, Lettere di un Notaro a un Mercante del secolo XIV, con alter Lettere e Documenti, ed. C. Guasti, 2 vols. (Florence, 1880), 1:62, 67, 163, 169, 248, 393.
22 Ibid., 1:7, 29, 148, 184.
23 Petrarch, De remediis utriusque fortunae 19.4. Прозвище «Делий» говорит о близких отношениях между Петраркой и Лелло ди Пьетро Стефано Тосетти. Историческая дружба между Сципионом Африканским (236–183 г. до н. э.) и Гаем Лелием во времена Второй Пунической войны издавна считалась хрестоматийным примером идеальных отношений. О ней подробно писал Цицерон в книге «О дружбе», которую иногда даже называют «Лелием». Петрарка писал об отношениях этих людей в эпическом труде «Африка».
24 Vasari, Lives, 1:290.
25 Ibid., 1:276.
26 Boccaccio, Decameron, 6.5.
27 Об этом см. Vasari, Lives, 1:421.
28 См., к примеру, Welch, Art and Society, 103–130.
29 Об этом см. Vasari, Lives, 1:185.
30 W. E. Wallace, «Manoeuvering for Patronage: Michelangelos Dagger», Renaissance Studies 11 (1997): 20–26. Микеланджело и Альдобрандини окончательно рассорились из-за этого ножа.
31 Cellini, Autobiography, 377.
32 Об этом см. Vasari, Lives, 1:180.
33 Этот фрагмент стоит привести дословно: «Сладкие надежды питали меня: сердце мое питает надежда на то, что ты, Чикко, всегда приносишь мне добрые известия. Эдилы и квестор обманывали меня так часто, что я уже кашляю желчью. Ты приходишь в доброе время, поскольку теперь гнев мой достиг предела, и разум мой, питаемый злобой, начинает закипать. Я не могу более справиться с теми чувствами, какие воспрещают мне справедливость и благочестие. Голод – не то состояние, которое можно терпеть. Почему я должен говорить о заражении смертельной болезнью, коей человек, не имеющий денег, не может избежать? Принц отдает достойные приказы, кои люди, которых он поставил охранять свою казну, отказываются выполнять. «Уходи и приходи снова, – говорит они. – Твои деньги будут выплачены, и вознаграждение за твои заслуги будет уплачено тебе». И я ухожу и снова возвращаюсь. И снова, как простак, я возвращаюсь снова – по три или четыре раза в день». Francesco Filelfo, Odes, IV. 2, 11.1-16, ed. and trans. D. Robin (Cambridge MA and London, 2009), 229–231.
34 Vasari, Lives, 1:97-8.
35 Ibid., 1:339.
36 Wallace, Michelangelo, 91.
37 Michelangelo, Carteggio, 1:145; по книге The Letters of Michelangelo, trans. E. H. Ramsden, 2 vols. (London and Stanford, 1963), 1:82.
38 Цитируется в книге Wallace, Michelangelo, 46.
39 Michealangelo, Carteggio, 1:153; q. v. Wallace, Michelangelo, 46.
40 Vasari, Lives, 1:228.
41 Ibid., 1:229.
42 Ibid., 1:320.
43 Джованни Боккаччо «Об известных женщинах», цитируется по изданию Giovanni Boccaccio, Famous Women, ed. and trans. V. Brown (Cambridge MA and London, 2001), pref., 9.
44 В Венеции в 1587–1688 гг. городские школы посещали 4600 мальчиков и всего 30 девочек (высокого происхождения). М. Е. Wiesner, Women and Gender In Early Modern Europe (Cambridge, 1993), 122–123.
45 Vasari, Lives, 1:104.
46 См. Brucker, The Society of Renaissance Florence, 32–33.
47 Ibid., 34–35.
48 Francesco Barbaro, On Wifely Duties, trans. In Kohl and Witt, ed., The Earthly Republic, 189–228, p. 192.
49 Ibid., 215.
50 Ibid., 215–220.
51 Ibid., 208.
52 Vasari, Lives, 2:100.
53 Barbaro, On Wifely Duties; Kohl and Witt, ed., The Earthly Republic, 202.
54 Matteo Palmieri, Vita civile, ed. F. Battaglia (Bologna, 1944), 133.
55 Barbaro, On Wifely Duties, 196.
56 Ibid., 194.
57 Boccaccio, Decameron, 10.10.
58 Franco Sacchetti, II Trecentonovelle, ed. E. Faccioli (Turin, 1970), 233.
59 Пожалуй, лучше всего знакомиться с этой темой по статье М. Rocke, «Gender and Sexual Culture In Renaissance Italy», в книге J. C. Brown and R. C. Davis, eds., Gender and Society In Renaissance Italy (Harlow, 1998), 150–170.
60 Эта тема вызывала оживленные научные споры. Чтобы получить больше информации, обратитесь к статьям S. К. Cohn Jr., «Women and Work In Renaissance Italy», в книге Brown and Davis, eds., Gender and Society, 107–127; J. C. Brown, «А Womans Place was In the Home: Womens Work In Renaissance Tuscany», в книге M. W. Ferguson, M. Quilligan, and N. J. Vickers, eds., Rewriting the Renaissance. The Discourses of Sexual Difference In Early Modern Europe (Chicago and London, 1986), 206–224.
61 As an old man, he warmly encouraged Sofonisba Anguissola: Michelangelo, Car-teggio, 5:92–93.
62 Filelfo, Odes, III, 3, ed. and trans. Robin, 175–177.
63 Brucker, The Society of Renaissance Florence, 180–181.
64 См. рассказ Луки Ландуччи в книге Baldassarri and Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence, 276–283, esp. 277.
65 Giovanni Gioviano Pontano, Baiae, I, 4,11.3-10; trans. R. G. Dennis (Cambridge MA and London, 2006), 13.
66 R. A. Goldthwaite, «The Florentine Palace as Domestic Architecture», American Historical Review 77/4 (1972): 977-1012, p. 995.
67 Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, 9.1.
68 Goldthwaite, «The Florentine Palace», 1005, fig. 8.
69 Ibid., 1004–1005.
70 ASF Carte Riccardi, no. 521, fol. 26r; q. at Goldthwaite, «The Florentine Palace», 983, n.13.
71 Эта информация взята из статьи D. Kent, «The Lodging House of All Memories»: An Accountants Home In Renaissance Florence», Journal of the Society of Architectural Historians 66/4 (2007): 444–463.
72 См. S. Cavallo, «The Artisans Casa», в книге M. Ajmar-Wollheim and F. Dennis, eds., At Home In Renaissance Italy (London, 2006), 66–75.
73 Hatfield, The Wealth of Michelangelo, 65ff.
74 Kent, «An Accountants Home», 451.
75 См., к примеру, К. Albala, Eating Right In the Renaissance (Berkeley, 2002).
76 Kent, «An Accountants Home», 453; L. R. Granato, «Location of the Armoury In the Italian Renaissance Palace», Waffen und Kostumkunde 24 (1982): 152–153.
77 Vasari, Lives, 1:187.
78 S. Fermor, Piero di Cosimo. Fiction, Invention and Fantasia (London, 1993), 14. Интересно отметить, что в начале 1504 г. Пьеро входил в состав комитета, который определял место для «Давида» Микеланджело.
79 M. Hirst, «Michelangelo In 1505», Burlington Magazine 133/1064 (1991): 760–766, p. 762.
80 Michelangelo, Carteggio, 1:19.
81 Ibid., 1:9; trans. Wallace, Michelangelo, 26.
82 Vasari, Lives, 1:430.
83 Michelangelo, verse 5,11. 1–4; Poems and Letters, trans. Mortimer.
84 Michelangelo, Carteggio, 2:7–8.
85 Michelangelo, verse 267,11. 34–45; Poems and Letters, trans. Mortimer, 57.
86 Michelangelo, verse, 267,111.10–12; trans. from Wallace, Michelangelo, 175.
87 Hirst, Michelangelo, 252–253.
88 Vasari, LzVes, 1:197.
89 Ibid., 2:271.
90 Cellini, Autobiography, 217.
91 Brucker, 77ze Society of Renaissance Florence, 47–49.
92 Cellini, Autobiography, 16–17.
93 Ibid., 71–72.
94 Ibid., 147–154, 347–348.
95 Цитируется в книге J. Arrizabalaga, J. Henderson, and R. French, 77ze Great Pox: The French Disease In Renaissance Europe (New Haven, 1997), 205–206.
96 Чтобы оценить влияние чумы и других болезней на жизнь представителей низшего социоэкономического слоя того времени см., например, книгу A. G. Carmichael, Plague and the Poor In Renaissance Florence (Cambridge, 1986).
97 S. K. Cohn Jr., «The Black Death: End of a Paradigm», American Historical Review 107/3 (2002): 703–738, p. 725.
98 Vasari, Lives, 1:276.
99 Cellini, Autobiography, 45–46.
100 Vasari, Lives, 1:320.
101 Ibid., 1:216.
102 Ibid.
103 Rocke, «Gender and Sexual Culture In Renaissance Italy», 157; J. A. Brundage, Law, Sex, and Christian Society In Medieval Europe (Chicago, 1987), 492.
104 Rocke, «Gender and Sexual Culture In Renaissance Italy», 163.
105 Mario Filelfo, Epithalamion pro domino Francisco Ferrario et Constantia Cimisella, MS Vat. Apost., Chig. I VII 241, fols. 140v-143r, here fol. 141v; trans. from A. F. D’Elia, «Marriage, Sexual Pleasure, and Learned Brides In the Wedding Orations of Fifteenth-Century Italy», Renaissance Quarterly 55/2 (2002): 379–433, p. 411.
106 Pontano, Baiae, I, 13,11.1-10; trans. Dennis, 39.
107 Rocke, «Gender and Sexual Culture In Renaissance Italy», 161; M. Rocke, Forbidden Friendships: Homosexuality and Male Culture In Renaissance Florence (New York, 1996), 118–120.
108 Beccadelli, The Hermaphrodite, 1.5, esp. 11.1–2, trans. Parker, 11: «Когда моя Урca хочет, чтобы я взял ее, она забирается сверху на моего Приапа / Я играю ее роль, она – мою». К сожалению, Беккаделли боялся, что его пенис не выдержит почти неутолимого сексуального аппетита Урсы в этой позиции.
109 Beccadelli, The Hermaphrodite, 1.14,11.1–2; trans. Parker, 21.
110 См. Pontano, Baiae, II. 29; trans. Dennis, 166-7.
111 Цитируется в книге Wallace, Michelangelo, 110.
112 Rocke, «Gender and Sexual Culture In Renaissance Italy», 151.
113 Domenico Sabino, De uxorem commodis et Incommodis, MS Vat. Apost., Chis. H IV 111, fols. 108v-l 17v, fol. 1 lOv; trans. from D’Elia, «Marriage, Sexual Pleasure, and Learned Brides», 407.
114 Cristoforo Landino, Xandra, II. 13; trans. from Cristoforo Landino, Poems, trans. M. P. Chatfield (Cambridge MA and London), 105.
115 Landino, Xandra, II. 24,1.2; Poems, trans. Chatfield, 125.
116 Boccaccio, Decameron, 7.2.
117 Ibid.
118 Ibid., 6.8.
119 Ibid.
120 Ibid., 2.5; 9.5; Мадонна Янкофьоре из 8.10 похожа на проститутку, но является, скорее, сексуальной обманщицей.
121 R. Davidsohn, Storiadi Firenze, 8 vols. (Florence, 1956-68), 7:616-17; J. K. Brackett, «The Florentine Onesta and the Control of Prostitution», Sixteenth Century Journal 24/2 (1993); 273–300, p. 277.
122 G. Rezasco, «Segno delle meretrici», Giornale Linguistico 17 (1980): 161–220, p. 165.
123 См., к примеру, Brucker, The Society of Renaissance Florence, 191–198.
124 Содержательный рассказ об истории этого магистрата содержится в статье Brackett «The Florentine Onesta».
125 R. Trexler, «La Prostitution Florentine au XVe Siecle: Patronages et Clienteles», Annales ESC36 (1981): 983-1015, p. 985–988.
126 Brackett, «The Florentine Onesta», 287, n.64.
127 Так в 1416 г. Бартоломео ди Лоренцо был обвинен в попытке продать свою жену, Стеллу, хозяину борделя по имени Кекко; см. Brucker, The Society of Renaissance Florence, 199–201.
128 См. R. S. Liebert, Michelangelo: A Psychoanalytic Study of His Life and Images (New Haven, 1983); J. M. Saslow, «А Veil of Ice between My Heart and the Fire»: Michelangelos
Sexual Identity and Early Constructions of Homosexuality», Genders 2 (1998): 77–90; J. Francese, «On Homoerotic Tension In Michelangelos Poetry», MLN117/1 (2002): 17–47.
129 D’Elia, «Marriage, Sexual Pleasure, and Learned Brides», 409.
130 D. Owen Hughes, «Bodies, Disease, and Society», In Najemy, ed., Italy In the Age of the Renaissance, 103–123, p. 113.
131 Цитируется в книге Trexler, Public Life In Renaissance Florence, 381.
132 Информацию о создании Совета ночи можно найти в книге Brucker, The Society of Renaissance Florence, 203–204, doc. 95.
133 Судебные документы по этому делу приводятся в книге Brucker, The Society of Renaissance Florence, 204–205, doc. 96.
134 Rocke, Forbidden Friendships, 4.
135 Sabino, De uxorem commodis et Incommodis, fol. 115 r; trans. D’Elia, «Marriage, Sexual Pleasure, and Learned Brides», 408.
136 J. K. Brackett, Criminal Justice and Crime In Late Renaissance Florence, 1537–1609 (Cambridge, 1992), 131.
137 Об историографических спорах относительно Платоновой академии см. глубокий очерк J. Hankins, «The Myth of the Platonic Academy of Florence», Renaissance Quarterly 44/3 (1991): 429–447.
138 По этому вопросу см. A. Maggi, «On Kissing and Sighing: Renaissance Homoerotic Love from Ficinos De amore and Sopra Lo Amore to Cesare Trevisanis L’impresa (1569)», Journal of Homosexuality A9I3-A (2005): 315–339.
139 Rocke, Forbidden Friendships, 171.
5. Влюбленный Микеланджело
1 Чеккини см. С. L. Frommel, Michelangelo und Tommaso dei Cavalieri (Amsterdam, 1979), 14–15; Michelangelo, Carteggio, 3:419-20.
2 Хотя абсолютной уверенности в том, что именно Чеккини познакомил Микеланджело и Томмазо де Кавальери, сохранившиеся свидетельства говорят о том, что это вполне вероятно. Микеланджело и Томмазо могли познакомиться в относительно короткий промежуток. Точная дата их первой встречи неизвестна, но произойти она могла лишь осенью между приездом Микеланджело в Рим (где-то между серединой августа, когда был готов его дом в Мачель де Корви, и серединой сентября 1532 г., когда ему в Вечный город было отправлено письмо) и 1 января 1533 г., когда отношения уже развивались довольно бурно. Как отмечал Уоллес, этот факт доказывает, что знакомство организовал общий друг ("Wallace, Michelangelo, 177). Из всех возможных кандидатур Чеккини кажется наиболее подходящим. Несомненно, что в это время Чеккини был ближайшим другом Микеланджело в Риме (см. Michelangelo, Carteggio, 4:69). С Кавальери он был знаком еще до встречи с художником (по-видимому, их познакомил кардинал Никколо Ридольфи, в доме которого Чеккини жил). Кавальери и Микеланджело часто упоминали Чеккини как общего друга. Порой он выполнял обязанности посредника между ними. И это убеждает нас в том, что он в немалой степени способствовал их дружбе и пользовался доверием обоих (Michelangelo, Carteggio 3:443-4; 4:3). Предположение о том, что с Кавальери Микеланджело познакомил именно Чеккини, недавно подтвердил Херст: Hirst, Michelangelo, 261.
3 О коллекции семейства Кавальери см. Hirst, Michelangelo, 261; Е. Steinmann and Н. Pogatscher, «Dokumente und Forschungen zu Michelangelo, IV, Cavalieri-Dokumente», Repertorium fiir Kunstwissenschaft 29 (1906): 496–517, p. 502–504.
4 Это очевидно по тону поздних стихотворений Микеланджело и вполне согласуется с программой образования римских аристократов того времени. См., к примеру, Р. Grendler, Schooling In Renaissance Italy: Literacy and Learning, 1300–1600 (Baltimore, 1989); A. Grafton and L. Jardine, From Humanism to the Humanities: Education and the Liberal Arts In Fifteenth and Sixteenth Century Europe (Cambridge MA, 1986); C. W. Kallendorf, ed. and trans., Humanist Educational Treatises (Cambridge MA and London, 2002); обратите внимание также на довольно краткие замечания по этой теме в книге Бальдассаре Кастильоне «Придворный» (Baldessare Castiglione, The Book of the Courtier, IV; trans. G. Bull, new ed. (London, 1976), 291, 306.
5 Michelangelo, Poems, letter no. 30.
6 Hirst, Michelangelo, 260.
7 Guido da Pisa, Expositiones et Glose super Comediam Dantis, ed. V. Cioffari (Albany, 1974), 4: «Ipse enim mortuam poesiam de tenebris reduxit ad lucem».
8 Wallace, Michelangelo, 41.
9 О труде Ландино «Comento... sopra la Comedia di Danthe Alighieri p о eta fiorentino» 61481) cm. S. Gilson, Dante and Renaissance Florence (Cambridge, 2005), 163–230.
10 Hirst, Michelangelo, 23.
11 Michelangelo, Poems, nos. 248, 250.
12 От влиянии Данте см. S. A. Gilson, Dante and Renaissance Florence (Cambridge, 2005), esp. chs. 1–2.
13 Дата этого события известна только по биографии Данте, написанной Боккаччо, но теперь считается «общепринятой». То, что праздник проходил в доме Фолько деи Портинари, подтверждают лишь косвенные свидетельства: Данте никогда не упоминал фамилии Беатриче, и Боккаччо пишет только о том, что праздник проходил в доме ее отца.
14 Dante Alighieri, La Vita Nuova, II; trans. B. Reynolds, rev. ed. (London, 2004), 3. Здесь и далее перевод дается по изданию: Данте А. Новая жизнь / пер.
И. Н. Голенищева-Кутузова // Мир Данте. Т. 2. И. Голенищев-Кутузов. Жизнь Данте и его малые произведения. Данте Алигьери. Новая жизнь. Пир. О народном красноречии. Монархия. Стихотворения. Письма. Вопрос о воде и земле. М., 2001. II.
15 Ibid.
16 Ibid., III.
17 Ibid., Ill, sonnet 1.
18 Ibid., XII.
19 Ibid., XIV.
20 Ibid., XVIII.
21J. Pope-Hennessy, Paradiso. The Illuminations to Dantes Divine Comedy by Giovanni di Paolo (London, 1993), 35.
22 Michelangelo, Carteggio, 3:53–54.
23 Замечания Кавальери приводятся в сборнике писем Микеланджело: Michelangelo, Carteggio, 3:445–446.
24 См. ответ Микеланджело на поддразнивания Томмазо после возвращения художника во Флоренцию: Michelangelo, Carteggio, 4:26.
25 Хотя, скорее всего, Микеланджело использовал произведения Овидия, миф о Титии пересказывали многие авторы: Овидий «Метаморфозы», 4.457–458; Вергилий «Энеида» 6595–6600; Лукреций «О природе вещей» 3984–3994; Гомер «Одиссея» 11576-11581. Но любопытно, что упоминание о преступлении Тития – попытке изнасилования нимфы Лето – встречается только у Гомера. Чтобы подаренный рисунок имел понятный смысл, важно было, чтобы о преступлении Тития было известно. Отсюда можно сделать вывод о том, что Микеланджело мог (прямо или косвенно) знать поэму Гомера.
26 Дата известна нам по надписи Петрарки на своем экземпляре Вергилия («Амброзианский Вергилий») и из более поздних стихов. Стоит отметить, что позже Петрарка связывал 6 апреля 1327 г. со Страстной пятницей, но это ошибка (возможно, намеренная). На этот день пришлось пасхальное воскресенье. Петрарка, Canzoniere, текст взят из книги Petrarchs Lyric Poems. The Rime Sparse and Other Lyrics, trans. and ed. R. M. Durling (Cambridge MA and London, 1976), 38–39,364–365.
27 Petrarch, Fam. X. 3; E. H. Wilkins, Life of Petrarch (Chicago, 1961), 8.
28 Petrarch, Posteritati (Sen. XVIII. 1); text In Prose, ed. G. Martellotti, P. G. Ricci, E. Carrara, and E. Bianchi (Milan and Naples, 1955), 2-19, p. 8–10.
29 Впервые предположение о том, что Лаура Петрарки может быть Лаурой де Нов (1310–1348), высказал Морис Скев в 1533 г. (N. Mann, Petrarch [Oxford, 1984], 58). Но хотя это предположение общепринято и часто цитируется, убедительных доказательств этому нет.
30 Petrarch, Canzoniere, 30,11.19–21.
31 Ibid., 3,11.4, 9-11.
32 Ibid., 35.
33 Ibid., 52.
34 Ibid., 125,1. 9; 129,1.1.
35 Ibid., 29,1.36.
36 Ibid., 129,11.40–47.
37 Petrarch, Secretum, I; text In Prose, 22-215, p 30.
38 Высказывая ту же мысль в трактате De otio religioso (О покое монашеской жизни), Петрарка объяснял, что «нет мысли более полезной, чем мысль о собственной смерти, иначе не было бы сказано: «Помни о конце своем и вовек не согрешишь». Petrarch, De otio religioso, II, 3; Latin text ed. G. Rotondi (Vatican City, 1958), 78, 11.12–14; trans. from Petrarch, On Religious Leisure, ed. and trans. S. S. Schearer (New York, 2002), 110; quoting Ecclesiasticus 7:40.
39 Marchione di Coppo Stefani, Cronaca fiorentina, Rerum Italicarum Scriptores 30.1 (Citta di Castello, 1927), 230, r. 635.
40 Petrarch, Fam, 7.10.
41 Petrarch, Canzoniere, 268,1. 4.
42 Ibid., 272; trans. Durling, 450 (adapted).
43 Ibid., 142.
44 Castiglione, The Book of the Courtier, IV; trans. Bull, 340–342.
45 Michelangelo, Poems, no. 72,11.5–7.
46 Ibid., no. 58.
47 Ibid., no. 72,11.12–14.
48 Ibid., no. 98,11.12–14.
49 Boccaccio, Decameron, 1.
50 Ibid., 15.
51 C. Muscetta, Giovanni Boccaccio, 2nd ed. (Bari, 1974), 147; E. H. Wilkins, A History of Italian Literature, rev. ed. (Cambridge MA and London, 1974), 106.
52 Boccaccio, Decameron, 4.2
57 Обсуждение этой песни см. W. Е Prizer, «Reading Carnival: The Creation of a Florentine Carnival Song», Early Music History 23 (2004): 185–252. Текст с переводом дается Ibid., 185–187.
58 Lorenzo de Medici, Poesie, ed. I. Caliaro, 2nd ed. (Milan, 2011), 261.
59 Bartolomeo Facio, De hominis excellentia', trans. q. at C. Trinkaus, In Our Image and Likeness. Humanity and Divinity In Italian Humanist Thought, 2 vols. (Chicago, 1970), 1:227.
60 У нас есть основания полагать, что Манетти написал, по крайней мере, часть трактата «О совершенстве человека» (De dignitate et excellentia hominis) уже в 1449 г., но в своем окончательном виде этот труд автор обсуждал с королем Альфонсо Неаполитанским в посольстве королевства Неаполь в 1452 г. Хотя Альфонсо читал трактат Бартоломео Фацио, судя по всему, эта работа не произвела на него впечатления, поэтому он попросил Манетти написать ответный трактат. Манетти с радостью согласился и завершил разгром аргументов Фацио в конце 1452 или начале 1453 г. Информацию о жизни и творчестве Манетти можно найти в книге Martines, The Social World of the Florentine Humanists, 131–138.
61 Giannozzo Manetti, De dignitate et excellentia hominis; trans. Trinkaus, In Our Image and Likeness, 1:245.
62 О Брандолини см. книгу Е. Mayer, Un umanista Italiano della corte di Mattia Corvino, Aurelio Brandolino Lippo (Rome, 1938). «Диалоги» были написаны, когда Брандолини жил в Будапеште, и труд свой автор посвятил венгерскому королю Матиушу Корвину. «Диалоги» пользовались большой популярностью и после 1498 г. печатались несколько раз.
63 Aurelio Lippo Brandolini, Dialogus de humanae vitae conditione et toleranda corporis aegritudine; tmns. at Trinkaus, In Our Image and Likeness, 1:302–303 (amended).
64 Manetti, De dignitate et excellentia hominis; trans. Trinkaus, In Our Image and Likeness, 1:254–255 (amended).
65 Ibid.
66 Валла обладал весьма неприятной привычкой постоянно перерабатывать и освежать свои труды, поэтому практически невозможно найти окончательный текст любого из его трактатов. И «О наслаждении» не исключение. Хотя первый вариант был написан в 1431 г., автор постоянно перерабатывал текст и через несколько лет опубликовал его под названием «Об истинном и ложном благе» («De vего jalsoque bono»). В данном случае я использовал только оригинальный текст, который в переводе на немецкий язык опубликован в книге Lorenzo Valla, Von der Lust oder Vom wahren Guten, ed. E. Kefiler (Munich, 2004). Для удобства в дальнейшем это издание будет обозначаться как Keffler, Lust. Классическим трудом, посвященным жизни и творчеству Валлы, является книга S. I. Camporeale, Lorenzo Valla: Umanesimo e Teologia (Florence, 1971).
67 Доступный и тщательный анализ трактата Валлы в контексте «жизни деятельной и жизни созерцательной» (vita activa/vita contemplativa) можно найти в статье L. Panizza, «Active and Contemplative In Lorenzo Valla: The Fusion of
Opposites», In В. Vickers, ed., Arbeit, Musse, Meditation. Betrachtungen zur Vita Activa und Vita contemplativa (Zurich, 1985), 181–223.
68 Valla, De voluptate, 2.28.2; Kefiler, Lust, 210; cf. Aristotle, Nicomachean Ethics, 1097b, 1–4.
69 Ibid., 2.28.3.
70 Ibid., 2.28.5.
71 Michelangelo, Poems, no. 83.
72 Источником для рисунка Микеланджело послужили «Метаморфозы» Овидия. По-видимому, он пользовался итальянским переводом 1497 г. Овидий «Метаморфозы», 10.143-10.166.; о знакомстве Микеланджело с творчеством Овидия см. книги Wallace, Michelangelo, 41; Hirst, Michelangelo, 17.
73 Весьма содержательный и увлекательный рассказ об отношениях Микеланджело с флорентийскими неоплатониками можно найти в книге Е. Panofsky, Studies In Iconology: Humanistic Themes In the Art of the Renaissance, new ed. (New York and Evanston, 1962), 171–230 («The Neoplatonic Movement and Michelangelo»).
74 R. Mackenney, Renaissances. The Cultures of Italy, c.l300-c.600 (Houndmills, 2005), 146–149.
75 См. Hankins, «The Myth of the Platonic Academy».
76 Marcilio Ficino, Theologia Platonica, 10.7; see Ficino, Platonic Theology, trans. M J. B. Allen, ed. J. Hankins, 6 vols. (Cambridge MA, 2001-6), 3: 106–196.
77 Giovanni Pico della Mirandola, Heptaplus, ed. E. Garin (Florence, 1942), 188; trans. from E. H. Gombrich, «leones Symbolicae: The Visual Image In Neo-Platonic Thought», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 11 (1948): 163-92, p. 168.
78 См., к примеру, Фичино «Теология Платона» 2.2; Пико делла Мирандола «Речь о достоинстве человека».
79 Р. О. Kristeller, Renaissance Thought and the Arts, new ed. (Princeton, 1990), 94.
II: Мир мецената эпохи Ренессанса
1. Искусство власти
1 Описание Галеаццо Марии Сфорца взято из «Комментариев» Пия II; Pius II, Commentaries, II. 26; vol. 1, ed. M. Meserve and M. Simonetta, (Cambridge MA and London, 2003), 1:311.
2 Галеаццо Мария Сфорца отправился во Флоренцию с официальной миссией – он должен был сопровождать Папу Пия II в Мантую, где понтифик собрал совет, чтобы провозгласить крестовый поход против Оттоманской
империи. Пий прибыл во Флоренцию восемь дней спустя, 25 апреля 1459 г. Рассказ о прибытии Галеаццо Марии Сфорца во Флоренцию можно найти в книге Франческо Филарете «Книга церемониалов» (Libro cerimoniale); перевод этого раздела дается в книге Baldassari and Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence, 77–82.
3 E. H. Gombrich, The Story of Art, 15th ed. (London, 1989), 256.
4 Об оформлении капеллы Волхвов рассказывается в статье R. Hatfield, «Cosimo de Medici and the Chapel of His Palace», In E Ames-Lewis, ed., Cosimo «il Vecchio» de Medici, 1389–1464 (Oxford, 1992), 221–244.
5 По меньшей мере с 1390 г. каждое Крещение во Флоренции устраивалась красочная процессия, связанная с шествием волхвов. Это событие и связанные с ним представления должны были окончательно утвердить политическое и социальное единство. С середины 1420-х гг. центральную роль в празднествах играло семейство Медичи. Е. Muir, «Representations of Power», In Najemy, ed., Italy In the Age of the Renaissance, 226-45, p. 228; Trexler, Public Life In Renaissance Florence, 298,401–403,423-425; R. Hatfield, «The Compagnia de Magi», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 33 (1970): 107–161.
6 J. M. Najemy, A History of Florence, 1200–1575 (Oxford, 2008), 330. Во Флоренции таких примеров было множество. Мазаччо, к примеру, изобразил двух меценатов, склонившимися с обеих сторон к святому Иоанну и Деве Марии, в «Троице» (ок. 1425–1427). К сожалению, точно установить личности этих людей до сих пор не удается. Возможно, это члены семейств Ленци или Берти. Об этом можно узнать из статьи R. М. Comanducci, «Laltare nostro de la Trinita»: Masaccios Trinity and the Berti Family», Burlington Magazine 145 (2003): 14–21.
7 Najemy, History of Florence, 330.
8 Цитируется в книге C. Hibbert, The Rise and Fall of the House of Medici (London, 1979), 97–98.
9 Landino, Xandra, III. 1,11.23-4; Poems, trans. Chatfield, 141.
10 Petrarch, Sen. 14.1; trans. In Kohl and Witt, eds., The Earthly Republic, 74–76.
11 Niccolo Machiavelli, The Prince, xxi; trans. G. Bull (London, 1961), 70-3.
12 Castiglione, The Book of the Courtier, I; trans. Bull, 90.
13 Castiglione, The Book of the Courtier, I; trans. Bull, 96-97
14 Vasari, Lives, 1:164-5.
15 Muir, «Representations of Power», 228.
16 Pius II, Commentaries. II. 28; 1:317.
17 См. Muir, «Representations of Power».
18 Ibid., 228.
19 Классическим трудом на эту тему остается статья Jones, «Communes and Despots»; а также книги Jones, The Italian City-State; Waley, The Italian
City-Republics; Hyde, Society and Politics In Medieval Italy; Martines, Power and Imagination. Несмотря на серьезные разногласия по вопросам интерпретации, весьма полезны будут также первые главы книги Skinner, The Foundations of Modern Political Thought.
20 Muir, «Representations of Power», 227.
21 Познакомиться с концепцией и дизайном гражданских дворцов можно в статье С. Cunningham, «For the honour and beauty of the city: the design of town halls», In Norman, ed., Siena, Florence and Padua, 2:29–54.
22 Фрески Лоренцетти давно являются объектом ожесточенных споров искусствоведов. Могу порекомендовать следующие статьи: Rubinstein, «Political Ideas In Sienese Art»; Rubinstein, «Le Allegorie di Ambrogio Lorenzetti nella Sala della Pace e II pensiero politico del suo tempo», Rivista Storica Italiana 109 (1997): 781–802; Skinner, «Ambrogio Lorenzetti: The Artist as Political Philosopher»; Skinner, «Ambrogio Lorenzetti s Buon governo Frescoes: Two Old Questions, Two New Answers», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 62 (1999): 1-28.
23 Marco Parenti, Memorie; данный фрагмент приводится в книге Baldassari and Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence, 69–71, p. 70.
24 Pius II, Commentaries. II. 28; 1:319.
25 Цитируется в книге G. Lubkin, A Renaissance Court: Milan under Galleazzo Maria Sforza (Berkeley, Los Angeles, and London, 1994), 87.
26 Lubkin, A Renaissance Court, 102. О меценатстве семейства Сфорца см. Е. S. Welch, Art and Authority In Renaissance Milan (Yale, 1996).
27 Lubkin, A Renaissance Court, 102f.; P. Merkley and L. L. M. Merkley, Music and Patronage In the Sforza Court (Turnhout, 1999).
28 Niccolo Machiavelli, Florentine Histories, 7.33; trans. L. F. Banfield and H. C. Mansfield, Jr. (Princeton, 1990), 313: «Галеаццо был развратен и жесток, весьма часто выказывал эти свои свойства и всем стал ненавистен. Не довольствуясь соблазнением дам из благородных семей, он во всеуслышание заявлял об этом. Не довольствуясь умерщвлением людей, он старался, чтобы смерть была помучительней. Его не без основания обвиняли в убийстве родной матери. Пока она была жива, он не считал себя полновластным государем, и по отношению к ней вел себя таким образом, что она решила удалиться в Кремону, принадлежавшую ей, как часть ее приданого, но в дороге внезапно чем-то заболела и умерла. В народе многие были уверены, что он велел ее умертвить» (пер. Н. Я. Рыковой).
29 О жизни Галеаццо Марии Сфорца см. книгу М. Simonetta, The Montefeltro Conspiracy: A Renaissance Mystery Decoded (New York, 2008), 9-16.
2. Люди с касанием Мидаса
1 С. S. Gutkind, Cosimo de Medici: Pater Patriae, 1389–1464 (Oxford, 1938), 124.
2 См. Hale, Florence and the Medici, 23–24, 31–32.
3 J. F. Padgett and С. K. Ansell, «Robust Action and the Rise of the Medici, 1400–1434», American Journal of Sociology 98/6 (1993): 1259–1319, p. 1262.
4 Najemy, History of Florence, 265; см. также R. de Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank, 1397–1494 (New York, 1966), 35–70.
5 Rucellai, Zibaldone, 1:62; 75.
6 Об этом говорит даже сам герб Медичи. Хотя семь красных palle (шариков) на золотом фоне могут быть пилюлями, но, скорее всего, это монеты, традиционный символ менял.
7 Francesco Balducci Pegolotti, La Pratica della mercatura, ed. A. Evans (Cambridge MA, 1936), 287–292.
8 G. A. Brucker, «The Medici In the Fourteenth Century», Speculum 32/1 (1957): 1-26, p. 3.
9 См. E. S. Hunt and J. M. Murray, A History of Business In Medieval Europe, 1200–1500 (Cambridge, 1999), 63–67; P. Spufford, «Trade In fourteenth-century Europe», In M. Jones, The New Cambridge Medieval History, vol. vi, C.1300-C.1415 (Cambridge, 2000), 155–208, p. 178.
10 Это весьма упрощенное описание чрезвычайно сложных обменов того времени. Более подробно о подобных действиях в Европе см. книги R. de Roover, Devolution de la lettre de change (XlVe-XVIIIe siecles) (Paris, 1953); P. Spufford, Money and Its Use In Medieval Europe (Cambridge, 1988). Конкретно о Флоренции говорится в книге Goldthwaite, The Economy of Renaissance Florence, 408–483.
11 Одно из лучших и самых читабельных исследований взглядов Франциска Ассизского на этот вопрос – книга М. D. Lambert, Franciscan Poverty. The Doctrine of the Absolute Poverty of Christ and the Apostles In the Franciscan Order, 1210–1323 (London, 1961).
12 См. H. Baron, «Franciscan Poverty and Civic Wealth as Factors In the Rise of Humanistic Thought», Speculum 13 (1938): 1-37.
13 Poggio Bracciolini, De avaritia; trans. In Kohl and Witt, The Earthly Republic, 241–289.
14 Landino, Xandra, 2.3; Poems, trans. Chatfield, 72–73.
15 Hunt and Murray, A History of Business, 70-1; краткий и доступный обзор этой концепции дается в статье С. F. Taeusch, «The Concept of «Usury»: the History of an Idea», Journal of the History of Ideas 3/3 (1942): 291–318.
16 St. Thomas Aquinas Summa Theologiae, II–II, q.78, a.l; trans. from St. Thomas Aquinas, On Law, Morality, and Politics, ed. W. P. Baumgarth and R. J. Regan S. J. (Indianapolis, 1988), 199.
17 См. R. de Roover, «The Scholastics, Usury, and Foreign Exchange», Business History Review 41/3 (1967): 257–271.
18 Poggio Bracciolini, De avaritia; Kohl and Witt, The Earthly Republic, 247.
19 Dante, Inf. 17.1-78.
20 См. J. Le Golf, The Birth of Purgatory, trans. A. Goldhammer (Chicago, 1984).
21 Boccaccio, Decameron, 1.1.
22 См. A. D. Fraser Jenkins, «Cosimo de Medici s Patronage of Architecture and the Theory of Magnificence», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 33 (1970): 162–170, here 162–163.
23 Brucker, Society of Renaissance Florence, 52–56, p. 55.
24 G. Leoncini, La certosa di Firenze nei suoi rapporti con Yarchitettura certosina (Salzburg, 1980), 213; Welch, Art and Society In Italy, 191.
25 E W. Kent, «Individuals and Families as Patrons of Culture In Quattrocento Florence», в книге A. Brown, ed., Language and Images of Renaissance Italy (Oxford, 1995), 171-92, p. 183; Welch, Art and Society In Italy, 193.
26 См. B. Kempers, Painting, Power and Patronage. The Rise of the Professional Artist In Renaissance Italy, trans. B. Jackson (London, 1994), 74–77, 182–192.
27 Najemy, History of Florence, 325.
28 Ibid.
29 См. K. A. Giles, «The Strozzi Chapel In Santa Maria Novella: Florentine Painting and Patronage, 1340–1355», Unpublished PhD Dissertation, New York University, 1977.
30 Информацию об обстоятельствах строительства капеллы Арена см. J. Stub-blebine, ed., Giotto: The Arena Chapel Frescoes (New York and London, 1969), esp. 72–74; C. Harrison, «The Arena Chapel: patronage and authorship», In Norman, ed., Siena, Florence and Padua, 2: 83-104, p. 88–93.
31 Переводы папской буллы и жалобы монахов церкви Эремитани приводятся в книге Stubblebine, Giotto, 105–107.
32 См. Е. Н. Gombrich, «The Early Medici as Patrons of Art», In E. F. Jacobs, ed., Italian Renaissance Studies (London, 1960), 279–311.
33 Brucker, «The Medici In the Fourteenth Century», 1.
34 Ibid., 6.
35 См. E. S. Hunt, The Medieval Super-Companies: A Study of the Peruzzi Company of Florence (Cambridge, 1994).
36 D. Abulafia, «Southern Italy and the Florentine Economy, 1265–1370», Economic History Review 33 (1981): 377–388.
37 Тосканская лира (lira a fiorino) стоила примерно 0,69 флоринов Najemy, History of Florence, 113-5; Hunt, The Medieval Super-Companies.
38 О Серристори см. Najemy, History of Florence, 312–313; S. Tognetti, Da Figline a Firenze. Ascesa economica epolitica dellafamiglia Serristori (secoliXIV–XVI) (Figline, 2003).
39 Najemy, History of Florence, 263.
40 См. G. Holmes, «How the Medici became the Popes Bankers», In N. Rubinstein, ed., Florentine Studies (Evanston, 1968), 357–380.
41 Классическим исследованием банка Медичи (особенно в период деятельности Козимо) остается книга de Roover, The Medici Bank.
42 Re-establishing the bank on a new footing, he then: Najemy, History of Florence, 264-5.
43 Rucellai, Zibaldone, 1:61; 74.
44 Об этих личностях см. Н. Gregory, «Palla Strozzis Patronage and Pre-Medicean Florence», In F. W. Kent and P. Simmons, ed., Patronage, Art and Society In Renaissance Italy (Oxford, 1987), 201–220; H. Saalman, «Tommaso Spinelli, Michelozzo, Manetti, and Rosselino», Journal of the Society of Architectural Historians 25/3 (1966): 151–164; история строительства капеллы Пацци в церкви Санто-Кроче см. Р. Sanpaolesi, Brunelleschi (Milan, 1962), 82ff.
45 Об участии Брунеллески в строительстве Сан-Лоренцо и о том, как ему удалось убедить Джованни ди Биччи де Медичи оплатить этот проект, см. Vasari, Lives, 1:161-2.
46 См. Elam, «Cosimo de Medici and San Lorenzo», In Ames-Lewis, ed., Cosimo «il Vecchio» de Medici, 157–180.
47 Флорентийцы с XV в. связывают Сан-Лоренцо с семейством Медичи. См., например, трактат Франческо Альбертини «Memoriale di molte statue et picture sono nella Inclyta cipta di Florentia» (1510), выдержки из которого приводятся в книге Baldassarri and Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence, 218–219.
48 См. B. L. Ullman and P. Stadter, The Public Library of Florence: Niccold Niccoli, Cosimo de Medici and the Library of San Marco (Padua, 1972).
49 О Бадиа Фьорентина см. A. Leader, The Badia of Florence: Art and Observance In a Renaissance Monastery (Bloomington and Indianapolis, 2012).
50 См. H. Saalman and P. Mattox, «The First Medici Palace», Journal of the Society of Architectural Historians 44/4 (1985): 329–345.
51 Цифры взяты из статьи Goldthwaite, «The Florentine Palace as Domestic Architecture», 993.
52 Rucellai, Zibaldone, 1:118; trans. from Goldthwaite, «The Florentine Palace as Domestic Architecture», 991.
53 Vasari, Lives, 2:35-6. Неудивительно, что, когда король Франции Карл VIII прибыл во Флоренцию в 1494 г. после бегства Пьеро ди Лоренцо де Медичи, он поселился в брошенном дворце Медичи-Риккарди, поскольку это было единственное жилище, подобающее монарху.
54 Ibid., 2:43.
55 Колюччо Салютати «О мирском и о вере» (Deseculo et religion), ed. В. L. Ullman (Florence, 1957). Познакомиться с этим трудом можно в книге R. G. Witt, Hercules at the Crossroads. The Life, Works, and Thought of Coluccio Salutati (Durham N. C., 1983), 195–208.
56 Bartolomeo Facio, «О счастье человеческой жизни» (De vitae felicitate); trans. q. at Trinkaus, In Our Image and Likeness, 1:201.
57 Fraser Jenkins, «Cosimo de Medicis Patronage of Architecture», 162–163.
58. Ibid., 162. Последующие абзацы также написаны на основании трудов Фрейзера Дженкинса.
59 Leon Battista Alberti, Opera volgari, vol. 1,1 libri della famiglia, Ceno familiaris Villa, ed. C. Grayson (Bari, 1960), 210.
60 См. к примеру L. Green, «Galvano Fiamma, Azzone Visconti and the Revival of the Classical Theory of Magnificence», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 53 (1990): 98-113.
61 Сегодня ученые сходятся во мнении о том, что полномасштабная теория великолепия возникла во Флоренции в 1450-е гг., т. е. к моменту визита Галеаццо Марии Сфорца. См. Fraser Jenkins, «Cosimo de Medicis Patronage of Architecture»; Gombrich, «The Early Medici as Patrons of Art»; D. V. Kent, Cosimo de Medici and the Florentine Renaissance (New Haven, 2000); J. R. Lindow, The Renaissance Palace In Florence: Magnificence and Splendour In Fifteenth-Century Italy (London, 2007), esp. 1-76. Однако в последнее время высказываются предположения о том, что истоки этой теории лежат в проповедях Антонино Пьероцци, т. е. были высказаны несколькими десятилетиями раньше: см. Р. Howard, «Preaching Magnificence In Renaissance Florence», Renaissance Quarterly 61/2 (2008): 325–369.
62 Timoteo Mafifei, In magnificentiae Cosmi Medicei Florentini detractores; trans. from Fraser Jenkins, «Cosimo de Medicis Patronage of Architecture», 166.
63 См. Lindow, The Renaissance Palace, passim.
64 Giovanni Gioviano Pontano, I tratti delle virtue sociali, ed. F. Tateo (Rome, 1965), 234-42; trans. q. at Welch, Art and Society, 221–223.
65 Brucker, Renaissance Florence, 137.
66 Здесь говорится о довольно сложных модификациях и изменениях. Дополнительную информацию можно найти в статьях и книгах: A. Molho, «Politics and the Ruling Class In Early Renaissance Florence», Nuova rivista storica 52 (1968): 401–420; R. G. Witt, «Florentine Politics and the Ruling Class, 1382–1407», Journal of Medieval and Renaissance Studies 6 (1976): 243–267; Najemy, Corporatism and Consensus, 263–300; Najemy, History of Florence, 182–187.
67 Как писал анонимный флорентийский хронист, те, кого «обладающие властью» отбирали для жребия, «были абсолютно преданы их режиму». Под «режимом» понимается правление определенных патрицианских семейств, а не некоей абстрактной Синьории. Cronica volgare di anonimo fiorentino, ed. E. Bellondi (Citta di Castello, 1915–1918), 35; trans. Najemy, History of Florence, 183.
68 Giovanni Cavalcanti, Istorie Florentine, ed. F. Polidori, 2 vols. (Florence, 1838), 1:30.
69 См. S. A. Epstein, Genoa and the Genoese, 958-1528 (Chapel Hill and London, 1996), 194–211, 221–227, 242–253.
70 Najemy, Corporatism and Consensus, 323.
71 Najemy, History of Florence, 161, 173–174, 184; Corporatism and Consensus, 272.
72 Cavalcanti, I storie Florentine, 1:28-9.
73 Бруни «Восхваление города Флоренция»; trans. from Kohl and Witt, ed., The Earthly Republic, 158.
74 Цитируется в книге C. Hibbert, The Rise and Fall of the House of Medici (London, 1979), 40–41.
75 A. Molho and F. Sznura, ed., Alle bocche della piazza: diario di anonimo fiorentino (1382–1401) (Florence, 1986), 218–221.
76 Najemy, History of Florence, 255–256.
77 Примеры налоговых деклараций см. Brucker, Society of Renaissance Florence, 6-13 (здесь вы найдете документы Конте ди Джованни Компаньи, Франческо ди Мессер Джованни Миланезе, Лоренцо Гиберти, Аньоло ди Якопо, ткача и чесальщика Бьяджо ди Никколо). Информацию о castato 1427 г. см. Herlihy and Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs families.
78 Najemy, History of Florence, 259; L. Martines, The Social World of the Florentine Humanists, 1390–1460 (Princeton, 1963), 365–378.
79 A. Molho, Florentine Public Finances In the Early Renaissance, MOO-1433 (Cambridge MA, 1971), 157–160.
80 Najemy, History of Florence, 261.
81 D. Kent, The Rise of the Medici: Faction In Florence, 1426–1434 (Oxford, 1978), 352–357.
82 Такой термин взят из статьи A. Molho, «Cosimo de Medici: Pater Patriae or Padrino?», Stanford Italian Review 1 (1979): 13–14.
83 Цитируется в книге Hibbert, The Rise and Fall, 48.
84 О «Поклонении волхвов» и изображенных на фреске фигурах см. R. Hatfield, Botticellis Uffizi Adoration. A Study In Pictorial Content (Princeton, 1976), 68-110; R. A. Lightbown, Sandro Botticelli, 2 vols. (London, 1978), 2:35-7.
85 Vasari, Lives, 1:226.
3. Наемники и безумцы
1 Pius II, Commentaries, II. 32; 1:327.
2 Ibid., 1:329.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 M. Mallett, Mercenaries and their Masters: Warfare In Renaissance Italy, new ed. (Barnsley, 2009), 15–16.
6 См. Ibid., 25ff.
7 Диего да Рат (или да Ратта) встречается в одной из новелл Боккаччо «Декамерон», 6.3.
8 W. Caferro, «Continuity, Long Service, and Permanent Forces: A Reassessment of the Florentine Army In the Fourteenth Century», Journal of Modern History 80/2 (2008): 219–251, p. 230 (таблица 1).
9 Vasari, Lives, 1:101.
10 О переносе фрески см. М. Meiss, «The Original Position of Uccellos John Hawkwood», Art Bulletin 52 (1970): 231.
11 В отличие от Санто-Кроче, где создан настоящий пантеон великих итальянцев, в Санта-Мария дель Фьоре практически нет памятников известным людям. Кроме фрески Доменико ди Микелино «Данте перед городом Флоренция», здесь находятся памятники лишь Филиппо Брунеллески (архитектору купола), Джотто ди Бондоне (архитектору колокольни) и Марсилио Фичино. Все остальные памятники – это фигуры святых или высших священнослужителей (Папы Николая II и Папы Стефана IX). К началу XV в. стали считать, что в церквях не следует увековечивать память мирян. Самым ярким примером аргументов в пользу такого подхода служат труды Леона Баттисты Альберти. О трудах Альберти см. W. J. Wegener, «That the practice of arms Is most excellent declare the statues of valiant men: the Luccan War and Florentine political Ideology In paintings by Uccello and Castagno», Renaissance Studies 7/2 (1993): 129–167, p. 136.
12 Следует отметить, что итальянцы называли Хоквуда Джованни Акуто, и в надписи его имя латинизировано – Ioannes Actus. Надпись была сознательно стилизована под античность. См. Н. Hudson, «The Politics of War: Paolo Uccellos Equestrian Monument for Sir John Hawkwood In the Cathedral of Florence», Parergon 23/2 (2006): 1-28, p. 25.
13 О карьере Хоквуда см. W. Caferro, John Hawkwood: An English Mercenary In Fourteenth-Century Italy (Baltimore, 2006).
14 О борьбе Хоквуда с папскими армиями и его смелости пишет Фруассар. Jean Froissart, Chronicles, trans. G. Brereton (London, 1978), 282–283.
15 О контракте Хоквуда с Флоренцией в 1377 г. см. Caferro, «Continuity, Long Service, and Permanent Forces», 224–225.
16 Ibid., 224.
17 См. Najemy, History of Florence, 151–152.
18 Об этом Маркионне ди Коппо Стефани пишет во «Флорентийской хронике»; Marchionne di Сорро Stefani, Cronaca Fiorentina, 345. См. Caferro, «Continuity, Long Service, and Permanent Forces», 226.
19 Leonardo Bruni, Historiarum florentini populi libri XII, II. 72; trans. from Bruni, History of the Florentine People, ed. and trans. J. Hankins, 3 vols. (Cambridge MA, 2001-7),1:183. See Ianziti, Writing History In Renaissance Italy, 132–133.
20 Mallett, Mercenaries and their Masters, 40–41.
21 Petrarch, Canz. 128,11. 17–38. О контексте канцоны «Италия моя», см. Т. Е. Mommsen, «The Date of Petrarchs Canzone Italia Mia», Speculum 14/1 (1939): 28–37.
22Маллетт справедливо отмечает: «Во Флоренции карикатуры рисовали на стенах Синьории. Кондотьеров чаще всего изображали в цепях и повешенных за ноги. В 1428 г. объектом таких карикатур стал Никколо Пиччинино… В Венеции карикатуры рисовали не на дворце дожей, но на стене публичного дома в Риальто…» Mallett, Mercenaries and their Masters, 94–95.
23 Dante, Inf 27.44–46.
24 Ibid. 5.73-142. Об этом эпизоде см. также Т. Barolini, «Dante and Francesca da Rimini: Realpolitik, Romance, Gender», Speculum 75/1 (2000): 1-28.
25 Иногда этот портрет приписывают кисти Юстуса ван Гента.
26 О жизни Федерико см. W. Tommasoli, La vita di Federico da Montefeltro, 1422–1482 (Urbino, 1978); R. de la Sizeranne, Federico di Montefeltro capitano, principe, mecenate, 1422–1482, ed. C. Zeppieri (Urbino, 1972).
27 Как справедливо замечает Маллетт: «Основным фактором снижения роли компаний стало развитие в конце XIV в. более организованной политической структуры». Mallett, Mercenaries and their Masters, 51. Этот абзац написан на основании трудов Маллетта.
28 Пионером в этом отношении стало королевство Неаполь. Король Ладислав сделал Франческо Сфорца (сына Муцио Аттендоло) маркизом Трикарико и пожаловал ему земли в Базиликате в 1412 г. Впрочем, такая практика существовала и на севере. Папство регулярно жаловало приходы тем, кто отличился на службе или мог переметнуться на другую сторону. Такую милость получил среди прочих и Малатеста. Своим кондотьерам регулярно жаловали титулы и поместья правители Милана – Висконти и Сфорца. См. R J. Jones, «The Vicariate of the Malatesta of Rimini», English Historical Review 67/264 (1952): 321–351.
29 С. H. Clough, «Federigo da Montefeltros Patronage of the Arts, 1468–1485», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 36 (1973): 129–144, p. 130.
30 G. Zannoni, «I due libri della Martiados di Giovan Mario Filelfo», Rendiconti della R. Accademia dei Lincei: Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche ser. 5, 3 (1895): 650–671; cm. 657–659. Об отношениях младшего Филельфо с Федерико да Монтефельтро см. Clough, «Federigo da Montefeltros Patronage of the Arts», 133–134.
31 Pierantonio Paltroni, Commentari della vita egesti delTillustrissimo Federico Duca d’Urbino, ed. W. Tommasoli (Urbino, 1966).
32 Cristoforo Landino, Disputationes Camaldulenses; q. at Simonetta, The Montefeltro Conspiracy, 51.
33 Castiglione, The Book of the Courtier, trans. Bull, 41.
34 О более широких функциях капеллы см. G. Knox, «The Colleoni Chapel In Bergamo and the Politics of Urban Space», Journal of the Society of Architectural Historians 60/3 (2001): 290–309. См. также R. Schofield and A. Burnett, «The Decoration of the Colleoni Chapel», Arte Lombarda 126 (1999): 61–89; F. Piel, La Cappella Colleoni e II Luogo della Pieta In Bergamo (Bergamo, 1975); J. G. Bernstein, «Patronage, Autobiography, and Iconography: the Facade of the Colleoni Chapel», In J. Shell and L. Castelfranchi, eds., Giovanni Antonio Amadeo. Scultura e architettura delsuo tempo (Milan, 1993), 157–173.
35 Об этих панелях см. Kempers, Power, Painting and Patronage, 235–237.
36 О кабинете см. P. Remington, «The Private Study of Federigo da Montefeltro», Bulletin of the Metropolitan Museum of Art 36/2 (1941): 3-13; M. Fabianski, «Federigo da Montefeltros «Studiolo» In Gubbio Reconsidered. Its Decoration and Its Iconographic Program: An Interpretation», Artibus et Historiae 11/21 (1990): 199–214.
37 Kempers, Painting, Power and Patronage, 360, n. 7; Clough, «Federigo da Montefeltros Patronage of the Arts», 138.
38 Clough, «Federigo da Montefeltros Patronage of the Arts», 131–137.
39 О любви Федерико к архитектуре см. L. Н. Heydenreich, «Federico da Montefeltro as a building patron», In Studies In Renaissance and Baroque Art presented to Anthony Blunt on his 60th Birthday (London, 1967), 1–6.
40 О дворце см. P. Rotondi, The Ducal Palace of Urbino: Its Architecture and Decoration (London, 1969).
41 См. K. Weil-Garris and J. F. dAmico, «The Renaissance Cardinals Ideal Palace. A Chapter from Cortesis «De cardinalatu», в книге H. A. Millon, ed., Studies In Italian Art and Architecture, Fifteenth through Eighteenth Centuries (Rome, 1980), 45-123, p. 87.
42 О труде «De militia» см. С. C. Bayley, War and Society In Renaissance Florence: The De Militia of Leonardo Bruni (Toronto, 1961); P. Viti, «Bonus miles et fortis ac civium suorum amator»: La figura del condottiero nellopera di Leonardo Bruni», In M. del Treppo, ed., Condottieri e uomini darme dellTtalia del Rinascimento (Napels, 2001), 75–91.
43 Machiavelli, The Prince, xii; trans. Bull, 38–39. Аналогично о кондотьерах Макиавелли писал в «Искусстве войны».
44 Mallett, Mercenaries and their Masters, 105.
45 Machiavelli, The Prince, viii; trans. Bull, 28-9.
46 Pius II, Commentaries, II. 12; 1:253.
47 Ibid.
48 Mallett, Mercenaries and their Masters, 66.
49 Pius II, Commentaries, II. 18; 1:273.
50 См. Simonetta, The Montefeltro Conspiracy.
51 О семействе Малатеста см. Р. J. Jones, The Malatesta of Rimini and the Papal State (Cambridge, 1974).
52 Сиджисмондо пришлось жениться на Изотте в 1456 г. У супругов было четверо детей. Впоследствии дочь Сиджисмондо, Антонию, муж обезглавил за измену. Впрочем, Изотта была не единственной любовницей Сиджисмондо. Говорили, что он соблазнил десятки женщин, но нам известно только о Ванетте деи Тоски.
53 О соперничестве между этими людьми см. М. G. Pernis and L. Schneider Adams, Federico da Montefeltro and Sigismondo Malatesta: The Eagle and the Elephant (New York, 1996).
54 Pius II, Commentaries, II. 32; 1:329.
55 Ibid., 1:327–329.
56 Классическое исследование церкви см. С. Ricci, II Tempio Malatestiano (Milan and Rome, 1925).
57 Vasari, Lives, 1:210.
58 См. M. Aronberg Lavin, «Piero della Francescas Fresco of Sigismondo Pandolfo Malatesta before St. Sigismund: ©ЕШ A0ANATOI KAI THI ПОАЕ1», Art Bulletin 56/3 (1974): 345–374; p. 345.
59 Интересный современный анализ этой фрески приводится в статье Aronberg Lavin, «Piero della Francescas Fresco of Sigismondo Pandolfo Malatesta».
60 Pius II, Commentaries, II. 32; 1:331.
4. Нечестивый город
1 О биографии Энея Сильвия Пикколомини см., R. J. Mitchell, The Laurels and the Tiara: Pope Pius II, 1458–1464 (London, 1962); G. Paparelli, Enea Silvio Piccolomini. Lumanesimo sul soglio di Pietro, 2nd ed. (Ravenna, 1978).
2 См. R. С. Trexler, The “Libro Cerimoniale” of the Florentine Republic by Francesco Filarete and Angelo Manfidi (Geneva, 1978), 76–77; Baldassarri and Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence, 79–80.
3 Pius II, Commentaries, II. 26; 1:311.
4 См. G. Holmes, «Cosimo and the Popes», In Ames-Lewis, ed., Cosimo «il Vecchio» de Medici, 21–31.
5 Pius II, Commentaries, II. 32; 1:327–335.
6 Ibid., 1:327.
7 Ibid.; Trexler, The «Libro Cerimoniale» of the Florentine Republic, 78.
8 См. G. Mollat, The Popes at Avignon, 1305–1378, trans. J. Love (London, 1963); Y. Renouard, The Avignon Papacy 1305–1403, trans. D. Bethell (London, 1970).
9 Anonimo Romano, The Life of Cola di Rienzo, trans. J. Wright (Toronto, 1975), 40.
10 О начале раскола см. W. Ullmann, A Short History of the Papacy In the Middle Ages, rev. ed. (London, 1974), 279–305; The Origins of the Great Schism: A Study In Fourteenth-Century Ecclesiastical History, repr. (Hamden, CT, 1972).
11 О жизни Петрарки в Авиньоне или близ этого города см. Wilkins, Life of Petrarch, 1–5, 8-24, 32–39, 53–81, 106–127; о его приходах и других источниках доходов от церкви см. Е. Н. Wilkins, «Petrarchs Ecclesiastical Career», Speculum 28/4 (1953): 754–775.
12 О карьере Бруни в римской курии см. The Humanism of Leonardo Bruni: Selected Texts, trans. G. Griffiths, J. Hankins, and D. Thompson (Binghamton, NY,
1987), 25–35; G. Gualdo, «Leonardo Bruni segretario papale (1405–1415)», In P. Viti, ed., Leonardo Bruni, Cancelliere della Repubblica di Firenze (Florence, 1990), 73–93.
13 О жизни и творчестве Мартини см. A. Martindale, Simone Martini (Oxford,
1988).
14 F. Enaud, «Les fresques du Palais des Papes dAvignon», Les Monuments Historiques de la France 17/2-3 (1971): 1-139; M. Laclotte and D. Thiebaut, Lecole dAvignon (Tours, 1983).
15 Landino, Xandra, II. 30; Poems, ed. Chatfield, 136–139.
16 Vespasiano da Bisticci, Vite di uomini Illustri del secolo XV, ed. P. DAncona and E. Aeschlimann (Milan, 1951), 20.
17 Stefano Infessura, Diario della citta di Roma, ed. O. Tommasini (Rome, 1890).
18 Эней даже написал историю Базельского собора, чтобы высказать свою симпатию идеалам соборного движения. Aeneas Sylvius Piccolomini, De gestis Concilii Basiliensis commentariorum libri II, ed. D. Hay and W. K. Smith (Oxford, 1967). В этом издании содержится полезная и доступная информация о вкладе Энея в соборное движение.
19 Pius II, Commentaries, I. 28; 1:139.
20 Приводится в книге R Partner, Renaissance Rome, 1500–1559 (Berkeley, 1976), 16.
21 Welch, Art and Society, 242–243.
22 См. W. A. Simpson, «Cardinal Giordano Orsini (t 1438) as a Prince of the Church and a Patron of the Arts», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 29 (1966): 135–159; R. L. Mode, «Masolino, Uccello, and the Orsini Uomini Famosi», Burlington Magazine 114 (1972): 369–378.
23 О Фра Анжелико и его фресках см. Vasari, Lives, 1:198. Следует отметить, что предшественник Николая, Евгений IV, отказался от услуг Фра Анжелико. Сегодня капелла носит название Никколина. Информацию о работе художника в Риме в тот период можно найти в статье С. Gilbert, «Fra Angelicos Fresco Cycles In Rome: Their Number and Dates», Zeitschrift fur Kunstgeschichte 38/3-4 (1975): 245–265.
24 См. A. Grafton, ed., Rome Reborn. The Vatican Library and Renaissance Culture (Washington and New Haven, 1993), 3-46.
25 Pius II, Commentaries, I. 28; 1:139.
26 Vasari, Lives, 1:209.
27 См. T. Magnuson, «The Project of Nicholas V for Rebuilding the Borgo Leonino In Rome», Art Bulletin 36/2 (1954): 89-115.
28 Cortesi, De cardinalatu.
29 Как недавно написал один историк: «Великолепие, которое требовалось от кардиналов, должно было рассматриваться как часть единой, долгосрочной программы повышения статуса Рима – новой столицы Папского государства и столицы всего христианского мира… Создание созвездия дворов-спутников должно было способствовать роскоши папского двора, реальное и символическое значение которого заметно повысилось…» G. Fragnito, «Cardinals’ Courts In Sixteenth-Century Rome», Journal of Modern History 65/1 (1993): 26–56, p. 37–38.
30 О легендарных усилиях Сикста IV по перестройке Рима в эпоху Ренессанса см. F. Benzi, Sixtus IV Renovator Urbis: Architettura a Roma 1471–1484 (Rome, 1990); ed., Sisto IV Le arti a Roma nelprimo rinascimento (Rome, 2000); J. E. Blondin, «Power Made Visible: Pope Sixtus IV as Urbis Restaurator In Quattrocento Rome», Catholic Historical Review 91 (2005): 1-25; M. Miglio et al., ed., Un Pontificato ed una citta: Sisto IV (1471–1484) (Vatican City, 1986); L. Egmont, Sixtus IV and Men of Letters (Rome, 1978).
31 Vasari, Lives, 2:76.
32 Ibid., 1:361.
33 Partner, Renaissance Rome, 118.
34 Ibid.
35 Fragnito, «Cardinals’ Courts», 40.
36 Supernae dispositionis arbitrio (1514), text In G. Alberigo et al., eds., Conciliorum Oecumenicorum Decreta, repr. (Bologna, 1973), 618-9; trans. In Fragnito, «Cardinals Courts», 33.
37 См. M. C. Byatt, «The Concept of Hospitality In a Cardinals Household In Renaissance Rome», Renaissance Studies 2 (1988): 312–320.
38 Partner, Renaissance Rome, 119.
39 J. Dickie, Delizia! The Epic History of the Italians and their Food (New York, 2008), 65.
40 Partner, Renaissance Rome, 137.
41 Ibid., 138.
42 Fragnito, «Cardinals Courts», 42, n.51.
43 См. D. S. Chambers, «The Economic Predicament of Renaissance Cardinals», Studies In Medieval and Renaissance History 3 (1966): 289–313.
44 Цитируется в статье Fragnito, «Cardinals Courts», 41, n.50.
45 Pius II, Commentaries, I. 34; 1:173.
46 Ibid., II. 8; 1:239.
47 Bartolomeo Fonzio, Letters to Friends, II. 4.7; ed. A. Daneloni, trans. M. Davis (Cambridge MA and London, 2011), 81.
48 Ibid.
49 Fonzio, Letters, II. 5.5–6; ed. Daneloni, trans. Davis, 87.
50 Кастильоне «Придворный»; Castiglione, The Book of the Courtier, IV; trans. Bull, 288.
51 Fonzio, Letters, II. 5.5–6; ed. Daneloni, trans. Davis, 87.
52 Pius II, Memoirs of a Renaissance Pope, VII, XII; 218, 356–357.
53 Cellini, Autobiography, 228.
54 Petrarch Canz. 136,11. 1-11.
55 E. J. Morrall, «Aeneas Sylvius Piccolomini (Pius II), Historia de duobus amantibus», Library, 6th ser., 18/3 (1996): 216–229.
56 Pius II, Memoirs of a Renaissance Pope, XII; 357.
57 Partner, Renaissance Rome, 203.
58 Цитируется в R. F. Aldrich and G. Wotherspoon, eds., Whos Who In Gay and Lesbian History (London, 2000), 264.
59 См. M. D. Jordan, The Silence of Sodom: Homosexuality In Modern Catholicism (Chicago, 2000), 118.
60 G. A. Cesareo, Pasquino e Pasquinate nella Roma di Leone X (Rome, 1938), 168— 9; trans. In Partner, Renaissance Rome, 204. Этот пасквиль был написан примерно в 1512 г.
61 Об оформлении ванной комнаты см. Jones and Penny, Raphael, 192–193.
62 Ibid., 184–185.
63 Pius II, Commentaries, I. 36; 1:179: «…многие говорили, что Эней из Сиены станет Папой. Никого не оценивали выше».
64 Ibid.
65 Ibid., 1:197.
66 Чтобы вы получили представление о масштабах симонии Борджиа, приведу слова, написанные Гвиччардини о конклаве 1492 г.: «В том же году, месяце… умер Папа Иннокентий и на папский престол был избран Родериго Борджа, валенсиец, племянник Папы Каликста; Родериго так возвысился с помощью синьора Лодовико [Сфорца] и монсиньора Асканио [Сфорца], получившего в благодарность должность вице-канцлера; но в основном он достиг этого благодаря симонии, потому что всевозможными средствами, деньгами, должностями, бенефициями, обещаниями он купил голоса коллегии кардиналов – дело ужасное и отвратительное, достойное начало всех его позднейших низких дел и поступков» (пер. Л. М. Брагиной). Франческо Гвиччардини «История Флоренции», X; Francesco Guicciardini, Storie Florentine, X; trans. from Francesco Guiccciardini. History of Italy and History of Florence, trans. C. Grayson, ed. J. R. Hale (Chalfont St. Giles, 1966), 13.
67 Первые кардиналы-племянники появились во время понтификата Бенедикта VIII (1012–1024). До возвращения папства в Рим самым большим непотистом был, несомненно, Климент VI (1342–1352), который сделал кардиналами не меньше одиннадцати своих родственников – шестерых он назначил в один день.
68 Pius II, Commentaries, II. 7; 1:235.
69 Machiavelli, Florentine Histories, 7.22; trans. Banfield and Mansfield, 301.
70 См. I. F. Verstegen, ed., Patronage and Dynasty: The Rise of the Della Rovere In Renaissance Italy (Kirksville, MO, 2007).
71 «Среди членов его семьи были Пьеро и Джироламо, которые, по всеобщему убеждению, являлись его сыновьями… Джироламо он пожаловал город Форли, отняв его у Антонио Орделаффи, хотя предки последнего владели им долгое время. Столь самовластное поведение, однако, усилило уважение к нему всех итальянских государей, и все старались заручиться его дружбой. Герцог Миланский дал в жены Джироламо свою побочную дочь Катарину и в приданое за ней город Имолу, отняв его у Таддео Алидози». Machiavelli, Florentine Histories, 7.22; trans. Banfield and Mansfield, 301
72 Francesco Guicciardini, Storia dTtalia, I. 1; trans. from Guiccciardini. History of Italy and History of Florence, trans. Grayson, ed. Hale, 90.
73 Следует отметить, что после избрания Пия все архиепископы Сиены в течение 139 лет (1458–1597) принадлежали к семейству Пикколомини. Еще два члена клана занимали этот пост с 1628 по 1671 г.
74 Пий настолько не доверял придворным, что отказывался допускать к себе кого бы то ни было, кроме Грегорио Лолли и Якопо Амманати Пикколомини. См. Pius II, Commentaries, II. 6; 1:233.
75 О Палаццо делла Канчеллерия см. М. Daly Davis, «Opus Isodomum» at the Palazzo della Cancelleria: Vitruvian Studies and Archaeological and Antiquarian Interests at the Court of Raffael Riario», In S. Danesi Squarzina, ed., Roma centro Ideale della cultura dellantico nei secoli XV e XVI (Milan, 1989), 442–457.
76 Надпись под фонарем гласит: «S. Petri gloriae Sixtus P. P. V. A. M. D. XC. Pontif. V». («Во славу святого Петра Папа Сикст V, в году 1590-м, на пятом году его понтификата»). Надпись на фасаде: «In honorem principis apost. Paulus V Burghesius Romanus Pont. Max. an. MDCXII Pont. VII» («Во славу князя апостолов Павел V Боргезе в году 1612-м, на седьмом году его понтификата»).
77 Vasari, Lives, 2:82-3.
78 См. N. Adams, «The Acquisition of Pienza, 1459–1464», Journal of the Society of Architectural Historians 44 (1985): 99-110, «The Construction of Pienza (1459–1464) and the Consequences of Renovatio», In S. Zimmerman and R. Weissman, eds., Urban Life In the Renaissance (Newark, 1989), 50–79. О решении Пия см. Pius II, Commentaries, II. 20; 281–282.
79 Vasari, Lives, 2:81: «…Пинтуриккио изобразил в огромнейшей истории над дверями названной библиотеки… венчание названного Папы Пия III со многим портретами с натуры, внизу же мы читаем следующие слова: «Pius III Senensis, Pii II nepos, MDIII Septembris XXI apertis electus suffragiis, octavo Otobris coronatus est». [Пий III, сиенец, племянник Пия II, избранный открытым голосованием 21 сентября 1503 г., был коронован 8 октября]».
80 Guicciardini, Storia d’ltalia, I. 3; History of Italy and History of Florence, trans. Grayson, ed. Hale, 94; Machiavelli, Florentine Histories, 6.36; trans. Banfield and Mansfield, 272–273.
81 Pius II, Commentaries, II. 3, 5; 1:218–223, 226–229.
82 Ibid., II, 4; 1:222–229.
83 Lorenzo Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, ed. W. Setz, Monumenta Germaniae Historica, Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 10 (Weimar, 1976), The Treatise of Lorenzo Valla on the Donation of Constantine, ed. and trans. С. B. Coleman (New Haven, 1922; repr. Toronto, 1993).
84 См. Jones and Penny, Raphael, 239–245. Фрески этого зала были закончены уже после смерти Рафаэля, в период понтификата преемника Юлия II, Льва X.
85 Ознакомиться со схемой станц Элиодора можно в книге R. Jones and N. Penny, Raphael (New Haven and London, 1983), 113–132.
86 Jones and Penny, Raphael, 118.
87 Machiavelli, Florentine Histories, 6.14, 32; trans. Banfield and Mansfield, 244, 267; Pius II, Commentaries, I. 18–20; 1:78–99.
88 Machiavelli, Florentine Histories, 6.34; trans. Banfield and Mansfield, 269.
89 Pius II, Memoirs of a Renaissance Pope, XII; 353.
90 Machiavelli, Florentine Histories, 7.31; trans. Banfield and Mansfield, 309–310.
91 Pius II, Memoirs of a Renaissance Pope, XI; 305–306.
92 О заговоре Пацци см. Martines, April Blood. О тайной сделке с Федерико да Монтефельтро см. Simonetta, The Montefeltro Conspiracy.
93 Гвиччардини полагает, что Александр VI был «полон жестокой ненависти к самому названию Франции». Гвиччардини, «История Италии», 1.17; Guicciardini, Storia dTtalia, I. 17; History of Italy and History of Florence, trans. Grayson, ed. Hale, 181.
94 Machiavelli, The Prince, XVIII; trans. Bull, 55.
95 Machiavelli, Florentine Histories, 1.30; trans. Banfield and Mansfield, 42.
96 См. R. Weiss, The Medals of Pope Sixtus IV, 1417–1484 (Rome, 1961).
97 Vasari, Lives, 1:349.
98 R. Weiss, «The Medals of Pope Julius II (1503–1513)», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 28 (1965): 163–182.
Ill: Ренессанс и мир
1. Филиппо и пираты
1 О биографии художника см. G. Marchini, Filippo Lippi (Milan, 1975); R. Oertel, Fra Filippo Lippi (Vienna, 1942).
2 Vasari, Lives, 1:214.
3 Ibid., 1:215.
4 Все дальнейшее основано на жизнеописании Филиппо Липпи, составленном Вазари. Ibid., 1:215.
5 Для конца Ренессанса подобное событие не было чем-то из ряда вон выходящим. См., к примеру, книгу R. С. Davis, Christian Slaves, Muslim Martyrs: White Slavery In the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500–1800 (New York, 2003).
6 Vasari, Lives, 1:215.
7 Marco Polo, The Travels of Marco Polo, trans. R. Latham (London, 1958), 256,272–273, 258.
8 См. V. Slessarev, Prester John: the Letter and the Legend (Minneapolis, 1959).
9 D. Abulafia, Lhe Discovery of Mankind. Atlantic Encounters In the Age of Columbus (New Haven and London, 2008), 24.
10 Ibid., 25; John Mandeville, The Travels ofJohn Mandeville,trans.C. W.R. D. Moseley (Harmondsworth, 1983).
11 В начале XIV в. Петрарка усердно, хотя и безуспешно, пытался изучить греческий под руководством Леонтия Пилата. Впоследствии (столь же безуспешно) его примеру последовал Колюччо Салютати. Со временем, благодаря тесным связям с угасающей Византийской империей и исходом ученых с Востока, эта задача упростилась. В Италию прибыли такие выдающиеся личности, как Иоанн Аргиропулос, Мануэль Хризолорас, Теодоро Газа, кардинал Виссарион. Это позволило интеллектуальным наследникам Салютати – и, в частности, Леонардо Бруни, Марсилио Фичино и Джованни Пико делла Мирандоле – впервые познакомиться с оригиналами греческой литературы. A. Pertusi, Leonzio Pilato tra Petrarca e Boccaccio (Venice and Rome, 1964); B. L. Ullman, The Humanism of Coluccio Salutati (Padua, 1963), 118–124; Witt, Hercules at the Crossroads, esp. 252-3, 302-9; J. Monfasani, Byzantine Scholars In Renaissance Italy: Cardinal Bessarion and Other fmigres (Aldershot, 1995); J. Harris, Greek fmigres In the West, 1400–1520 (Camberley, 1995).
12 См. R Fernandez-Armesto, Before Columbus. Exploration and Colonisation from the Mediterranean to the Atlantic, 1229–1492 (London, 1987).
13 G. Tiraboschi, Storia della letteraturaltaliana, 9 vols. (Venice, 1795-96), 5–6:passim; см. P. Burke, The European Renaissance: Centres and Peripheries (Oxford, 1998), 18.
14 Burckhardt, The Civilisation of the Renaissance In Italy, trans. Middlemore, 183–231.
15 Burke, The European Renaissance, 209–220.
16 Boccaccio, Decameron, 1.2; 1.3.
17 Ibid., 2.7; 2.9; 4.4; 10.3.
18 Ibid., 3.10; 4.3.
19 Значимость «Золотой легенды» Иакова Ворагинского для формирования истории святого Георгия невозможно переоценить. Jacobus de Voragine, The Golden Legend: Readings on the Saints, trans. W. G. Ryan, 2 vols. (Princeton, 1993), 1:238–242. О влиянии сборника на искусство Ренессанса см. L. Jardine and J. Brotton, Global Interests: Renaissance Art between East and West (London, 2000), 16–20.
2. Преступление Саломоне
1 История взята из статьи A. Gow, G. Griffiths, «Pope Eugenius IV and Jewish Money-Lending In Florence: The Case of Salomone di Bonaventura during the Chancellorship of Leonardo Bruni», Renaissance Quarterly 4712 (1994): 282–329.
2 Gow and Griffiths, «Pope Eugenius IV and Jewish Money-Lending In Florence», 308.
3 Историки расходятся в описании приговора Саломоне. Я использовал версию, приведенную в статье Gow and Griffiths, «Pope Eugenius IV and Jewish Money-Lending In Florence», но можно обратиться также к другим источникам A. Panella, «Una sentenza di Niccolo Porcinari, potesta di Firenze», Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti 24 (1909): 337–367; U. Cassuto, Gli Ebrei a Firenze nelleta del Rinascimento (Florence, 1918).
4 Gow and Griffiths, «Pope Eugenius IV and Jewish Money-Lending In Florence», 311.
5 A. Milano, Storia degli ebrei In Italia, (Turin, 1963), 109–146.
6 M. A. Shulvass, The Jews In the World of the Renaissance, trans. E. I. Kose (Leiden, 1973), 22, 27.
7 D. Owen Hughes, «Distinguishing Signs: Ear-Rings, Jews and Franciscan Rhetoric In the Italian Renaissance Cities», Past and Present 112 (1986): 3-59, p. 16.
8 Как заметила Рената Сегре, «элита еврейского общества – банкиры, врачи и т. п. – прекрасно интегрировались в окружающий мир». R. Segre, «Banchi ebraici е monti di pieta», In G. Cozzi, ed., Gli ebrei a Venezia, secoli XIV–XVIII (Milan, 1987), 565–570, цитируется в статье C. Vivanti, «The History of the Jews In Italy and the History of Italy», Journal of Modern History 67/2 (1995): 309–357, p. 340.
9 Ibid., 139.
10 Цитируется в Owen Hughes, «Distinguishing Signs», 294.
11 S. Simonsohn, The Apostolic See and the Jews: History (Toronto, 1991), 403; Owen Hughes, «Distinguishing Signs», 291.
12 Simonsohn, The Apostolic See and the Jews: History, 69; S. Simonsohn, The Apostolic See and the Jews: Documents 1394–1464 (Toronto, 1991), doc. 596; Owen Hughes, «Distinguishing Signs», 295. Об отношении Мартина V к евреям см. статью F. Vernet, «Le раре Martin V et les Juifs», Revue des Questions Historiques 51 (1892): 373–423.
13 Brucker, The Society of Renaissance Florence, 240.
14 V. Corlorni, Judaica Minora. Saggi sulla storia deWEbraismo Italiano dallantichita alleta moderna (Milan, 1983), 503; цитируется в статье Gow and Griffiths, «Pope Eugenius IV and Jewish Money-Lending In Florence», 285.
15 Shulvass, Jews In the World of the Renaissance, 334–345.
16 Judah Messer Leon, The Book of the Honeycombs Flow, ed. and trans. I. Rabinowitz (Ithaca, 1983). Чтобы познакомиться с иудейским подходом к риторике эпохи Ренессанса, обратитесь к статье I. Rabinowitz, «Pre-Modern Jewish Study of Rhetoric: An Introductory Bibliography», Rhetorica 3 (1985): 137–144.
17 Owen Hughes, «Bodies, Disease, and Society», 116.
18 P. O. Kristeller, Renaissance Thought and the Arts, new ed. (Princeton, 1990), 64.
19 Owen Hughes, «Bodies, Disease, and Society», 112; Matteo Palmieri, Liber de temporibus, ed. G. Scaramella (Citta di Castello, 1906), 172–173.
20 Jacopo da Voragine, The Golden Legend, trans. G. Ryan and H. Ripperbar, 2 vols (London, 1941), 1:150.
21 Подробное описание этого алтарного образа и его глубинного смысла см. статью Owen Hughes, «Distinguishing Signs», 3-12.
22 Об антисемитизме Сан-Бернардино см. F. Mormando, The Preachers Demons: Bernardino of Siena and the Social Underworld of Early Renaissance Italy (Chicago and London, 1999), ch. 4.
23 Owen Hughes, «Bodies, Disease, and Society», 110–117.
24 Анализ этого трактата Манетти приводится в книге Trinkaus, In Our Image and Likeness, 2:726–734.
25 T. Dean, Crime and Justice In Late Medieval Italy (Cambridge, 2007), 149.
26 Dean, Crime and Justice, 146–149.
27 Описание работы Уччелло см. статью D. Е. Katz, «The Contours of Tolerance: Jews and the Corpus Domini Altarpiece In Urbino», Art Bulletin 85/4 (2003): 646–661 и книгу того же автора The Jew In the Art of the Italian Renaissance (Philadelphia, 2008), ch. 1.
28 S. Bernardino of Siena, Opera omnia, ed. Collegio S. Bonaventura, 9 vols. (Florence, 1950-65), 3:362; цитируется по статье Owen Hughes, «Distinguishing Signs», 19.
29 См. S. Grayzel, The Church and the Jews In the XHIth Century (Philadelphia, 1933), 60–70, 308–309.
30 Owen Hughes, «Distinguishing Signs», 20; D. Pacetti, «La predicazione di
S. Bernardino In Toscano», Archivum Franciscanum historicum 30 (1940): 282–318.
31 Указы, принятые во Флоренции в 1463 г., дают представление о том, насколько серьезной была ситуация: «[Приоры] заметили, что большое количество евреев селится во Флоренции, и почти никто из них не носит знака, из-за чего возникает значительная сумятица, и становится трудно отличить евреев от христиан… Преисполнившись решимости исправить это недопустимое положение, приоры постановляют, что каждый еврей, мужчина или женщина старше двенадцати лет, поименованный во флорентийском соглашении или нет, являющийся жителем Флоренции или нет, должен носить в городе Флоренция знак «О». Этот желтый знак следует нашивать на левую сторону груди на одежду в заметном месте. Знак должен иметь одну ступню в окружности и ширину в толщину пальца. За отсутствие такового знака будет взиматься штраф в размере 25 лир, для чего требуется два свидетеля…» Brucker, The Society of Renaissance Florence, 241–242, doc. 118.
32 См. B. Wisch, «Vested Interests: Redressing Jews on Michelangelos Sistine Ceiling», Artibus et Historiae 24/48 (2003): 143–172.
33 Сразу вспоминается «Венецианский купец» Шекспира: «Синьор почтенный, в среду на меня / Вы плюнули, такого-то числа / Пинком попотчевали, псом назвали – / И вот за все за эти ваши ласки / Ссужу вам деньги я?» (акт 1, сцена 3, пер. О. Сороки).
34 Owen Hughes, «Bodies, Disease, and Society», 119.
35 Brucker, The Society of Renaissance Florence, 240–241, doc. 117.
36 Евреям, к примеру, не позволялось владеть собственностью, ценность которой превышала 500 (а позже 1000) золотых флоринов. Давать деньги в рост им позволялось только на основе залога. Е R. Salter, «The Jews In Fifteenth-Century Florence and Savonarola’s Establishment of a Mons Pietatis», Historical Journal 5/2 (1936): 193–211, p. 197.
37 Цитируется по изданию Luca Landucci, Diario fiorentino dal 1450 al 1516, ed. I. Del Badia (Florence, 1883), 54.
38 Najemy, History of Florence, 396–397; Salter, «The Jews In Fifteenth-Century Florence».
39 См. L. Polizzotto, The Elect Nation: The Savonarolan Movement In Florence, 1494–1545 (Oxford, 1994), 35–37.
40 F. Clementi, ll carnevale romano nelle cronache contemporanee dale origini al secolo XVII (Citta di Castello, 1939); M. Boiteux, «Les juifs dans le Carneval de la Roma moderne (XVe-XVIIIe siecles)», Melanges de ГЁсо1е Frangaise de Rome 88 (1976): 745–787.
41 Цитируется в статье Wisch, «Vested Interests», 153.
42 См. R. Po-ChiaHsia, Trent 1475: Stories of a Ritual Murder Trial (New Haven, 1992).
43 О венецианском гетто см. статью R. Finlay, «The Foundation of the Ghetto: Venice, the Jews, and the War of the League of Cambrai», Proceedings of the American Philosophical Society 126/2 (1982): 140–154.
3. Восход полумесяца
1 D. Carleton Munro, «The Western Attitude Towards Islam during the Period of the Crusades», Speculum 615 (1931): 329–343; R. W. Southern, Western Views of Islam In the Middle Ages (Cambridge MA, 1962); N. Daniel, Islam and the West: the Making of an Image (Edinburgh, 1960).
2 Franceschi, «The Economy: Work and Wealth», 130.
3 Интересный взгляд на развитие и характер работорговли дается в статьеТ Origo, «The Domestic Enemy: The Eastern Slaves In Tuscany In the Fourteenth and Fifteenth Centuries», Speculum 30/3 (1955): 321–366.
4 См. Goldthwaite, The Economy of Renaissance Florence, 180-4.
5 Hunt and Murray, A History of Business, 180.
6 Goldthwaite, The Economy of Renaissance Florence, 183; F. Babinger, «Lorenzo de Medici e la corte ottoman», ASI121 (1963): 305–361.
7 Pegolotti, La Pratica della Mercatura, ed. Evans, esp. 14–19, 21–23.
8 E. Borstook, «The Travels of Bernardo Michelozzi and Bonsignore Bonsignori In the Levant (1497-98)», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 36 (1973): 145–197, p. 145.
9 Poggio Bracciolini, De ITnde: les voyages enAsie deNiccold de Conti, ed. M. Gueret-Laferte (Turnhout, 2004). О картографии фра Maypo см. Р. Falchetta, Fra Mauros World Map (Turnhout, 2006).
10 Cyriac of Ancona, Later Travels, ed. and trans. E. W. Bodnar (Cambridge MA, 2004).
11 figures Including Guarino Veronese, Giovanni Aurispa: E. Borstook, «The Travels of Bernardo Michelozzi and Bonsignore Bonsignori In the Levant (1497-98)», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 36 (1973): 145–197, here 145.
12 О работах Костанцо да Феррары в Константинополе см. Jardine and Brotton, Global Interests, 32, 40–41. Однако к ряду утверждений авторов следует относиться с осторожностью. Нет никаких подтверждений довольно смелому заявлению о том, что портретная медаль Мехмета II «является сугубо оттоманским артефактом, но выполненным в чисто западноевропейской традиции»: что означает выражение «сугубо оттоманский», авторы не поясняют.
13 J. Freely, Jem Sultan: The Adventures of a Captive Turkish Prince In Renaissance Europe (London, 2004).
14 F. Trivellato, «Renaissance Italy and the Muslim Mediterranean In Recent Historical Work», Journal of Modern History 82/1 (2010): 127–155, here 146–148; N. Zemon Davis, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim across Worlds (New York, 2006).
15 Самым доступным исследованием этого вопроса является статья Origo, «The Domestic Enemy».
16 См. D. Howard, Venice and the East: The Impact of the Islamic World on Venetian Architecture, 1100–1500 (New Haven, 2000); C. Burnett and A. Contadini, eds., Islam and the Italian Renaissance (London, 1999).
17 Jardine and Brotton, Global Interests, 132–185.
18 См. D. King and D. Sylvester, eds., The Eastern Carpet In the Western World from the 15th to the 17th Century (London, 1983). Более обще см. R. E. Mack, Bazaar to Piazza: Islamic Trade and Italian Art, 1300–1600 (Berkeley and London, 2002).
19 N. Bisaha, Creating East and West: Renaissance Humanists and the Ottoman Turks (Philadelphia, 2004), 19.
20 Petrarch De vita solitaria, ZII, Iv, 6; PII, lx; Prose, 496; trans. Zeitlin, 247–248. Латинский текст De vita solitaria, ed. G. Martellotti, Prose, 286–593; английский перевод «Об уединенной жизни», Life of Solitude, trans. J. Zeitlin, (Illinois, 1924). Ссылки на трактат Петрарки даются либо в переводе Джейкоба Цейтлина (Z), либо в сборнике Мартелотти «Проза» (Р). Глубокий анализ этой темы в творчестве Петрарки дается в статье N. Bisaha, «Petrarchs Vision of the Muslim and Byzantine East», Speculum 76/2 (2001): 284–314.
21 Pius II, Commentaries, II. 1; 1:211.
22 M. Meserve, Empires of Islam In Renaissance Historical Thought (Cambridge MA, 2008), 239.
23 Ibid., 107.
24 C. J. Tyerman, «Marino Sanudo Torsello and the Lost Crusade: Lobbying In the Fourteenth Century», Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., 32 (1982): 57–73, here 57.
25 Петрарка ненавидел морские путешествия, поэтому однозначно отказался от идеи столь долгого странствия. Однако это не помешало ему написать «путеводитель» по Святой Земле. Francesco Petrarca, Itinerario In Terra Santa, ed. F. Lo Monaco (Bergamo, 1990).
26 Petrarch, De vita solitaria, Z II, Iv, 4; P II, lx; Prose, 492–494; trans. Zeitlin, 245.
27 Ullman, The Humanism of Coluccio Salutati, 79.
28 Machiavelli, Florentine Histories, 6.33; trans. Banfield and Mansfield, 269. О проповедях странствующих проповедников см. статью J. Hankins, «Renaissance Crusaders: Humanist Crusade Literature In the Age of Mehmed II», Dumbarton Oaks Papers 49 (1995): 111–207, особо 111–124.
29 Лучшим исследованием отношения Пия к туркам является, несомненно, статья J. Helmrath, «Pius II und die Tiirken», In B. Guthmiiller and W. Kiihlmann, eds., Europa und die Tiirken In der Renaissance (Tubingen, 2000), 79-138.
30 Pius II, Commentaries, II. 1; 1:211.
31 Pius II, Memoirs of a Renaissance Pope, III; 113.
32 Об этом сундуке см. Е. Callmann, Apollonio di Giovanni (Oxford, 1974), 48–51, 63–64. О передних панелях таких сундуков много рассказывается в книге С. Campbell, Love and Marriage In Renaissance Florence: The Courtauld Wedding Chests (London, 2009).
4. Бремя страстей человеческих
1 F. Biccellari, «Un francescano umanista. II beato Alberto da Sarteano», Studi francescani 10 (1938): 22–48, «Missioni del b. Alberto In Oriente per LUnione della Chiesa Greca e II ristabilimento dell’Osservanza nelfOrdine francescano», Studi francescani 11 (1939): 159–173.
2 R. C. Trexler, The Journey of the Magi: Meanings In History of a Christian Story (Princeton, 1997), 129.
3 Ibid.
4 См. E. Cerulli, «L’Etiopia del sec. XV In nuovi documenti storici», Africa Italiana 5 (1933): 58–80, «Eugenio IV e gli Etiopi al Concilio di Firenze nel 1441», Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Classe di Scienze Morali 6/9 (1933): 346–368; S. Tedeschi, «Etiopi e copti al concilio di Firenze», Annuarium historiae conciliorum 21 (1989): 380–397; J. Gill, The Council of Florence (Cambridge, 1959), 310,318, 321,326, 346.
5 О памятных барельефах Филарете см. К. Lowe, «Representing» Africa: Ambassadors and Princes from Christian Africa to Italy and Portugal, 1402–1608», Transactions of the Royal Historical Society 6/17 (2007): 101–128.
6 Herodotus, Histories, 4.42-3. Перевод дается по изданию: Геродот. История / пер. Г. А. Стратановского, М., 1972.
7 См. Е. М. Yamauchi, ed., Africa and Africans In Antiquity (East Lansing, 2001); L. A. Thompson and J. Ferguson, Africa In Classical Antiquity: Nine Studies (Ibadan, 1969).
8 C. Klapisch-Zuber, «Women servants In Florence (fourteenth and fifteenth centuries)», In B. Hanawalt, ed., Women and Work In Preindustrial Europe (Bloomington, 1986), 56–80, p. 69.
9 См. Slessarev, Prester John: the Letter and the Legend.
10 См. G. R. Crone, ed., The Voyages ofCadamosto (London, 1937).
11 Abulafia, The Discovery of Mankind, 91.
12 См. S. Tognetti, «The Trade In Black African Slaves In Fifteenth-Century Florence», In T. F. Earle and K. J. P. Lowe, eds., Black Africans In Renaissance Europe (Cambridge, 2005), 213–224, pp. 217–218.
13 Ibid., 218.
14 Abulafia, The Discovery of Mankind, 95; J. Schorsch, Jews and Blacks In the Early Modern World (Cambridge, 2004), 17–49.
15 См. превосходное исследование P. H. D. Kaplan, The Rise of the Black Magus In Western Art (Ann Arbor, 1985).
16 См. P. H. D. Kaplan, «Isabella d’Este and black African women», In Earle and Lowe, eds., Black Africans In Renaissance Europe, 125–154.
17 J. W. O’Malley, «Fulfilment of the Christian Golden Age under Pope Julius II: Text of a Discourse of Giles of Viterbo, 1507» Traditio 25 (1969): 265–338, esp. 323–325.
18 См. T. Filesi, «Enrico, figlio del re del Congo, primo vescovo dellAfrica nero (1518)», Euntes Docete 19 (1966): 365–385; C-M. de Witte, «Henri de Congo, eveque titulaire d’Utique (+ c.1531), d’apres les documents romains», Euntes Docete 21 (1968): 587–599; F. Bontinck, «Ndoadidiki Ne-Kinu a Mumemba, premier eveque du Kongo (c.1495-c.1531)», Revue Africaine de Theologie 3 (1979): 149–169.
19 Информацию по этой теме можно найти в статье N. Н. Minnich, «The Catholic Church and the pastoral care of black Africans In Renaissance Italy», In Earle and Lowe, eds., Black Africans In Renaissance Europe, 280–300.
20 Ibid., 296.
21 См. L. M. Mariani, San Benedetto da Palermo, II того Etiope, nato a S. Fratello (Palermo, 1989); G. Fiume and M. Modica, eds., San Benedetto II того: santita, agiog-rafia eprimiprocessi di canonizzazione (Palermo, 1998).
22 K. Lowe, «The stereotyping of black Africans In Renaissance Europe», In Earle and Lowe, eds., Black Africans In Renaissance Europe, 17–47, p. 34.
23 Ibid., 33.
24 Castiglione, The Book of the Courtier, I; trans. Bull, 96.
25 О происхождении Алессандро см. J. Brackett, «Race and rulership: Alessandro de Medici, first Medici duke of Florence, 1529–1537», в книге Earle and Lowe, eds., Black Africans In Renaissance Europe, 303–325.
26 Цитируется в книге Abulafia, The Discovery of Mankind, 94.
27 Ibid.
28 J. – P. Rubies, «Giovanni di Buonagrazias letter to his father concerning his participation In the second expedition of Vasco da Gama», Mare liberum 16 (1998): 87-112, here 107; цитируется в статье Lowe, «The stereotyping of black Africans», 28.
29 Crone, ed., The Voyages of Cadamosto, 89.
30 Lowe, «The stereotyping of black Africans», 35.
5. Дивные новые миры
1 Marco Polo, Travels, trans. Latham, 243–244; см. также Abulafia, The Discovery of Mankind, 24–27.
2 R. H. Fuson, Legendary Islands of the Ocean Sea (Sarasota, 1995), 118–119.
3 G. Moore, «La spedizione dei fratelli Vivaldi e nuovi documenti darchivio», Atti della Societa Figure di Storia Patria, new ser., 12 (1972): 387–400.
4 C. Verlinden, «Lanzarotto Malocello et la decouverte portugaise des Canaries», Revue beige de philologie et d’histoire 36 (1958): 1173–1209; Abulafia, The Discovery of Mankind, esp. 33–39.
5 См. Fernandez-Armesto, Before Columbus.
6 См. J. H. Parry, The Age of Reconnaissance: Discovery, Exploration and Settlement, 1450–1650, newed. (London, 2000), 146–148.
7 Burckhardt, The Civilisation of the Renaissance In Italy, 184.
8 Burke, The European Renaissance, 210.
9 M. Pastore Stocchi, «II De Canaria boccaccesco e un «locus deperditus» nel De Insulis di Domenico Silvestri», Rinsascimento 10 (1959): 153–156; подробное обсуждение этого текста можно найти в книге Abulafia, The Discovery of Mankind, 36–41; D. Abulafia, «Neolithic meets medieval: first encounters In the Canary Islands», In D. Abulafia and N. Berend, eds., Medieval Frontiers: Concepts and Practices (Aldershot, 2002), 255–278.
10 Petrarch, De vita solitaria, Z II, vi, 3; P II, xi; Prose, 522–524.
11 См. R. Williams, The American Indian In Western Legal Thought: the Discourses of Conquest (Oxford and New York, 1990), 71–72.
12 Цитируется в книге Burke, The European Renaissance, 210.
13 Истории всех троих – Колумба, Веспуччи и Вераццано – можно найти в книге L. Firpo, ed., Prime relazioni di navigatori Italiani sulla scoperta delVAmerica. Colombo – Vespucci – Verazzano (Turin, 1966).
14 О Тосканелли см. S. Y. Edgerton, Jr., «Florentine Interest In Ptolemaic Cartography as Background for Renaissance Painting, Architecture, and the Discovery of America», Journal of the Society of Architectural Historians 33/4 (1974): 275–292. Карта Контарини-Росселли, единственный сохранившийся экземпляр которой хранится в Британской библиотеке, является первой известной картой, на которой показаны обе Америки.
15 См. Н. Hofmann, «La scoperta del nuovo mondo nella poesia neolatina: I «Colum-beidos libri priores duo» di Giulio Cesare Stella», Columbeis III (Genoa, 1988), 71–94, «Aeneas In Amerika: De «Columbeis» van Julius Caesar Stella», Hermeneus 64 (1992): 315–322.
16 См. D. Turner, «Forgotten Treasure from the Indies: The Illustrations and Drawings of Fernandez de Oviedo», Huntington Library Quarterly 48/1 (1985): 1-46.
17 Burke, The European Renaissance, 212; G. 0\mi,L4nventario del mondo: catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima eta moderna (Bologna, 1992), 211–252.
18 Hunt and Murray, A History of Business, 181, 221.
19 Goldthwaite, Economy of Renaissance Florence, 159.
20 Ibid., 146.
21 Ibid., 159–160; V. Rau, «Urn grande mercador-banqueiro Italiano em Portugal: Lucas Giraldi», In V. Rau, Estudos de historia (Lisbon, 1968), 75-129.
22 S. Greenblatt, «Foreword», In F. Lestringant, Mapping the Renaissance World (Berkeley, 1994), xi.
23 Abulafia, The Discovery of Mankind, 14–18.
24 Ibid., 36–41.
25 Petrarch, De vita solitaria, Z II, vi, 3; P II, xi; Prose, 524; trans. Zeitlin, 267.
26 J. Muldoon, Popes, Lawyers and Infidels: the Church and the Non-Christian World, 1250–1500 (Liverpool, 1979), 121; q. at Abulafia, The Discovery of Mankind, 86–87.
27 Оригинальный текст приводится в книге Firpo, ed., Prime relazioni di navigatori Italiani, 88; trans. from Brown, The Renaissance, 122.
28 Ibid.
Эпилог: Окно и зеркало
1 Leon Battista Alberti, De pictura, 1.19; ed, C. Grayson (Rome, 1975), 55.
Литература
Основные источники
Alberigo G., et al, eds., Conciliorum Oecumenicorum Decreta, repr. (Bologna, 1973).
Alberti Leon Battista, Depictura, ed. C. Grayson (Rome, 1975).
Alberti Leon Battista, Opera volgari, vol. 1, I libri della famiglia, Ceno familiaris Villa, ed. C. Grayson (Bari, 1960).
Alighieri Dante, La Vita Nuova, trans. B. Reynolds, rev. ed. (London, 2004).
Alighieri Dante, The Divine Comedy, trans. G. L. Bickersteth, new ed. (Oxford, 1981).
Anonimo Romano, The Life of Cola di Rienzo, trans. J. Wright (Toronto, 1975).
Anonymous, Alle bocche della piazza: diario di anonimo fiorentino (1382–1401), ed. A. Molho and R Sznura (Florence, 1986).
Anonymous, Cronica volgare di anonimo fiorentino, ed. E. Bellondi (Citta di Castello, 1915–1918).
Aquinas St. Thomas, On Law, Morality, and Politics, ed. W. P. Baumgarth and R. J. Regan S. J. (Indianapolis, 1988). 572.
Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. and ed. R. Crisp, Cambridge Texts In the History of Philosophy (Cambridge, 2000).
Baldassarri S. U., and A. Saiber, eds., Images of Quattrocento Florence. Selected Writings In Literature, History, and Art (New Haven and London, 2000).
Barocchi R, ed., Scritti darte del cinquecento, 3 vols. (Milan and Naples, 1971–1977).
Beccadelli Antonio, The Hermaphrodite, ed. and trans. H. Parker (Cambridge MA, 2010).
Bernardino of Siena S., Opera omnia, ed. Collegio S. Bonaventura, 9 vols. (Florence, 1950-65).
Bisticci Vespasiano da, Vite di uomini Illustri del secolo XV, ed. P. DAncona and E. Aeschlimann (Milan, 1951).
Boccaccio Giovanni, Decameron, trans. G. H. McWilliam, 2nd ed. (London, 1995). Boccaccio Giovanni, Decameron, ed. V. Branca, new ed., 2 vols. (Turin, 1992). Boccaccio Giovanni, Lettere edite ed Inedite, ed. F. Corazzini (Florence, 1877). Boccaccio Giovanni, Famous Women, ed. and trans. V. Brown (Cambridge MA and London, 2001).
Brucker G. A., ed., The Society of Renaissance Florence: A Documentary Study (New York, 1971).
Bruni Leonardo, History of the Florentine People, ed. and trans. J. Hankins, 3 vols. (Cambridge MA, 2001–2007).
Bruni Leonardo, The Humanism of Leonardo Bruni: Selected Texts, trans. G. Griffiths, J. Hankins, and D. Thompson (Binghamton, NY, 1987).
Cada Mosto Alvise, The Voyages of Cadamosto, ed. G. R. Crone (London, 1937). Cassirer E., P. O. Kristeller, and J. H. Randall Jr., eds., The Renaissance Philosophy of Man (Chicago, 1948).
Castiglione Baldassare, The Book of the Courtier, trans. G. Bull, new ed. (London, 1976). Cavalcanti Giovanni, Istorie Fiorentine, ed. F. Polidori, 2 vols. (Florence, 1838). Cellini Benvenuto, Autobiography, trans. G. Bull, rev. ed. (London, 1998).
Condivi Ascanio, Michelangelo: Life, Letters, and Poetry, trans. G. Bull (Oxford and New York, 1987).
Condivi Ascanio, Vita di Michelangelo Buonarroti, ed. G. Nencioni (Florence, 1998)
Dati Gregorio, Istoria di Firenze dallanno MCCCLXXX allano MCCCV, ed. G. Bianchini (Florence, 1735).
Ficino Marsilio, Opera Omnia, (Basel, 1576; repr. Turin, 1962).
Ficino Marsilio, Platonic Theology, trans. M J. B. Allen, ed. J. Hankins, 6 vols. (Cambridge MA, 2001-6).
Filelfo Francesco, Odes, ed. and trans. D. Robin (Cambridge MA and London, 2009).
Firpo L., ed., Prime relazioni di navigatori Italiani sulla scoperta delTAmerica. Colombo – Vespucci – Verazzano (Turin, 1966).
Fonte Bartolomeo della (Bartolomeo Fonzio), Letters to Friends, ed. A. Daneloni, trans. M. Davis (Cambridge MA and London, 2011).
Froissart Jean, Chronicles, trans. G. Brereton (London, 1978).
Guicciardini Francesco, History of Italy and History of Florence, trans. C. Crayson, ed. J. R. Hale (Chalfont St. Giles, 1966).
Guicciardini Francesco, Storie fiorentine, ed. R. Palmarocchi (Bari, 1931).
Guido da Pisa, Expositiones et Glose super Comediam Dantis, ed. V. Cioffari (Albany, 1974).
Infessura Stefano, Diario della citta di Roma, ed. O. Tommasini (Rome, 1890).
Kallendorf, V., ed. and trans., Humanist Educational Treatises (Cambridge MA and London, 2002).
Kemp M., ed., Leonardo on Painting (New Haven and London, 1989).
Kohl B. G., and R. G. Witt, ed., The Earthly Republic. Italian Humanists on Government and Society (Philadelphia, 1978).
Landino Cristoforo, Poems, trans. M. P. Chatfield (Cambridge MA and London, 2008).
Landucci Luca, Diario fiorentino dal 1450 al 1516, ed. I. Del Badia (Florence, 1883).
Leon Judah Messer, The Book of the Honeycombs Flow, ed. and trans. I. Rabinowitz (Ithaca, 1983).
Machiavelli Niccolo, Florentine Histories, trans. L. F. Banfield and H. C. Mansfield, Jr. (Princeton, 1990).
Machiavelli Niccolo, The Prince, trans. G. Bull (London, 1961).
Mandeville John, The Travels of John Mandeville, trans. C. W. R. D. Moseley (Harmondsworth, 1983).
Mazzei Lapo, Lettere di un Notaro a un Mercante del secolo XIV, con alter Lettere e Documenti, ed. C. Guasti, 2 vols. (Florence, 1880).
Medici Lorenzo de’, Poesie, ed. I. Caliaro, 2nd ed. (Milan, 2011).
Michelangelo Buonarroti, II Carteggio di Michelangelo, ed. P. Barocchi and R. Ristori, 5 vols. (Florence, 1965–1983).
Michelangelo Buonarroti, Poems and Letters, trans. A. Mortimer (London, 2007).
Michelangelo Buonarroti, The Letters of Michelangelo, trans. E. H. Ramsden, 2 vols. (London and Stanford, 1963).
Ovid, Metamorphoses, trans. F. J. Miller, Loeb Classical Library, 2 vols. (London, 1916).
Palmieri Matteo, Liber de temporibus, ed. G. Scaramella (Citta di Castello, 1906).
Palmieri Matteo, Vita civile, ed. F. Battaglia (Bologna, 1944).
Palmieri Matteo, Vita civile, ed. G. Belloni (Florence, 1982).
Paltroni Pierantonio, Commentari della vita e gesti delVillustrissimo Federico Duca d’Urbino, ed. W. Tommasoli (Urbino, 1966).
Pegolotti Francesco Balducci, La Pratica della mercatura, ed. A. Evans (Cambridge MA, 1936).
Petrarca Francesco, Africa, ed. N. Festa, Edizione Nazionale delle Opere di Francesco Petrarca (Florence, 1936).
Petrarca Francesco, De otio religioso, ed. G. Rotondi (Vatican City, 1958).
Petrarca Francesco, Itinerario In Terra Santa, ed. F. Lo Monaco (Bergamo, 1990).
Petrarca Francesco, Letters of Old Age. Rerum Senilium Libri I–XVIII, trans. A. S. Bernardo, S. Levin and R. A. Bernardo, 2 vols. (Baltimore and London, 1992).
Petrarca Francesco, Life of Solitude, trans. J. Zeitlin, (Illinois, 1924).
Petrarca Francesco, On Religious Leisure, ed. and trans. S. S. Schearer (New York, 2002)
Petrarca Francesco, Petrarchs Lyric Poems. The Rime Sparse and Other Lyrics, trans. and ed. R. M. Durling (Cambridge MA and London, 1976).
Petrarca Francesco, Prose, ed. G. Martellotti, P. G. Ricci, E. Carrara, and E. Bianchi (Milan and Naples, 1955).
Piccolomini Aeneas Sylvius (Pope Pius II), Commentaries, vol. 1, ed. M. Meserve and M. Simonetta, (Cambridge MA and London, 2003).
Piccolomini Aeneas Sylvius (Pope Pius II), De gestis Concilii Basiliensis commentariorum libri II, ed. D. Hay and W. K. Smith (Oxford, 1967).
Piccolomini Aeneas Sylvius (Pope Pius II), Secret Memoirs of a Renaissance Pope. The Commentaries of Aeneas Silvius Piccolomini, Pius II, trans. F. A. Gragg, ed. L. C. Gabel (London, 1988).
Pico della Mirandola, Giovanni, Heptaplus, ed. E. Garin (Florence, 1942).
Polo Marco, The Travels of Marco Polo, trans. R. Latham (London, 1958).
Pontano Giovanni Gioviano, Baiae, trans. R. G. Dennis (Cambridge MA and London, 2006).
Pontano Giovanni Gioviano, I tratti delle virtue sociali, ed. F. Tateo (Rome, 1965).
Rucellai Giovanni, Zibaldone, ed. A. Perosa, 2 vols. (London, 1960).
Sacchetti Franco, I/ Trecentonovelle, ed. E. Faccioli (Turin, 1970).
Salutati Coluccio, De seculo et religione, ed. B. L. Ullman (Florence, 1957).
Savonarola Girolamo, Trattato circa II reggimento e governo della citta di Firenze, ed. L. Firpo (Turin, 1963).
Stefani Marchione di Coppo, Cronaca fiorentina, Rerum Italicarum Scriptores 30.1 (Citta di Castello, 1927).
Thompson D., and A. F. Nagel, eds. and trans., The Three Crowns of Florence. Humanist Assessments of Dante, Petrarca and Boccaccio (New York, 1972).
Trexler R. C, The «Libro Cerimoniale» of the Florentine Republic by Francesco Filarete and Angelo Manfidi (Geneva, 1978).
Valla Lorenzo, De falso credita et ementita Constantini donatione, ed. W. Setz, Monumenta Germaniae Historica, Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 10 (Weimar, 1976).
Valla Lorenzo, The Treatise of Lorenzo Valla on the Donation of Constantine, ed. and trans. С. B. Coleman (New Haven, 1922; repr. Toronto, 1993).
Valla Lorenzo, Von der Lust oder Vom wahren Guten, ed. E. Kefiler (Munich, 2004).
Vasari Giorgio, Lives of the Artists, trans. G. Bull, 2 vols. (London, 1987).
Voragine Jacobus de, The Golden Legend, trans. G. Ryan and H. Ripperbar, 2 vols (London, 1941).
Voragine Jacobus de, The Golden Legend: Readings on the Saints, trans. W. G. Ryan, 2 vols. (Princeton, 1993).
Вспомогательные источники
Abulafia D., «Neolithic meets medieval: first encounters In the Canary Islands», In D. Abulafia and N. Berend, eds., Medieval Frontiers: Concepts and Practices (Aldershot, 2002), 255-78.
Abulafia D., «Southern Italy and the Florentine Economy, 1265–1370», Economic History Review 33 (1981): 377-88.
Abulafia D., The Discovery of Mankind. Atlantic Encounters In the Age of Columbus (New Haven and London, 2008).
Adams N., «The Acquisition of Pienza, 1459–1464», Journal of the Society of Architectural Historians 44 (1985): 99-110.
Adams N., «The Construction of Pienza (1459–1464) and the Consequences of Renovatio», In S. Zimmerman and R. Weissman, eds., Urban Life In the Renaissance (Newark, 1989), 50–79.
Albala K., Eating Right In the Renaissance (Berkeley, 2002).
Aldrich R. F. and G. Wotherspoon, eds., Whos Who In Gay and Lesbian History (London, 2000).
Ames-Lewis E, ed., Cosimo «И Vecchio» de Medici, 1389–1464 (Oxford, 1992).
Aronberg Lavin M., «Piero della Francescas Fresco of Sigismondo Pandolfo Malatesta before St. Sigismund: 0ЕШ A0ANATGI KAI THI ПОЛЕ1», Art Bulletin 56/3 (1974): 345-74.
Arrizabalaga J., J. Henderson, and R. French, The Great Pox: The French Disease In Renaissance Europe (New Haven, 1997).
Babinger E, «Lorenzo de Medici e la corte ottoman», ASI121 (1963): 305-61.
Baker N. S., «For Reasons of State: Political Executions, Republicanism, and the Medici In Florence, 1480–1560», Renaissance Quarterly 62/2 (2009): 444-78.
Barolini T., «Dante and Francesca da Rimini: Realpolitik, Romance, Gender», Speculum 75/1 (2000): 1-28.
Baron H., «Burckhards Civilization of the Renaissance a Century after Its Publication», Renaissance News 13 (1960): 207-22.
Baron H., «Franciscan Poverty and Civic Wealth as Factors In the Rise of Humanistic Thought», Speculum 13 (1938): 1-37.
Baron H., Humanistisch-philosophische Schriften (Berlin 1928).
Baron H., The Crisis of the Early Italian Renaissance, rev. ed. (Princeton, 1966).
Barzman К. E., The Florentine Academy and the Early Modern State (Cambridge,
2000).
Baxandall M., Giotto and the Orators: Humanist Observers of Painting In Italy and the Discovery of Pictorial Composition, 1350–1450 (Oxford, 1971).
Baxandall M., Painting and Experience In Fifteenth-Century Italy (Oxford, 1972).
Bayley C. C., War and Society In Renaissance Florence: The De Militia of Leonardo Bruni (Toronto, 1961).
Becker M., «An Essay on the Quest for Identity In the Early Italian Renaissance», In J. G. Rowe and W. H. Stockdale, eds., Florilegium Historiale: Essays Presented to Wallace K. Ferguson (Toronto, 1971), 296–308.
Ben-Aryeh Debby N., «Political Views In the Preaching of Giovanni Dominici In Renaissance Florence, 1400–1406», Renaissance Quarterly 55/1 (2002): 19–48.
Benzi E, ed., Sisto IV. Le arti a Roma nelprimo rinascimento (Rome, 2000)
Benzi E, ed., Sixtus IV Renovator Urbis: Architettura a Roma 1471–1484 (Rome, 1990).
Bernstein J. G., «Patronage, Autobiography, and Iconography: the Facade of the Colleoni Chapel», In J. Shell and L. Castelfranchi, eds., Giovanni Antonio Amadeo. Scultura e architettura del suo tempo (Milan, 1993), 157-73.
Bertelli S., «Machiavelli and Soderini», Renaissance Quarterly 28/1 (1975): 1-16.
Biccellari E, «Missioni del b. Alberto In Oriente per FUnione della Chiesa Greca e II ristabilimento delFOsservanza nelFOrdine francescano», Studi francescani 11 (1939): 159-73.
Biccellari E, «Un francescano umanista. II beato Alberto da Sarteano», Studi francescani 10 (1938): 22–48.
Bisaha N., Creating East and West: Renaissance Humanists and the Ottoman Turks (Philadelphia, 2004).
Bisaha N., «Petrarchs Vision of the Muslim and Byzantine East», Speculum 76/2 (2001): 284–314.
Black R., «Education and the emergence of a literate society», In Najemy, ed., Italy In the Age of the Renaissance, 18–36.
Blondin J. E., «Power Made Visible: Pope Sixtus IV as Urbis Restaurator In Quattrocento Rome», Catholic Historical Review 91 (2005): 1-25.
Boiteux M., «Les juifs dans le Carneval de la Roma moderne (XVe-XVIIIe siecles)», Melanges de ГЁсо1е Fran$aise de Rome 88 (1976): 745-87.
BontinckF., «Ndoadidiki Ne-Kinu a Mumemba, premier eveque du Kongo (c.1495-c.1531)», Revue Africaine de Theologie 3 (1979): 149-69.
Borstook E., «The Travels of Bernardo Michelozzi and Bonsignore Bonsignori In the Levant (1497-98)», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 36 (1973): 145-97.
Brackett J. K., Criminal Justice and Crime In Late Renaissance Florence, 1537–1609 (Cambridge, 1992).
Brackett J. K., «Race and rulership: Alessandro de Medici, first Medici duke of Florence, 1529–1537», In Earle and Lowe, eds., Black Africans In Renaissance Europe, 303-25.
Brackett J. K., «The Florentine Onesta and the Control of Prostitution», Sixteenth Century Journal 24/2 (1993); 273–300.
Brown A., The Renaissance, 2nd ed. (London and New York, 1999).
Brown A., «The Early Years of Piero di Lorenzo, 1472–1492: Between Florentine Citizen and Medici Prince», In J. E. Law and B. Paton, eds., Communes and Despots In Medieval and Renaissance Italy (Farnham, 2011), 209–222.
Brown J. С, «А Womans Place was In the Home: Womens Work In Renaissance Tuscany», In M. W. Ferguson, M. Quilligan, and N. J. Vickers, eds., Rewriting the Renaissance. The Discourses of Sexual Difference In Early Modern Europe (Chicago and London, 1986), 206-24.
Brown J. C. and R. C. Davis, eds., Gender and Society In Renaissance Italy (Harlow, 1998).
Brown J. C., and J. Goodman, «Women and Industry In Florence», Journal of Economic History 40/1 (1980): 73–80.
Brucker G. A., Florentine Politics and Society, 1343–1378 (Princeton, 1963).
Brucker G. A., Renaissance Florence (Berkeley, Los Angeles and London, 1969).
Brucker G. A., «Florentine Voices from the Catasto, 1427–1480», I Tatti Studies 5 (1993): 11–32.
BruckerG. A., «The Medici In the Fourteenth Century», Speculum 32/1 (1957): 1-26.
Brundage J. A., Law, Sex, and Christian Society In Medieval Europe (Chicago, 1987).
Bullard M. M., «Heroes and their Workshops: Medici Patronage and the Problem of Shared Agency», Journal of Medieval and Renaissance Studies 24 (1994): 179-98.
Burckhardt J., The Civilization of the Renaissance In Italy, trans. S. G. C. Middlemore (London, 1995).
Burke P., The European Renaissance: Centres and Peripheries (Oxford, 1998).
Burnett C. and A. Contadini, eds., Islam and the Italian Renaissance (London, 1999).
Butters H. C, Governors and Governmnet In Early Sixteenth-Century Florence, 1502–1519 (Oxford, 1985).
Byatt M. C., «The Concept of Hospitality In a Cardinals Household In Renaissance Rome», Renaissance Studies 2 (1988): 312-20.
CaferroW., «Continuity, Long Service, and Permanent Forces: A Reassessment of the Florentine Army In the Fourteenth Century», Journal of Modern History 80/2 (2008): 219-51.
Caferro W., John Hawkwood: An English Mercenary In Fourteenth-Century Italy (Baltimore, 2006).
Callmann E., Apollonio di Giovanni (Oxford, 1974).
Campbell C., Love and Marriage In Renaissance Florence: The Courtauld Wedding Chests (London, 2009).
Camporeale S. I., Lorenzo Valla: Umanesimo e Teologia (Florence, 1971).
Carleton Munro D., «The Western Attitude Towards Islam during the Period of the Crusades», Speculum 6/3 (1931): 329-43.
Carmichael A. G., Plague and the Poor In Renaissance Florence (Cambridge, 1986).
Cassuto U., Gli Ebrei a Firenze nelleta del Rinascimento (Florence, 1918).
Cavallo S., «The Artisans Casa», In M. Ajmar-Wollheim and F. Dennis, eds., At Home In Renaissance Italy (London, 2006), 66–75.
Cerulli, «Eugenio IV e gli Etiopi al Concilio di Firenze nel 1441», Rendiconti della R. Accademia dei Lined, Classe di Scienze Morali 6/9 (1933): 346–368.
Cerulli, «LEtiopia del sec. XV In nuovi documenti storici», Africa Italiana 5 (1933): 58–80.
Cesareo G. A., Pasquino e Pasquinate nella Roma di Leone X (Rome, 1938).
Chambers D. S., «The Economic Predicament of Renaissance Cardinals», Studies In Medieval and Renaissance History 3 (1966): 289–313.
Clementi R, I/ carnevale romano nelle cronache contemporanee dale origini al secolo XVII (Citta di Castello, 1939).
Clough С. H., «Federigo da Montefeltros Patronage of the Arts, 1468–1485», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 36 (1973): 129–144.
Cohen E. S., and T. V. Cohen, Daily Life In Renaissance Italy (Westport CT and London, 2001).
Cohn Jr., S. K., «The Black Death: End of a Paradigm», American Historical Review 107/3 (2002): 703-38.
Cohn Jr., S. K., The Laboring Classes In Renaissance Florence (New York, 1980).
Cohn Jr., S. K., «Women and Work In Renaissance Italy», In Brown and Davis, eds., Gender and Society, 107–127.
Cole B., The Renaissance Artist at Work from Pisano to Titian (London, 1983).
Comanducci R. M., «Laltare nostro de la Trinita»: Masaccios Trinity and the Berti Family», Burlington Magazine 145 (2003): 14–21.
Connell W. J., and G. Constable, «Sacrilege and Redemption In Renaissance Florence: The Case of Antonio Rinaldeschi», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 61 (1998): 63–92.
Cooper R., «Pier Soderini: Aspiring Prince to Civic Leader», Studies In Medieval and Renaissance History, n. s. 1 (1978): 67-126.
Corlorni V., Judaica Minora. Saggi sulla storia delTEbraismo Italiano dalYantichita alletd moderna (Milan, 1983).
Creighton G., and M. Merisi da Caravaggio, Caravaggio and his Two Cardinals (Philadelphia, 1995).
Crompton L., Homosexuality and Civilization (Cambridge MA, 2006).
Cunningham C. «For the honour and beauty of the city: the design of town halls», In Norman, ed., Siena, Florence and Padua, 2:29–54.
Daly Davis M., «Opus Isodomum» at the Palazzo della Cancelleria: Vitruvian Studies and Archaeological and Antiquarian Interests at the Court of Raffael Riario», In S. Danesi Squarzina, ed., Roma centro Ideale della cultura dellantico nei secoli XV e XVI (Milan, 1989), 442-57.
Daniel N., Islam and the West: the Making of an Image (Edinburgh, 1960).
Davidsohn R., Storia di Firenze, 8 vols. (Florence, 1956-68).
Davis R. C, Christian Slaves, Muslim Martyrs: White Slavery In the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500–1800 (New York, 2003).
D’Elia A. E, «Marriage, Sexual Pleasure, and Learned Brides In the Wedding Orations of Fifteenth-Century Italy», Renaissance Quarterly 55/2 (2002): 379–433.
de la Sizeranne R., Federico di Montefeltro capitano, principe, mecenate, 1422–1482, ed. C. Zeppieri (Urbino, 1972).
de Roover R., devolution de la lettre de change (XlVe-XVIIIe siecles) (Paris, 1953).
de Roover R., The Rise and Decline of the Medici Bank, 1397–1494 (New York, 1966).
de Roover R., «The Scholastics, Usury, and Foreign Exchange»’ Business History Review 41/3 (1967): 257–271.
de Witte C. – M., «Henri de Congo, eveque titulaire d’Utique (+ c.1531), d’apres les documents romains», Euntes Docete 21 (1968): 587-99.
Dean T., Crime and Justice In Late Medieval Italy (Cambridge, 2007).
Dickie J., Delizia! The Epic History of the Italians and their Food (New York, 2008).
Earle T. E, and K. J. P. Lowe, eds., Black Africans In Renaissance Europe (Cambridge, 2005).
Edgerton S. Y., «Florentine Interest In Ptolemaic Cartography as Background for Renaissance Painting, Architecture, and the Discovery of America», Journal of the Society of Architectural Historians 33/4 (1974): 275–292.
Edgerton S. Y., The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective (New York, 1975).
Egmont L., Sixtus IV and Men of Letters (Rome, 1978).
Elam C. «Cosimo de Medici and San Lorenzo», In Ames-Lewis, ed., Cosimo “il Vecchio” de Medici, 157-80.
Enaud E, «Les fresques du Palais des Papes d’Avignon», Les Monuments Historiques de la France 17/2-3 (1971): 1-139.
Epstein S. A., Genoa and the Genoese, 958-1528 (Chapel Hill and London, 1996).
Fabiahski M., «Federigo da Montefeltro’s £CStudiolo” In Gubbio Reconsidered. Its Decoration and Its Iconographic Program: An Interpretation», Artibus et Historiae 11/21 (1990): 199–214. Ferguson, W. K., «Humanist views of the Renaissance», American Historical Review 4 (1939): 1-28.
Fermor S., Piero di Cosimo. Fiction, Invention and Fantasia (London, 1993).
Fernandez-Armesto E, Before Columbus. Exploration and Colonisation from the Mediterranean to the Atlantic, 1229–1492 (London, 1987).
FilesiT., «Enrico, figlio del re del Congo, primo vescovo dell’Africa nero (1518)», Euntes Docete 19 (1966): 365-85.
Finlay R., «The Foundation of the Ghetto: Venice, the Jews, and the War of the League of Cambrai», Proceedings of the American Philosophical Society 126/2 (1982): 140-54.
Fiume G., and M. Modica, eds., San Benedetto II того: santita, agiografia e primi processi di canonizzazione (Palermo, 1998).
Fletcher S., and C. Shaw, eds., The World of Savonarola: Italian elites and perceptions of crisis (Aldershot, 2000).
Fragnito G., «Cardinals’ Courts In Sixteenth-Century Rome», Journal of Modern History 65/1 (1993): 26–56.
Franceschi E, «The Economy: Work and Wealth» In Najemy, ed., Italy In the Age of the Renaissance, 124-44.
Francese }., «On Homoerotic Tension In Michelangelos Poetry», MINI 17/1 (2002): 17–47.
Fraser Jenkins A. D., «Cosimo de Medici’s Patronage of Architecture and the Theory of Magnificence», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 33 (1970): 162-70.
Freely J., Jem Sultan: The Adventures of a Captive Turkish Prince In Renaissance Europe (London, 2004).
Frommel C. L., Michelangelo und Tommaso dei Cavalieri (Amsterdam, 1979).
Fuson R. H., Legendary Islands of the Ocean Sea (Sarasota, 1995).
Garfagnini G. C, ed., Savonarola e lapolitica (Florence, 1997).
Garin E., Giovanni Pico della Mirandola: Vita e dottrina (Florence, 1937).
Gilbert С. E., «Fra Angelico’s Fresco Cycles In Rome: Their Number and Dates», Zeitschriftfiir Kunstgeschichte 38/3-4 (1975): 245–265.
Gilbert С. E., Poets Seeing Artists’ Work: Instances In the Italian Renaissance (Florence, 1991).
Giles K. A., «The Strozzi Chapel In Santa Maria Novella: Florentine Painting and Patronage, 1340–1355», Unpublished PhD Dissertation, New York University, 1977.
Gill J., The Council of Florence (Cambridge, 1959).
Gilson S., Dante and Renaissance Florence (Cambridge, 2005).
Goldthwaite R. A., «The Florentine Palace as Domestic Architecture», American Historical Review 77/4 (1972): 977-1012.
Goldthwaite R. A., Private Wealth In Renaissance Florence: A Study of Four Families (Princeton, 1968).
Goldthwaite R. A., The Economy of Renaissance Florence (Baltimore, 2009).
Gombrich E. H., «From the revival of letters to the reform of the arts», In D. Fraser, H. Hibbard, and M. J. Lewine, eds., Essays In the History of Art Presented to Rudolf Wittkower (London, 1967), 71–82.
Gombrich E. H., «leones Symbolicae: The Visual Image In Neo-Platonic Thought», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 11 (1948): 163–192.
Gombrich E. H., «The Early Medici as Patrons of Art», In E. F. Jacobs, ed., Italian Renaissance Studies (London, 1960), 279–311.
Gombrich E. H., The Story of Art, 15th ed. (London, 1989).
Gow A., and G. Griffiths, «Pope Eugenius IV and Jewish Money-Lending In Florence: The Case of Salomone di Bonaventura during the Chancellorship of Leonardo Bruni», Renaissance Quarterly 47/2 (1994): 282–329.
Grafton A., ed., Rome Reborn. The Vatican Library and Renaissance Culture (Washington and New Haven, 1993).
Grafton A., and L. Jardine, From Humanism to the Humanities: Education and the Liberal Arts In Fifteenth- and Sixteenth-Century Europe (Cambridge MA, 1986).
Granato L. R., «Location of the Armoury In the Italian Renaissance Palace», Waffen und Kostumkunde 24 (1982): 152–153.
Grayzel S., The Church and the Jews In theXIIIth Century (Philadelphia, 1933).
Green L., «Galvano Fiamma, Azzone Visconti and the Revival of the Classical Theory of Magnificence», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 53 (1990): 98-113.
Greenblatt S., Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare (Chicago, 1984).
Gregory H., «Palla Strozzis Patronage and Pre-Medicean Florence», In F. W. Kent and P. Simmons, ed., Patronage, Art and Society In Renaissance Italy (Oxford, 1987), 201-20.
GrendlerP., Schooling In Renaissance Italy: Literacy and Learning, 1300–1600 (Baltimore, 1989).
Grey C., and P. Heseltine, Carlo Gesualdo, Musician and Murderer (London, 1926).
Gualdo G., «Leonardo Bruni segretario papale (1405–1415)», In P. Viti, ed., Leonardo Bruni, Cancelliere della Repubblica di Firenze (Florence, 1990), 73–93.
Guidotti A., «Pubblico e private, committenza e clientele: Botteghe e produzione artistica a Firenze tra XV e XVI secolo», Richerche storiche 16 (1986): 535-50.
Gutkind C., Cosimo de Medici: Pater Patriae, 1389–1464 (Oxford, 1938).
Hale J. R., Florence and the Medici. The Pattern of Control (London, 1977).
Hankins J., «Renaissance Crusaders: Humanist Crusade Literature In the Age of Mehmed II», Dumbarton Oaks Papers 49 (1995): 111-207
Hankins J., «The Myth of the Platonic Academy of Florence», Renaissance Quarterly 44/3 (1991): 429-47.
Harris J., Greek fmigres In the West, 1400–1520 (Camberley, 1995).
Harrison C., «The Arena Chapel: patronage and authorship», In Norman, ed., Siena, Florence and Padua, 2: 83-104.
Hatfield R., Botticellis Uffizi Adoration. A Study In Pictorial Content (Princeton, 1976)
Hatfield R., «Cosimo de Medici and the Chapel of His Palace», In Ames-Lewis, ed., Cosimo “il Vecchio” de Medici, 221-44.
Hatfield R., «The Compagnia de Magi», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 33 (1970): 107-61.
Hatfield R., The Wealth of Michelangelo (Rome, 2002).
Hay D., The Church In Italy In the Fifteenth Century (Cambridge, 1977).
Hazelton Haight E., «Horace on Art: Ut Pictura Poesis», The Classical Journal 47/5 (1952): 157-62, 201–202.
Helmrath J., «Pius II und die Tiirken», In B. Guthmiiller and W. Kuhlmann, eds., Europa und die Tiirken In der Renaissance (Tubingen, 2000), 79-138.
Herlihy D., and C. Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs families (Paris, 1978).
Herlihy D., and C. Klapisch-Zuber, Tuscans and Their Families: A Study of the Florentine Catasto of 1427 (New Haven, 1985).
Heydenreich L. H., «Federico da Montefeltro as a building patron», In Studies In Renaissance and Baroque Art presented to Anthony Blunt on his 60th Birthday (London, 1967), 1–6.
Hibbert C., The Rise and Fall of the House of Medici (London, 1979).
Hirst M., «Michelangelo In 1505», Burlington Magazine 133/1064 (1991): 760-66.
Hirst M., Michelangelo, vol. 1, The Achievement of Fame (New Haven and London, 2011).
Hofmann H., «Aeneas In Amerika: De «Columbeis» van Julius Caesar Stella», Hermeneus 64 (1992): 315–322.
Hofmann H., «La scoperta del nuovo mondo nella poesia neolatina: I «Columbeidos libri priores duo» di Giulio Cesare Stella», Columbeis III (Genoa, 1988), 71–94.
Holmes G., «Cosimo and the Popes», In Ames-Lewis, ed., Cosimo “il Vecchio” de Medici, 21–31.
Holmes G., «How the Medici became the Popes Bankers», In N. Rubinstein, ed., Florentine Studies (Evanston, 1968), 357-80.
Howard D., Venice and the East: The Impact of the Islamic World on Venetian Architecture, 1100–1500 (New Haven, 2000).
Howard P., «Preaching Magnificence In Renaissance Florence», Renaissance Quarterly 6112 (2008): 325–369.
Hudson H., «The Politics of War: Paolo Uccellos Equestrian Monument for Sir John Hawkwood In the Cathedral of Florence», Parergon 23/2 (2006): 1-28.
Hunt E. S., The Medieval Super-Companies: A Study of the Peruzzi Company of Florence (Cambridge, 1994).
Hunt E. S., and J. M. Murray, A History of Business In Medieval Europe, 1200–1500 (Cambridge, 1999).
Hyatte R., The Arts of Friendship. The Idealization of Friendship In Medieval and Early Renaissance Literature (Leiden, 1994).
Hyde J. К., Society and Politics In Medieval Italy. The Evolution of the Civil Life, 1000–1350 (London, 1973).
Ianziti G., Writing History In Renaissance Italy. Leonardo Bruni and the Uses of the Past (Cambridge MA and London, 2012).
Jack M. A., «The Accademia del Disegno In Late Renaissance Florence», Sixteenth Century lournal 7/2 (1976): 3-20.
Jardine L., and J. Brotton, Global Interests: Renaissance Art between East and West (London, 2000).
Jones P. J., «Communes and despots; the city state In late-medieval Italy», Transactions of the Royal Historical Society 5th ser., 15 (1965): 71-96
Jones P. J., The Italian City-State: From Commune to Signoria (Oxford, 1997).
Jones P. J., The Malatesta of Rimini and the Papal State (Cambridge, 1974).
Jones P. J., «The Vicariate of the Malatesta of Rimini», English Historical Review 67/264 (1952): 321–351.
Jones R., and N. Penny, Raphael (New Haven and London, 1983).
Jordan M. D., The Silence of Sodom: Homosexuality In Modern Catholicism (Chicago, 2000).
Kaplan P. H. D., «Isabella d’Este and black African women», In Earle and Lowe, eds., Black Africans In Renaissance Europe, 125-54.
Kaplan P. H. D., The Rise of the Black Magus In Western Art (Ann Arbor, 1985).
Katz D. E., «The Contours of Tolerance: Jews and the Corpus Domini Altarpiece In Urbino», Art Bulletin 85/4 (2003): 646–661.
Katz D. E., The Jew In the Art of the Italian Renaissance (Philadelphia, 2008).
Kempers B., Painting, Power and Patronage. The Rise of the Professional Artist In Renaissance Italy, trans. B. Jackson (London, 1994).
Kent D., Cosimo de Medici and the Florentine Renaissance (New Haven, 2000).
KentD., «The Florentine Reggimento In the Fifteenth Century», Renaissance Quarterly 28/4 (1975): 575–638.
Kent D., «The Lodging House of All Memories»: An Accountants Home In Renaissance Florence», Journal of the Society of Architectural Historians 66/4 (2007): 444-63.
Kent D., The Rise of the Medici: Faction In Florence, 1426–1434 (Oxford, 1978).
Kent F. W., «Individuals and Families as Patrons of Culture In Quattrocento Florence», In A. Brown, ed., Language and Images of Renaissance Italy (Oxford, 1995), 171-92.
KingD., and D. Sylvester, eds., The Eastern Carpet In the Western World from the 15th to the 17th Century (London, 1983).
Kirshner J., «Family and marriage: a socio-legal perspective», In Najemy, ed., Italy In the Age of the Renaissance, 82-102.
Klapisch-Zuber C, «Women servants In Florence (fourteenth and fifteenth centuries)», In B. Hanawalt, ed., Women and Work In Preindustrial Europe (Bloomington, 1986), 56–80.
Knox G., «The Colleoni Chapel In Bergamo and the Politics of Urban Space», Journal of the Society of Architectural Historians 60/3 (2001): 290–309.
Kristeller P. O., Renaissance Thought and the Arts, new ed. (Princeton, 1990).
La Ronciere, C. – M. de, «Poveri e poverta a Firenze nel XIV secolo», In C. – M. de la Ronciere, G. Cherubini, and G. Barone, eds., Trapreghiera e rivolta: le folle foscane nel XIV secolo (Rome, 1993), 197–281.
Laclotte M., and D. Thiebaut, Lecole dAvignon (Tours, 1983).
Lambert M. D., Franciscan Poverty. The Doctrine of the Absolute Poverty of Christ and the Apostles In the Franciscan Order, 1210–1323 (London, 1961).
Landauer C., «Erwin Panofsky and the Renascence of the Renaissance», Renaissance Quarterly 47/1 (1994): 255-81.
Larner J., Culture and Society In Italy, 1290–1420 (London, 1971).
Le GoffJ., The Birth of Purgatory, trans. A. Goldhammer (Chicago, 1984).
Leader A., The Badia of Florence: Art and Observance In a Renaissance Monastery (Bloomington and Indianapolis, 2012).
Lee A., «Petrarch, Rome, and the «Dark Ages», In P. Prebys, ed., Early Modern Rome, 1341–1667 (Ferrara, 2012), 9-26.
Lee A., Petrarch and St. Augustine: Classical Scholarship, Christian Theology, and the Origins of the Renaissance In Italy (Leiden, 2012).
Lee R. W., «Ut Pictura Poesis: The Humanistic Theory of Painting», Art Bulletin 22/4 (1940): 197–269.
Leoncini G., Fa certosa di Firenze nei suoi rapporti con Yarchitettura certosina (Salzburg, 1980).
Lestringant E, Mapping the Renaissance World (Berkeley, 1994).
Liebert R. S., Michelangelo: A Psychoanalytic Study of His Fife and Images (New Haven, 1983).
Lightbown R. A., Sandro Botticelli, 2 vols. (London, 1978).
Lindow J. R., The Renaissance Palace In Florence: Magnificence and Splendour In Fifteenth-Century Italy (London, 2007).
Lowe K., «Representing» Africa: Ambassadors and Princes from Christian Africa to Italy and Portugal, 1402–1608», Transactions of the Royal Historical Society 6/17 (2007): 101-28.
Lowe К., «The stereotyping of black Africans In Renaissance Europe», In Earle and Lowe, eds., Black Africans In Renaissance Europe, 17–47.
Lubkin G., A Renaissance Court: Milan under Galleazzo Maria Sforza (Berkeley, Los Angeles, and London, 1994).
Mack C. R., Review of The Aesthetics of Renaissance Art: A Reconsideration of Style by H. Wohl, Renaissance Quarterely 53/2 (2000): 569-71.
MackR. E., Bazaar to Piazza: Islamic Trade and Italian Art, 1300–1600 (Berkeley and London, 2002).
Mackenney R., Renaissances. The Cultures of Italy, C.1300-C.1600 (Houndmills, 2005).
Maggi A., «On Kissing and Sighing: Renaissance Homoerotic Love from Ficinos De amore and Sopra Lo Amore to Cesare Trevisanis L’impresa (1569)», Journal of Homosexuality 49/3-4 (2005): 315–339.
Maginnis H. B. J., The World of the Early Sienese Painter (Philadelphia, 2001).
Magnuson T., «The Project of Nicholas V for Rebuilding the Borgo Leonino In Rome», Art Bulletin 36/2 (1954): 89-115.
Mallett M., Mercenaries and their Masters: Warfare In Renaissance Italy, new ed. (Barnsley, 2009).
Mann N., Petrarch (Oxford, 1984).
Marchini G., Filippo Lippi (Milan, 1975).
Mariani L. M., San Benedetto da Palermo, II того Etiope, nato a S. Fratello (Palermo, 1989).
Martindale A., Simone Martini (Oxford, 1988).
Martindale A., The Rise of the Artist In the Middle Ages and Early Renaissance (London, 1972).
Martines L., April Blood: Florence and the Plot Against the Medici (London and New York, 2003).
Martines L., Power and Imagination. City-States In Renaissance Italy (London, 1980).
Martines L., Scourge and Fire. Savonarola and Renaissance Italy (London, 2007).
Martines L., The Social World of the Florentine Humanists, 1390–1460 (Princeton, 1963).
Mayer E., Un umanista Italiano della corte di Mattia Corvino, Aurelio Brandolino hippo (Rome, 1938).
McLaughlin M. L., «Humanist concepts of Renaissance and Middle Ages In the tre-and quattrocento», Renaissance Studies 2 (1988): 131–142.
Meiss M., «The Original Position of Uccellos John Hawkwood», Art Bulletin 52 (1970): 231.
Merkley P., and L. L. M. Merkley, Music and Patronage In the Sforza Court (Turnhout, 1999).
Meserve M., Empires of Islam In Renaissance Historical Thought (Cambridge MA, 2008).
Miglio M., et al., ed., Un Pontificato ed una citta: Sisto IV (1471–1484) (Vatican City, 1986).
Milano A., Storia degli ebrei In Italia, (Turin, 1963).
Minnich N. H., «The Catholic Church and the pastoral care of black Africans In Renaissance Italy», In Earle and Lowe, eds., Black Africans In Renaissance Europe, 280–300.
Mitchell R. J., The Laurels and the Tiara: Pope Pius II, 1458–1464 (London, 1962).
Mode R. L., «Masolino, Uccello, and the Orsini Uomini Famosi», Burlington Magazine 114 (1972): 369-78.
Molho A., «Cosimo de Medici: Pater Patriae or Padrino?», Stanford Italian Review 1 (1979): 13–14.
Molho A., Florentine Public Finances In the Early Renaissance, 1400–1433 (Cambridge MA, 1971).
Molho A., «Politics and the Ruling Class In Early Renaissance Florence», Nuova rivista storica 52 (1968): 401–420.
Mollat G., The Popes at Avignon, 1305–1378, trans. J. Love (London, 1963).
Mommsen T. E., «Petrarchs Conception of the «Dark Ages», Speculum 17 (1942): 226-42.
Mommsen T. E., «The Date of Petrarchs Canzone Italia Mia», Speculum 14/1 (1939): 28–37.
Monfasani J., Byzantine Scholars In Renaissance Italy: Cardinal Bessarion and Other Tmigres (Aldershot, 1995).
Moore G., «La spedizione dei fratelli Vivaldi e nuovi documenti darchivio», Atti della Societa Figure di Storia Patria, new ser., 12 (1972): 387–400.
Mormando E, The Preachers Demons: Bernardino of Siena and the Social Underworld of Early Renaissance Italy (Chicago and London, 1999).
Morrall E. J., «Aeneas Sylvius Piccolomini (Pius II), Historia de duobus amantibus», Library, 6th ser., 18/3 (1996): 216–229.
Moxey K. P. E, «Perspective, Panofsky, and the Philosophy of History», New Literary History 26/4 (1995): 775–786.
Muir E., «Representations of Power», In Najemy, ed., Italy In the Age of the Renaissance, 226-45.
Muldoon J., Popes, Lawyers and Infidels: the Church and the Non-Christian World, 1250–1500 (Liverpool, 1979).
Muscetta C., Giovanni Boccaccio, 2nd ed. (Bari, 1974).
Najemy J., A History of Florence, 1200–1575 (Oxford, 2008).
Najemy J., Corporation and Consensus In Florentine Electoral Politics, 1280-MOO (Chapel Hill, 1982).
Najemy J., ed., Italy In the Age of the Renaissance 1300–1550 (Oxford, 2004).
Norman D., ed., Siena, Florence, and Padua. Art, Society and Religion 1280–1400, 2 vols. (New Haven and London, 1995).
O’Malley J. W., «Fulfilment of the Christian Golden Age under Pope Julius II: Text of a Discourse of Giles of Viterbo, 1507» Traditio 25 (1969): 265–338.
Oertel R., Fra Filippo Lippi (Vienna, 1942).
Olmi G., L’inventario del mondo: catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima eta moderna (Bologna, 1992).
Origo I., «The Domestic Enemy: The Eastern Slaves In Tuscany In the Fourteenth and Fifteenth Centuries», Speculum 30/3 (1955): 321–366.
Origo I., The Merchant of Prato. Francesco di Marco Datini, 1335–1410(New York, 1957).
Owen Hughes D., «Bodies, Disease, and Society», In Najemy, ed., Italy In the Age of the Renaissance, 103–123.
Owen Hughes, D., «Distinguishing Signs: Ear-Rings, Jews and Franciscan Rhetoric In the Italian Renaissance Cities», Past and Present 112 (1986): 3-59.
Pacetti D., «La predicazione di S. Bernardino In Toscano», Archivum Franciscanum historicum 30 (1940): 282–318.
Padgett J. E, and С. K. Ansell, «Robust Action and the Rise of the Medici, 1400–1434», American Journal of Sociology 98/6 (1993): 1259–1319.
PanellaA., «Una sentenza di Niccolo Porcinari, potesta di Firenze», Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere edArti 24 (1909): 337–367.
Panizza L., «Active and Contemplative In Lorenzo Valla: The Fusion of Opposites», In B. Vickers, ed., Arbeit, Musse, Meditation. Betrachtungen zur Vita Activa und Vita contemplativa (Zurich, 1985), 181–223.
PanofskyE., «Die Perspektive als symbolische Form», Vortrage der Bibliothek Warburg 1924-5 (1927): 258–330.
Panofsky E., Renaissance and Renascences In Western Art, 2nd ed. (New York and London, 1969).
Panofsky E., Studies In Iconology: Humanistic Themes In the Art of the Renaissance, new ed. (New York and Evanston, 1962).
Paparelli G., Enea Silvio Piccolomini. Lumanesimo sul soglio di Pietro, 2nd ed. (Ravenna, 1978).
Parry J. H., The Age of Reconnaissance: Discovery, Exploration and Settlement, 1450–1650, new ed. (London, 2000).
Partner P., Renaissance Rome, 1500–1559 (Berkeley, 1976).
Pastore Stocchi, M., «II De Canaria boccaccesco e un “locus deperditus” nel De Insulis di Domenico Silvestri», Rinsascimento 10 (1959): 153–156.
Pernis M. G., and L. Schneider Adams, Federico da Montefeltro and Sigismondo Malatesta: The Eagle and the Elephant (New York, 1996).
Pertusi A., Leonzio Pilato tra Petrarca e Boccaccio (Venice and Rome, 1964).
Piel R, La Cappella Colleoni e II Luogo della Pieta In Bergamo (Bergamo, 1975).
Po-Chia Hsia R., Trent 1475: Stories of a Ritual Murder Trial (New Haven, 1992).
Polizzotto L., The Elect Nation: The Savonarolan Movement In Florence, 1494–1545 (Oxford, 1994).
Pope-Hennessy J., Paradiso. The Illuminations to Dantes Divine Comedy by Giovanni di Paolo (London, 1993).
Prizer W. R, «Reading Carnival: The Creation of a Florentine Carnival Song», Early Music History 23 (2004): 185–252.
Rabinowitz I., «Pre-Modern Jewish Study of Rhetoric: An Introductory Bibliography», Rhetorica 3 (1985): 137–144.
Rau V, Estudos de historia (Lisbon, 1968).
Remington R, «The Private Study of Federigo da Montefeltro», Bulletin of the Metropolitan Museum of Art 36/2 (1941): 3-13.
Renouard, Y., The Avignon Papacy 1305–1403, trans. D. Bethell (London, 1970).
Rezasco G., «Segno delle meretrici», Giornale Linguistico 17 (1980): 161–220.
Ricci С, II Tempio Malatestiano (Milan and Rome, 1925).
Rocke M., «Gender and Sexual Culture In Renaissance Italy», In Brown and Davis, eds., Gender and Society, 150-70.
Rocke M., Forbidden Friendships: Homosexuality and Male Culture In Renaissance Florence (New York, 1996).
Rossi P. L., «The writer and the man – real crimes and mitigating circumstances – I/ caso Cellini», In K. Lowe and T. Dean, eds., Crime, Sexual Misdemeanour and Social Disorder In Renaissance Italy (Cambridge, 1994), 157-83.
Rotondi R, The Ducal Palace of Urbino: Its Architecture and Decoration (London, 1969).
Rowlands Jnr. B., The Classical Tradition In Western Art (Cambridge MA, 1963).
Rubies J. P., «Giovanni di Buonagrazias letter to his father concerning his participation In the second expedition of Vasco da Gama», Mare liberum 16 (1998): 87-112.
Rubin P. L., Giorgio Vasari: Art and History (London, 1995).
Rubinstein N., «Le Allegorie di Ambrogio Lorenzetti nella Sala della Pace e II pensiero politico del suo tempo», Rivista Storica Italiana 109 (1997): 781–802.
Rubinstein N., «Political Ideas In Sienese art: the frescoes by Ambrogio Lorenzetti and Taddeo di Bartolo In the Palazzo Pubblico», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 21 (1958): 179–207.
Rubinstein N., «The Beginning of Niccolo Machiavellis Career In the Florentine Chancery», Italian Studies 11 (1956): 72–91.
Rubinstein N., The Government of Florence under the Medici (1434 to 1494) (Oxford, 1966).
Saalman H., «Tommaso Spinelli, Michelozzo, Manetti, and Rosselino», Journal of the Society of Architectural Historians 25/3 (1966): 151-64.
Saalman H., and P. Mattox, «The First Medici Palace», Journal of the Society of Architectural Historians 44/4 (1985): 329–345.
Salter F. R., «The Jews In Fifteenth-Century Florence and Savonarola’s Establishment of a Mons Pietatis», Historical Journal 5/2 (1936): 193–211.
Sanpaolesi R, Brunelleschi (Milan, 1962).
Saslow J. M., «А Veil of Ice between My Heart and the Fire»: Michelangelos Sexual Identity and Early Constructions of Homosexuality», Genders 2 (1998): 77–90.
Schofield R., and A. Burnett, «The Decoration of the Colleoni Chapel», Arte Lombarda 126 (1999): 61–89.
Schorsch J., Jews and Blacks In the Early Modern World (Cambridge, 2004).
Schwartz M. V, and P. Theis, «Giottos Father: Old Stories and New Documents», Burlington Magazine 141 (1999), 676-77.
Segre R., «Banchi ebraici e monti di pieta», In G. Cozzi, ed., Gli ebrei a Venezia, secoli XIV–XVIII (Milan, 1987), 565-70.
Shulvass M. A., The Jews In the World of the Renaissance, trans. E. I. Rose (Leiden, 1973).
Simonetta M., The Montefeltro Conspiracy: A Renaissance Mystery Decoded (New York, 2008).
SimonsohnS., The Apostolic See and the Jews: Documents 1394–1464 (Toronto, 1991)
Simonsohn S., The Apostolic See and the Jews: History (Toronto, 1991).
Simpson W. A., «Cardinal Giordano Orsini (t 1438) as a Prince of the Church and a Patron of the Arts», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 29 (1966): 135-59.
Skinner Q. R. D., «Ambrogio Lorenzetti s Buongoverno Frescoes: Two Old Questions, Two New Answers,’ Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 62 (1999): 1-28.
Skinner Q. R. D., «Ambrogio Lorenzetti: the artist as political philosopher», Proceedings of the British Academy 72 (1986): 1-56.
Skinner Q. R. D., The Foundations of Modern Political Thought, 2 vols. (Cambridge, 1978).
Slessarev V., Prester John: the Letter and the Legend (Minneapolis, 1959).
Southern R. W., Western Views of Islam In the Middle Ages (Cambridge MA, 1962).
Spufford R, Money and Its Use In Medieval Europe (Cambridge, 1988)
Spufford P., «Trade In fourteenth-century Europe», In M. Jones, The New Cambridge Medieval History, vol. vi, C.1300-C.1415 (Cambridge, 2000), 155–208.
Stedman Sheard W., and J. T. Paoletti, eds., Collaboration In Italian Renaissance Art (New Haven, 1978).
Steinmann E., and H. Pogatscher, «Dokumente und Forschungen zu Michelangelo, IV, Cavalieri-Dokumente», Repertorium ftir Kunstwissenschaft 29 (1906): 496–517.
Stubblebine J., ed., Giotto: The Arena Chapel Frescoes (New York and London, 1969).
Taeusch C. R, «The Concept of «Usury»: the History of an Idea», Journal of the History of Ideas 3/3 (1942): 291–318.
Tedeschi S., «Etiopi e copti al concilio di Firenze», Annuarium historiae conciliorum 21 (1989): 380–397.
Thomas A., The Painters Practice In Renaissance Tuscany (Cambridge, 1995).
Thompson L. A., and J. Ferguson, Africa In Classical Antiquity: Nine Studies (Ibadan, 1969).
Tiraboschi G., Storia della letteratura Italiana, 9 vols. (Venice, 1795-96).
Tognetti S., Da Figline a Firenze. Ascesa economica e politica della famiglia Serristori (secoli XIV–XVI) (Figline, 2003).
Tognetti S., «Prezzi e salari nella Firenze tardomedievale: Un profile», ASI 153 (1999): 263–333.
Tognetti S., «The Trade In Black African Slaves In Fifteenth-Century Florence», In Earle and Lowe, eds., Black Africans In Renaissance Europe, 213-24.
Tommasoli W., La vita di Federico da Montefeltro, 1422–1482 (Urbino, 1978).
Trexler R., «La Prostitution Florentine au XVe Siecle: Patronages et Clienteles», Annales ESC36 (1981): 983-1015.
Trexler R., Public Life In Renaissance Florence (Ithaca and London, 1980).
Trexler R., The Journey of the Magi: Meanings In History of a Christian Story (Princeton, 1997).
Trimpi W., «The Meaning of Horaces Ut Pictura Poesis», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 36 (1973): 1-34.
Trinkaus C., In Our Image and Likeness. Humanity and Divinity In Italian Humanist Thought, 2 vols. (Chicago, 1970).
Trivellato E, «Renaissance Italy and the Muslim Mediterranean In Recent Historical Work», Journal of Modern History 82/1 (2010): 127-55.
Turner D., «Forgotten Treasure from the Indies: The Illustrations and Drawings of Fernandez de Oviedo», Huntington Library Quarterly 48/1 (1985): 1-46.
Tyerman C. J., «Marino Sanudo Torsello and the Lost Crusade: Lobbying In the Fourteenth Century», Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., 32 (1982): 57–73.
Ullman B. L., The Humanism of Coluccio Salutati (Padua, 1963).
Ullman B. L., and P. Stadter, The Public Library of Florence: Niccold Niccoli, Cosimo de Medici and the Library of San Marco (Padua, 1972).
Ullmann W., A Short History of the Papacy In the Middle Ages, rev. ed. (London, 1974).
Ullmann W., The Origins of the Great Schism: A Study In Fourteenth-Century Ecclesiastical History, repr. (Hamden, CT, 1972).
Verlinden C., «Lanzarotto Malocello et la decouverte portugaise des Canaries», Revue beige de philologie et d’histoire 36 (1958): 1173–1209.
Vernet F., «Le pape Martin V et les Juifs», Revue des Questions Historiques 51 (1892): 373–423.
Verstegen I. F, ed., Patronage and Dynasty: The Rise of the Della Rovere In Renaissance Italy (Kirksville, MO, 2007).
Viti P., «Bonus miles et fortis ac civium suorum amator»: La figura del condottiero nellopera di Leonardo Bruni», In M. del Treppo, ed., Condottieri e uomini darme dellTtalia del Rinascimento (Napels, 2001), 75–91.
Vivanti C. «The History of the Jews In Italy and the History of Italy», Journal of Modern History 67/2 (1995): 309-57.
Waley D., The Italian City-Republics, 3rd ed. (London, 1988).
Wallace W., «Manoeuvering for Patronage: Michelangelos Dagger», Renaissance Studies 11 (1997): 20–26.
Wallace W., Michelangelo: The Artist, the Man, and His Times (Cambridge, 2010).
Wegener W. J., «That the practice of arms Is most excellent declare the statues of valiant men: the Luccan War and Florentine political Ideology In paintings by Uccello and Castagno», Renaissance Studies 7/2 (1993): 129–167.
Weil-Garris K., and J. F. dAmico, «The Renaissance Cardinals Ideal Palace. A Chapter from Cortesi s «De cardinalatu», In H. A. Millon, ed., Studies In Italian Art and Architecture, Fifteenth through Eighteenth Centuries (Rome, 1980), 45-123.
Weinstein D., Savonarola. The Rise and Fall of a Renaissance Prophet (New Haven and London, 2011).
Weiss R., «The Medals of Pope Julius II (1503–1513)», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 28 (1965): 163-82.
Weiss R., The Medals of Pope Sixtus IV, 1417–1484 (Rome, 1961).
Weiss R., The Renaissance Discovery of Classical Antiquity (New York, 1969).
Welch E. S., Art and Authority In Renaissance Milan (Yale, 1996).
Welch E. S., Art and Society In Italy 1350–1500 (Oxford, 1997).
Wiesner, M. E., Women and Gender In Early Modern Europe (Cambridge, 1993).
Wilkins E. H., A History of Italian Literature, rev. ed. (Cambridge MA and London, 1974).
Wilkins E. H., Life of Petrarch (Chicago, 1961).
Wilkins E. H., «Petrarchs Ecclesiastical Career», Speculum 28/4 (1953): 754–775.
Williams R., The American Indian In Western Legal Thought: the Discourses of Conquest (Oxford and New York, 1990).
Wisch B., «Vested Interests: Redressing Jews on Michelangelos Sistine Ceiling», Artibus et Historiae 24/48 (2003): 143–172.
Witt R. G., Hercules at the Crossroads. The Life, Works, and Thought of Coluccio Salutati (Durham N. C., 1983).
WittR. G., «Florentine Politics and the Ruling Class, 1382–1407», Journal of Medieval and Renaissance Studies 6 (1976): 243-67.
Wittkower R., and M. Wittkower, Born Under Saturn: The Character and Conduct of Artists: A Documented History from Antiquity to the French Revolution (New York, 2006).
Wohl H., The Aesthetics of Italian Renaissance Art: A Reconsideration of Style (Cambridge, 1999).
Yamauchi E. M., ed., Africa and Africans In Antiquity (East Lansing, 2001).
Zannoni G., «I due libri della Martiados di Giovan Mario Filelfo», Rendiconti della R. Accademia dei Lincei: Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche ser. 5, 3 (1895): 650–671.
Zemon Davis N., Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim across Worlds (New York, 2006).
Примечания
1
Джованни Пико делла Мирандола «Речь о достоинстве человека» здесь и далее цитируется в переводе Л. Брагиной.
(обратно)2
Марсилио Фичино Павлу Миддельбургскому цитируется в переводе О. Ф. Кудрявцева.
(обратно)3
Колюччо Салютати «Инвектива против Антонио Лоски из Виченцы» цитируется в переводе Н. X. Мингалеевой.
(обратно)4
Леонардо Бруни «Восхваление города Флоренция» здесь и далее цитируется в переводе И. Я. Эльфонд.
(обратно)5
Перевод В. А. Куллэ.
(обратно)6
Перевод Е. Солоновича.
(обратно)7
Перевод Е. Солоновича.
(обратно)8
Перевод А. М. Эфроса.
(обратно)9
Перевод В. Брюсова.
(обратно)10
Джаноццо Манетти «О достоинстве и превосходстве человека» здесь и далее цитируется в переводе Н. В. Ревякиной.
(обратно)11
Бальдассаре Кастильоне «О придворном» здесь и далее цитируется в переводе О. Ф. Кудрявцева.
(обратно)12
Перевод А. В. Апполонова.
(обратно)13
Никколо Макиавелли «Государь» здесь и далее цитируется в переводе Г. Муравьевой.
(обратно)14
Перевод Е. Солоновича.
(обратно)15
Никколо Макиавелли «История Флоренции» здесь и далее цитируется в переводе H. Я. Рыковой
(обратно)16
Перевод Ю. Никитина.
(обратно)17
Письмо Америго Веспуччи к Пьетро Содерини от 4 сентября 1504 года здесь и далее цитируется в переводе М. Н. Цетлина.
(обратно)
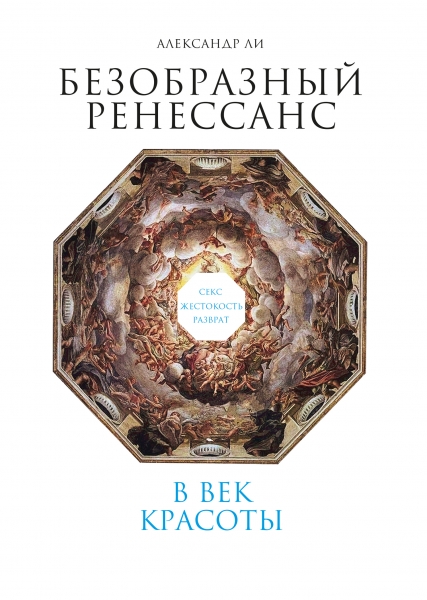


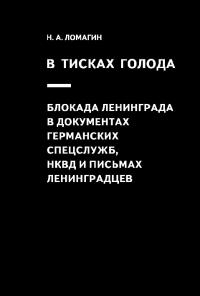


Комментарии к книге «Безобразный Ренессанс. Секс, жестокость, разврат в век красоты», Александр Ли
Всего 0 комментариев