Андрей Шарый Балканы: окраины империй
© Шарый А., текст, 2018
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018 КоЛибри®
* * *
Система понятий
Одно из балканских государств, не так ли? Больших рек нет. Больших гор тоже нет, но те, что есть, весьма живописны. Столица — Экарест. Население — в основном разбойники. Хобби — убийства королей и государственные перевороты.
Агата Кристи, «Тайна замка Чимниз» (1925)Олимп вырастает из земель Фессалии и Македонии неожиданно огромным и четко очерченным каменным горбом. Олимп выглядит просто как большая гора — это умом понимаешь, что перед тобой самый главный, мифический саммит Балканского полуострова, да и всей Европы, священный и прославленный. Мы подобрались к нагорью с севера, через город Катерини, и обогнули полукругом, потому что собирались начинать восхождение с юга. Один из маршрутов к олимпийским вершинам начинается у базы греческих десантников и ведет ложем слаломной трассы мимо пика Святого Антония на пик Сколио. Сколио на шесть метров ниже самой высокой вершины нагорья, пика Митикас. 2912 метров: для мужчины средних лет весом почти в центнер, но энергичного и неодышливого, такое горное путешествие — серьезное испытание, хотя задача по плечу. На КПП военной базы поднимающихся в небеса встречает улыбчивый автоматчик в лихо заломленном зеленом берете, проверяет документы, записывает номер мобильного телефона — чтобы знать на всякий случай, кого придется спасать, инструктирует насчет возвращения не позже 18.00 и пропускает в расположение части.
Переводя на современный городской арго, паломничество на Олимп по этой трассе — 400 этажей вверх и 400 вниз, 12-километровая трасса с перепадом высот в 1250 метров. Путь вверх труден, но интересен, спуск легок, но неприятен, поскольку приходится постоянно концентрироваться, чтобы не угодить ногой на острый камень или в коровью лепешку. Экспедиция выглядит примерно так. Сначала ты с азартом карабкаешься по склону и вовсю вертишь головой, потом тебе перестает хватать дыхания, потом ты начинаешь чувствовать мышцы ног, потом начинаешь чувствовать, как эти мышцы сводит, а потом тебе становится все равно и уже ничего не надо — но ты все карабкаешься, лезешь, упираешься, пыжишься, обливаешься соплями и по́том и вот наконец восходишь на крышу древнегреческого мира.
Всего в этом горном массиве 52 вершины разной сложности доступа, а Митикас, как почему-то считают романтики, всегда скрыт за облаками. Это неправда — я же фотографировал макушку Олимпа, находясь от нее в непосредственной близости, и могу засвидетельствовать: голубизна неба высоко над Митикасом элегантно сочетается с голубизной Эгейского моря далеко за Митикасом. Отсюда открывается дивный вид на сияющие горные пики напротив, на зияющие провалы внизу, на морскую даль и белый город Катерини, за которым где-то в дымке за сотню километров — Салоники, на соседние горы Пинда и вообще на вселенную, сотворенную промыслом Божиим. Тут вспоминаешь когда-то прочитанное: якобы молодой султан Мехмед IV — тот самый, которому запорожские казаки отправили оскорбительное письмо, — в 1669 году провел на Олимпе более двух месяцев, не только из-за свежего воздуха и пристрастия к охоте, но и потому, что наслаждался фессалийскими и македонскими пейзажами.
Ты глазеешь на вершину Трон Зевса (она же, в православной терминологии, Святого Стефана), и проводник Павел, рожденный в Ташкенте сын греческого коммуниста-партизана, эвакуированного в СССР в 1949 году по милости Коминформа, показывает, что эта скала и вправду похожа на трон. В настоящий момент трон никем не занят. Здесь, наверху, всегда холодно и всегда дует сильный ветер. Другими словами, сусальные картинки придворных живописцев, на которых полураздетые, словно в бане, античные боги в расслабленных позах восседают на облаках, предаваясь праздности, не соответствуют правде жизни. В этой пустоте продрогшим богам совершенно нечего делать. Здесь не летают орлы, потому что и орлы тут не обитают, а в зените — рядом с солнцем — барражирует тактический истребитель НАТО. Каковы же практические смыслы восхождения на Олимп? Сделать селфи, унести с вершины камешек, загадать по просьбе любимой желание. Можно засунуть мятый клочок бумаги с записью «Мы на Олимпе! Ура! Ура!» в прикованный к бетонному столбику с обозначением высоты почтового облика ящик, к которому никогда не придет почтальон. Можно сложить пирамидку из плоских камней, как это, непонятно зачем, уже сделали десятки побывавших здесь до тебя путешественников. Ты вспоминаешь, чем пугал путеводитель — «каждый год Олимп уносит несколько жизней», — и в шутку осведомляешься, не на этот ли счет пирамидки. Павел беспечно машет рукой: тут и правда гибнут, но единицы, исключительно по неосторожности и почти всегда зимой, хотя, бывает, и летом. Тебе почему-то не смешно, и на пути назад ты высматриваешь траурные памятные знаки, но обнаруживаешь только один, не совсем в тему. Это бюст погибшего в 1941 году при обороне родины от нацистских оккупантов генерала Яниса Папарродаса с высеченным на мемориальном камне вполне древнегреческим стихом с великой первой строкой «Приветствую тебя, о смерть!». Наверняка как раз у этого памятника молодые парашютисты получают значки отличников боевой подготовки.
Проводник Павел — нормальный мужик, он все понимает, смотрит в твои выпученные глаза и задумчиво говорит, что на Митикас, пожалуй, сегодня не дойти, поскольку тогда мы не успеем спуститься к военной базе до темноты. До пика Митикас на самом деле рукой подать, он молчаливый и прекрасный, нас разделяют только солнечный ветер и прозрачный воздух, но ползти к этой вершине нужно еще примерно час — сначала по горному хребту, а потом наверх по голой скале едва ли не на четвереньках. А у тебя и без того мелко трясутся ноги, а в голове оглушительно бухают мысли и кровь. Поэтому ты делаешь мужественную паузу — и соглашаешься немедленно, очень быстро вернуться. Уже через два часа дневальный на КПП козыряет тебе как старому знакомому, и тут ты понимаешь, что прожил один из важных дней своей жизни. Потому что почти наверняка никогда больше не увидишь эти скалы и эти заоблачные горы, никогда больше не достанешь подрагивающими пальцами сигарету из заветной пачки на самой верхотуре Балкан и не затянешься в суровом молчании, глядя в лицо вечности.
Двести с небольшим лет назад никто в Западной Европе понятия не имел о том, что такое Балканский полуостров, ведь прусский географ Йохан Август Цойне запустил этот термин в научно-популярное обращение только в 1808 году. Ученый следовал общепринятой практике своего времени — давать название области по ее главному горному массиву, хотя Балканская гряда (она же Стара-Планина) не является ни самой обширной, ни самой высокой на полуострове. Я встречал и другую версию: Цойне воспользовался опытом английского путешественника Джона Морриса — тот в конце XVIII века совершил вояж из центра Старого Света на его окраину, в Стамбул/Константинополь, и на обратном пути захватил с собой в христианский мир экзотическое словечко.
Николай Майков. «Олимп. Эскиз плафона». 1830–1840-е годы. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Попытки лучше определить неточно обозначенное европейцы, конечно, предпринимали и раньше. На исходе XV столетия итальянский дипломат Филипп Буонакорси описывал в меморандуме в Ватикан далекий край, обитатели которого называли свою горную родину Балканами. Вообще вплоть до середины XIX века в просвещенной Европе «восточными странами» — l’Orient — считали все то зыбкое, что уходило по карте вправо и вниз за пределы обозримого из главных тогдашних столиц мира: Россию, Польшу, иногда Богемию, изредка даже Испанию. «Азия начинается за Ландштрассе», — сказал однажды австрийский канцлер Клеменс фон Меттерних, имея в виду близкий восточный пригород Вены. Джордж Гордон Байрон в поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1809–1818), одна песнь которой целиком посвящена путешествиям по просторам современных Албании и Греции, ни разу не упомянул Балканы. Я искал напрасно: лорд, по-видимому, этого слова просто не знал.
На Западе обширные территории за реками Савой и Дунаем до начала прошлого столетия именовали Европейской Турцией (что соответствовало реальности, потому что практически весь Балканский полуостров на протяжении четырех или пяти веков составлял часть Османской империи), а иногда и цветистее — Европейским Левантом. В 1863 году один из основоположников албанистики, Иоганн Георг фон Хан, австрийский консул в Янине и Афинах, предложил термин «Восточно-Европейский полуостров»; постепенно дипломаты, ученые, политики заговорили о Юго-Восточной Европе как о территории с общей судьбой. Кровавое второе десятилетие XX века, наряду с распадом нескольких империй принесшее появление или новое утверждение на бывших османских и австро-венгерских землях шести разнородных государств, закрепило представление о Балканах как о непредсказуемом непростом целом. Страны с пестрой этнической структурой — Албания, Болгария, Греция, Румыния, Турция, Югославия — копировали модели западноевропейских национальных государств XIX столетия. Сейчас все умножилось на два: Балканский полуостров вмещает в себя дюжину стран, и в каждой задают себе вопросы о прошлом и настоящем, ответы на которые почти всегда непозволительно сглажены.
В Османской империи раскинувшиеся «по ту сторону» Босфорского пролива владения султана именовали Румелией, страной ромеев (Рум, Рим — так арабы обозначали Восточную Римскую империю; подданные ее были известны как ромеи, римляне). В византийское тысячелетие на землях полуострова — за исключением тех периодов, когда их отвоевывали тюркские или славянские варвары, — размещался десяток военно-административных округов, фем; некоторые (как Фракия или Македония) сохраняли древнеримские названия. «Римская нарезка» была крупнее: в эпоху поздней античности на полуострове помещались шесть имперских провинций целиком и три частично.
Даже в начале времен у всего были имена, пусть и мифологические. Среди персонажей античного эпоса числился фракийский царь Гем (сын ветра Борея), соединивший свою судьбу с нимфой Родопой (дочерью музы Каллиопы или музы Эвтерпы). Боги Олимпа разгневались, когда эта супружеская чета осмелилась уподобить себя Зевсу и Гере. Как рассказал нам Овидий, в наказание Гем был превращен в Гемские горы, а Родопа — соответственно в горы Родопские: «Снежные горы теперь, а некогда смертные люди / Прозвища вечных богов они оба рискнули присвоить». В мифах Древней Греции насчет Гемских гор встречается более жестокое разъяснение, согласно которому это название происходит от слова αἵμα («кровь»). Свою кровь пролил на безымянные прежде вершины великан Тифон, олицетворявший огненные силы земли. Тифон мог бы сделаться властелином над богами и смертными, если бы Зевс не поверг чудище в бездну ударом молнии. В эллинистической традиции Балканский полуостров целиком тоже назывался Гем. С географических карт это название в наши дни исчезло, чтобы, подобно другим античным топонимам, подняться в небеса: Гемские горы находятся на Луне, окаймляя берега моря Ясности.
Слово balkan тюркского происхождения, этим существительным обозначают неровную гористую местность, поросшую густым лесом. В болгарской историографии закрепилась теория, согласно которой кочевникам-булгарам под этим названием был известен протяженный, ровно в 555 километров, хребет (все те же Гемские горы), в новые времена переназванный на славянский манер Стара-Планина («старая гора»). Однако историки из других стран категоричны: документальных подтверждений использования в доосманский период термина «Балканы» применительно к привычным для нас теперь балканским землям нет.
Тем не менее само понятие вполне древнее, потому что в Евразии — в частности, и в тех краях, откуда сначала в Анатолию, а потом и в Румелию пришло османское племя, — есть свои Балканы. На западе пустыни Каракумы тянется к Каспийскому морю хребет Большой Балкан (Балхан). В предгорьях туркменских Балкан хорошеет на углеводородных деньгах город Балканабат, административный центр нефтедобывающего Балканского велаята. Местная футбольная команда, четырехкратный чемпион республики, тоже называется «Балкан»; ее клубная эмблема с неизбежностью сочетает изображения пятнистого мяча и нефтечерпалки. В башкирской глубинке, у озера Асылыкуль, есть вершина Балкан (Балкан-Тау), элемент Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Эта гора совсем невысока, зато, как сказал краевед, овеяна легендами: из башкирского эпоса известно, что на вершине Балкан-Тау захоронены несчастливые влюбленные — батыр Заятуляк и дочь владыки озера красавица Хыухылу («башкирская русалка»). Балкантау также — важная улица казахстанской столицы Астаны: здесь расположены отель «Казжол», ресторан «Фергана» и банный центр «Будь здоров!».
Тюркская (точнее, наверняка татарская) топонимика добралась и до Москвы: в районе трех вокзалов сохранился Большой Балканский переулок (прежде существовал и Малый), именованный по засыпанному в конце XIX века пруду. Вероятно, термин использован в данном случае в значениях «болото», «грязь». Добавлю еще, что какие-то странные остряки присвоили название «Балкан» запущенному в России в производство в конце 2000-х годов автоматическому станковому гранатомету АГС‐40. Это страшное оружие массового убийства (самое совершенное в своем классе, чем и гордятся его создатели, если только смерти требуется совершенство).
Хаджи Димитр (Димитр Асенов). Фото. 1860-е годы
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК БУЗЛУДЖА СТАЛА ГОРОЙ ГЕРОЕВ
В июле 1868 года на горе Бузлуджа (высота 1441 метр), к востоку от Шипкинского перевала, в неравном бою с войсками Османской империи погиб отряд повстанцев под командованием Хаджи Димитра (Димитра Асенова). Как гласит национально-освободительная легенда, православные четники предпочли плену героическую смерть. Истекающий кровью 28‐летний воевода Димитр испустил дух со словами: «Братья, умрем как болгары!» Этому подвигу еще один певец свободы, Христо Ботев (сам через несколько лет погибший от османской пули), посвятил героическую балладу «Хаджи Димитр».
Кто в грозной битве пал за свободу, тот не погибнет: по нем рыдают земля и небо, зверь и природа, и люди песни о нем слагают… Днем осеняет крылом орлица, волк ночью кротко залижет раны; и спутник смелого — сокол-птица — о нем печется, как брат названый. Настанет вечер — при лунном свете усеют звезды весь свод небесный. В дубравах темных повеет ветер — гремят Балканы гайдуцкой песней![1]Летом 1891 года все на той же вершине другая группа болгарских патриотов исполнила, по завету Ботева, гайдуцкую песню, после чего учредила Болгарскую социал-демократическую партию. Наследница этой организации, приняв линию Владимира Ленина и переименовавшись в Болгарскую коммунистическую партию, после Второй мировой войны пришла к власти в Болгарии. Вскоре Бузлуджа превратилась в святыню местных коммунистов, считавших, что они соединили в своей деятельности идеалы национального освобождения с борьбой за счастье трудового народа. В 1970–1980-е годы на вершине воздвигли так называемый Факельный памятник, а также пантеон в честь Болгарской компартии, смахивающий на огромную летающую тарелку. «Дом-памятник партии» — самый большой идеологический монумент Болгарии, настоящее коммунистическое капище. Интерьеры декорировали скульптурами, бронзовыми барельефами, дюжиной мозаичных панно общей площадью 550 квадратных метров на патриотическо-коммунистические темы, такие как «Рождение партии», «Социалистическое переустройство сельского хозяйства», «Болгарско-советская дружба». На горе Бузлуджа круглогодично проводились официозные мероприятия: прием в детскую коммунистическую организацию Септемврийче, торжества по поводу государственных праздников и разных достижений социализма, чествование передовиков производства. Современность обошлась с памятником жестоко: в 1990-е годы мемориал разграбили, каменные картины разбили, мозаичные портреты основоположников марксизма-ленинизма и их болгарских последователей испортили. Над центральным входом в брошенную святыню появилось издевательское граффити «Забудь свое прошлое!». В 2011 году мемориал безвозмездно передали в собственность Болгарской социалистической партии, которая ежегодно проводит на вершине Бузлуджи массовые мероприятия и постепенно приводит «летающую тарелку» в порядок.
Типология Балкан в общем и целом соответствует их тюркскому наименованию: здесь множество возвышенностей, поросших буком, дубом, пихтой или сосной, хотя в последние десятилетия кое-где велась массовая вырубка деревьев. На полуторакилометровых отметках турецкая терминология дает сбой: леса сменяются сначала зарослями вереска и можжевельника, потом лугами, еще ближе к небу простирается царство лысых камней. Балканская горная область не рекордсменка по высотности в Европе, она уступает и Кавказу, и Альпам, и Пиренеям. Вечных льдов здесь нет: в самой холодной точке Балканского полуострова, на вершине Мусала2 (2925 метров), снежный покров держится семь или восемь месяцев, а в последние годы и того меньше. «Крышу Европы» ищите в иных краях.
Пик Мусала. Фото. 1944 год. Болгарский национальный архив, София
Мусала находится в Болгарии, несколько неожиданно для меня оказавшейся самой высокогорной балканской страной: здесь, представьте себе, насчитали 55 вершин за 2500 метров. По вертикальной части Болгария опережает приподнятые к небу Грецию, Черногорию и Сербию, потерявшую многие свои высотные ресурсы после провозглашения независимости Косова[2]. До подножия Мусалы можно за пару часов доехать из Софии. И этот ороним, как многое на Балканах, тюркский, означает «близко к Аллаху». С 1949 по 1962 год название горы было политическим, пик Сталин; забавно, что символика — «молитвенная вершина» — парадоксальным образом сохранялась. Олимпийский пик Митикас, кстати, немного, но уступает Мусале; эта шести- или семиметровая разница — один из источников болгарской национальной гордости. Помимо патриотических значений Мусала известна тем, что на ее склонах часто замечают стенолазов — эти забавные серо-красные птички умеют быстро и ловко, опираясь на хвосты, скакать по утесам и обрывам.
В историко-культурном смысле балканские края осмыслены и изучены хуже, чем самые знаменитые в мире горы, Альпы, иначе говорилось бы не «альпинизм», а «балканизм», не «альпеншток», а «балканшток» и луга между поясами кустарника и камня не назывались бы альпийскими. Это не означает, конечно, что Балканы описаны плохо. В библиографии интересной научной работы словенского антрополога Божидара Езерника «Дикая Европа», в подробностях изучившего вопрос о том, как представляли себе Балканы западные и восточные путешественники второй половины XVII — начала XX веков, указано почти семь сотен названий. Согласно геологической классификации, балканские горы не старые и не молодые, а нормальные: им около 250 миллионов лет, они образовались на стыке мезозойской и палеозойской эр. Нынешние очертания полуострова окончательно сложились в результате движений земной коры 2,5 или 3 миллиона лет назад. Кора до сих пор колышется, тектоническая активность продолжается, и землетрясения случаются едва ли не каждый год. Последняя по времени большая катастрофа произошла в 1963-м, когда семибалльные подземные толчки разрушили македонскую столицу Скопье, которая потом хотя и была поднята из руин общими усилиями югославских республик, особой красоты так и не приобрела.
Истории, впрочем, знакомы бедствия и поужаснее: доказано, что три с половиной тысячелетия назад извержение вулкана Санторин на эгейском острове Тира (острова Греции географически тоже считаются частью Балканского полуострова) вызвало мощнейшее цунами, утопившее минойскую цивилизацию на Крите. Легенда гласит: так погибла Атлантида. А вулкан Нисирос на одноименном острове до сих пор «дышит», прогревая почву. Когда поедете туда, надевайте башмаки на толстой подошве.
Вопрос, что именно в балканской зоне считать горными системами, горными цепями, горными массивами, горными хребтами, что нагорьями и плато, а что просто лесистыми холмами, до сих пор является предметом произвольных толкований, легко заметить разнобой. Географы не включают Балканы, в отличие от Кавказа, Памира или Альп, в число «горных стран» — «обширных участков поверхности большой протяженности со складчато-глыбовой структурой земной коры». Территория Балкан, около 70 % которой приходится на горы, очевидно более складчато-глыбовая, чем Европа в целом. Теоретики сельского хозяйства подсчитали, что в Греции всего только 20 % территории пригодно для земледелия, а в Албании — еще вдвое меньше. На севере полуострова этот показатель повышается до 40 %, и тогда получается, что Балканы — совсем не одни только склоны, провалы и каньоны, здесь хватает и горизонтального измерения. Паннонская впадина переходит в Дунайскую равнину, южнее которой, отчеркнутые горной чередой, лежат Верхнефракийская и Нижнефракийская низменности. Но в целом как не согласиться с французским историком Жоржем Кастелланом, который на первой же странице своей хрестоматийной «Истории Балкан от Мехмеда Завоевателя до Сталина» заявляет: «Когда ваш самолет снижается над Афинами, Тираной или Софией, вы только горы и видите. Даже более легкодоступные Белград и Бухарест расположены на холмах Шумадии и отрогах Карпат. Горы здесь повсюду»?
Не претендуя на исчерпывающую точность, предложу свой перечень главных балканских высотных формаций: Стара-Планина и Рила-Родопский массив в Болгарии; Динарское нагорье, протянувшееся от Албании через бывшие югославские республики до северной оконечности Адриатического моря (эти горные цепи иногда называют Албанскими и Динарскими Альпами, но мне такие названия не нравятся, какие же это Альпы?!); наконец, горы Пинд в Греции и их продолжение, горы Тайгет на Пелопоннесском полуострове. Юлийские Альпы (вот это как раз Альпы), зацепившие часть Словении, географически считать территорией Балкан неверно, но что прикажете делать, если самая высокая вершина этого массива, пик Триглав, в массовом сознании на протяжении почти всего XX века ассоциировалась с южнославянской федерацией?
Кое-кому из специалистов (сошлюсь на мнение американского политического географа Джона Лампе) балканские горы кажутся несчастливыми: они не таят в своих недрах значительных запасов полезных ископаемых и часто оказывались недостаточно высокими, чтобы защитить местных жителей от вражеских армий, но всегда были достаточно рельефными, чтобы разъединять племена и народы. Ключевым фактором выживания и самосохранения здесь испокон века считалось тесное семейное, групповое сотрудничество. Фигурально говоря, понятие «род» во многих районах Балкан значило больше, чем понятие «народ». За пределами этого узкого социального круга начинался чужой, как правило враждебный, мир, к которому следовало относиться с опаской. Поэтому у многих из тех, кто считает балканские земли своими, имеется общая, невзирая на национальность и веру, эмоциональная особенность: сильная привязанность к своему краю, прямо-таки пассионарная гордость за «прямых» предков. Это и есть пережившее века чувство балканской родины, у которого мало общего с государственными границами.
География на юго-востоке Европы не всегда дружит с политикой и этнографией. Северную границу полуострова представители разных областей знаний и ученые разных стран вычисляют всяк по-своему. Британская энциклопедия определяет площадь полуострова в 666 тысяч квадратных километров, что совпадает с библейским числом зверя, солидные отечественные источники сокращают ее до 505 тысяч. Справочники большинства балканских государств отмеряют полуострову 550 тысяч квадратных километров (равняется площади Франции). Классический маршрут северной кромки Балкан в конце XIX столетия прочертил видный сербский географ и антрополог Йован Цвиич: по руслам рек Соча — Сава — Дунай. Есть также вариация по рекам Соча — Випава — Крка — Сава — Дунай, а есть и такая (вообще без клочков Италии и полуострова Истрия): Купа — Сава — Дунай, и даже Уна — Сава — Дунай.
Иоганн Непомук Гейгер. «Султану Махмуду II подносят голову Али-паши Тепелени». Гравюра. 1860 год
ДЕТИ БАЛКАН
АЛИ-ПАША ЯНИНСКИЙ
«Мусульманский Бонапарт»
Османский сановник, управитель обширных земель, занимавших территории современных Албании и севера Греции, Али-паша из города Тепелени стал популярным героем европейской романтической литературы. Колоритная фигура паши, описанная Байроном, Александром Дюма, Мором Йокаи, соответствовала «балканскому канону», каким его вывели на Западе. Характер этого человека и в самом деле сочетал коварство и жестокость с острым умом и благородством, повадки разбойника и восточного деспота — с тягой к просвещению и мудрой политике, жажду власти и славы — с искусством переговорщика и религиозной терпимостью. Дюма-отец писал об Али-паше в «Истории знаменитых преступлений» безапелляционно: «Во всей вселенной он видел лишь себя самого, только себя самого любил и только ради себя старался. Природа наградила его зачатками всех мыслимых страстей, и он посвятил всю свою долгую жизнь их развитию и удовлетворению». Али-паша родился в 1740 году в семье османского чиновника, албанца из этнической группы тосков. С юных лет промышлял разбоем, принесшим ему деньги и влияние в горных деревнях, затем за взятку был назначен надзирателем над дорожным хозяйством в местной администрации. Храбрость, богатство и хитрость обеспечили быстрое продвижение по службе. В 1788 году Али-паша получил в управление пашалык со столицей в Янине (сейчас административный центр округа Эпир в Греции) — городе, ставшем центром греческого просвещения в Османской империи. Бóльшую часть населения области составляли христиане, на самоуправление которых Али-паша опирался, выстраивая свою восточную политику. «Паша может быть назван первым апостолом могущества европейской культуры и необходимости коренных реформ», — сказано в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Правитель Янины навел порядок в округе, расправился с горской вольницей, установил беспощадный режим налоговых сборов. Заметки о встречах в 1809 году с Али-пашой оставил Байрон, на которого «именитый разбойник», очаровавший гостя приятными манерами, произвел тем не менее устрашающее впечатление: «Это безжалостный тиран, повинный в чудовищных жестокостях, прославленный своими победами настолько, что его называют ‘мусульманским Бонапартом’». В начале XIX века власть султана на местах была непрочной. Управляя Янинским пашалыком в течение 35 лет, Али-паша проводил независимую политику: заключал тактические союзы то с англичанами, то с французами, во время русско-турецкой войны позволял себе переписку с князем Григорием Потемкиным. Наполеон дважды предлагал паше корону Албании, рассчитывая в борьбе с Османской империей добиться поддержки одного из самых влиятельных ее феодалов. Некоторые историки полагают, что объективно Али-паша способствовал развитию греческого освободительного движения, хотя он и любил проводить карательные акции против повстанцев. Так или иначе, паша очевидно склонялся к сепаратизму, и в 1819 году султан Махмуд II решил покарать зарвавшегося наместника. Описанию трагической гибели Янины Александр Дюма посвятил главу прославленного романа. Пленительная наложница графа Монте-Кристо Гайде — проданная Фернаном Мондего в рабство дочь Али-паши; тот же негодяй Мондего, если верить Дюма, сдал армии султана за две тысячи кошельков золота защищавшую город крепость. Но реальность более прозаична: после многомесячной осады Янины 82-летний паша был застрелен в бою, и его отрубленную голову выставили на серебряном подносе на обозрение в столице империи. Албанский мусульманский поэт Хаджи Шахрети посвятил паше написанную на одном из новогреческих диалектов цветистую поэму, стиль которой до сих пор изучают лингвисты. В Тепелени Али-паше установлен памятник, его мавзолей в Янине стал адресом исламского паломничества.
В некоторых книгах площадь Балкан увеличивают до 716 тысяч квадратных километров, зачисляя в искомый круг румынские области Валахия и Молдова и определяя восточной границей полуострова реку Прут. Я сверился у всех авторитетных географов, у каких только смог: если это допущение и верно, то исключительно политико-исторически. Максимально расширительное толкование Балкан предложил неведомый мне простодушный геометр, прочертивший явно по линейке прямую от итальянского курорта Монфальконе близ Триеста (самая северная точка Средиземноморского побережья) до низовий реки Южный Буг у Николаева на Украине, так что балканским городом оказалась и Одесса. В селе Заря Одесской области, может, не случайно в 2007 году основана любительская, но вполне успешная для своего ранга футбольная команда «Балканы» — и у туркменских спортсменов нашлись одноклубники. Так Европа неподалеку от берегов Понта Эвксинского встречается с Центральной Азией.
По данным статистической службы Eurostat, население балканских стран составляет примерно 72 миллиона человек. В сводной таблице не учтены азиатская часть Турции (69 миллионов), которая Балканским полуостровом не является, а также население 0,1 % итальянской территории (уголок провинции Триест, 250 тысяч человек), которая признается некоторыми географическими справочниками балканской. Зато в таблицу сплюсовано все население Румынии, хотя южнее Дуная расположена только одна область этой страны, Северная Добруджа (970 тысяч человек). Балканским сочтено также население сербского края Воеводина (1,93 миллиона), хорватских областей Славония и Загорье (1,1 миллиона) и половины Словении (900 тысяч человек) — все эти земли лежат, наоборот, к северу от речной границы полуострова. Вычитаем, согласно правильным атласам и картам, и получаем 50 или 51 миллион балканцев. Примерно столько же, сколько в мире южнокорейцев или жителей ЮАР.
Но и эти данные вовсе не окончательные, по крайней мере с мировоззренческой точки зрения. Едва ли вы встретите словенцев, хоть с горного севера республики, хоть с ее приморского юго-запада, которые согласились бы с балканской принадлежностью своей страны. В Любляне и Мариборе предпочитают говорить о Центральной Европе, об Альпийском или Средиземноморском регионе, что справедливо географически, но не совсем корректно с точки зрения истории и политики. Итальянцы из Триеста даже постановку вопроса о Балканах применительно к своей провинции воспримут с недоумением. Уже четверть века, с первого дня государственной самостоятельности, стремится выйти вон с Балкан Хорватия, по крайней мере половина территории которой по любым расчетам лежит в пределах полуострова. В Загребе обращают внимание не на правду науки, а на теорию «центральноевропейской и средиземноморской идентичности хорватского народа», которому кое-кто из местных научных патриотов приписывает не славянское, а кельтское или древнеперсидское происхождение.
Напротив, Турция и Румыния — важные страны юго-востока Европы, лишь краешками задевшие Балканы, — не скрывают своих интересов в этой зоне и не стыдятся сопричастности с ней. Самый центр, сердце полуострова, я разместил бы где-нибудь в горах Македонии или Косова — эти территории столь плотно со всех сторон прикрыты границами, что кажется: так сделано специально, дабы оттуда не выветрился особый балканский дух. Может, это география невероятным образом вмешивается в историю и политику? Ведь жить на горе, под крутой горой, между горой и морем, среди гор, на берегу реки, у границы, в окружении близких границ, на острове — означает по-разному смотреть на мир. Отсюда дробление национальных психологий и коллективного сознания. Когда сербы из Воеводины говорят о сербах из Герцеговины или сербах из лесистого нагорья Златибор: «Они совсем другие, не такие, как мы», — имеют в виду именно это. Албанцы из Черногории считают себя не такими, как албанцы в Косове или собственно Албании, находят отличие и в диалектах, и в менталитете, и в культурных навыках. География оставила Балканам множество «карманов», в которых время все еще идет по своим часам, в которых консервируются нравы и обычаи, в которых современность такова, что сразу ее не примешь и не поймешь.
Народный праздник в Боснии и Герцеговине. Открытка. 1895 год
Прав словенский поэт Борис Новак, заметивший, что определение балканских границ — «вопрос не науки, а сердца». Важнее географических дефиниций оказывается популярное восприятие Балкан как беспокойного общественно-политического пространства, «пороховой бочки», буйного края, из которого только и происходят локальные и всеобщие войны, потоки беженцев и переселенцев, горе да нищета. Такое представление формировалось в XVIII–XIX веках, когда после нескольких столетий доминирования Османской империи христианская Европа обнаруживала, изобретала свой юго-восточный пятачок заново. Порабощенные турками европейские пространства долго представали на Западе сплошным темным пятном, подсвеченным рассказами чудаков-авантюристов и байками оборотистых негоциантов. Эту этнически нерасчлененную территорию едва ли не более плотно, чем живые люди, населяли всяческие тени и вурдалаки. Уроженцев Балкан, оказавшихся зачем-нибудь в просвещенных столицах, часто (по «византийской», «ромейской» привычке) считали греками, ставили знак равенства между принадлежностью к «греческой вере» и национальностью, пока не разобрались, что чаще всего эти странные люди бывают все-таки славянами. Жителям Запада, как писал Божидар Езерник, «география полуострова казалась слишком запутанной, этнография слишком неясной, история слишком сложной, а политика чересчур непонятной».
На юго-востоке Европы вызревал «восточный вопрос», в конце концов оказавшийся в центре политики великих держав. По мере того как слабела и отступала к Босфору Османская империя, четче прорисовывались новые балканские политические границы. Древнегреческое прошлое на фоне новогреческого восстания 1820-х годов, воспетого стыдившим местных крестьян за трусость лордом Байроном, не оставило европейцев равнодушными. Они сочувствовали румынской, болгарской, сербской эмансипации, потом сопереживали восстанию славян-македонцев, заказывая к обеду в модных ресторанах салат macédoine, составленный из разных ингредиентов, подобно тому как на Балканах «мелко нарезались и тщательно перемешивались» разные народы и их обычаи.
Упомяну в этой связи два имени, пусть и не первой литературной величины, — французских писателей Пьера Д’Эспанья и Кловиса Уга. Первый из них, названный в справочнике, который я откопал в одной букинистической лавке в Охриде, страстным исследователем недостаточно известных географических пределов, посвятил жизнь экзотическим путешествиям. На переломе XIX и XX столетий Д’Эспанья побывал в Колумбии, затем отправился в западноафриканскую колонию Ривьер-дю-Сюд (нынешняя Гвинея), а еще позже — скорее всего, по причинам авантюристического толка — в турне по Европейской Турции. В 1901-м Д’Эспанья приступил к сочинению романа на македонские темы «Перед побоищем», работу над которым завершил через год на Берегу Слоновой Кости, после чего скончался там же от желтой лихорадки. Его тираноборческая книга посвящена идеалам южнославянской независимости и завершается лозунгом «Да здравствует революция!», под которой понимается всеобщее вооруженное восстание против Османской империи. Кловис Уг — сторонник Парижской коммуны, депутат, публицист и поэт. По молодости лет Уг так решительно защищал свои политические взгляды, что не побоялся драться из-за них на оказавшейся роковой для его соперника дуэли. В опубликованном в 1903 году трехчастном стихотворении «За македонцев!» Уг обратился к античному прошлому Балкан, а затем воззвал к совести и чести западноевропейских правительств: они должны были оказать немедленное давление на султана с тем, чтобы восточный тиран облегчил положение христианских подданных.
Но в политических кабинетах с высокими потолками и аристократических салонах с яркими люстрами кривой треугольник на юго-востоке Европы вызывал, увы, легкое презрение, поскольку его обитатели, как считалось, лишь в малой степени обладали прекрасными качествами, которыми просвещенный свет наделял сам себя, — порядком, чистотой, самоконтролем, уважением к закону, чувством справедливости, эффективными социальными институтами. Поведение неотесанных горцев не соответствовало представлениям цивилизованного мира о том, каким этот мир должен быть. Западные путешественники смотрели на Балканы, как Нарцисс в воды ручья: они видели не то, что в глубине, но лишь любовались отражением собственных добродетелей. Впрочем, и сами горцы, кажется, особенно не пытались соответствовать высоким международным стандартам. Европейцы поэтому наделяли их, как и детей дальнего Ориента, сомнительной с точки зрения прагматической морали триадой качеств: лень, нега, жестокость. Едва ли не единственным положительным отличием балканских окраин была характерная для этих краев религиозная и этническая толерантность, похвальная на фоне кровавых межхристианских противоречий Старого Света и почти повсеместных гонений на евреев. Замечу, однако, что это немало: посмотрите на мир вокруг себя, оцените итоги древних и современных войн и ответьте, не является ли терпимость к чужим вере, языку и национальности высшим из всех достоинств?
После освобождения балканских народов от власти Османов разные германские королевства и княжества (однажды еще и Дания) выслали в Афины, Софию, Бухарест своих высокородных, но небогатых представителей: формировать новые монархические династии. Немцы и австрийцы спустили по Дунаю цивилизаторскую миссию, французы и англичане действовали с помощью займов и кредитных билетов, а Россия поставляла кровь своих солдат, несла православный крест и панславянскую идею. Обслуживавшие этот исторический поход интеллектуалы сконструировали из Балкан образ «другого», находящегося рядом с «нами», — близкого, но чужого. Неравного.
Западноевропейские миссионеры, отправлявшиеся на край Ойкумены, чаще всего возвращались домой с путевыми записками о «добрых дикарях» и никакой разницы между «нецивилизованной Европой», Африкой или островами Полинезии не проводили. В 1780-е годы итальянский аббат Альберто Фортис, историк и естествоиспытатель на венецианской службе, предпринял турне по Далмации и островам Адриатики, составив книгу путешествий с описанием местных условий жизни, природы и обычаев. Одна глава исследования, обширная и подробная, посвящена морлакам (морлахам), ассимилированной ныне этнической группе, по-видимому, восточнороманского происхождения. Не исключено, что Фортис отождествлял с морлаками все негородское славянское население Далмации. Этот аббат отличался незаурядной для своей эпохи научной честностью и не сочинял небылиц о грубых невежественных горцах, тем более что морлаки встречали чужеземца приветливо и обращались с ним дружелюбно. Для описаний Фортиса характерны выражения вроде «невинность и естественная свобода пасторальных времен» и «души, не испорченные обществом, называемым нами культурным». Тем не менее и Фортис успешно транслировал привычные для колониальной эпохи расовые стереотипы: поскольку европейцы считали себя прогрессивными людьми, то во «вновь открытых странах» они непременно встречали «варваров».
Такой подход в этнографии сохранялся и в начале XX века — тех же жителей Далмации описывали в 1910-е годы как «народ, который все еще счастливо примитивен, который все еще не стыдится своей колоритности и находится в блаженном неведении относительно трех четвертей благ цивилизации». Столетием раньше Филипп Торнтон и даже знаменитый Иоганн Георг фон Хан только с долей шутки, зато в подробностях пересказывали небылицы о «хвостатых молодых албанцах». Что уж говорить о конце XVIII столетия: книга Фортиса «Путешествия в Далмацию» стала международным хитом, ее перевели на немецкий, французский и английский языки. Европа увидела «примитивный мир» у своего порога; подтвердилось, что дикари живут по соседству. Исследование итальянского аббата вдохновило Жюстину де Винн, любовницу Джакомо Казановы, писавшую под псевдонимом Мадемуазель X. C.V., на создание салонного романа «Морлаки». Теперь эта вышедшая в 1788 году книга забыта, но в свое время ее хвалили и Иоганн Вольфганг Гёте, и мадам де Сталь.
В 1844 году почтенный британский путешественник и известный египтолог сэр Джон Гарднер Уилкинсон совершил вояж на юго-восток Европы, где стояла привычная для Балкан военная пора. Обеспокоенный увиденным, Уилкинсон обратился с письмом к владыке Черногории, митрополиту Черногорскому и Брдскому Петру II Петровичу-Негошу с призывом отказаться от обычая отрезать поверженным врагам головы и выставлять их на всеобщее обозрение. Британский историк попытался объяснить своему корреспонденту разницу между «цивилизованной» войной и такой войной, в ходе которой применяется «шокирующе антигуманная практика». Петр, православный митрополит, вежливо отказал чужеземцу в его странной просьбе: черногорцы не считали антигуманной традицию мести османским завоевателям, зато полагали кощунством медицинские эксперименты над телами покойных, распространенные в продвинутых европейских столицах. Отрубая неприятелям головы, горцы лишь фиксировали исчезновение смертельной угрозы, как это веками делалось на Западе в ту пору, когда Запад сам был горяч и молод. В критской войне (1645–1669) на стороне венецианцев сражался с османами английский морской капитан Томас Миддлтон. Сражался храбро и получил известность тем, что однажды привез своему генералу в подарок «целую бочку засоленных голов тех, кого убил во время частых нападений на корабли». Понемногу балканские и западноевропейские представления о цивилизованности все же сближались. Отправляя свои отряды на сражения «великой войны» за освобождение в 1876 году, черногорский князь запретил брать в качестве трофеев отсеченные головы неприятелей — опасался репутационных потерь.
Теодор Валерио. «Крестьяне-морлаки из окрестностей Сплита». Рисунок. 1864 год
Теодор Валерио. «Музыканты-морлаки из Салоны». Рисунок. 1864 год
Американский историк Марк Мазовер напоминает, что в середине XIX века в западноевропейских странах, критиковавших Балканы за дикость, и не думали отменять публичную смертную казнь. Во Франции, например, преступникам рубили головы на городских площадях вплоть до начала Второй мировой войны. Упоминая об этнических чистках в Боснии и Герцеговине в ходе вооруженного конфликта 1990-х годов, Мазовер резонерствует: «Опыт нацистского концентрационного лагеря в Маутхаузене показывает, что австрийцы немногому могли научиться у боснийских сербов по части насилия… В конце концов, и ГУЛАГ был придуман не на Балканах».
Джон Лампе подмечал: тем не менее современная политическая наука вовсе не случайно употребляет понятие «балканизация», превратившееся в синоним сразу нескольких неприятных терминов — «дезинтеграция», «трайбализм», «возвращение к варварству». Болгарско-американский историк Мария Тодорова посвятила этой теме целую важную книгу «Воображая Балканы». В ключе выдвинутой в конце 1970-х годов арабским литературоведом Эдвардом Саидом концепции ориентализма Тодорова (крупный авторитет по символике национализма) описала «балканизм» как обусловленный ходом истории и почти всегда негативный культурный феномен. Вот один из результатов ее изучения: «балканизация» есть антитеза более успешной модели этнического развития, теории melting pot («плавильного тигля»), пусть и с издержками, но в целом продуктивно сработавшей, как считается, в США.
На Балканах на западное пренебрежение реагируют с обидой, еще и потому, что не хотят забывать и не устают напоминать: европейская цивилизация, насчет которой вы теперь так надуваете щеки, начиналась именно здесь, на Олимпе и Парнасе. Константинополь столетиями оставался самым большим городом в мире. Именно здесь, в византийских пределах, христианство сумело уберечь свои традиции, когда Западная Европа в сумерках Средневековья оказалась под властью вчерашних варваров. Османская империя поры своего восхождения и эпохи своего расцвета была передовым государством, у которого надменные соседи много чему могли бы научиться, если бы захотели. В конце концов, именно на этих просторах животворящий крест после многих сражений одержал верх над исламским полумесяцем, причем вклад в общую победу народов, оказавшихся на линии огня и надолго утрачивавших или вовсе не приобретших государственность, остается недооцененным.
Центральная улица Дубровника (Рагузы) — Страдун. Фото. 1901 год. Венгерский географический музей, Эрд. Фото: FORTEPAN / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége
Процитирую американского историка Джудит Херрин: «Самое главное, чтобы вы поняли: современный западный мир не мог бы существовать, не будь он защищен и вдохновлен тем, что происходило на востоке». Любой уважающий себя иностранный исследователь Балкан почитает за долг начать монографию об истории Юго-Восточной Европы с упреков в адрес западного общества: не разобрались, самоустранились, продемонстрировали кичливость, не проявили великодушия. Но и в этой самокритике сквозит высокомерие. Без малого два века — как только появилось на географической карте само название — Балканы стремятся «тянуться» за Европой. Столицы получивших независимость государств торопились за чужой модой, приглашая к себе французских, немецких, итальянских, австрийских архитекторов. Минареты и мечети разрушали, «восточную свободу» городского устройства меняли на четкую планировку, кривые улочки — на широкие проспекты, на местах османских садов разбивали бульвары. Над балканскими потугами «соответствовать» на Западе иронизировали точно так же, как прежде насмехались над ориентальным обликом Софии и Белграда: «Пусть Бухарест будет маленьким Парижем, а Русе маленькой Веной, лишь бы Париж не стал большим Бухарестом, в Вена большим Русе».
Итог стремительного прорыва Балкан к прогрессу вовсе не однозначен. «Восточные страны, устремившись к западной цивилизации, потеряли колорит, но сохранили захудалость и грязь, — писал в 1870-е годы один британский исследователь европейского юго-востока. — После ухода османов европеизация стала рутинным делом, а старый балканский дух постепенно исчезал. Мифология заменила историю, и первыми жертвами стали терпимость и многокультурность». Цивилизационный парадокс точно охарактеризован у Езерника: Балканы стремятся стать частью той Европы, какой она некогда была, а Европа самоопределяется на основе отличия от Балкан и утверждает, что сейчас она наконец стала такой, какими Балканы оставались на протяжении целых столетий.
Это все правда: до сих пор балканские страны по большому счету томятся в прихожей «Старой Европы», но ведь если течет в теле европейской цивилизации новая и свежая кровь, то эта кровь — балканская. Вот вам Марина Абрамович, вот вам (молодой) Эмир Кустурица, вот вам упаковавший мир в оберточную бумагу Христо, вот вам нобелевские лауреаты Иво Андрич, Элиас Канетти и Орхан Памук, вот Исмаил Кадаре, вот постсоветский кумир Милорад Павич, вот Константин Бранкузи и Эжен Ионеско, вот Мария Каллас и Вангелис, наконец. А если вы не такие высоколобые, если вас не проймешь афонскими старцами и Славоем Жижеком, то послушайте хотя бы, как зажигают с эстрады Таркан или свадебно-похоронный оркестр Горана Бреговича.
Главным источником балканских невзгод новейшей истории принято считать этническую чересполосицу, вызвавшую в 1990-е годы — уже на нашей общей памяти, формирующей представление о сегодняшнем дне, — череду жестоких конфликтов и, как следствие, заметное изменение политической карты. Если смотреть в корень проблемы, то она, конечно, в запоздалых по меркам общественных наук процессах государственного строительства, ведь не случайно некоторые «политические нации» на Балканах складываются до сих пор, поколение спустя после провозглашения суверенитета. Но само-то запоздание откуда? Отвечая на вопрос, два американских университетских профессора, Деннис П. Хупчик и Харольд Э. Кокс, составили «Краткий исторический атлас Балкан» из 50 откомментированных полусотней сжатых текстов бело-зеленых листов. Самый интересный лист — номер 5, под простым и сложным названием Cultural: с проведенными по карте жирными, салатового и травяного оттенков (кое-где пересекающимися, а кое-где расходящимися по сторонам) линиями цивилизационных разломов.
Эти разломы (использованный Х. & К. термин fault переводится и как «нарушение структуры») таковы: «восточнохристианский — западнохристианский» и «восточнохристианский — исламский». «Зоны конвергенции трех цивилизаций» отмечены бирюзовым (тут я не вполне уверен, это может быть и оттенок шартреза): север Албании с небольшими полосками Сербии и Черногории, а также юго-восточная часть Боснии. По конкретным маршрутам линий разломов с Деннисом П. Хупчиком и Харольдом Э. Коксом можно спорить (на мой взгляд, кое-где эти пунктиры проходят правее, но в целом левее), однако отдаю профессорам должное: их карта хороша тем, что просто объясняет комплексное. Да, так случилось, и факт есть факт: именно на Балканах столкнулись углами тектонические плиты ислама, православия и западных христианских конфессий. И именно эти европейские фронты (всегда в течение последнего тысячелетия и до сих пор) даже важнее просуществовавшего всего полвека железного занавеса.
По большому историческому счету, как считается, цивилизационные швы уже сошлись, но в прорехи просыпалось время и провалилась европейская утонченность. Хупчик и Кокс описывают (на листе номер 44) эпизод балканского хаоса периода Второй мировой войны: «Албанцы, венгры, немцы из Воеводины убивали сербов на землях под своим контролем. Болгары заставляли славян-македонцев признать себя болгарами. Усташеский режим Павелича в Хорватии пытался либо истребить сербов и евреев, либо обратить их в католицизм. Мусульмане в Боснии поднялись против сербов, чтобы отплатить им за прежние унижения. Сербы отвечали, как только и чем только могли. Образовалось огромное поле битвы между культурами».
Двадцатилетием ранее между Грецией, Болгарией и Турцией произошел принудительный обмен населением: около 2 миллионов человек вынужденно сменили страны своего жительства. Малоазийские греки отправились на историческую родину, греческие и болгарские турки — в Малую Азию, а славяне из греческой части Македонии — в Болгарию. Через полвека после победы над нацизмом в ходе вооруженного конфликта (свыше 100 тысяч убитых, концлагеря, военные преступления) и в результате этнических чисток 2 миллиона человек покинули Боснию и Герцеговину. Так на Балканах создавались (и доформировываются до сих пор) исповедующие молодой агрессивный национализм государства.
Так что это хороший вопрос: зарубцевались ли швы?
Политико-национальная композиция Балканского полуострова и вправду запутанна и сложна. К потомкам здешних «автохтонных» народов относят албанцев, предками которых некоторые ученые умы считают племена иллирийцев (точнее, дарданцев), и греков. При этом современные греческая культура и самосознание, как указывают многие историки, имеют мало общего с античностью, отсчет которой принято вести от VIII века до нашей эры. К «первопроходцам», грекам и албанцам, в ряде исследований добавляют еще и румын. В Бухаресте этногенез этой нации выводят из взаимной ассимиляции дако-фракийских племен и римских легионеров — потомки тех и других якобы на века укрылись от завоевателей-варваров в Карпатских горах, чтобы затем в подходящий момент вернуться и на равнины. Такую теорию оспаривают ученые, которые считают румын потомками латиноязычных номадов-влахов, мигрировавших к северу от Дуная в тот период, когда в Центральную Европу вторглись угорские племена. Спор ведется давно и вряд ли завершится скоро.
Первые волны тюрков-кочевников проникли на Балканский полуостров примерно в середине IV века, когда началось Великое переселение народов, а славянские варвары появились на периферии Византийской империи и Аварского каганата на полтора или два столетия позже. Первый (вообще исторически первый) союз славянских или родственных им племен, который можно счесть протогосударством, возник в 620-е годы. Лидер этого объединения, вобравшего в себя и толику земель современной Словении, торговец по имени Само, был, скорее всего, франком, но суть дела это не меняет, хотя и звучит обидно для поборников славянской идеи. Племенной союз Само распался вскоре после смерти этого боевитого князя.
На той же северо-западной макушке Балкан в середине VII века образовалось и просуществовало больше полутора столетий, пока его не поглотило Франкское королевство, в основном славянское Карантанское (по одной версии, от названия племени хорутан, которых считают предками словенцев) княжество с центром на Госпосветском поле, что в долине реки Дравы. Теперь это благостный юг Австрии, сельская местность с зелеными травами и тучными коровами называется Цольфельд. Есть исторический анекдот, согласно которому свободные карантанцы избирали себе вождя голосованием, а затем в знак почтения усаживали его (вроде как интронизировали) на так называемый княжеский камень — перевернутое основание разломанной ионической колонны из римского муниципия Вируна, похожее на мраморную тумбу.
Изображение княжеского камня отчеканено на словенской евромонетке, притом что сам камень находится в Австрии. Античная тумба, символ крушения римской славы и расцвета варварских вольностей, украшает роскошный, в золоте и 665 гербах, исторический зал парламента федеральной земли Каринтия в Клагенфурте. Симпатичной церемонии инвеституры еще семь веков следовали германские владетели княжества, добавившие своими штанами лоска древней каменной табуретке. Что и засвидетельствовала роспись художника Фромиллера над камином в ослепительнейшем геральдическом зале: здесь и князь, и его знамя, и его подданные. В конце XVI века старинную традицию описал французский философ Жан Боден, а его, между прочим, считают предтечей современной политологии. Как-то в Любляне за чашкой кофе местный интеллектуал поделился со мной смелым допуском о том, что, поскольку Томас Джефферсон изучал боденовские «Шесть книг о государстве», карантанский обряд определенно повлиял на содержание Декларации о независимости США. До 1991 года Карантания так или иначе оставалась единственным эпизодом независимости в истории словенского народа, хотя историки, с которыми я беседовал в Любляне и Клагенфурте, полагают, что считать это княжество древнесловенским государством неверно. В германском мире, в Британии и Италии словенцев вплоть до конца XVIII века чаще всего называли альпийскими славянами.
Австрия. Клагенфурт. «Княжеский камень». Фото Ольги Баженовой
Иосип Броз Тито. Почтовая марка. Ок. 1945 года. Фото: © rook76 / shutterstock.com
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК СНИМАЛИ ФИЛЬМ О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ
Уже через несколько недель после окончания Второй мировой войны советский режиссер Абрам Роом приступил в Белграде к съемкам фильма «В горах Югославии». Главный герой картины, боснийский серб Славко Бабич (его роль исполнил Николай Мордвинов), собирает односельчан в партизанский отряд, с боями пробивается на соединение с армией Иосипа Броза Тито, по дороге громя немецких оккупантов, их итальянских союзников, а также сербских и хорватских коллаборационистов. Героическая киноистория завершается поражением гитлеровцев и их подручных, но победа завоевана дорогой ценой: вражеская пуля настигает Славко уже после освобождения Белграда, в тот момент, когда он горюет под осиной, на которой фашисты повесили его красавицу-невесту Милицу. Финальная сцена картины — апофеоз Победы: маршал Тито (актер Иван Берсенев) принимает парад партизанской армии и под ликование огромной толпы провозглашает здравицы великому Сталину. Идеология этой советско-югославской военной драмы столь же черно-белая, как и кинопленка, на которой снят фильм. Если верить сценарию, киновосстание в Югославии началось строго в день нападения Германии на СССР, в бой партизаны из боснийских сел шли с именем Сталина на устах, а в перерывах между сражениями с волнением слушали радиосводки о положении под Сталинградом. «В горах Югославии» — первый полнометражный фильм социалистической Югославии, но киносправочники титовской поры об этой картине не упоминали. Большая политика оказалась быстрее кинопроизводства: пока картину монтировали, Тито отказал в верности Сталину и из ученика советского вождя превратился в агента мирового империализма. В Белграде и Загребе картину Роома вообще не демонстрировали, в СССР прокат ограничили. Одного из персонажей фильма, главу националистического сербского движения генерала Дражу Михаиловича, югославские коммунисты расстреляли. Первым фильмом социалистического экрана в Белграде долго считали вышедшую весной 1947 года картину Вьекослава Африча «Славица», тоже военную драму. В киноленте Роома как раз Африч сыграл генерала Михаиловича — карикатурно, как прихвостня нацистов. Артист быстро «реабилитировался»: в югославском фильме № 2 «Этот народ будет жить» (о любви сербской селянки Ягоды и комиссара партизанского отряда, хорватского минера Ивана) хорвату Афричу досталась роль главнокомандующего народной армией. Крупный актер мхатовской школы Берсенев, первый руководитель Московского театра имени Ленинского комсомола, примерив мундир маршала Тито, вступил в ВКП(б) и получил звание народного артиста СССР. Примерно к тому же времени относится его поздний роман с балериной Галиной Улановой. «Партизанские фильмы» (картины на темы антифашистской борьбы) на четыре десятилетия стали главным жанром югославского кинематографа.
На востоке Балканского полуострова первое славянское государство возникло в конце VII столетия, хотя его правящий класс поначалу составляли кочевники-булгары. Как гласит легенда, воинственный хан Аспарух учредил свою столицу в городе Плиска, полюбил славянскую красавицу-жрицу по имени Пагане, а его нукеры переженились на местных русоволосых прелестницах. Употребляя в юности популярный в странах социалистического содружества болгарский бренди «Плиска», я и не подозревал, что приобщаюсь таким образом к средневековой истории.
Написанные столетием позже византийские хроники содержат упоминания о князьях, заложивших — в Паннонии и адриатическом Приморье — основы хорватской государственности: их звали Борна и Войномир. В 1102 году хорваты, превратившие свои княжества в единое королевство, почти на 900 лет потеряли независимость, после того как местная знать под давлением политических обстоятельств и вследствие военных поражений вынуждена была согласиться на династическую унию с Венгрией. А первым сербским князем, упомянутым в византийских хрониках в достоинстве вассала василевса, считается правивший в конце VIII века Вышеслав, современник Карла Великого.
Постепенное угасание мощи Константинополя (в широком смысле — на рубеже тысячелетий) привело к феодальной раздробленности на балканских землях. Вассальные, полунезависимые и только иногда независимые, крохотные и только изредка чуть побольше славяно-греческие деспотаты и княжества возникали и исчезали, враждовали друг с другом и друг в друга перетекали. Пионерным государственным образованием на территории современной Черногории стало возникшее в середине IX столетия славянское княжество Дукля, позже сменившее название на княжество Зета. На землях Боснии в конце XII века утвержденный на правление венгерским королем князь Кулин (местная калибровка «бан», в значениях «хозяин», «господин»), отвоевав некоторые земли у соседей, провозгласил себя независимым владетелем. Заложенная Кулином-баном держава (пусть и с некоторыми перерывами) просуществовала два с половиной столетия, а сам этот князь оставил по себе гордую память в боснийском фольклоре.
За 200 лет завоевательных походов Османская империя подмяла под себя балканские земли — и до Дуная, и за Дунаем, и до Савы, и за Савой. Османы покончили с Византией и всеми ее южнославянскими изводами. Пал Константинополь, часть населения полуострова — кто волей, кто неволей — обратилась в магометанскую веру. Исчезло «византийское содружество наций», как образно назвал вращавшийся вокруг империи пестрый греко-славянский мир британский историк Димитрий Оболенский. Сейчас, через век «после султана», Тирана и Сараево — крупнейшие, вслед за Стамбулом, Казанью, Уфой, Махачкалой, города исламской Европы; мусульмане составляют около трети населения Балкан. Как раз здесь пролегают непростые «зоны конвергенции цивилизаций».
Многие теории происхождения народов и формирования их первых государств являются не более чем вольными гипотезами. Средневековые события на Балканах в основном описаны византийскими и арабскими хронистами, для которых сербские или болгарские дела были второстепенными эпизодами всемирного процесса. Древнее прошлое южных славян реконструировано и додумано в XIX–XX веках, когда на западе Европы получила признание идеология историзма, подразумевавшая, что успешное настоящее обязано опираться на великое прошлое. Интересы независимости казались отцам новой государственности важнее научной добросовестности; собственные исторические школы в постосманских странах лет 150 назад только начинали складываться. Да и теперь в молодых государствах поиски идентичности продолжаются, прошлое перепридумывается заново. На эту тему ярко импровизировал Мазовер: «Честная попытка понять Балканы неминуемо побуждает нас взглянуть на историю не просто как на зеркало, в котором отражаются добродетели». Но тем, кто у власти, часто кажется, что такой нужды нет.
В Македонии, провозгласившей независимость в процессе распада Югославии, в начале 2010-х годов разработали стратегию так называемой антиквизации. По-русски (как и на других языках) такой термин звучит искусственно, зато точно обозначает суть понятия: сторонники этой теории считают македонцев потомками подданных античного царства, расцвет которого пришелся на IV век до нашей эры. Героико-эпическая версия концепции не нова: ее отстаивал, например, в написанной в 1878 году поэме «Македонская фея» просветитель Георгий Пулевский, на склоне лет сочинивший еще и 1700-страничный труд «Общая история македонских славян». Однако появление в XXI столетии научных изысканий на эту тему выглядит довольно экстравагантно.
Антиквизация так или иначе, как представлялось находившимся в ту пору у власти в Скопье политикам национально-консервативной ориентации, давала Македонии дополнительные возможности развеивать имеющиеся у соседей сомнения по поводу идентичности новой страны, но порождала острые околополитические дискуссии. Афины традиционно оспаривали само название «Македония», настаивая на том, что это понятие может относиться исключительно к северогреческой провинции. В ООН и других международных организациях страна на протяжении почти трех десятилетий была представлена как FYROM, «бывшая югославская республика Македония». Это только один из современных балканских узлов противоречий. Упомяну и некоторые другие: у трех национальных общин Боснии и Герцеговины принципиальным образом не совпадают представления о будущем своего государства, а у сербов и албанцев — вгляды на то, кому должно принадлежать Косово.
Балканы соединяют разнообразные европейские миры. Мой начерченный простым карандашом крест — линии, связывающие дальние уголки балканской цивилизации, — это только подтверждает. Вот холодный крайний север: медвежий уголок Словении, слегка надменный в своей безмятежности горнолыжный курорт Бовец, неотличимый от почти таких же гламурных местечек где-нибудь в альпийских Австрии или Швейцарии. По красной стрелке компаса — Родос, горячий южный причал эллинского мира, зубчатые башни крепости рыцарей-госпитальеров, поднятой на античных черепках, Долина бабочек с четырехточечными медведками неземных красоты и расцветки; полуостров Прасониси, на мелкопесчаной оконечности которого эгейская волна целуется со средиземноморской. Вот северо-восточный форпост Балкан: дельта Дуная, великой реки, несущей воды от германского упорядоченного к славянскому безбашенному; городок Сулина с портом и блошиным рынком, где вперемешку звучит румынская, украинская, греческая речь; великолепные камышовые плавни, населенные кабанами, селедками и пеликанами. Наконец, балканский дальний восток — харчевня Barinak в турецкой рыбацкой деревне Румелифенери («европейский маяк») с видом на самоё рождение Босфора и на одинокий парус в голубом тумане моря. Капитальное коромысло балканской географии с плечом от Любляны до Стамбула — без малого 1500 километров: это 15 часов пути на машине, если гнать не останавливаясь, это два с четвертью часа авиаперелета, если взять билеты на прямой рейс. По сегодняшним меркам совсем небольшая площадка, на которой тысячелетиями топтались могучие империи, каждая из которых рассчитывала оставить здесь непреходящий след.
Каждая оставила. Но ни одна не сохранила за собой Балканы навечно.
Чистильщик обуви из Скопье. Фото. 1910-е годы
1 Македонија — Μακεδονίa Солнце славян
Муравию окружают четыре страны, и каждая достаточно сильна, чтобы при желании аннексировать ее. До сих пор Муравия сохраняла независимость только благодаря соперничеству между соседями, а также потому, что не имеет морских портов.
Дэшил Хэммет, «Суета вокруг короля» (1928)Влатко Стефановски — монстр тяжелого рока, бунтарская хардовая гитара Скопье, примерный ровесник Макаревича — Шевчука — Гребенщикова, чтобы было понятно, о чем он. Македонская «Машина времени» называется Леб и сол, что ожидаемо означает «Хлеб и соль». Группа в классическом составе просуществовала два десятилетия (1976–1995), пережив даже распад Югославии, но не справившись, а это часто случается в музыкальном мире, с собственным величием. Играли, как рассказывает Влатко, по острой моде времени, преимущественно обвенчанный с балканским этно psychedelic и progressive рок, а теперь собираются время от времени на очередной «прощальный концерт» в сопровождении какого-нибудь симфонического оркестра. Среди заслуг Стефановски перед родиной — выпуск в 1990-м первого македонского компакт-диска, сета электронной музыки к балету Zodiac и состоявшееся годом позже выступление на митинге триумфаторов в Скопье по случаю провозглашения независимости страны. Тогда фронтмен Леб и сол, кумир нескольких поколений балканских меломанов, с чувством залудил на своей Fender национальный гимн Денес над Македонија.
Эта торжественная песнь написана в годы Второй мировой войны, незадолго до того, как Македония впервые обрела государственность, пусть и стала лишь республикой в составе югославской федерации. Коммунисты, кстати, первыми признали македонских славян отдельным народом — в отличие от властей Греции, называвших их славофонными греками; в отличие от властей королевской Югославии, придумавших наименование «южные сербы»; в отличие от властей Болгарии, считавших македонские земли западноболгарскими. Соответствующую резолюцию о македонской нации Коммунистический интернационал одобрил в 1934 году. «Это было важным международным признанием самобытности македонцев, — писал главный македонский историк Блаже Ристовски. — Но Коминтерн не создал своей волей нацию, а лишь поддержал ее борьбу».
Академику Ристовски, встречаясь с ним в 1999 году в Скопье, я не перечил, лишь вставлял в его речь вежливые уточнения благожелательного иностранца. Но вот в Софии и Афинах вопросы о том, сколь оправданно само существование страны под названием «Македония» и кто именно в ней живет, считают актуальными, а в Тиране пекутся о правах проживающих в Македонии албанцев. Греция почитает Александра Великого своим, и больше ничьим, сыном, а его Македонское царство — античным греческим государством, с чем не рискнет спорить ни один здравомыслящий историк. В Афинах не устают напоминать о том, что в ту пору, когда «настоящей Македонией» правил Александр, бо́льшую часть территории современной страны со спорным названием занимало пусть вассальное, но вполне отдельное Пеонское царство. В Болгарии уверены: македонское прошлое — составная часть болгарской истории; македонский язык, кодифицированный волей компартии Югославии, является диалектом болгарского, разновидностью его литературной нормы, а македонцы — ветвь могучего болгарского древа. В Сербии напоминают: самый славный правитель династии Неманичей, Душан IV Сильный, в середине XIV века правил своим славяно-греческим царством именно из Скопье. Большую часть XX столетия земли Республики Македония оставались, да и сейчас формально являются, канонической территорией Сербской православной церкви, а образованную в 1967 году Македонскую православную церковь, которую поддерживает правительство страны, в христианском мире не признают.
Мой приятель Благоя (мы сидим в кафе на центральной площади Скопье), теоретизируя на национальные темы, подводит черту: «Греки не признают нашего названия, болгары не признают нашего языка, сербы не признают нашей церкви. Где искать друзей?» Такие поиски и правда весьма затруднены. В начале 1990-х, стоило Югославии развалиться, Болгария установила с новой республикой на востоке своих границ внешне равноправные, но покровительственные отношения, основанные на понимании того, что два болгарских, по сути, государства лучше одного, а македонцы о своей национальной идентичности пусть думают что хотят. Греция тут же вступила с Македонией в затяжной, почти на три десятилетия, конфликт по поводу официального названия страны и ее государственной символики. Эпизодами спора греков и славян стали торговое эмбарго, многотысячные демонстрации патриотов по обе стороны границы, препирательства в газетах и на международных конференциях. Через 27 лет непростых переговоров социалистические, оказавшиеся способными к какому-никакому диалогу правительства в Афинах и Скопье под мощным международным давлением пришли наконец к решению. Македонии пришлось выбирать между европейским будущим и историческим принципом: ЕС и НАТО поставили условием для развития сотрудничества со страной со столицей в Скопье «согласование ее имени».
Македония. Карта Македонского общества в Москве. 1913 год
Летом 2018 года, к ярости ура-патриотов, был подписан договор, закреплявший за бывшей югославской республикой название «Северная Македония». Греки по-прежнему называют ее граждан «скопьянцы», термин «Македония» применительно к северным соседям в Афинах и Салониках не проскочит даже в бытовой беседе. А славяне-македонцы изменение конституции «в угоду чужому дяде» должны проглотить как горькую пилюлю. Не всем нравится лекарство: в референдуме о поддержке нового названия страны приняло участие чуть больше трети избирателей, голосование из-за низкой явки признано несостоявшимся. Пока вопрос остается открытым, утешение ищут вот в чем: независимое македонское государство существует, и выразителем интересов этого государства стала фактически сложившаяся политическая нация.
Судьбы болгарского народа и большинства проживавших на территории Македонии славян, по мнению многих историков-объективистов (сошлюсь на фундаментальную работу чешского автора Яна Рыхлика «История Македонии»), кардинальным образом разошлись в 1878 году, когда после очередного переустройства Балкан часть Болгарии получила самостоятельность, но македонские земли почти целиком остались под властью Османов. В течение семи десятилетий XX столетия эти земли были связаны той или иной формой государственного союза с Сербией. И пусть даже возникновение четверть века назад Республики Македония во многом вызвано стечением внешних обстоятельств, это не меняет суть дела: такая страна на карте Европы теперь есть. Другой вопрос, что новое национальное сознание формируется с помощью очевидных искажений одних и передергивания других исторических фактов.
В подтверждение македонских государственных умопостроений о связях сегодняшнего дня с событиями минувшего в последние годы были вложены значительные по местным меркам финансовые средства, говорят о сумме в полмиллиарда евро. В разных городах страны появились памятники старым и новым национальным героям: и Филиппу II Македонскому, и сыну его Александру Великому, и византийскому императору Юстиниану, и правителю Западно-Болгарского царства Симеону, и десяткам борцов за славяно-македонскую свободу, и — чтобы поддержать политическую корректность — албанскому правителю Скандербегу, и святой монахине Терезе Калькуттской. В центре Скопье разбита площадь Пеллы (столица древнемакедонского царства, ныне античные руины на севере Греции), на которой воздвигнута римского образца триумфальная арка Porta Macedonia как символ многовековой борьбы за независимость. По соседству с ней — 28-метровый монумент «Воин-всадник», в котором угадываются черты властелина античного мира. Статуя прекрасного как юный бог полководца поднята на колонну с декорациями из слоновой кости посередине цветомузыкального фонтана и обрамлена бронзовыми античными бойцами и вневременными львами.
Похищение Эллен Стоун. Открытка. 1902 год
ДЕТИ БАЛКАН
ЭЛЛЕН СТОУН
проповедница и пленница
В начале 1901 года Внутренняя Македонская революционная организация[3] потерпела жестокое поражение. В Салониках османская жандармерия задержала македонского боевика Милана Михайлова. Не выдержав пыток, 20-летний юноша выдал имена своих товарищей-подпольщиков. Султанская охранка, получившая доступ к документации заговорщиков, провела массовые аресты: более 80 человек бросили в тюрьмы, девятерых активистов ВМРО, включая Михайлова, казнили. Сеть боевых ячеек распалась, подпольный ЦК был разгромлен, существование организации оказалось под угрозой. Уцелевшие руководители ВМРО на собрании в Софии приняли тактику захвата заложников для финансирования дальнейшей борьбы. Объектом одной из операций стала протестантская проповедница из США Эллен Мария Стоун, известная в Европейской Турции гуманитарной деятельностью. Впервые она побывала на Балканах в 1878 году, преподавала евангелистику и гигиену в женском училище городка Самоков. В конце лета 1901 года 55-летнюю мисс Стоун и ее 32-летнюю товарку, болгарскую проповедницу Катерину Стефанову-Цилку (на пятом месяце беременности), выкрали партизаны из отрядов Яне Санданского и Христо Чернопеева. В целях конспирации похитители оделись на мусульманский манер и говорили между собой по-турецки. За освобождение заложниц они потребовали выкуп золотом, угрожая в противном случае казнить пленниц. Более полугода повстанцы прятали Стоун и Цилку в горных селах. История получила широкую огласку в американской и европейской прессе; средства на освобождение заложниц в США собирали по подписке. Согласно романтической версии этой драмы, проповедницы до такой степени прониклись симпатией к своим похитителям, что присоединились к их требованиям о выплате выкупа. На той же версии — добродетельные женщины в плену у разбойников с манерами аристократов — настаивает и снятый в 1958 году на македонской киностудии «Вардар-фильм» художественный фильм «Мисс Стоун». В начале 1902 года переговоры завершились успехом: ВМРО получила выкуп (больше 100 килограммов золота), а Стоун и Цилка с новорожденной дочерью вернулись в США знаменитостями. Эллен Стоун опубликовала мемуар «Полгода среди разбойников», Катерина Цилка — воспоминания «Рожденная среди разбойников», но проповедовать на Балканы они больше не ездили. Яне Санданского считают героем антиосманской борьбы: в Скопье ему установлен конный памятник, его имя упомянуто в македонском гимне и увековечено в названии города на юго-западе Болгарии. Имя Христо Чернопеева (по болгарской инициативе) присвоено горной вершине в Антарктиде.
Футбольная сборная Македонии проводила домашние матчи на стадионе царя Филиппа, главная воздушная гавань страны, скромный аэропорт Петровец, носила имя императора Александра. Хайвей, ведущий из Скопье в Салоники, столицу греческой Македонии, тоже славил великого Александра, так полтора века назад в Австро-Венгрии железным дорогам в обязательном порядке присваивали имена членов габсбургской фамилии. Договоренности 2018 года развернули вектор перемен обратно. Автопуть переименован в шоссе Дружбы, хотя на дорожных указателях хулиганы замазали новое название или перечеркнули его краской. Аэропорт Скопье остался безымянным, а под памятниками императорам и царям появляются поясняющие таблички о том, что поставлены такие монументы сугубо в «историческом смысле». Все эти «извинительные» усилия выглядят вполне нелепо, хотя то, что делали прежде, загромождая историческую память памятниками, выглядело еще хуже.
Во исполнение задуманного в конце минувшего десятилетия проекта «2014» центр Скопье подвергся масштабным обновлению и перестройке. Реконструируется средневековая крепость Кале, через реку Вардар переброшена дополнительная пара снабженных 57 историческими скульптурами пешеходных мостов, на набережной появились помимо прочих вычурных зданий античного вида Музей археологии и византийских пропорций Музей македонской борьбы за государственность и независимость. Правительственный комплекс, выстроенный полвека назад в стиле социалистического функционализма, обшили плитами под мрамор. Получился неоклассический фасад, с дорическими колоннами и портиком, с античными фигурами на фронтоне. На всю эту красоту взирают изваяния героев прошлого и настоящего. Памятников в центре Скопье не пять и не 25, а вот именно что 125: есть парные, есть групповые, одни скульптуры стоят в рядок, другие полукругом, иные сидят в креслах, за столами или на тронах либо изображены в динамических порывах, прочие статичны. А кое-какие образуют настоящие исторические картины из бронзы.
Такого количества застывших в камне и металле человеческих фигур нет ни в Петродворце, ни в Версале. На одной только центральной площади Скопье я насчитал дюжину самостоятельных памятников, посвященных выдающимся личностям всех эпох. Для одной, пусть даже просторной, площади это ровно на 11 памятников больше, чем нужно. Избыток патриотизма отозвался немедленной народной отрыжкой — то ли от вполне уместной иронии, то ли от дурного усердия, в равной степени возможно то и другое. В одном ресторане я встретил такой перечень фирменных блюд: «Александр Македонский» (телятина категории премиум, сыр кашкавал, солонина, шампиньоны), «Царь Самуил» (тоже телятина премиум, но с мягким сыром), «Мать Тереза» (куриный стейк в кляре). Греко-македонское политическое соглашение не обязывает вносить изменения в меню.
Один памятник в центре Скопье, и неплохой, кстати, — всадник на словно бы крылатом коне, скачущий против ветра, — напоминает о Петре Карпоше, гайдуке, поднявшем в 1689 году восстание против султанской власти. Крестьянскую армию Карпоша поначалу поддержала Австрия, но на подступах к Ускопу (так называли Скопье в османский период) бунтовщиков остановили эпидемия холеры и смерть от этой болезни габсбургского генерала-итальянца Энея Сильвио Пикколомини. Народный герой остался без союзников. Карпоша схватили и посадили на кол на Каменном мосту посередине Вардара. Смотреть именно с этой точки в быструю мутную воду реки — особенно глубокомысленное занятие.
Я помню Скопье на рубеже веков: типичный для Балкан хаотичный город, едва ли не с фундаментов отстроенный после землетрясения 1963 года, выглядел бедненько и не слишком чисто, в полном соответствии с канонами позднесоциалистической архитектуры — холодные партийные здания, безликая жилая застройка, пренебрежение к уюту пространства, увлечение брутализмом. Теперь в центральных кварталах все иначе: богато и нарядно, в том смысле, какой в богатство и роскошь вкладывают в осознавшей свою ценность провинции.
Скопье. Открытка. 1937 год
«В Стефании, столице Муравии, я сошел с белградского поезда вскоре после полудня, — начинает свою короткую политико-детективную повесть Дэшил Хэммет. — Погода была отвратительная. Пока я выходил из железнодорожного вокзала, этого гранитного сарая, и садился в такси, холодный ветер хлестал мне в лицо ледяным дождем и капли стекали за воротник». Под Стефанией, «столицей самой маленькой балканской страны», вполне можно иметь в виду Скопье. Хэммет, рассказавший о смешной и трагичной балканской суете в 1928 году, на десятилетия, сам того не предполагая, предвосхитил македонскую независимость, но суть уловил точно: слабый способен выжить, учитывая интересы сильных соседей и используя их противоречия. Да и в остальном этот мастер криминальных историй, пожалуй, был прав: частному детективу из Сан-Франциско, приехавшему в балканскую тмутаракань на розыски непутевого американского аристократа, под силу устроить в такой кукольной стране госпереворот с целью превратить ее из республики в монархию.
В отличие от книжного героя, я свел первое знакомство со Скопье теплым майским вечером, прибыв в этот город на автомобиле из Софии, поскольку попасть в Македонию тогда по-иному было проблематично. Городской аэропорт (еще не принявший имя античного императора и еще не отказавшийся от него) в связи с вооруженным конфликтом НАТО и Югославии был закрыт для гражданских рейсов; международные поезда не ходили из-за наплыва беженцев из Косова и, очевидно, по высшим соображениям безопасности. «Гранитный сарай» разрушило землетрясение‐63, в частично восстановленном здании разместился городской музей, некоторые его окна до сих пор заколочены, а стрелки вокзальных часов вечно указывают на тот роковой момент — 5 часов 17 минут утра, — когда спящий город сотрясли подземные толчки. Новое ж/д здание на слоновьих бетонных ногах, под которыми приткнулись автобусные стоянки, меня тоже совсем не впечатлило. Местные жители изъяснялись почти что по-болгарски, вставляя в свою речь сербские слова и охотно откликаясь на попытки чужеземца заговорить с ними на языке бывшей метрополии.
Существование нового языка подтверждено политически: 2 августа 1944 года единогласной декларацией 60 делегатов Антифашистского собрания народного освобождения Македонии. Документ приняли одновременно с заявлением о формировании македонской республики в составе федерации южнославянских народов. Не каждый язык может похвастаться такой точной датой рождения, да еще привязанной к патриотическому дню: 2 августа считается началом Илинденского восстания македонских славян против османских поработителей.
Летнее партийно-партизанское собрание, в котором помимо делегатов-македонцев приняли участие два албанца, два турка, серб, еврей, арумын[4], а также представители македонских земель, входивших в состав Греции и Болгарии, состоялось в православном монастыре Прохора Пчиньского. Отец Прохор — лесной аскет середины XI века, знаменитый тем, что предрек царствие земное будущему императору Византии Роману IV Диогену. Легенда гласит: взойдя впоследствии на престол (особым способом, женившись на вдове предыдущего императора), Диоген отблагодарил обитавшего в пещере на горе Козьяк старца, повелев заложить в его честь храм. Предсказание отшельника не принесло императору счастья: вскоре Диоген был ослеплен политическими противниками и отправлен в изгнание.
Мне приходилось навещать построенную во славу Прохора обитель, теперь накрепко связанную в массовом сознании не только с подвигом православной святости, но и с традициями национально-освободительной борьбы. Это бедненький и очень живописный край: косо уходящая в леса и холмы тишайшая речушка Пчинья, щебет райских птичек, разноцветье полевых трав. Монастырский собор возведен в византийской традиции на руинах древнего храма; в его алтарной части покоятся мощи святого старца; в углу гробницы зияет отверстие, откуда, как уверяют, вот уже почти как тысячу лет истекает благодатное миро.
Поскольку македонскую государственность провозгласили на территории, после Второй мировой войны административно отошедшей к Сербии, посвященный Антифашистскому собранию мемориал, когда время пришло, оборудовали на бывших монастырских землях в ближайшем «своем» селе Пелинац. Коммунисты перекраивали карту Европы не смущаясь, но планы Иосипа Броза Тито расширить южнославянское государство за болгарский и греческий счет не сбылись. Так называемую пиринскую Македонию (название происходит от горного массива на юго-западе современной Болгарии) партизанский маршал планировал переподчинить себе. О «македонском» выходе к Эгейскому морю Тито еще до окончания войны договорился со Сталиным (советский вождь согласился счесть Салоники славянским городом). Однако из этого ничего не вышло, а еще полвека спустя новая Македония оказалась в окружении соседей, каждый из которых имеет к ней какие-нибудь претензии.
До монастырского съезда 1944 года македонские славяне использовали свой язык преимущественно для бытового общения. Родная речь иногда звучала в театральных постановках, применялась для выпуска прокламаций и малотиражных подпольных газет. Базой для «официальной» словесности послужили распространенные в долине Вардара центральные говоры западномакедонского диалекта — те, что посвободнее от влияния и сербского, и болгарского языков. Идеологической подкладкой лингвистической (да и национальной) конструкции стала работа македоно-болгарского филолога Крсте Мисиркова «О македонском вопросе». В Скопье эту книжку в полторы сотни страниц считают краеугольной для толкования понятия «македонизм», а в Софии в трактате Мисиркова находят многочисленные внутренние противоречия. Я тщательно проштудировал все пять глав, только чтобы понять: оценка этого труда и фигуры его автора зависят от национальных предпочтений. Да, в книге есть такие слова: «Я — македонец и в интересах моей родины заявляю, что не Австро-Венгрия и Россия являются врагами Македонии, а Болгария, Греция и Сербия». Но найдутся в творческом наследии Мисиркова и работы, написанные с позиций радикального болгарского национализма. В конце жизни он призывал македонцев-славян признать болгарскую идентичность, принял болгарское подданство и время от времени считал самого себя болгарином. Памятники Мисиркову стоят во многих македонских городах и селах, но похоронен он, скончавшийся в 1926 году в крайней бедности, в Софии.
Ключевой фигурой послевоенной македонской лингвистической стандартизации считается Блаже Конески, универсальный ученый, просветитель эпохи нового балканского Возрождения: он и автор свода орфографии, и писатель, и поэт, и редактор литературных журналов, и президент Академии наук и искусств. Именно Конески смахнул пыль с обложки книги «О македонском вопросе», именно ему пригодился Мисирков. Югославские коммунисты ковали быстро, пока железо было горячо: в 1945 году закрепили кодификацию языка, организовали и национальный театр, и университет с нужными кафедрами, и радиостанцию; по всей крестьянской республике открыли курсы ликвидации неграмотности. Вышел в свет толковый словарь на шесть тысяч слов; наконец, за парты сели первоклашки, для которых новомакедонское письмо стало единственно естественным. Возникла и македонская школа оперного искусства, пусть в ней и немного классов. Пионер жанра, композитор Кирил Македонски, известный и как теоретик музыкальной терапии, сочинил три опуса на историко-патриотические темы: «Гоце», «Царь Самуил», «Илинден». В устном употреблении, по крайней мере в Скопье, до сих пор городское койне и (все еще часто среди представителей старших поколений) сербский язык югославских образцов. Но важнее рассуждений злопыхателей об обилии языковых заимствований в македонском самоощущение нации, определившей себя через слово, которое она считает родным.
Треть граждан балканской республики составляют албанцы, турки, цыгане, про которых в гимне страны ни слова не поется и в конституции страны ни слова не говорится, и это придает ситуации некоторую кособокость. Разногласия между представителями двух самых многочисленных этнических общин часто составляют главное во внутриполитической повестке дня. От большой албанско-славянской войны и разлома государства на переломе XX и XXI веков страна убереглась. В 2001 году жертвами столкновений на северо-западе Македонии, где в основном сосредоточена албанская община, стали 100 или 200 человек, больше 1000 получили ранения. Вооруженный конфликт погасили, албанским партизанам не удалось добиться провозглашения республики Иллирида.
Мне довелось в ту тревожную пору побывать в мусульманских кварталах Тетова, самого крупного города Македонии с преимущественно албанским населением. Физической угрозы безопасности я не чувствовал, но мир вокруг казался чужим и без всяких причин воспринимался как настороженно-враждебный. Впрочем, чтобы услышать эту ноту безнадежности, тогда вовсе не обязательно было приезжать в Македонию — ощущение чреватой стрельбой и кровью беды прекрасно передавал, скажем, снятый в 1994 году фильм режиссера Милчо Манчевского «Перед дождем». Мораль его картины сводилась к следующему: что бы вы ни делали, как бы ни поступали, как бы ни берегли себя и своих близких, война все равно неизбежна, словно летняя гроза, просто потому что так веками устроена балканская жизнь.
ДЕТИ БАЛКАН
МАТЬ ТЕРЕЗА КАЛЬКУТТСКАЯ
святая монахиня
У знаменитой католической монахини, основательницы религиозной конгрегации «Сестры миссионерки любви», занимающейся служением больным и бедным, вряд ли было македонское национальное сознание. Мать Тереза говорила на пяти языках, среди которых не числился македонский. Агнес Гондже Бояджиу родилась в 1910 году в Ускопе в зажиточной христианской семье косовских албанцев и жила в родном доме до 18 лет. Ее детская мечта о католическом служении в Индии исполнилась в 1929 году, когда, начав свой подвиг на Британских островах в монашеском ордене «Ирландские сестры Лорето», она приняла постриг и под именем Тереза отправилась сначала в Дарджилинг, а затем в Калькутту (теперь Колката). Два десятилетия сестра Тереза преподавала в местной женской школе Святой Марии, а в 1950 году основала женскую конгрегацию, шефствующую над школами, приютами и больницами для бедных. Ныне «Сестры миссионерки любви» управляют сотнями домов милосердия в 120 странах мира. В 1979 году матери Терезе присудили Нобелевскую премию мира с формулировкой «За деятельность в помощь страждущему человеку». Она скончалась в 1997 году в Индии, а в 2016-м была канонизирована. Римская курия признала: мать Тереза совершила по крайней мере два чуда, исцелив больных раком из Индии и Бразилии. Святая Тереза — кавалер наград многих стран мира, о ней сняты кинофильмы и написаны книги, в 1970-е годы она считалась одной из самых популярных женщин в мире. Сказанная ею однажды фраза — «Любви людям не хватает больше, чем хлеба» — наверняка переживет века. Тем не менее деятельность «Сестер миссионерок» вызывала не только восторженные отклики. Утверждалось, например, что лишь малая часть пожертвований использовалась монахинями на цели благотворительности. Мать Терезу критиковали за слишком строгий уход за больными и плохие условия содержания пациентов в хосписах и лепрозориях, за догматичные взгляды на жизнь и веру — она активно выступала против абортов, разводов и контрацепции, проповедовала «культ страдания», называя свои хосписы и приюты домами для мертвых. «Мать Тереза была не другом бедных, а другом бедности», — указывал один из ее критиков. Семья Бояджиу покинула Македонию в 1934 году, дом в центре Скопье не сохранился, в 2009-м на его месте на индийские деньги построили мемориальный центр и поставили памятник святой Терезе. На своей родине после отъезда в Азию она побывала только один раз, в 1990 году. В Албании, Косове и Македонии Агнес Бояджиу считают национальной героиней.
И вот прошло полтора десятка мирных лет, и я снова в Скопье. На выезде из автовокзала разбитной таксист Марьян доверительно сообщил, что отель, в котором я решил остановиться, «албанский, но честный». Тут только я сообразил, что снял жилье рядом с кварталом Старая Чаршия, громадным рынком под стенами Кале, равный которому на Балканах есть только еще в Стамбуле. Из окна гостиничного номера открывался вид и на базар, и на крепость, и на минареты, и на перекресток двух больших дорог, бульвара революционера Гоце Делчева (это про него македонская опера) и проспекта царя Филиппа II. И на гору Водно, с вершины которой надзирает за городом почти 70-метрового размера стальной Крест Тысячелетия. Этот мемориал соорудили в 2002 году по случаю двухтысячелетнего юбилея прихода в Македонию христианства. К выбору такой громкой даты можно относиться с сомнением. Из святых книг известно, что первое миссионерское путешествие апостола Павла случилось в 50-м или 51 году, но предположим, что в Скопье решили подготовиться к юбилею заблаговременно, за полвека.
Я спустился пообедать в харчевню с итальянским названием и итальянской музыкой. Меню, понятно, оказалось с южняцким акцентом; вокруг беседовали по-албански; за столиками сидели полтора десятка посетителей, только мужчины, в большинстве своем в просторных спортивных штанах, по-видимому, местные реальные пацаны. Вокруг ни одного представителя титульной нации, кроме бронзового конного партизана через дорогу, — и это не случайно, конечно. Вовсе не потому, что македонцу в таком заведении опасно или его могут обхамить, просто чужие сюда не ходят, это не принято. Меня вкусно и дешево накормили; немолодой гостеприимный официант охотно говорил по-сербски.
Албанцы селятся в Скопье севернее Вардара, славяне-македонцы обосновались на южном берегу реки, и призыв муэдзина к вечернему намазу заглушает бодрая музыка фестиваля вина и песни Вино-Скоп. Сограждане двух национальностей и двух религий сосуществуют, как вода и масло: не конфликтуют, но и не смешиваются. Старая Чаршия выглядит так, как и должен выглядеть квартал почтенного исламского города: фонтаны-чесмы, мечети-минареты, мастерские обувщиков и чеканщиков, свадебные салоны с блестящими нарядами невероятных фасонов, кондитерские и брадобрейни с пышными названиями (берберница Холивуд, слаткарница Вавилон), и над этим витают запахи крепкого табака и прогорклого масла. У скопьинской чаршии три спиритуальных центра: отлично отремонтированная мечеть Мустафа-паши постройки XV века, пятизвездочный resort & spa с албанской фамилией Bushi и тот самый памятник Скандербегу, задвинутый за новостройку бара Old City. К крупу княжеского жеребца прикреплен албанский флаг. Рядом упражняется с мячом той же расцветки — красный в черных албанских орлах — юный смуглый футболист.
Естественно, не все и не всегда здесь упирается в славянско-албанские нестыковки. Мой знакомый из Скопье Энвер — не славянин и не албанец, а македонский турок — переназвался на чужой манер, Эмилом, потому что родители его белобрысой девушки и слышать не хотели о басурманском зяте. Одно лето Энвер проводит в Турции, другое — в Швеции, говорит, что в обеих странах у него примерно поровну родственников. Утверждает: и на север Европы, и на ее крайний юго-восток он может уехать хоть завтра, нанявшись, к примеру, разнорабочим, да любовь не пускает. Однако на вопрос, кем он себя считает, Энвер отвечает так же, как ответили бы и Александр Великий, и его учитель Аристотель, и, очевидно, монахи Кирилл и Мефодий, — македонцем. Кем же еще?
Вид на крепость Кале в Скопье. Открытка. 1930-е годы. Государственный архив Республики Македония
Такой вот непростой процесс формирования национальной идентичности характерен не только для Балкан, но именно для Балкан этот процесс особенно типичен. Есть такой классик балканской живописи, экспрессионист парижской выучки Николаче Мартин. После Первой Балканской войны[5] в его родной город Крушево посередине Европейской Турции пришла сербская власть, и десятилетний арумынский мальчик сделался Николой Мартиновичем. Когда через три года Крушево взяла под контроль болгарская армия, тот же паренек стал Николаем Мартиновым, а в конце Второй мировой превратился в Николу Мартиноски. Македонская независимость закатала художника в бронзу: проект «Скопье‐2014» возвеличил человека с тремя лишними фамилиями скульптурой в ряду памятников на парапете моста Искусств через Вардар.
Мартин-Мартиноски, на мой вкус, отличный мастер, точного чувства меры и спелого цвета; автор прямо-таки выстраданной галереи портретов цыганских мадонн, одна — с розой, другая — с младенцем, третья — в кокетливой фате, четвертая — с чашкой кофе. Лучшую картину своей жизни — и так бывает — этот художник создал на склоне лет, предварительно выполнив несколько выглядящих как самостоятельные работы эскизов. Портрет кормящей ребенка цыганской матери с печальными глазами лани на македонском называется коротко и емко — Доилка, а на русский приходится подбирать долгий перевод, как-то одним словом и не скажешь.
Крушевский дом-музей — не только дань признания таланту живописца, но и способ утверждения народной мечты о собственных культуре, искусстве, жизни, никому ни в чем не уступающих. Македонских по форме и европейских по содержанию. Я спросил хозяйку музея, представительную даму с девчачьим именем Сашка, правдива ли история о четырех фамилиях художника. Она кивнула, но от разговора на деликатную тему уклонилась. В конце концов, Мартиноски гордился идеями македонизма, в годы Второй мировой партизанил, социалистическую власть принял безоговорочно (хотя, очевидно, понимал ее пределы) и подписывал свои полотна именно той фамилией, которую присудила ему эпоха.
Крушево — самый высокогорный, 1250 метров над уровнем моря, город Балканского полуострова и, не побоюсь этого определения, образцово сонное балканское местечко. Это строго вертикальный населенный пункт, дома лепятся один к другому снизу вверх и сверху вниз, спускаются с кручи уступами или на кручу уступами поднимаются. Рокер Влатко Стефановски посвятил Крушеву свой самый концептуальный аудиоальбом, записанный в паре с другим талантливым музыкантом, Мирославом Тадичем. Дуэт двух акустических гитар, виртуозные аранжировки народных мелодий, прозвучал в гулкой пустоте каменного пантеона Македониум, гробницы героев Илинденского восстания — как раз того, что было поднято революционерами-террористами в начале августа 1903 года. Несколько сотен бойцов ВМРО, в основном мальчишки 16–17 лет, в ночь на святого Илию взяли под контроль османскую казарму, почтово-телеграфную станцию, административные здания безмятежного селения и почти две недели вершили в Крушеве власть, для чего сформировали подобие органов демократического управления.
Возможно даже, что это была первая со времен греческих полисов республика в центре Балкан, причем почти что настоящая: с выборным Советом, в который вошли по 20 представителей славянской, греческой и арумынской общин, с Временным революционным правительством из шести делегатов, с судьями и народной милицией. Командир повстанцев и «председатель» Крушевской республики 25-летний социалист Никола Карев сочинил патриотический манифест, призывая мусульман присоединиться к строительству новой общей жизни. Но если у местных дехкан были такие намерения, то они остались неосуществленными, потому что из Манастира (сейчас Битола) вскоре подоспели отряды башибузуков и регулярные армейские подразделения под командованием Бахтияра-паши. На битву с неприятелем у Медвежьего камня отважились четыре неполные партизанские сотни во главе с арумынским воеводой Питу Гули, остальные повстанцы решили Крушево не защищать. Битву правильнее называть стычкой, но с этим категорически спорят школьные учебники: освободительная борьба не приемлет малых форм.
Никола Карев. До 1905 года. Фото из альбома-альманаха «Македония» (1931 год)
Отряд участников Илинденского восстания. Фото. 1903 год
Османская армия, «зачистив» Мечкин камен, сожгла Крушево. Беспорядки в балканских вилайетах были подавлены к концу осени. Каждый получил свое: Бахтияр-паша — орден с бриллиантовыми подвесками от султана, Питу Гули и Никола Карев — пули от аскеров. Зато реминисценции об османском карателе теперь стерты из народной памяти, а его противники многократно прославлены скульпторами и поэтами. В Крушеве, как и в Скопье, о Гули и Кареве скорбят и бронза, и мрамор, и гранит: прах «председателя» краткосрочной республики помещен как раз под своды пантеона Македониум.
Этот возведенный в социалистический период пафосный монумент давно нуждается в ремонте и, по моим впечатлениям, обделен вниманием посетителей. У могилы Николы Карева — свежий венок с надписью «От членов семьи», которые, оказывается, живут неподалеку в скромном желтеньком домике с мемориальной табличкой у входа. Запустение мавзолея Македониум контрастирует с блеском мемориала погибшего в 2007 году в автокатастрофе поп-певца Тодора (Тоше) Проески, еще одного славного сына Крушева. Его погребальный музей выполнен в виде наклоненного полупрозрачного креста-здания, в который входишь как бы с основания ствола. Кому-то такое соседство покажется легкомысленным, но македонцы приравняли эстрадный голос к штыку революционера: у молодых наций свой счет героев. К моменту смерти Карев и Проески были почти ровесниками — верткий жгучий брюнет, «золотой соловей» новой Македонии тоже не дожил даже до возраста Джима Моррисона и Курта Кобейна.
Монумент «Македониум» в Крушеве. Фото Мариана Петковски
Из Крушева — предки моего македонского коллеги Зорана. Рассказывая о своем дедушке, священнике из арумынской семьи, Зоран, ладный парень с поднятыми гребнем волосами, слегка расчувствовался — снял с пальца золотой перстень с рубиновым камнем и продемонстрировал мне. На камне изящно вырезан профиль Александра Македонского. «Этот перстень в нашей семье дед передает старшему внуку, — пояснил Зоран, — а изготовлен он в Солуне[6] еще при турках славянским ювелиром, который считался лучшим в городе». Перехватив мой взгляд, Зоран покачал головой: «Да нет, ко всем этим памятникам императору Александру я, конечно же, отношусь с иронией. Но поверь мне, в Македонии никому не нужно объяснять, что это такое — чувствовать себя македонцем».
Македония (я имею в виду всю историческую область) — край особой, как модно ныне говорить, духовности, явной и потаенной православной святости. Здесь, как считается, возникли первые в славянском мире христианские секты. Веру Христову местные славяне приняли на столетие с четвертью раньше, чем воцерковилась, например, Киевская Русь. Здесь, а не где-нибудь еще образовалось крупнейшее в мире средоточие православного затворничества. Самоуправление автономного монашеского государства Святой горы введено еще до Великой схизмы и бесперебойно действует при всех режимах внутри Византии, Османской империи, Греции с 972 года.
Гостивар. Открытка. 1935 год. Государственный архив Республики Македония
В Македонии, на берегу Охридского озера, по заветам болгарских царей Бориса I и Симеона I развивалась книжная школа, где велась настойчивая подготовка младославянских, а не старогреческих духовных кадров. Эта школа монахов воспитала не менее 3,5 тысячи учеников, переводивших священные тексты на старославянский язык и копировавших их глаголическим и кириллическим письмом. Выстроенное по византийскому лекалу и доведенное до образцового формата малой империи болгарское царство стало моделью для всех средневековых православных государств, в том числе и для Великого княжества Московского. На переломе X и XI столетий царь Самуил обустроил в Охриде свою столицу — Самуилова крепость и посейчас красуется на холме, — что позволило современным историкам из Скопье прийти к спорному, как полагают ученые из других стран, выводу о македонском характере этого государства, покоренного в конце концов Византией. Останки Самуила находятся в Салониках, в лаборатории профессора Мацупулоса. Греки не торопятся возвращать мощи царя в его бывшие владения, хотят обменять на древние рукописи.
Знаменитые отцы — просветители варваров монахи Кирилл и Мефодий (учителя тех, кто учил в Охридской школе) родом из Македонии. Вопреки распространенному представлению направленные в 863 году василевсом Михаилом III и патриархом Фотием индуцировать славянским язычникам истинную веру братья разработали не кириллицу, а другую, более раннюю азбуку, глаголицу. Самые древние глаголические памятники (Киевские листки, Зографское Евангелие, сборник Клоца, Башчанская плита), где бы они ни хранились теперь, балканского происхождения. А кириллица, основанная на торжественной греческой каллиграфии, собственно, и названа ее разработчиком Климентом Охридским («епископом славянского языка») и его подручным Наумом Охридским в память о Кирилле Философе. Обе азбуки зафиксировали литературный язык, основанный на диалекте славян, проживавших в IX веке в окрестностях города, известного им как Солунь. Отсюда и пошли все наши буквы. При этом представители западной Церкви настаивали на том, что есть только три священных языка — арамейский, греческий и латынь, поскольку именно они использовались в надписи на кресте, на котором распяли Иисуса. Но Кирилл и Мефодий были убедительны в проповеди нового равенства: «Не идет ли дождь от Бога ровно для всех, не сияет ли для всех солнце?»
Ученые спорят, какой именно крови были «учителя словенские», греческой или славянской, но не вызывает сомнений, что Мефодий и Кирилл — не в смысле национальной принадлежности, а в смысле ощущения малой географической родины — оставались македонцами. Братья росли в многодетной семье кавалерийского офицера из свиты управителя фемы Фессалоники, причем один будущий святой родился самым старшим из семи сыновей, а другой — самым младшим. С их большой родиной тоже все ясно: Византией в пору рождения Мефодия (в миру Михаил) управлял император Лев V Армянин из династии Никифора, а в пору рождения Кирилла (в миру и почти до смерти Константин) — свергший Армянина император Михаил II Травл (Шепелявый) из Аморийской династии.
Посередине каждого, даже небольшого, населенного пункта новой Македонии на здоровенной типовой мачте колышется государственный флаг — полотнище размерами 10 × 5 метров, не меньше. В Охриде, главном центре местного курортного туризма, красное знамя с желтым солнцем развернуто над набережной, рядом с читающими святые книги бронзовыми Кириллом и Мефодием и продавцами каштанов и леденцов на палочках. Прогулочные кораблики увозят отсюда желающих в голубую даль — к монастырю Святого Наума или на пикник со свежевыловленной жареной форелью, а провожают их от пирса разъевшиеся на дармовых булках гуси и лебеди. Охридское озеро — холодный прозрачный бассейн, каприз балканских гор, спрятавших пригоршню пресной воды в своих каменных ладонях. Это озеро самое глубокое на Балканах, под 300 метров, Македония делит его берега с Албанией и считает еще и самым старым в Европе. Мусульманский глобтроттер Эвлия Челеби, совершивший в Охрид летний тур три с половиной столетия назад во время своего путешествия по Османской империи, насчитал в городе 365 христианских храмов, по одному на каждый Божий день. Автор десяти томов путевой прозы, Челеби написал такое, очевидно, в публицистическом порыве, но и теперь в Охриде найдется пусть не сотня, но много — два или три десятка — православных храмов, преимущественно небольших и уютных. За сентябрьский погожий денек я навестил все святые адреса, которые только смог обнаружить: и торжественную Святую Софию, и возвышающийся на прибрежном утесе Канео храм Святого Иоанна Богослова, и приткнувшуюся под тем же утесом церковку Малой Богоматери, и новообретенную, в смысле заново отстроенную, обитель Святых Климента и Пантелеимона на горе Плаошник, и Святого Димитрия, и Святого Николу, и церковь Святых Константина и Елены, и Святую Богородицу у больницы, и Святую Богородицу в Каменско.
Охрид. Открытка. 1930-е годы. Государственный архив Республики Македония
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК РИМЛЯНЕ СТРОИЛИ ДОРОГИ
Протяженность дорожной сети Римской империи периода ее расцвета составляла от 80 до 300 тысяч километров, смотря как считать. Это немало и по сегодняшним меркам: например, сеть автомобильных дорог общего пользования второй по размерам европейской страны, Украины, насчитывает примерно 175 тысяч километров. Протяженность мощенных камнем близ населенных пунктов, а на прочих участках утрамбованных песком, гравием или грунтом античных транспортных путей измерялась в римских милях, а одна римская миля — это 1000 двойных шагов, по-современному 1,48 километра. Среди важных римских трасс числилась и трансбалканская Via Egnatia, проложенная во времена античной республики. Как и все прочие общественные дороги, она строилась на государственные деньги и на землях, принадлежавших государству, увековечив имя своего первого и главного прораба, проконсула Македонии Гнея Эгнация. Старательный чиновник приступил к реализации проекта в 146 или 145 году до нашей эры, вскоре после завоевания римлянами Греции, и за 18 лет своего проконсулата сдал в эксплуатацию 400-километровый отрезок от Диррахия (ныне Дуррес в Албании) до Фессалоник. Via Egnatia — 746 римских миль (1120 километров) — вела через Гераклею Линкестис (нынешняя Битола), древнюю македонскую столицу Пеллу, Амфиполь и Траянополь на побережье Эгейского моря, пересекала весь Балканский полуостров и выводила к Мраморному морю. Чтобы добраться до Рима, в Диррахии следовало погрузиться на корабль, пересечь Адриатику в направлении на Бриндизий и далее следовать строго на север порядка 550 километров по Аппиевой дороге. С мировоззренческой точки зрения самый важный путник Via Egnatia — апостол Павел: пережив опыт встречи с воскресшим Иисусом Христом, он отправился по этой трассе в миссионерский поход на вечно тревожный Запад. Главный источник наших знаний о Via Egnatia — фрагменты «Географии» старшего современника Христа Страбона. Ученый подтверждает: римляне содержали шестиметровое дорожное полотно в хорошем состоянии. Последний крупный имперский ремонт, указывают более поздние авторы, был предпринят накануне войны Траяна с Парфией, в 113 году. Когда возвысился Константинополь, важность западно-восточного маршрута по Балканам стала еще более очевидной. Целое тысячелетие Via Egnatia оставалась инфраструктурным стержнем сухопутной торговли Византийской империи и ее латинских соседей, а затем проводником османских экспедиций. Участки этого древнего военно-торгового пути, на седые камни которого доводилось ступать и мне, уцелели на территории Албании, Греции, Македонии и Турции. Старую римскую трассу в общем повторяет современная автострада Эгнатия (670 километров по Греции), маркированная как участок европейского маршрута Е90. От Салоник до реки Эвр (Марица) — километров, наверное, 350 — две дороги идут параллельно. В Салониках путь Via Egnatia дублирует проложенный через центральные кварталы проспект Εγνατία. Это шумная, не больно-то широкая улица, так или иначе связывающая друг с другом большинство городских достопримечательностей. Еще одну стратегически важную, прежде всего для ратных походов, античную магистраль проложили на Балканах в 29–61 годах, при императоре Нероне. Эта Via Militaris начиналась в Сингидунуме (теперь Белград) и вела на юго-запад через Наис (Ниш), Сердику (София), Филиппополь (Пловдив) и Адрианополь (Эдирне) до Византия.
Вывод таков: к Богу сподручнее взывать, когда на тебя не давят бетонные глыбы многоэтажек, вдали от больших городов. Праздная толпа в пляжных шлепанцах не обязана все это чувствовать, но, наверное, почти каждый, кто на озерный берег явился, свечку к киоту все-таки поставит. А на македонских прихожан охридская православная дуга действует эффективно: в бесснежный в этих краях зимний праздник Крещения в городе ежегодно проходит массовое религиозное омовение, превращающее глубокое озеро в коллективную купель. Участвуют тысячи.
Самые ценные иконы из охридских храмов, общим числом 42 единицы, выставлены в галерее при подворье архиепископа. Вообще объекты православной недвижимости здесь активно строятся и реставрируются: монастырь Святого Климента, например, прирастает роскошным гостевым комплексом для паломников. Чтобы увидеть охридское собрание икон, как сказано, «сообщающее нам свою божественную милость», я, собственно, к горному озеру и ехал. И не разочаровался, потому что мало где еще жизнь небесная предстает перед глазами живущих на тверди земной в таких занимательных иллюстрациях. В выставочном зале есть и вознесение оседлавшего огненную колесницу святого Илии, и сошествие Иисуса Христа в ад, и мученичество святого Иакова Персиянина (ему отреза2ли по одному пальцы на руках и ногах, а он лишь возносил молитвы), и введение Богородицы во храм, и житие святого Николая, и картины из жития святой девы Марины Антиохийской, на одной из которых она разбивает медным молотом череп искушающему ее диаволу. Эти-то картины и впечатлили меня более всего остального, но только я изловчился вопреки правилам сделать фотографию, как в зале — не иначе знамением Божиим — погас свет. Мне доводилось уже бывать в Охриде прежде, но тогда я заглянул в город всего на несколько часов, в перерыве между интервью с беженцами из Косова и беседами с македонскими политиками на злобу тогдашнего дня, и этой вдохновляющей экспозиции не видел.
«Святая Марина убивает дьявола». Ок. 1711 года. Галерея икон, Охрид
Храм Святого Клемента в Охриде. Открытка. 1930-е. Государственный архив Республики Македония
Ранним утром в компании двух веселых бродячих собак, одна из которых была, бедняжка, трехногой, я совершил энергичную спортивную пробежку вдоль набережной Маршала Тито в направлении на восток, солнцу навстречу. Солнце Македонии медленно поднималось из-за прибрежных холмов, добавляя прозрачной воде красок. Балканское озеро Гарда, подумал я, такой же вечный покой, пусть здесь очевидно бедно и довольно грязно. В этом далеком краю, куда даже не идут поезда, чашка кофе не может стоить в пересчете дороже 20 евроцентов, а Застава югославского или Lada советского производства до сих пор считаются уважаемым автотранспортом. Нехватка роскоши компенсируется в Охриде дешевизной, оценить которую, правда, способны лишь иностранцы, потому что большинство македонцев живут бедно и трудно. Чужестранцев здесь немного, зато все разные: польская пара, гуляющая вдоль воды с початой бутылкой розового вина, бравые сербские байкеры, воспринимающие македонский берег как свой собственный, голенастые голландцы, обязательные пенсионеры из Германии, без которых и курорт не курорт.
Охрид. Храм Святого Иоанна Канео. Фото автора
Озерные красоты Охрида использовал в качестве кулисы для своей кинодрамы хорватский режиссер Райко Грлич, в 2006 году успешно осуществивший первый после распада федерации общеюгославский культурный проект. В работе над фильмом «Погранзастава» приняли участие все без исключения республики бывшей большой страны — через считаные годы после жестоких войн, и в этой новой творческой дружбе, проступившей сквозь ненависть, кроется еще один балканский парадокс. Снятая без особых сантиментов гротескная лента посвящена финальному периоду бытования югославской армии — одного из главных, если не главного института, державшего державу маршала Тито единой. Многонациональный взвод несет службу на заставе, охраняющей границу с Албанией, и параноидальным командирам все мерещится атака коварного, но не существующего даже в их воображении врага. Начинается это кино с уморительных по балканским меркам шуток, а заканчивается черной трагедией: солдатики перестреляли друг друга, погибла и главная красавица, жена вечно пьяного лейтенанта Пашича Мирьяна, изменившая ему с симпатичным рядовым родом из Далмации. Понятно, что сюжет фильма однозначно прочитывается как метафора смерти в корчах не имеющей будущего страны, идеология которой пропитана цинизмом и ложью. Наверное, люди, считавшие себя югославами, отдавали себе в этом отчет и в 1980-е годы, когда Югославия еще благополучно существовала?
Мое пребывание в Македонии оказалось поделено между сиюминутными впечатлениями от того, что я видел вокруг себя, и размышлениями о причинах, по которым славянский православный мир — назову эту группу стран так — оказался через тысячу лет после своего оформления именно таким, каким оказался. Русь есть калька Болгарии, которая сама есть калька Византии, — примерно так работал исторический 3D-принтер. В монографии «Балканы от Константинополя до коммунизма» Деннис Хупчик обидно для нынешних кремлевских патриотов рассказывает об обстоятельствах заключения в 988 году византийско-русского союза, столетия спустя приведшего к тому, что на смену Второму Риму явился еще и Третий: «Разгромленный болгарами и осажденный мятежными военачальниками император Василий II заключил альянс с князем Владимиром, в результате чего Киевская Русь стала христианской, а в Константинополе появилась дружина русских наемников. Василий получил возможность удержаться на троне, а Владимир получил ‘под ключ’ созданную в Болгарии столетием ранее православную кириллическую культуру, превратившую его примитивное государство в цивилизованное общество». Русский (варяжский) корпус, 6 тысяч гвардейцев императора, воевал в составе византийской армии по крайней мере до начала XI века. В 1014 году Василий с помощью друзей-славян нанес жесточайшее поражение другим славянам — вот этим, охридским, — за что получил прозвище Болгаробойца.
Вместе с глаголицей и кириллицей Византия передала балканским и восточным славянам свою форму отношений Церкви и государства, известную политической науке как цезаропапизм. Это такие отношения, при которых светский правитель выступает и в роли главы Церкви, единственного представителя Бога на земле. Такое обстоятельство и самим императором, и священниками, и верноподданными воспринимается как гармоничная «симфония власти». Император Иоанн I Цимисхий писал на этот счет: «Я признаю две власти в этой жизни — священство и царство». Он наверняка руководствовался похвальными убеждениями: василевс, дирижер и первая скрипка симфонического оркестра, тоже должен подчиняться законам, несмотря на то что сам создает их, — именно в этом и заключена правильная практика хорошего правителя. Но кто из правителей такой практике следовал? В Западной и Северной Европе постепенная десакрализация политической власти привела к смене картины мира: в центр ее поставлены человек и идея свободы личности. Однако некоторые страны с укоренившейся православной традицией так и не смогли образовать институты, создающие противовес всевластию государства. Политический лидер в схеме «всякая власть от Бога; где власть, там и сила» воспринимается не как исполнитель народной воли, а как отец-благодетель, носитель высшей справедливости.
Добравшиеся до Балкан славянские племена, конечно, даже и не подозревали о том, какое искушение их ждет. К середине VII века варвары проникли так далеко на юг полуострова, что почти целиком освоили территорию нынешней Греции, дотянувшись до Аттики и Пелопоннеса. Чтобы восстановить греческое присутствие на землях Эллады и нейтрализовать враждебное присутствие, Византийской империи пришлось проводить новую колонизацию. Славянам и их союзникам булгарам не удалось взять Фессалоники, хотя они осаждали эту крепость не раз, особенно настойчиво в 676–678 годах. Пришельцы с севера, выходившие на берега Эгейского моря то с мечом, то с плугом, в итоге осели в основном по окрестным деревням, где и развивали свой помаленьку терявший общеславянский характер говор. «Как старый Рим в свое время христианизировал и латинизировал племена варваров на западе, — это цитата из книги Джудит Херрин ‘Византия. Удивительная жизнь средневековой империи’, — так и Рим новый, с его греческой культурой, торговлей, правом и богатством, постепенно поглотил многочисленные дикие племена». Фессалоники (главный город Македонии — еще и потому, что портовый) всегда оставались разноязыкими и многонародными, какому бы государству ни принадлежали.
Читаем в путеводителе: основанный македонским царем Кассандром в 315 году до нашей эры и названный им в честь жены, сестры Александра Македонского, полис «в общих чертах сохранял эллинистический характер» до османского завоевания в середине XV столетия. В средневековую эпоху Фессалоники превратились в 200-тысячный мегаполис, во второй по блеску и значению город Византии, для многих — вторую столицу империи. Османские хозяева, освоившись на Балканах, перенаправили сюда поток бежавших из Испании евреев-сефардов, греческая элита отуречилась, пережив психологический упадок, многие приняли ислам. В начале XX века, накануне возвращения под эллинское знамя, Селаник говорил прежде всего не по-турецки, не по-гречески, не по-болгарски, а на языке ладино. Этот еврейский язык убила Вторая мировая война, и матерью Израиля город уже не называют.
Паскаль Себа. Уважаемые люди из Селаника. Фото. 1873 год
Паскаль Себа. Прекрасные дамы из Прилепа. Фото. 1873 год
Салоники — тесный южный город со слишком высокими домами и слишком узкими улицами, по которым сквозь бесконечные потоки машин продираются фырчащие мотороллеры. Город по западноевропейским стандартам не слишком-то и роскошный, но веселый — в том смысле, который вкладывают в вынужденное ничегонеделание безработица и беспрестанный кризис экономики. Кажется, местные жители умудряются обходиться бокалом смолистого вина рецина, которое в Салониках продают, как пиво, в зеленых пузатых поллитровках, да лепешками с сыром.
Город вовсе не производит впечатления труженика, местные безработные не выглядят отчаявшимися людьми: если они не обсуждают футбол или политические проблемы за рюмкой кофе, то играют в нарды или карты, а то и просто поют и танцуют на улицах. Вскоре выяснилось, что удивляюсь этому не я один. В рекламном журнале наткнулся на интервью с мэром Салоник, который здесь родился и вырос, а теперь вот превращает город в одну из столиц международного туризма. На вопрос, есть ли что-то, удивляющее на малой родине его самого, мэр как раз и ответил: «Энергетика, позволяющая людям, у которых полно неприятностей, выходить на набережную и танцевать без видимой причины». Выходит, правы были хиппи и битники: чтобы стать — или почувствовать себя — счастливым, нужно «просто играть рок-н-ролл»?
ООН присудила Салоникам звание самого стильного европейского города средней величины, не знаю, кто выдумывает такие номинации. Кое у каких районов и впрямь обнаруживается стиль — приморский, ленивый и по-балкански панибратский. Тут есть элегантная, вывернутая горлышком винной бутылки к набережной площадь Аристотеля с причитающимся античному мудрецу памятником и нарядным, уходящим от моря прочь бульваром в пальмах. По этому бульвару прохаживаются, здесь завязывают знакомства и играют «на шляпу» на аккордеоне, в том числе «Калинку». Есть превращенный в тинейджерский хаб морской причал, который наверняка захотел бы стать московской «АРТСтрелкой», если бы знал, что такое городское пространство существовало. Есть симпатичный, уцелевший от исторических передряг квартал Лададика, когда-то сплошь состоявший из складов и лабазов, а теперь сплошь состоящий из разнообразных декадентских кабаков.
Как раз тут находит подтверждение подмеченное городским головой правило: удовольствие — если не самоё счастье — достижимо в нарочитом не-соревновании с Парижем и Миланом, без попыток следовать чужой культурной моде. На Балканах такое умение называют искусством ничегонеделания. Нам некуда спешить, нам не нужно ничего немедленно и радикально реформировать, прогресс должен быть умеренным и совершаться согласно закону неторопливости. Время нужно проводить так, чтобы суметь почувствовать, как медленно оно проходит. Будущее бессмысленно строить, потому что оно все равно рано или поздно наступит само. Этот закон гедонизма — известный на Балканах всем и каждому — я в очередной раз сформулировал за столиком бара Alma Viva, в котором, кроме меня и флегматичной официантки, вопреки названию, не было ни одной живой души. Все души клубились по соседству, в дансинге Ghetto, обещавшем жаркий танцпол в любое время года.
Античная и византийская история в Салониках спущена на несколько метров под асфальт: темно-краснокаменные храмы с шеломообразными головами стоят в окружении ребрастых семиэтажек. Фундаменты храмов расположены там, где 800 или 1000 лет назад размещались улицы, то есть 10–15 культурными слоями ниже. К Богу поэтому часто идешь как в яму. Свечи во здравие, например, я ставил в храме Святой Софии постройки VIII века — аналоге константинопольской Айя-Софии — и выбирался оттуда в современность по лестнице с дюжиной ступеней.
Этот город правильно, фронтально развернут к заливу Термаикос. Салоники насквозь продувает эгейский ветерок, за что местные жители должны быть благодарны османским оккупантам, полтора столетия назад свалившим приморскую часть периметра византийских крепостных стен. А иначе парились бы в древнем каменном поясе, как изнывают от вечного зноя, скажем, так и не избавившиеся от средневековых укреплений Родос, Дубровник или Котор. Северный и отчасти западный фортификационные контуры в Салониках уцелели, и, чтобы поглазеть на десятиметровой толщины стены, нужно отправляться в район Ано-Поли, в крутую горку.
Я и отправился. Главная фортификационная достопримечательность Салоник — крепость Гептапигрион, она же Едикуле, она же Семибашенная (как в Константинополе/Стамбуле), хотя башен у нее на самом деле десять. В этих башнях при разных режимах последних столетий размещалась тюрьма, и традиция прервалась лишь четверть века назад. С той поры Гептапигрион бесконечно реставрируют, но проволочные заборы тюремного вида так никуда и не делись. Сквозь бойницы крепостных стен открывается романтическая vista на неторопливо спускающийся к морю город. Мои греческие друзья рассказывают, что темница Едикуле, хоть она уже и не существует, жива в качестве элемента городского фольклора, поскольку упоминается в блатных песнях жанра ребетика, настоянных на воровском арго. Гептапигрион, выходит, своего рода местный Владимирский централ.
Исторический процесс протяженностью в 2500 лет в греческой Македонии предстает как естественная цепь перетекающих одно в другое старо- и новогреческих событий. В сувенирных лавках среди прочего туристического хлама продают медные, размером с ведро, шлемы античных воинов и деревянные мечи для самых маленьких ратников. Рядом на полках — православные иконы и ладанки, бело-голубая государственная символика, глянцевые пособия по местной гастрономии, игральные карты с городскими пейзажами и сражающимися пехотинцами на рубашках. Александр Македонский выглядит на поясных портретах златокудрым красавцем с бычьей шеей и капризным лицом. Придворные летописцы утверждали, что боги Олимпа подарили этому властелину мира разного цвета глаза — левый зеленый и правый карий, но современный массовый художник благоразумно выбрал для обоих цвет неба. Вообще лучшее, на мой вкус, из доступных нам изображений этого македонского царя — вовсе не всем известный фрагмент мозаики битвы при Иссе, на котором Александр предстает победительным всадником с копьем наперевес, а работа современного карикатуриста Ментиса Бостанцоглу. На этом лубочном рисунке Александр держит на руках свою сестру-русалку, а у нее над плечом развевается греческий флажок. Можно предположить, что эта девушка с рыбьим хвостом и есть та самая принцесса Фессалоники, именем которой назван город на берегу залива Термаикос.
XX век прошелся по эгейской Македонии этнической щеткой: здесь не может быть ничего славянского, здесь не сохранили почти ничего турецкого. Салоники — образцовый современный полис, разве что с микроскопическими, не угрожающими целостности республики примесями. Солунских славян после кампаний по так называемой реэллинизации греческой Македонии остались считаные тысячи, местные мусульмане перемещены в Турцию. Но опасения никуда не исчезли, отсюда и нервная реакция местного политического класса на возникновение независимой Македонии.
Через несколько десятилетий после изгнания из города иноверцев в родном доме Мустафы Кемаля Ататюрка, главного стратега победы над Грецией в Малоазийской кампании[7], открыли музей, расположенный на территории консульства Турции. Этот хорошо охраняемый уголок турецкой земли посещают в основном взволнованные туристы из Стамбула и Измира, и они не упускают шанса сфотографироваться рядом с восковой фигурой отца нации в белых перчатках. Экспозиция небогата, в основном семейные вилки-ложки; комната, в которой родился ата тюрков, практически пуста. Здесь можно посидеть на скамье и поразмышлять о судьбе этого незаурядного человека, благодаря воле, храбрости и организационным усилиям которого столетие назад греки, отвоевавшие часть своих северных территорий, не получили все-таки Константинополь.
Панорама Селаника в 1917 году. Французская открытка
Центр Салоник после уничтожившего треть жилого фонда города большого пожара 1917 года отстроен по проектам французского архитектора Эрнеста Эбранда в нововизантийском стиле. Огненная беда упростила решение сразу двух задач: урбанистического планирования и национальной идентификации. Внушительную, похожую на гигантскую шахматную ладью Кровавую башню, в которой размещалась еще одна османская тюрьма, новые хозяева символически перекрасили и назвали Белой. Теперь башня вся в пегих пятнах, и ей снова требуется известь. Над верхней площадкой реет эллинское знамя, укрепленное на флагштоке, который снят с потопленного в 1912 году на рейде Селаника османского корвета «Великий завоеватель».
История трех частей того, что уже без малого три тысячи лет считается географически и концептуально целым, — эпирской, вардарской и пиринской Македонии — поучительна. Каждая из этих областей, да не в какие-нибудь стародавние века, а уже в XX столетии, испытала на себе более или менее значительное переселение народов и масштабные этнические чистки, от которых и в этих краях не удержался ни один военный победитель. В каждой области в угоду сиюминутной политике утверждались искусственные, иногда вовсе не соотносившиеся с реальностью идеологические конструкции. У албанцев, болгар, греков, македонцев, сербов, турок — свои, часто полярные представления о том, что на этой по идее общей для них земле было хорошо и что на ней было плохо. Иногда разные народы не могут поделить общих героев, иногда намекают, что давно уже чужое или никогда своим не бывшее считают-таки своим. В начале 1990-х годов на улицах Скопье, например, продавали сувенирную банкноту с изображением Белой башни в Салониках — в качестве национального символа только-только провозгласившей независимость республики. «Одну македонку», конечно, не пустили в обращение, но греки, отрицавшие право соседей иметь то название страны и тот флаг, которые им нравятся, отреагировали на появление шуточных денег с ажитацией.
Торпедирование турецкого корабля «Фатих Бюлент» во время Первой Балканской войны на рейде Селаника. Греческая иллюстрация. 1912 год
Символика прошлого сегодня играет в любой из частей Македонии важную роль, тени далеких предков то и дело осеняют будничную жизнь. Стилизованная звезда с 16 лучами, мистический знак, обнаруженный в 1977 году в северогреческом ныне городе Вергина (славяне называют его Кутлеш) на гробнице одного из царей древней Македонии — Филиппа II или Филиппа III Арридея, ученые все еще уточняют, кого именно, — каждому народу светит по-своему. В новогреческой культуре реликвия Вергины адаптирована в качестве скрепы античных традиций и современности. Ярко-желтая звезда на синем фоне — эмблема двух греческих децентрализованных администраций, трех периферий (областей), десятков муниципалитетов, ее вообще используют, кажется, все кому не лень: и спортивные кружки, и фольклорные общества, и коммерческие предприятия. В Салониках увидишь этот символ едва ли не на каждом шагу. Новая Македония попыталась было поместить вергинскую звезду на свой государственный флаг, но после яростных протестов из Афин отступила. Теперь на македонском флаге — золотое солнце с восемью лучами на алом полотнище. Напоминает нечто вергинское, но это не «та самая» звезда.
Так что Европа и сейчас край разных политических и исторических скоростей. Маленькая новая страна в балканских горах держится в ногу с собственным временем. Чтобы двигаться в будущее, в Скопье простраивают прошлое, иногда не совпадая по фазе развития с теми, кто уже ушел вперед. По разным причинам то, что для здешних широт новее нового, почти повсюду уже пройдено, хотя часто нет в этом македонской вины, а есть только собственные представления об окружающем мире. Здесь в особой моде гастроли ветеранов современной музыки, другие в Скопье пока не едут: Ян Гиллан исполняет композиции Deep Purple 40-летней свежести, гуру электронной музыки Жан-Мишель Жарр ярко зажигает в лучшем концертном зале суперстарые огни. Со стороны это, как и апелляция к чужой истории, как и толпы памятников на городских площадях, выглядит забавным, но вдруг, спрашиваю я себя, вот такое, совсем из глубины, движение в будущее — объективный процесс, без которого формирование нации и государственности в наше время невозможно? Иными словами, обязательно ли повторять пройденный другими странами путь ошибок, или современный мир, основанный на иных представлениях о функционировании общества, в котором люди и страны связаны между собой совсем не так, как прежде, требует других рецептов? Умозрительный ответ представляется очевидным, но практика не верит в теорию. Власти Скопье закупили в Китае красные двухэтажные автобусы — через несколько лет после того, как в Лондоне от даблдекеров отказались, уверившись в неудобстве их эксплуатации.
Белая башня в Селанике. Открытка. Начало 1910-х годов
Однако есть, есть в македонской жизни своя тихая магия. Домой из Скопье мне пришлось возвращаться каким-то человеконенавистническим авиарейсом — самолет отправлялся в 3.30 ночи. Накануне поздно вечером, прощаясь с городом, я выпил кружку пива марки Скопско на набережной Вардара и, рассчитываясь, чуть замешкался, перебирая малознакомые купюры и монеты. Официант отреагировал моментально: «Дружище, если чуть не хватает, не переживай, ничего страшного…» Вряд ли такое услышишь в другом — кроме Балкан — районе Европы.
2 България Славянское царство
Ты, родная земля, моя плоть, моя мать и жена! Звонкой глиной прельщен, зноем этих пустынь околдован, Темный дождь налетел, заголил твое лоно косматое, И всю ночь переспит он с тобою на выжженных пашнях. <… > О родная земля, моя плоть, и душа, и жена, Обними его жарко, забейся под тяжестью ливня. Как самец-жеребец распалился он, вздыбился бешено, А земля веселится, и пляшут деревья и камни[8]. Никола Фурнаджиев, «Дождь» (1924)В этой книге я довольно много пишу о памятниках, чему есть даже не одно, а несколько объяснений. Когда приезжаешь в малознакомый город, расставленные по площадям и бульварам бронзовые и мраморные фигуры привлекают к себе самое первое внимание, от одного монумента к другому бродишь, словно от маяка к маяку. Это до́ма они так замыливают глаз, что минуешь их не замечая. Логическому разуму объяснить предназначение памятников сложно: ну к чему, скажите, за большие деньги расставлять по улицам статуи умерших людей? Половина памятников если не у одних, так у других вызывает претензии эстетического характера, вторую половину сносят, как только завершится очередная политическая эпоха.
Памятникам тем не менее отводится важная социальная роль. Они метят национальную территорию, фиксируют общественные фобии и комплексы, заполняют исторические пустоты, но прежде всего символизируют величие государства, даже если формально прославляют силу человеческого духа. Памятники часто утверждают то, что каждому ясно и без них, иногда даже утверждают то, что ни в коем случае не является правдой. Это и есть монументальная пропаганда: высеченная в мраморе или отлитая в бронзе, ложь становится весомнее, ее сложнее отодвинуть из памяти либо опровергнуть усилием воли. Памятники лишают человека свободы выбора: они диктуют норму, трассируют волю правительства, предписывают, чем или кем «настоящему патриоту» гордиться, по какому поводу радоваться и скорбеть; значительно реже, но все же напоминают о том, чего стыдиться. Со стыдом, впрочем, не так просто: траурный мемориал сам по себе словно искупает вину, для многих «закрывает вопрос» личной ответственности или преступлений государства.
Охотнее всего памятники воспевают мученическую смерть во имя идеи и обозначают примеры общественно поощряемого героизма, одновременно выхолащивая содержание подвига, потому что подвиг всегда дело интимное, результат сложного внутреннего выбора, всемерного напряжения личности. Памятники принято ставить на века, но уже через поколение многие из них выглядят смешными или ненужными. Югославский кинорежиссер Душан Макавеев однажды рассказывал мне, как белградские власти запрещали самый ранний его фильм, документальную ленту на производственные темы социализма под названием «Памятникам не нужно верить». Не из-за философемы в названии запретили, конечно, но и из-за нее тоже. Макавеев прав, однако его никто не слушает, и чем слабее государство идеологически, тем активнее оно занимается возведением памятников.
Все это относится к Болгарии не в большей и не в меньшей степени, чем к другим странам, хотя замечу, что современная датская или шведская концепция монументального прочтения истории заметно отличается от того, как этот вопрос понимают на Балканах или в России. Болгары, имея на то все основания, гордятся древними традициями своей государственности: двумя могучими средневековыми царствами, первое из которых, если верить византийским летописцам, основал 13 веков назад хан утигуров (уногундуров) Аспарух, сын Кубрата из династии Дуло. Местные славяне, охотники и земледельцы, довольно быстро по историческим меркам — примерно за два столетия — ассимилировали пришедших из приволжских степей воинов-булгар, и это общее царство существовало в противоречии с империей ромеев до начала XI века, пока, уже после крещения, не пало под ударами единоверцев из Константинополя. Еще через 200 лет нашлись храбрецы, братья и основатели монархической династии Иван и Петр Асени, которые подняли успешное восстание против Византии и болгарское государство переосновали. Этого импульса хватило еще на пару столетий, а потом ослабевшая от внешних набегов и внутренних распрей Болгария подчинилась новому врагу. 500-летнее владычество Османов уничтожило национальную аристократию, так что дворян и образованного класса, за исключением духовных лиц, не осталось. Процесс болгарского возрождения начинался (как принято считать, в конце XVIII века) почти что с нуля, это было в буквальном смысле слова медленное пробуждение народа. Третье славянское царство, следствие обретения независимости в новых условиях, простояло под скипетром саксонской Саксен-Кобург-Готской династии 38 лет XX столетия; предел ему положили Иосиф Сталин и болгарские коммунисты.
«Юлия Вревская». Плакат художественного фильма СССР — Болгария, 1977. © Мосфильм/FOTODOM.RU
ДЕТИ БАЛКАН
ЮЛИЯ ВРЕВСКАЯ
сестра милосердия и русская роза
Юлия Вревская, дочь польского дворянина Петра Варпаховского, генерала, участника Бородинского сражения и полтавского землевладельца, пробыла на Балканах всего несколько последних месяцев своей жизни, но в Болгарии считается культовой гуманитарной фигурой. Совсем юной девушкой, выпускницей Смольного института Юлию Варпаховскую выдали замуж за незаконнорожденного сына князя Александра Куракина, барона и генерал-лейтенанта Ипполита Вревского. Этот суровый покоритель Кавказа, 20 лет проведший в завоевательных походах вдали от родного Петербурга, был одним из немногих офицеров, с которыми поэт-поручик Михаил Лермонтов (ровесники, они учились вместе и оба участвовали в сражении на реке Валерик) «не позволял себе разговаривать в тоне насмешки». К моменту знакомства со своей суженой 44-летний Ипполит Вревский был отцом троих детей «от неизвестной девицы», официально именовавшихся его воспитанниками. Любопытно, что много позже, в 1872 году, один из внебрачных сыновей Вревского, Николай, женился на старшей сестре Юлии. Баронесса Вревская пробыла замужем всего только год: летом 1858-го ее супруг, командующий войсками Лезгинской кордонной линии, был смертельно ранен черкесской пулей. Юная вдова переехала в столицу и была приглашена ко двору. В свите императрицы Вревская объездила многие страны Европы, побывала на Ближнем Востоке, свела знакомство с международно знаменитыми и интересными людьми. Имела безупречную высокоморальную репутацию, но в начале 1870-х годов попала в опалу и покинула Петербург. Среди друзей и корреспондентов Вревской были Иван Тургенев, Дмитрий Григорович, Иван Айвазовский. В 1877 году, после начала русско-турецкой войны, баронесса продала имение Мишково в Орловской губернии и на вырученные средства снарядила санитарный отряд. Вместе с десятью дамами высшего света она, окончив медицинские курсы, отправилась на Балканы сестрой милосердия. Ухаживала за ранеными в госпиталях русской Дунайской армии в Яссах и под Плевной (теперь Плевен), затем под селом Бяла (Русенская область современной Болгарии). Мне встречалась информация о том, что одной из причин, побудивших баронессу отправиться на войну, была ее связь с русским дворянином-волонтером, учителем Александром Раменским (убит осенью 1877-го), но не все историки этой версии доверяют. В начале 1878 года Вревская заразилась сыпным тифом и 5 февраля скончалась, уже после окончания боевых действий. Ее похоронили в Бяле в платье сестры милосердия. Тургенев откликнулся на эту смерть стихотворением в прозе, Виктор Гюго посвятил баронессе эпитафию «Русская роза, погибшая на болгарской земле». В 1977 году, к столетию освобождения страны, режиссер Никола Корабов снял биографический фильм «Юлия Вревская» с Людмилой Савельевой в заглавной роли. Согласно сценарию кинодрамы, расположения Вревской добивался сам главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич, однако баронесса предпочла ему другого Николая, искреннего болгарского студента-ополченца. В городке Бяла есть больница имени Юлии Вревской и белокаменный памятник благородной сестре милосердия.
Национальные костюмы Болгарии. Открытка. До 1945 года
Отсюда и монументальная линейка. На многих болгарских площадях подняты конные статуи хана Аспаруха и хана Крума, они символизируют истоки здешнего былинного эпоса. Скульптуры царя Симеона, на троне или с посохом, обозначают золотой век старославянской культуры и средневекового военно-политического расцвета, ту краткую пору начала X столетия, когда Болгарии было по силам тягаться и с Византией. Потом — герои Асени, в их честь в Велико-Тырнове поставлен на рукоять и фаллической ракетой направлен в небо огроменный меч, к которому скачут четыре всадника на вздыбленных жеребцах. Свой царственный всадник есть в Варне — это Калоян, вошедший в историю под именем Грекобойцы. В Болгарии ему отдают должное за усилия по «консолидации государственности», но византийские хронисты писали об этом беспощадном правителе, имевшем обыкновение закапывать пленных живыми в землю, с ужасом. После Асеней следует многовековая пауза, вызванная трагедией чужеземного плена, и вот они, храмы мучеников — некрополи южнославянских гайдуков, героев антиосманского сопротивления, разночинцев, что стали святителями новоболгарской борьбы. Свободе в высокодуховном или матери-Болгарии в высокопатриотическом смысле посвящены пафосные монументы и павильоны в Софии, Русе, Пловдиве, других болгарских городах и местечках, почти повсюду с бронзовыми львами.
Царь Фердинанд I провозглашает государственную независимость Болгарии. Фото. 1908 год
Торжественные аккорды исторической оды независимости — монумент русскому царю-освободителю Александру II в центре Софии (работы итальянского скульптора) и каменная башня на перевале Шипка (опять же с бронзовыми львами), прославляющие новоболгарскую государственность под попечительством империи Романовых. Подобных, больших и малых, памятников признательности русским за все хорошее на территории Болгарии поставлено немало. В середине XIX века российское общество было охвачено сочувствием к южным славянам. В 1860 году Иван Тургенев опубликовал роман «Накануне», главный герой которого, болгарский студент Московского университета Дмитрий Инсаров, не мыслит для себя счастья, если несчастлива его родина: «В моем Отечестве не найдется горстки земли, которая не была бы пропитана кровью героев». Инсаровскую страсть освободить Болгарию Тургенев сочетает с ожиданием российских общественных реформ и избавления от крепостной зависимости. Другое дело, что Инсаров не победил, а умер от чахотки, так и не увидев родину, а его русская возлюбленная, типичная тургеневская девушка, отправилась за Дунай в одиночестве, где стала конечно же сестрой милосердия на проигранной ее Отечеством войне. Критика зло шутила над писателем: «За этим ‘Накануне’ не наступит завтра», Тургенев даже подумывал об «отставке из литературы», но утешился и написал «Отцов и детей». Ожидание счастья обернулось в романе «Накануне» трагизмом одиночества, и это горестным образом перекликалось с драмой болгарской повстанческой борьбы. Русский император снова и снова посылал полки на Балканы, студенты и гимназисты записывались в армию добровольцами, чтобы погибнуть за тридевять земель, дамы вышивали для ополчения шелковые знамена, журналисты публиковали пламенные тексты, поэты сочиняли прочувственные строфы. Вот фрагмент стихотворения Якова Полонского «Болгарка»:
Памятник царю-освободителю Александру II в Софии. Фото. До 1918 года. Государственное агентство «Архивы», София
Без песен и слез, в духоте городской, Роптать и молиться не смея, Живу я в гареме, продажной рабой У жен мусульманского бея. <…> Приди же, спаситель! — бери города, Где слышится крик муэдзина, И пусть в их дыму я задохнусь тогда В надежде на Божьего Сына!..Спаситель в итоге пришел и взял города; стихли, как и хотел поэт, крики муэдзина. Сентимент в жизни кое-что значит, но национальные интересы определяются все же прагматическими соображениями политики. Это понимали, конечно, не только многие болгары, но и, с самого начала, трезвомыслящие романовские царедворцы. «Освобождение христиан из-под ига — химера. Болгары живут зажиточнее и счастливее, чем русские крестьяне; их задушевное желание — чтобы освободители по возможности скорее покинули страну», — писал о кампании 1877–1878 годов русский генерал Эдуард Тотлебен. В начале следующего века на румынском и салоникском фронтах Первой мировой болгарские солдаты, иногда плечом к плечу с «историческими соперниками» османами, сражались против «исторических союзников», а у черноморского побережья и в низовьях Дуная болгарские катера успешно ставили минные заграждения против русских кораблей. Это расстраивало, например, главного классика болгарской литературы Ивана Вазова, автора образцового национально-освободительного романа «Под игом». В 1876 году в стихотворении «Россия», превращенном потом социалистической пропагандой в мантру русско-болгарской дружбы, Вазов с молодым задором из румынской эмиграции призывал освободителей прийти на землю своей страдающей родины:
По всей Болгарии сейчас Одно лишь слово есть у нас, И стон один, и клич: Россия![9]Иван Вазов. Фото. Начало XX века. Государственное агентство «Архивы», София
Ровно через 40 лет, в 1916-м, Вазов сочинил другое произведение, «К русскому солдату», совершенно противоположного настроения, ставшее итогом философского переосмысления отношения к братьям с севера, на сей раз появившимся на границах Болгарии, «чтобы нас опутать игом новым». Вазов и хотел бы обнять русского, да это выше его болгарских сил, потому что в солдатском взоре поэт увидел теперь не любовь, а ярость.
Собственно, тут нечему удивляться: кто приходит освобождать — тот и брат, а болгарину дороже всего вольная Болгария. Марксистская наука впоследствии объясняла казусы межславянских противоречий кознями прявящих элит, толкавших народы на «братоубийственную схватку», но научный объективизм подсказывает другое. В сбросившей османские путы небольшой бедной стране с неграмотным крестьянским населением не существовало ни управленческого класса, ни научных школ, ни системы профессионального образования. Командирами полков, начальниками военных академий, директорами музеев, министрами поначалу становились в Болгарии, где и монарх был иностранцем, чужеземные специалисты — не только русские, но и чехи, немцы, австрийцы. И Петербург, и Вена (но особенно Петербург) пытались конвертировать болгарское чувство признательности и свое влияние на востоке Балкан в геополитическую и финансовую выгоду. Во второй половине XX столетия это проявилось с особой силой: болгарам предписано было беспрестанно демонстрировать чувство глубокой благодарности, даже в государственном гимне петь не только про Софию: «С нами Москва и в мире, и в бою».
Феликс Каниц. «Внутренний двор крепости Белоградчик». Литография. 1860-е годы. Иллюстрация из книги «Дунайская Болгария и Балканы» (София, 1932 год)
Многим освобожденным освободители перестали казаться бескорыстными. На протяжении почти полутора столетий болгарской частичной, ограниченной и полной независимости в стране конкурируют разные политические выборы — русофильский и другой, в последние десятилетия обозначаемый как проевропейский. Противодействие этих настроений порой принимает забавные формы. В 2011 году анонимные мастера стрит-арта из группы Destructive Creation перекрасили галифе и шинели красноармейцев с горельефов софийского памятника Красной армии в яркие одежды героев массовой культуры: Супермена, Джокера, Санта-Клауса, клоуна Рональда Макдональда. Можете себе представить, какие противоречивые реакции в стране и мире вызвал этот художественный жест?! Скульптуры отмыли, но и через семь лет, когда я знакомился с патетическим софийским монументом, солдатское обмундирование покрывал нездоровый зеленый налет. Сбоку от памятника установлена рампа для скейтбордистов, но на просторной площади перед скульптурной группой не покатаешься: кое-где качается-проваливается мостовая плитка.
Памятники освободителям я разглядывал и в Софии, и в Бургасе, и в Русе. Главная социалистическая достопримечательность Пловдива — громадная железобетонная скульптура красноармейца, которую по велению популярной песни Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина о «Болгарии русском солдате» называют Алешей. На холме Бунарджик (турецк. «гора родников») прежде уже поставили один памятник русскому оружию, лаконичный монумент с надписью про Александра II и победу армии генерала Иосифа Гурко в битве при Филиппополе (античное название Пловдива) в 1878 году, но эту композицию из города не увидишь. А Алешу в Пловдиве увидишь отовсюду, выглядит он огромным каменным человеком, выше солнца и выше неба. В Рио-де-Жанейро и Лиссабоне так стоит над городом и над миром Иисус Христос, только без ППШ в руке. И размером, и вообще памятник советскому солдату (проект под названием «Красный богатырь» болгарские скульпторы выполнили к 1954 году) никак не соответствует исторической правде. Болгария во Второй мировой войне была союзницей Германии и Италии, но воевала не столько против СССР и не столько за нацистов, сколько решая свои вечные балканские вопросы приращения территорий. Полагаю, что большинство подданных царя Симеона воспринимали случившееся в 1940-е так: вместо нацистов с их бесчеловечной идеологией расового превосходства после войны пришли коммунисты с их проповедью беспощадной классовой борьбы.
Горельефы памятников советским воинам-освободителям в Пловдиве и Софии. Фото автора
В начале 1990-х годов группа энтузиастов добивалась сноса памятника Алеше, но порыва не хватило, русофильство, а оно действительно в этой стране существует, оказалось сильнее. Разные его проявления в Болгарии встречаешь на каждом шагу: пафосные рестораны «Петр I» и «Россия» с куполами храма Василия Блаженного на рекламных плакатах, магазины «Березка» с горячими пирожками и песенками Алены Апиной из динамиков, многочисленные улицы с русскими именами. Ну и, понятно, улыбки болгарских друзей, хотя таксист обсчитает тебя запросто, даром что братушка. Для туристов или мигрантов из бывшего СССР (и тех, и других здесь предостаточно) Болгария — такая «минимальная» заграница, с приближенными к отечественным бытовым укладом и перечнем услуг, со схожей ценовой политикой. Почти понятный язык, столь же скромный, как и до2ма, средний доход, сравнимая с уровнем развития областных центров где-нибудь на юге России или в Центральной Украине городская инфраструктура — только с приятным южным климатом и ощущением непричастности к местным политическим или социальным проблемам, поскольку все они чужие, а не свои.
К вершине холма Бунарджик из разбитого талантливым местным архитектором Здравко Василковым городского парка, ограниченного Торговой гимназией, Русским бульваром и улицей Волга, ведут ровно 100 монументальных ступеней. Уничтожение такого, как Алеша, мемориала наверняка представило бы для городских властей серьезную проблему: куда, спрашивается, девать кубокилометры гранита и бетона, где брать немалые средства на рекультивацию территории? К подобным вопросам бывшие союзники СССР в бывшей Восточной Европе подходили по-разному. Гигантский памятник Иосифу Сталину на Летенской площадке в Праге в 1962 году взорвали, но все его тяжеловесное обрамление — террасы, лестницы, подземелье и остов скульптуры — так и стоит без использования до сих пор. На месте Сталина методично отсчитывает послекоммунистическое время метроном с высокой тонкой стрелкой. Венграм повезло больше: скульптор Жигмонд Кишфалуди-Штробль замышлял памятник благодарности на горе Геллерт еще при нацизме, но проект вышел в итоге исторически мультифункциональным. 14-метровая бронзовая женщина с пальмовой ветвью в руках символизирует абстрактную идею освобождения. Поэтому до начала 1990-х у подножия монумента было написано о памяти советских воинов, а теперь написано о памяти «…отдавших свои жизни за свободу, процветание и независимость Венгрии».
Пловдивский Алеша никогда не поднимет над головой пальмовую ветвь. Город идеологически противопоставил монументу на холме Бунарджик — его, как победоносную Красную армию, одолеть нельзя — скромный мемориал памяти жертв коммунистических репрессий, то есть тех самых людей, которых после перехвата власти в Болгарии, фигурально говоря, расстреливали из Алешиных автоматов. Памятник стоит на площади, слева от здания областного правительства, едва видимый в тени деревьев.
Пловдив. Мужская гимназия Святых Кирилла и Мефодия. Открытка. 1900 год. Государственное агентство «Архивы», София
Пловдив устроен так, что коли хочешь город посмотреть, то шагаешь вверх и вниз, преимущественно по неровной мостовой из гранитной крошки или крупного необработанного камня. Справочники сообщают, что древний Филиппополь стоял на семи (ну кто бы сомневался!) холмах, один, самый каменный, правда, срыли, постепенно потратив его внутренности на памятники и мостовые. Камень называется сиенит, это такие огромные живописные бульники, мерцающие разноцветными отливами. Пока не сбилось дыхание, я вскарабкался на три главные пловдивские горы. Один холм занят Алешей, на втором и третьем размещены телевизионные антенны и радиорелейные дела, на четвертом воздвигнута османских времен 46-метровая часовая башня без часов, на пятом — руины доантичного фракийского поселения. Это главное доказательство популярного здесь тезиса о том, что Пловдив/Филиппополь едва ли не самый старый город Европы с непрерывной восьмитысячелетней летописью человеческой деятельности. Получается, появление здесь частей Красной армии — главный эпизод вечности, раз главный памятник посвящен именно этому событию?
Наим Сулейманоглу. Фото. 1988 год. © Shevked / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
ДЕТИ БАЛКАН
НАИМ СУЛЕЙМАНОГЛУ
карманный Геркулес
Наим Сулейманоглу по прозвищу Карманный Геркулес — самый титулованный спортсмен в истории тяжелой атлетики: трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, обладатель 46 мировых рекордов. Выдающийся атлет, он родился в 1967 году в турецкой семье в селе Птичар на юге Болгарии. При росте 150 сантиметров Сулейманоглу в толчке поднимал вес, более чем троекратно превышавший его собственный (в разные периоды — от 55 до 63 килограммов). Начал международную карьеру в сборной Болгарии под именем Наим Сулейманов; свой первый мировой рекорд, будучи 16 лет от роду, установил на чемпионате мира в Москве. Олимпиаду 1984 года Сулейманову пришлось пропустить, поскольку зависимые от СССР страны бойкотировали Игры в Лос-Анджелесе. В конце того же года в ходе кампании по насильственной ассимиляции мусульманского населения спортсмен вынужден был сменить имя и фамилию, его превратили в Наума Шаламанова. Как и других известных болгарских турок, Сулейманова-Шаламанова заставили подписать письмо в поддержку так называемого процесса возрождения, сопротивление которому расценивалось как уголовное преступление. Коммунистические власти сочли всех живущих в стране турок болгарами, позабывшими под тяготами османского ига о том, что они болгары. Свои имена и фамилии вынуждены были сменить по крайней мере несколько сотен тысяч человек; тысячи несогласных отправили в тюрьмы. В декабре 1986 года во время Кубка мира в Мельбурне Шаламанов бежал из расположения болгарской сборной. В Софии о его исчезновении сообщили как о спланированном турецкими спецслужбами похищении. Ставший Наимом Сулейманоглу спортсмен опроверг эти сведения. Официальная позиция Софии была такой: штангист делал противоречившие «болгарской линии» заявления, находясь якобы под воздействием психотропных препаратов. Сулейманоглу вернулся на помост после того, как Турция выплатила Болгарской федерации тяжелой атлетики более миллиона долларов за разрешение выступать под другим флагом. Родственникам Сулейманоглу, находившимся в Болгарии фактически в качестве заложников, разрешили выехать в Стамбул. Карманный Геркулес с лихвой вернул своей новой родине потраченные средства, завоевав для Турции три олимпийских «золота» и выиграв пять чемпионатов мира подряд. С результатом 504 балла он до сих пор возглавляет таблицу коэффициента Синклера (этот показатель дает математический ответ на вопрос, какую штангу мог бы поднять атлет, если бы его собственный вес соответствовал нормативу супертяжелой категории). Спортивная карьера Сулейманоглу завершилась в 2000 году поражением на Олимпиаде в Сиднее, после чего он занялся политикой и безуспешно баллотировался в турецкий парламент. В 2017-м Сулейманоглу скончался от цирроза печени.
Римляне и греки оставили в Пловдиве многочисленные следы — и развалины стадиона, над которыми проложен центральный проспект, и прекрасный древний театр, роскошнее которого мне доводилось видеть разве что в Таормине на Сицилии, и термы, и фундаменты разных гражданских зданий и построек. Все это постепенно приводят в порядок соразмерно скромному болгарскому бюджету, не в смысле достраивают, а в смысле по-научному правильно обрамляют для доступа туристов. Ключевую роль в возвращении Пловдиву славы античного Филиппополя и османского Фелибе сыграл местный культпросветработник Атанас Крастев, известный в городе как Начо Културата (Культура). По инициативе и под его руководством управление «Старый Пловдив» отреставрировало 130 памятников истории. В начале XXI века Крастев, по хорошему одержимый реставраторским делом подвижник, умер, оставив землякам самые добрые воспоминания о себе. Ему посвящен скромный музей, но не его скульптура стоит на холме Бунарджик; да Начо Культура, я уверен, и не хотел бы подобной памяти. Вот такие люди, как археолог Крастев и садовый архитектор Василков, и передают от поколения к поколению заботу о большой стране и о своей малой родине, вот ими-то и стоит гордиться.
Открытие Пловдивской ярмарки митрополитом Пловдивским Кирилом, будущим патриархом Болгарии. Фото. 1939 год. Государственное агентство «Архивы», София
Так сложилось, что в главных битвах XX века Болгария почти всегда выбирала неудачную сторону, наверное, еще и поэтому членам монархической фамилии Саксен-Кобург-Гота никаких особых памятников не досталось, я заметил только один совсем невнятный в Варне. С момента восстановления независимости в Софии считали главным противником не Oсманскую империю, вековые следы присутствия которой постарались попросту затереть, не получившуюся из нее в итоге Турцию, а Сербию — это геополитический соперник подходящей «весовой категории». В первой половине минувшего столетия сторонники Великой Болгарии трижды пытались раздвинуть страну к югу, западу и северу до ее «естественных границ» и превратить в крупнейшее государство Балкан, но военные кампании и в Македонии, и во Фракии оканчивались неудачами, хотя царская армия, считавшаяся лучшей среди соседних государств, всегда сражалась наступательно и стойко. Один мой болгарский приятель мрачно и торжественнно сказал за рюмкой ракии: «Наша армия ни разу в своей истории не теряла ни одного полкового знамени». Даже если это и миф, то за такой миф, очевидно, настоящему болгарину стоит выпить.
В Первую мировую после долгих колебаний и дипломатической торговли царь Фердинанд I вступил на стороне Центральных держав. Для монарха, мечтавшего провозгласить равное великим империям прошлого государство Ориент, которое вобрало бы в себя всех балканских болгар, Великая война окончилась отречением и изгнанием, а для страны — потерей 10 % земель и выплатой большой контрибуции. В начале 1940-х годов сын Фердинанда, царь Борис III, пусть нехотя и отчасти вынужденно, согласился на младшее партнерство с державами Оси (что привело к быстрому расширению Болгарии в полтора раза), но отказался воевать против Советского Союза и посылать солдат на Восточный фронт. В сентябре 1944-го сложилась парадоксальная ситуация, когда примерно неделю Болгария в обстановке быстрых политических перемен (теперь историки в Софии и Пловдиве называют их государственным переворотом) находилась одновременно в состоянии войны с СССР, Великобританией, США и Германией. Дислоцированная на территории страны немецкая армейская группировка была немногочисленной и успела стянуться на северо-запад, в Сербию. Под контролем коммунистов моментально сформировали другую, Народную армию, в рядах которой принялись громить нацистов и те, кто раньше сражался на их стороне: командиров в основном отстранили от службы, офицерами стали вчерашние солдаты, а вчерашние красные партизаны оказались комиссарами и генералами.
Показательна судьба лучшего болгарского военного летчика-истребителя Стояна Стоянова, кавалера гитлеровского Железного креста. Он сбил огнем из своего Messerschmitt Bf 109 не один британский и американский самолет, одержав над союзниками по антигитлеровской коалиции 15 воздушных побед. В Народной армии за Стояновым сохранили звание капитана, вскоре он получил на погоны майорские ромбики (а потом и звездочки) за успешные действия против новых врагов — немцев в небе над Косовом и Македонией. После победы Стоянов учил молодежь осваивать советские Як‐9. Коммунисты до конца не доверяли дважды герою войны, в досрочную отставку он вышел полковником в середине 1950-х и потом долго работал вовсе не по специальности. Через три десятилетия, когда установился более взвешенный подход к событиям Второй мировой, ветеран обрел наконец генеральские лампасы и всенародное признание. Статья в журнале, по которой я изучал биографию Стоянова, называется «Ас на защите Болгарии». Есть о чем подумать: человек вот так, сугубо профессионально, понимал свой патриотический долг, выполняя приказы, которые не обсуждают.
Император Германии Вильгельм в мундире со знаками различия болгарского фельдмаршала и царь Болгарии Фердинанд в мундире немецкого фельдмаршала в Софии. Фото. 1916 год
Крестьяне из Пловдива. Фото. 1939 или 1940 год. Национальная библиотека Швейцарии. Фото: © Swiss National Library, SLA-Schwarzenbach-A‐5–19/005
В боях против нацистов погибли 32 тысячи болгарских военных, 120 тысяч болгарских солдат были награждены советскими медалями «За победу над Германией». А вот медалей «За взятие Софии» или «За освобождение Пловдива» не существует, поскольку Красную армию встречали, как принято считать, цветами. Окончание Второй мировой вернуло Болгарию в ее прежние границы и на четыре десятилетия превратило в лояльнейшего и инициативного сателлита Кремля, в «шестнадцатую республику СССР». Двусмысленную картину прошлого отполировали, «врагов народа» расстреляли, пересажали или выслали из страны. Коммунистический режим подавил последние очаги сопротивления отрядов так называемых горян, лесных людей, только к началу 1960-х. В Болгарии утверждают, что по продолжительности и степени организованности эта герилья не имела аналогов в послевоенной Центральной и Восточной Европе. Повстанцы использовали опыт и тактику антиосманской партизанской борьбы, пока их не раздробил железный армейский кулак.
Самый непримиримый противник болгарской рабоче-крестьянской власти Илия Минев провел в тюрьмах и трудовых лагерях 33 года (не исключаю, что это мировой рекорд политического заключения). В трагической судьбе Минева еще как отразились противоречия эпохи: в молодости он придерживался крайне правых взглядов, в 1940-е годы входил в руководство фашистского Союза болгарских национальных легионов. Минев всегда принципиально выступал против любых коммунистов (тюремные голодовки он держал в общем счете 460 дней, в карцере провел 1860 суток), превратившись к концу своей карьеры мученика в символ яростной правозащиты. Когда Минев наконец оказался на свободе, то не нашел себя в новой политике — его радикальная бескомпромиссность привлекала немногих. Этот несгибаемый борец окончил жизнь в полной нищете, оставленный родственниками, в доме престарелых. Как мог и как считал правильным, он защищал Болгарию, поэтому в Софии и Илие Миневу тоже поставили памятник.
А вот главный памятник Георгию Димитрову, мавзолей-усыпальницу в центре Софии, взорвали ровно через полвека после кончины «болгарского Ленина»; останки бывшего народного вождя перенесли на центральное столичное кладбище, а от его некрополя не осталось и следа. Верный соратник Сталина (не исключено, что по его же приказу в 1949 году и отравленный), Димитров не знал политических колебаний. Он всю жизнь занимался всемирной классовой борьбой за рабочее дело, считая, что в этой схватке «соображений гуманности быть не должно». Звездным мигом политика Г. М. Димитрова считается его участие в судебном процессе в Лейпциге, в уже фактически нацистской Германии конца 1933 года, по делу о поджоге рейхстага. Среди пятерых обвиненных в этом преступлении оказались трое болгарских коммунистов, в том числе и западноевропейский агент Коминтерна Димитров, известный кураторам в Москве по кодовому имени Бриллиант. Владевший немецким языком и азами юриспруденции, Димитров в прямом остром диалоге с Германом Герингом сумел доказать свое алиби, не оправдываясь, а обвиняя. Чтобы лучше понять обстоятельства знаменитого процесса, я прочитал сборник выступлений Димитрова перед судом и посмотрел снятую в 1972 году выспренную восточногерманско-болгарско-советскую киноленту режиссера Христо Христова «Наковальня или молот». Название фильму подсказано стихотворением Иоганна Вольфганга Гёте «Кофтские песни», которое Димитров процитировал в своем последнем слове обвиняемого:
Должен ты иль подыматься, Или долу опускаться; Властвуй, или покоряйся С торжеством — иль с горем знайся, Тяжким молотом взвивайся — Или наковальней стой[10].Германскому, балканскому и мировому пролетариату Димитров предлагал и советовал «взвиваться молотом», что и было, в общем, сделано. Этот 51-летний коммунист обладал даром политического проповедника, редкой пассионарностью и хорошо развитыми инстинктами борьбы за власть. Именно Димитрову принадлежит классическое определение фашизма; его умение ловко жонглировать словами не вызывает сомнений. Речь Димитрова на Лейпцигском процессе болгарские школьники, как и песню про Алешу, 40 лет учили наизусть. Моя софийская знакомая Татьяна, окончившая в начале 1980-х школу с углубленным изучением французского языка, до сих пор способна цитировать Димитрова большими кусками на языке Вольтера и Гюго. Суд в Лейпциге окончился моральным поражением нацистов: болгар приговорили всего лишь к девяти месяцам тюрьмы за нарушение паспортного режима и нелегальное пребывание на территории Германии, но ничего более серьезного им вменить не смогли. Всем троим вскоре было предоставлено советское гражданство[11].
Оказавшись в Москве, Георгий Димитров получил высокие компартийные назначения, вначале в Коминтерне, потом в отделе международной политики ЦК ВКП(б), откуда, когда пробил час, проследовал в Софию возглавлять народную Болгарию. В позднем Советском Союзе, уже на моей памяти, Димитров точно был самым знаменитым болгарином, даже известнее своего однофамильца, эстрадного романтического певца Эмила Димитрова, и, возможно, самым известным иностранным коммунистом, по крайней мере, ни одному другому чужеземцу его ранга монумента столь ленинского типа (разве что еще немцу Эрнсту Тельману) в Москве не воздвигли. Во время своей первой поездки в Болгарию, в 1990 году, я видел в Варне памятник Димитрову, облитый неприятной желтой краской, потому что власть коммунистов уже заканчивалась. А московский по-прежнему стоит в сквере у слияния Большой Якиманки с Большой Полянкой, за что и прозван Большим Якиманом. Как подсказывает интернет, в селе Баня на юго-западе Болгарии, откуда родом родители Димитрова, сохранился чудесный парный памятник: бронзовый Георгий Михайлович внимает указаниям бронзового Владимира Ильича. Потрепанный позолоченный бюст Димитрова, достаточный для городского Дворца культуры или фойе здания обкома партии, я сторговал в одной пловдивской антикварной лавке за 250 левов (примерно 150 долларов), совсем недорого.
Георгий Димитров с Иосифом Сталиным. Фото. 1936 год
Многие историки считают, что Димитров потерял доверие кремлевского руководства, поскольку слишком рьяно защищал проект Балканской федерации, а в послевоенном конфликте Сталина и Иосипа Броза Тито проявил постыдные для советского коммуниста колебания. Балканская Федеративная Республика, создание которой активно обсуждалось в 1944–1948 годах, могла бы включить в себя народные Югославию, Болгарию, Румынию, Албанию, а также Грецию, если бы в гражданской войне в этой стране победили коммунисты. После окончания Второй мировой Кремль поставил мифическую идею объединения Балкан официальной целью компартий пяти стран, Москва намеревалась с помощью мощного буферного государства с населением в 60 миллионов человек надежно выстроить свою юго-западную военную и политическую оборону.
Но что-то пошло не так: левые силы в Греции потерпели поражение, противоречия между Белградом и Софией по македонскому вопросу, а также по поводу того, кому быть в воображаемой федерации главным, оказались непреодолимыми. У каждой из пяти стран имелись территориальные претензии ко всем без исключения соседям. Сталин, поначалу не возражавший по крайней мере против поглощения Югославией Албании и сближения Югославии с Болгарией, испугался чрезмерного роста авторитета Тито и передумал. Федерации не случилось, мечта о балканском коммунистическом единстве умерла.
Болгарская историческая школа ставит Димитрову в упрек не столько его убеждения, сколько податливость в переговорах с югославами: он согласился считать население Пиринского края македонцами, а отсюда недалеко и до предательства национальных интересов. Через полвека, в начале 1990-х, Болгария первой признала независимость Македонии, постаравшись наладить с соседней страной доверительные отношения опеки и всесторонней помощи. Нетрудно заметить, что на бытовом, что называется, уровне к македонским славянам здесь относятся по-доброму, но чуть иронично, считая их подзаблудшими болгарами, по недоразумению оставшимися вне пределов исторической родины. Македонцев упрекают в том, что в Скопье якобы пытаются присвоить часть общего прошлого, искусственно выделяя из широко понятого болгарского отдельное — «своих» царей, «своих» революционеров, «свой» язык. Троекратных усилий XX века Болгарии оказалось недостаточно для установления всеохватных границ, как при ханах Дуло и царях Асенях. С этим — кто знает, может, только до появления нового исторического шанса — местным ура-патриотам приходится мириться.
За чертову дюжину драматических веков национальной истории у Болгарии образовалось несколько столиц. Центрами Первого царства были Плиска и Преслав на теперешнем северо-востоке страны. Царь Борис I, в 860-е годы крестивший болгар и долго колебавшийся в своей лояльности между Римом и Константинополем, повелел наследнику Симеону перебазироваться из языческой Плиски и править из крепости Преслав, чтобы ничто не мешало молодой религии развиваться. Расстояние между двумя столицами небольшое, с полсотни километров, примерно на полпути расположен облцентр Шумен с не пережившей треволнений Средних веков крепостью. От древней Плиски тоже остались преимущественно развалины, фундаменты фундаментов и разве что кое-какие стены. Возникшее по соседству от столичных руин селение, которое в османское время называлось Ага-Баба (Абоба), в большой город не выросло.
ДЕТИ БАЛКАН
ИВАЙЛО КИСЛАЯ КАПУСТА
свинопас и царь
Эта чудесная история похожа на сказку, но подтверждена византийскими хрониками. Летом 1277 года на северо-востоке Второго Болгарского царства поднялось крестьянское восстание, которое возглавил свинопас Ивайло, презрительно прозванный врагами за низкое происхождение Кислой капустой. Восставшие взбунтовались против высоких налогов, введенных царем Константином I Асенем Тихом, сыном боярина Тиха из Скопье; они были возмущены неспособностью монарха защитить страну от монгольских набегов. Константин I, взошедший на престол в 1254 году и правивший в период феодальной смуты, воевал то против реставрированной Византии в союзе с монголами, то против правнука Чингисхана беклярбека Ногая в союзе с императором Михаилом VIII Палеологом, то на два фронта. В 1269 году третьей женой Константина, сломавшего на охоте ногу и парализованного ниже пояса, стала племянница византийского императора, «скандальная интриганка» Мария Палеолог. Она быстро родила мальчика, Михаила Асеня II, и младенец, к неудовольствию местной знати, был объявлен соправителем Константина. Пастух Ивайло между тем рассказывал односельчанам о видениях, которые предвещали ему великие дела, а потом принялся претворять свои сны в реальность. Крестьянское войско успешно отразило несколько монгольских набегов, а затем разгромило армию Константина I Тиха, причем немощного царя зарубил сам главарь бунтовщиков. В 1278 году Ивайло триумфально занял столицу Болгарии Тырново и… согласился жениться на царице Марии в обмен на признание наследственных прав Михаила Асеня. Ивайло заставил местное дворянство признать себя монархом, а Мария вскоре забеременела. Историческая правда смыкается с легендой, образуя сказочный архетип: Иван-дурак женился на злой царевне, отомстил богатеям за весь трудовой народ, и семя его дало всходы. Крестьянский царь, отличавшийся необузданным характером и жестокостью в бою и быту, с трудом противостоял дворцовым интригам и вражеским вылазкам с севера и юга, бояре его ненавидели. Во время похода Ивайло к Дунаю Тырново занял ставленник Византии Иван Асень III. Марию отправили в изгнание в Константинополь, где она родила Ивайло дочь. Крестьянский царь одержал тем временем несколько побед над византийскими отрядами, но постепенно терял поддержку соратников, поскольку обещанное царство равенства и всеобщего счастья всё не наступало. В конце концов Ивайло решил искать убежища в стане Ногая, где поначалу был принят с почетом, но в 1280 году убит по приказу своевольного хана прямо во время пира. Молва, впрочем, утверждала, что на самом деле крестьянский царь остался жив, поэтому вскоре один за другим появились два лже-Ивайло. В социалистической Болгарии полумифического Ивайло превратили в закаленного борца за национальную независимость, он и теперь остается популярной героико-трагической фигурой и идеалом «хорошего царя». Об Ивайло снят художественный фильм, сочинены опера, роман и драма, его именем назван город на границе с Грецией, в его честь воздвигнуты памятники, один из которых называется «Каменный часовой». А Мария, вдова Кислой капусты, так и закончила свои дни в Византии.
С Преславом связан первый непростой опыт восточно-южного межславянского взаимодействия. В 968 году византийцы наняли для набега на болгар русов-язычников Святослава Игоревича. Киевский князь ударил с севера, оккупировал обширные территории за Дунаем, включая Преслав, захотел закрепить успех, чтобы, может быть, сделать новые владения «серединой земли своей». Потом Святослав повел войско на Константинополь, против недавних союзников, но войну мощной Византии в конце концов проиграл. В 972 году у днепровских порогов, по дороге домой, князя убили печенеги. После русской осады и византийского разграбления Преслав не оправился. Империя ромеев поделила отвоеванное на фемы, центр болгарского государства переместился на юго-запад — до нового, еще более страшного разгрома от армии императора Василия II.
Престол Второго Болгарского царства Иван и Петр Асени утвердили в Тырнове. Столицей третьего болгарского государства, поначалу автономного княжества, стала София. В античную эпоху этот город был известен как Сердика, в Средние века как Средец, оттуда бейлербей в белом тюрбане периодически повелевал европейскими владениями султана. Пловдив/Фелибе стал административным центром области Восточная Румелия, которую княжество Болгария в 1885 году, собравшись с силами, вобрало в себя, не спросив об этом попечителей из Вены, Берлина и Петербурга.
Византийцы штурмуют Преслав. Рисунок из хроники Иоанна Скилицы «Обозрение истории». Предположительно XII или XIII век
Примерно по этому «столичному» маршруту, к которому добавились еще и главные пункты черноморского побережья, проистекало мое новое болгарское странствие. Тремя годами ранее мне довелось путешествовать по северу страны, по долине Дуная: Силистра, Тутракан, Русе, Свищов. А впервые я побывал в Болгарии на излете прежней эпохи молодым советским туристом Международного дома журналистов под Варной. Доллары в СССР были в ту пору запретной к вывозу валютой, поэтому пару сотенных купюр — все, что смогли отложить, — мы везли запрятанными в самых секретных местах, о существовании пластиковых карт в ту пору еще не слыхали. Отпускной багаж чуть ли не наполовину состоял из кипятильников, будильников, дверных звонков, пакетов с кофе и бутылок с водкой — все это, по совету знающих людей, предназначалось на продажу; рыночному обмену подлежали также советские червонцы. Наутро, вместо того чтобы идти на пляж, потащились на базар, поскольку веселого отпуска без денег не бывает. Мне удалось на удивление быстро, хотя и задешево, толкнуть весь доставленный из Москвы товар. Рубли я попытался перековать в левы, но едва не попал под «разводку» цыганского парня в телесного цвета — и теперь не могу их забыть! — тренировочных штанах, норовившего всучить мне «куклу» из нарезанных цветных бумажек. Я заметил подмену в последний момент, выхватил у «менялы» свои рубли и бросился наутек, как будто сам кого-то обманул и должен был скрыться с места преступления.
Варну четырежды в пору войн с Османской империей штурмовали русские армии (дважды взяли, дважды нет), после Второй мировой завладели городом без боя и на пять лет даже назвали его Сталин. Здесь — что принципиально важно для любого человека русской души и о чем вам не забудет сказать ни один экскурсовод — в семье армянского шансонье в 1967 году родился соловей российской эстрады Филипп Киркоров. Воспоминания о Сталине и Киркорове Варна оставила в прошлом, желтый памятник Димитрову давно отправили на свалку истории, город определил себе новые рубежи передового развития. Это главный морской порт Болгарии и опорный пункт болгарского пляжного туризма, немного Одесса, слегка Сочи. Денег на все, конечно, не хватает, но и в центре, и по окраинам много строят и много ремонтируют. Вот пример: главная в городе художественная галерея Борис Георгиев, разместившаяся в неоготическом здании бывшей мужской гимназии, на первом и втором этажах устроена все еще традиционно, по-старому, а на третьем она уже модный аттик с концептуальной выставкой абстрактной живописи. Придет время, и очередь дойдет даже до подвала.
Краса и гордость Варны — просторный Морской парк с океанариумом, дельфинарием, планетарием и военно-морским музеем, протянувшийся вдоль городского пляжа от водного стадиона Приморский до правительственной (бывшей царской и бывшей коммунистической) резиденции Евксиноград. Главная аллея парка, аллея Возрождения, украшена дюжиной бюстов героев борьбы за новую болгарскую государственность и выводит к Пантеону, памятнику антифашистского Сопротивления. Партизанские отряды, управлявшиеся Коминтерном, были в Болгарии немногочисленными, всего несколько тысяч бойцов, в основном это были сельские мальчишки, увлеченные идеалами борьбы за светлое будущее. Мемориал в Морском парке напоминает о некоторых из них, во главе с расстрелянным фашистами в 1942 году моряком и поэтом Николаем Вацпаровым. Лучшее свое стихотворение, «Прощальное», он, как гласит коммунистический канон, написал в ночь перед казнью.
Грузчики в Садовой гавани Варны. Рисунок. 1887 год. Немецкая публикация
Рядом с медленно ветшающим Пантеоном приткнулась аллея Космонавтов: приезжавшим в Варну советским покорителям космоса положено было высаживать в парке ели. Елок разной пушистости образовалось с десяток. Имена космонавтов (в основном романтическая классика 1960-х годов типа Валентины Терешковой и Георгия Берегового) обозначены на табличках, неотличимых от надгробных. Юрий Гагарин, не успевший до своей безвременной гибели высадить в Варне почетное дерево, представлен скульптурой с удивленно наклоненной головой, есть здесь и уже разросшаяся елка первого и пока последнего болгарского космонавта Георгия Иванова (Кака́лова), на нем славный ряд имен обрывается. Советско-болгарский орбитальный полет 1979 года вышел незадачливым: космический корабль «Союз‐33» не смог состыковаться со станцией «Салют‐6», пришлось с опасными приключениями возвращаться обратно. Освоение околоземного пространства продолжается, но время теперь не то, чтобы космонавты приезжали в Варну поливать елки.
Черноморское побережье Болгарии было прекрасно обжито античными людьми еще 2500 лет назад. Первой колонией милетских греков, основанной здесь 27 веков назад, считается Аполлония, на каменных костях которой построен курортный городок Созопол, километрах в сорока к югу от Бургаса. Еще век назад Созопол был греческим рыбацким местечком, но теперь греков тут не осталось, все волей или неволей репатриировались. В Созополе я остановился у родственников своего пражского друга. Гостеприимный хозяин Коста 40 лет проработал механиком на судах торгового флота. Новые болгарские времена ему не слишком-то нравятся: пенсия невысока, проку от Европейского союза и НАТО немного, социалистическую индустрию развалили, капиталистическую не построили. Четверть века демократии серьезно переделали Созопол и его жителей: рыбзавод остановился, военно-морскую базу перевели, медный рудник закрыли, все перекренилось к туризму. Теперь, как смешно пошутил еще один мой новый друг, Христо, главными полезными ископаемыми Болгарии стали огурцы и помидоры. Знавшие толк в ремеслах и морском промысле старики поумирали, их наследники продали дома и земельные участки, на которых ударными темпами строят жилые комплексы для состоятельных иностранцев. Греческий и русский языки позабыты, молодые выучили английскую компьютерную грамоту и уехали работать в Сингапур и медитировать в Гоа.
В. Сайже, А. Десмон. «Развалины храма Святой Софии в Несебыре». Рисунок. 1829 год. «Альбом путешествий по Турции, предпринятых по приказу Его Императорского Величества Николая I в 1829–1830 годах»
Александр Лессер. «Владислав III Варненчик». Рисунок. Конец 1850-х годов
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК СУЛТАН РАЗРУШИЛ БОЕВОЕ БРАТСТВО
В 1440 году венгерские аристократы в разгар междоусобного конфликта в своей стране пригласили на престол правившего в Кракове уже шесть лет молодого короля Польши Владислава III Ягеллона, ожидая от него помощи в возвращении завоеванных султаном Мурадом II земель. Владислав дал обет спасти Европу от исламской угрозы. В 1443-м начался очередной этап крестового похода, вошедшего в историю как Варненский; решение о его проведении приняли четырьмя годами ранее во Флоренции, где была заключена уния между западной и восточной христианскими церквями. Поначалу крестоносцам сопутствовала удача, и после нескольких поражений султан даже попросил о десятилетнем перемирии. Папский легат в Венгрии кардинал Джулиано Чезарини уговорил Владислава III воспользоваться этим обстоятельством. Под началом трансильванского воеводы Яноша Хуньяди была снаряжена 20- или 30-тысячная армия. Под знаменами папского войска собрались польские, литовские, венгерские, хорватские вассалы короля, а также отряд чешских наемников-гуситов, в состав которого входили и русинские воины. У крепости Никопол к армии присоединилась валашская конница. В походе участвовали также рыцари Тевтонского ордена, венецианская пехота и дружина из Боснии. Южнее Дуная к предприятию примкнули ополченцы под командованием сына последнего царя независимой Болгарии Фружина. Местное население встречало освободителей настороженно, поскольку крестоносцы, по обыкновению, занимались поборами и грабежами. Мурад II сделал контрход: в подкрепление к размещенным в Европе силам перебросил из Малой Азии на генуэзских кораблях 50-тысячное войско. На рассвете 10 ноября 1444 года противники сошлись к западу от Варненского леса, неподалеку от морского побережья. Войска султана атаковали растянувшиеся на 3,5 километра боевые построения неприятеля, но крестоносцы смогли потеснить врага на флангах. Разгоряченный Владислав, а было ему всего 20 лет, во главе отряда польской тяжелой конницы попытался пленить Мурада II, но у шатра султана один из янычаров изловчился и отсек королю голову. Это решило исход сражения: победители потеряли почти вдвое больше солдат, чем побежденные, около 20 тысяч человек, но нанесли неприятелю жестокое поражение. Надежды на то, что Болгария вернет независимость, а османы будут изгнаны из Европы, не оправдались. Остатки армии крестоносцев бежали, доспехи и тело короля Владислава, посмертно прозванного Варненским (польск. Władysław Warneńczyk), так и не отыскали, его голову залили медом и отправили ко двору султана. Поле Варненской битвы теперь застроено многоэтажками микрорайона Младост. О проигранном христолюбивым воинством сражении напоминает Парк-музей боевого братства, в котором в 1930-е годы поверх обнаруженной археологами фракийской гробницы построили символический мавзолей Владислава III. «Боевое братство» рассматривается создателями экспозиции как «совместная борьба сыновей европейских народов против османской экспансии». В мавзолее установлены девять современных государственных флагов, включая украинский, болгарский, словацкий, хорватский и румынский. О псах-рыцарях, венецианцах, литовцах, боснийцах, итало-французской гвардии из Папской области, которой командовал павший в бою кардинал Чезарини, ничего не сказано. О доблести врага, Мурада II, напоминает султанский командный пункт на невысоком холме (еще один фракийский курган), с которого открывается вид на сосновый бор вокруг и жилую застройку вдалеке. Камень с резной надписью на турецком все равно ниже поднятого над мавзолеем животворящего креста. Через десятилетие после Варненской битвы османы покорили Константинополь.
Болгария — небогатая страна, но всем своим гражданам без исключения она дает возможность вытянуть счастливый билет. В разных болгарских городах я видел залоговые кассы, это подобие ломбарда, где взамен золотого украшения или фамильного столового серебра можно получить краткосрочный заем, понятно, что под грабительские проценты. С этими легко доставшимися деньгами велик соблазн отправиться в один из многочисленных игорных залов, с вечера до утра зазывающих простаков яркими огнями и пышными названиями вроде Империя и Монте-Карло. Расчет сделан на то, что за зеленым сукном или за рукоятью «однорукого бандита» каждый быстро станет богатеем. К тем, кто ищет другой перспективы, обращены призывы агентств по трудоустройству: Work and Travel in U.S.! Государство старается, как может, обеспечить своих граждан работой: почти все пункты пропуска куда бы то ни было, все кассы, парковки, общественные туалеты управляются не автоматами, а живыми людьми, и даже если у входа в WC установлен турникет, то к нему для верности приставлен военный пенсионер.
Симпатичный Созопол сопротивляется натиску глобальной цивилизации, в отличие, например, от самого пафосного болгарского морского курорта, Несебыра, который уже сдался на милость всемирной туристической орды и отполировал свои византийские храмы до глянцевого состояния. А в Созополе по-прежнему топят деревом, и этот смешанный с солью морского ветра терпкий запах ничем не перебить, не перепутать ни с чем. Когда оказываешься в таких элегических местах, да еще в пересменку времен года, да еще после дождя и под крики чаек, думаешь: эх, бросить бы все и обосноваться вот в этом доме, на перекрестке улицы Морские Скалы и улицы Буревестник! Но это пустые мечты — выпади такой шанс, наверное, только отпускную неделю здесь и выдержишь.
Русская жена Косты-моряка Ирина содержит свой дом в хирургической чистоте и в свободное от хлопот время собирает фигурки, статуэтки и портреты осликов. В этой коллекции тысяча животных экспонатов из разных стран, на полках в гостиной расставлена половина, остальные в коробках дожидаются окончания ремонта на кухне. Фарфоровые, металлические, керамические, тряпичные, деревянные и остальные ослики заняты кто чем: некоторые обнимаются, пьют пиво или вино, один танцует сиртаки, другой бренчит на пианино, третий понуро грустит. Видно, что болгарские ослики вовсе не самые упертые, но, может быть, самые непокорные.
Разглядывая выставку Ирины, я вспомнил о другом культурном проекте глобального охвата: российский режиссер Анатолий Васильев создает международную, преимущественно на библейском и итальянском материале, энциклопедию ослиной жизни, монументальное кино Asino из десятка поучительных философских эпизодов. Васильев утверждает: к ослу следует относиться как к персонажу ветхозаветному, и я уверен, что и в Созополе тоже так считают.
Ветряная мельница в Созополе. Фото. 1930-е годы. Государственное агентство «Архивы», София
Когда Ирина жалуется на засилье русских туристов, Коста добродушно ворчит: ну вот приедут американцы, будет все то же самое, только на английском ты ничего не поймешь! То же самое — это сплошной туристический переполох с мая по октябрь и сплошное тихое запустение с ноября по апрель. На первые дни этого апреля выпало Вербное воскресенье, и некоторые встреченные мною на городских улицах девушки держали в руках гибкие зеленые ростки. Туризм еще не расконсервировался, но уже наливался соком, как почки вербы.
Старый город Созопол и внешне устроен на старый лад: верхние этажи домов здесь, как и много где в Болгарии, обшивают деревом, эта техника называется «рыбья кость», темные дощечки из горного дуба скрепляют и сшивают так, чтобы они лучше удерживали тепло и меньше пропускали влагу. Первые этажи таких домов раньше были нежилыми, в приземье держали скот и хранили утварь, теперь и эти помещения тоже, как правило, к услугам иноземных гостей. Неопытному путешественнику, правда, вся болгарская деревянная архитектура кажется примерно одинаковой, но знатоки объяснят, что найти отличия нетрудно. Для Пловдива, скажем, характерен так называемый симметричный дом: второй этаж слегка нависает над первым, третий этаж, если он есть, слегка нависает над вторым, крылья широко распахнуты налево-направо. Часто фамилия владельца такого старого симметричного дома, продавца или купца, выдает его греческое, армянское либо турецкое происхождение.
Признаться, эта спецификация не очень убедительна: кажется, в Стамбуле мне попадались стамбульские симметричные дома, в Охриде — охридские симметричные дома, да и созополские в своей симметрии ничем не хуже. Главное гражданское строение исторических кварталов этого городка — добротный трехэтажный особняк XIX века на крутом берегу, бывшая школа без национальных архитектурных признаков, оконные ставни смело раскрыты в морскую даль. В старую школу когда-то давно ходили Коста и Христо, а теперь она превращена в художественную галерею, тоже, наверное, с аттиком над чердаком, но не проверишь: экспозиция в несезон закрыта. Объявление обещает выставку работ болгарских и иностранных маринистов, собранную профессором Александром Мусафевым. Уверен, что когда-нибудь витрины и запасники этого созополского музея пополнит тысяча осликов из коллекции Ирины.
Велико-Тырново как бы дважды главный град. После восстановления в 1878 году государственной самостоятельности именно здесь, в древней столице Второго Болгарского царства, торжественно оформляли вновь обретенную государственность. Подчеркивая это обстоятельство, коммунисты столетие спустя переименовали город из просто Тырново в Велико-Тырново, еще и для того, чтобы надежно не путать его с Малко-Тырновом, что у границы с Грецией. Отсюда, из крепости Царевец, правили страной монархи династии Асеней, причем наверняка полагали, что это владычество будет вечным, ведь именно они положили начало болгарскому морскому флоту и научились чеканить болгарскую золотую монету. В социалистических блокбастерах «Ивайло» и «Калоян», снятых примерно в год моего рождения, я видел, как высокие-толстые стены Царевца безуспешно осаждали плохие парни и успешно штурмовали парни хорошие. Вскоре после окончательного падения крепости в результате трехмесячной осады в 1393 году в Болгарии и началось серьезное «турецкое рабство». Глазея на остатки былого величия с террасы ресторана Цар Асен, я пытался представить себе, как вон к той твердыне византийцы приставляли лестницы, как османы лупили тараном в окованные железом ворота, а болгары сверху поливали врагов кипящей смолой.
Болгария времен правления царя Ивана II Асеня (1230 год). Карта из атласа Димитрия Ризоффа «Болгары в своих исторических, этнографических и политических границах» (1917 год, Германия)
Георгий Данчов-Зографина. «Портрет Васила Левского». 1860-е годы
ДЕТИ БАЛКАН
ВАСИЛ ЛЕВСКИЙ
болгарский Христос
Современная болгарская идентичность основана на традициях борьбы за освобождение, как принято здесь говорить, «от турецкого рабства». Вдохновителей этой борьбы в Болгарии называют апостолами. Главный апостол, чистоту помыслов и авторитет которого ни один местный историк, да и ни один болгарин вообще, не решится поставить под сомнение, — Васил Левский. «Деятельность Левского превратила его образ в сакральную ценность национально-освободительного движения, — читаю в одной из биографий. — Заложенные Левским принципы стали высочайшим достижением революционной мысли». Предпринятая в 1990-е годы группой церковных иерархов попытка объявить Левского православным мучеником окончилась неудачей, но культ этого борца за счастье народа близок в Болгарии к религиозному. Васил Левский (Кунчев) родился в 1837 году в городке Карлизаде (теперь Карлово в центральной Болгарии), известном производством розового масла. Получил религиозное образование, в 19-летнем возрасте постригся в монахи под именем Игнатий. Рукоположен в сан иеродьякона, стал певчим местного храма Святой Богородицы. В 1862-м под влиянием национально-освободительных идей примкнул к подполью, участвовал в деятельности формировавшихся в Сербии и Румынии болгарских вооруженных отрядов. С 1864 года сосредоточился на революционной борьбе, сложил с себя духовный сан (остриженные волосы Левского хранятся в музее в Карлове). Приобрел известность под псевдонимом Левский («львиный»), это одна из нескольких десятков вымышленных фамилий Кунчева. Назначен знаменосцем отряда Панайота Хитова, однако убедился в бесперспективности диверсий против османских властей из-за границы и вернулся на родину, чтобы работать над организацией сети конспиративных ячеек. Стал идеологом антиосманской борьбы, активно участвовал в создании повстанческих центров. Не считая болгарских крестьян готовыми к вооруженному восстанию, проводил планомерную воспитательную работу с населением. Апостол, «фанатик идеи», призывал товарищей по борьбе опираться на собственные силы, не полагаться на помощь России, рассматривал проблемы Болгарии в региональном контексте, мечтал об образовании демократической («святой и чистой») республики и объединении народов Балкан в Дунайской федерации. Допускал использование террористических методов для финансирования борьбы, в том числе против национал-предателей. Осенью 1872 года группа боевиков во главе с Димитаром Обштим (как подчеркивают болгарские историки, вопреки приказу Левского) совершила нападение на османский почтовый конвой, перевозивший крупные денежные средства. Обштий был задержан полицией и выдал сообщников, раскрыв структуру подпольной организации. Через несколько месяцев арестовали Левского, и в феврале 1873 года он был повешен в пригороде Софии. Казнь 35-летнего Апостола дезорганизовала подпольное движение и превратила Левского в икону сопротивления. В Болгарии ему поставили более 100 памятников, самый красивый в Карлове: к ноге статуи жмется могучий лев. В XX веке интимные подробности биографии Апостола не обсуждались; считалось, что, кроме борьбы, Левский ничем не интересовался; по воспоминаниям товарищей, он был аскетом и не имел вредных привычек. Этот мессианский образ во многом остается таковым до сих пор, что подтвердил и снятый в 2015 году байопик «Дьякон Левский», в котором скупо прорисован платонический роман Апостола со скромной болгарской красавицей Евгенией. В 2017 году в Болгарии отметили 180-летие со дня рождения Левского. В самом продвинутом софийском книжном магазине Гринуич сочинениям Апостола (он оставил дневниковые записи, под его именем изданы документы и методические разработки подпольного движения) и сочинениям о Левском отведен целый стеллаж, десятки названий: сборники стихов и романы, биографии и воспоминания. Особенно мне понравилась книга с заголовком «Первый после Бога».
Крепость Царевец — руины дворца, фундаменты 22 православных храмов и почти 500 иных строений — со знанием дела раскопаны и законсервированы. На Патриаршем холме, это самая шапка Царевца, три десятилетия назад на старом фундаменте построили храм Вознесения в византийском стиле, художник Теофан Сокеров расписал стены и купола современными фресками со скорбными и суровыми ликами Асеней; сидишь снаружи на лавочке под крестом, наслаждаешься солнышком, любуешься тырновской панорамой. Еще лучше поможет понять, как Болгария цвела 800 и 700 лет назад, мультимедийный центр Царевград Търнов с парадом восковых фигур и иными причиндалами — неподалеку от лавки развлечений другого рода, секс-шопа Cupidon.
Из окрестностей Тырнова не менее трех раз поднимались крестьянские восстания, и против османов, и против собственных феодалов, но до поры до времени все они заканчивались неудачами. Именно в бывшем конаке (резиденция паши, вообще османский вельможный дом) собрались в 1879 году представители сословий во главе с временным управителем Болгарии русским князем Александром Дондуковым-Корсаковым, чтобы принять написанную по бельгийскому образцу конституцию, по сути, независимого княжества. Потом собрались там же еще раз, чтобы избрать первым князем новой Болгарии немецкого аристократа Александра Баттенберга. Сама-то императорская Россия в ту пору никаких конституции и парламента не имела, но Александр II Романов не возражал против того, чтобы его племянник по жене управлял новорожденным балканским княжеством по либеральным законам. Баттенберг, судя по историческим свидетельствам, старался честно служить Болгарии, но «между русскими и прусскими» долго лавировать не смог и вынужден был отречься от престола.
Жан де Борегар. «Стефан Стамболов». Рисунок. 1896 год
Зал в тырновском конаке, где, восседая на лавках с мягкими бордовыми сиденьями, голосовали основной закон, отлично реконструирован, кресло князя Дондукова с двуглавым орлом на спинке в сохранности, депутаты конституционной ассамблеи перечислены поименно. В подвале первоклассную выставку икон охраняет свирепый солдат терракотовой армии, подаренный Велико-Тырнову китайскими товарищами в рамках программы развития побратимских связей. Конак в середине XIX века построил болгарский архитектор Колю Фичето (Фичев), как и многие южные славяне, поставивший свой талант на службу чужой восточной империи. Фичето был фактически народным умельцем, он говорил на пяти языках, но не умел читать и писать. Зато отлично умел проектировать и строить.
Велико-Тырново и река Янтра. Фото. 1944 год. Государственное агентство «Архивы», София
На видном месте в этом важном для балканской истории тырновском доме красуется портрет одного из главных местных политических пророков, идеолога радикального национализма Стефана Стамболова, а под его портретом — цитата из горячей речи, ставшая в свое время знаменитой: «Хорошо все то, что хорошо для Болгарии!» Подобные фразы в разных обстоятельствах произносились и с воодушевлением воспринимались во всех балканских столицах, отчасти и поэтому страны полуострова до сих пор не могут разрешить многочисленные противоречия.
Моя приятельница Марина когда-то приехала в Велико-Тырново из Стара-Загоры получать высшее образование, а получив, уезжать обратно уже не захотела. В 80-тысячном городе целых два университета, на всю Болгарию известны Тырновская книжная, Тырновская живописная и Тырновская архитектурная школы, зачем филологу от такого добра добра искать? Марина утверждает, что здесь, севернее Стара-Планины, особый менталитет, не совсем такой, как на болгарском юге, за балканским хребтом: тут люди потоньше, чувствуется народное благородство. Марина перечисляет основные черты болгарского характера, по методологии автора исследования «Наш народ» писателя Антона Страшимирова: трудолюбие, гордость, традиционализм. Но главное, подчеркивает моя собеседница, — индивидуализм, на этом строится местная психология. Мне нечего возразить, нет у меня для этого научного аппарата.
Мы с Мариной — а на улице жарко для апреля, даже для болгарского апреля — пьем главное местное пиво Болярка («Боярыня») в кафе, откуда открывается широкий вид на каньон Янтры с водой цвета бутылочного стекла. Есть на что посмотреть: дома карабкаются по высоким склонам, в три и пять ярусов, река выписывает прямо в центре города крутую петлю, точно в форме огромного игольного ушка, и прямо в этом ушке урбанисты прошлого поколения и разместили впечатляющий многоконный монумент царям Асеням. Наговорившись с Мариной, я спустился в этот парк Света Гора. С близкого расстояния памятник мечу и всадникам выглядит не столь эффектно: коммунистические бетон и мрамор порядком раскрошились, а царей на вздыбленных жеребцах словно бьет падучая.
Извилистая Янтра заставила городские улицы скрутиться в жгут и перепутаться, примерно так спутаны провода в трансатлантическом кабеле. Куда бы ты тут ни шел, вверх или вниз, все равно двигаешься вдоль реки — или по улице русского генерала-освободителя Иосифа Гурко, или по улице писателя Ивана Вазова, или по улице Библиотечной. У Велико-Тырнова имеются все предпосылки для того, чтобы со временем превратиться в крупнейший в Болгарии туристический центр. Для этого, правда, нужно залатать дороги, обновить фасады, взорвать чудовищный Интерхотел Велико Търново, от корпусов которого и шарахаются бронзовые кони Асеней. Ну и сделать кое-что по мелочи, по части инфраструктурных проектов и стандартов демократии. Главное все же у города есть: выдающийся каньон Янтры, живописное ожерелье улиц вдоль реки и впечатляющая крепость Царевец на открытом ветрам холме.
Исторический анекдот гласит, что без малого 150 лет назад Софию почти случайно выбрали столицей Болгарии, в основном из-за ее более выгодного, чем у Тырнова, географического расположения: на перекрестке торговых путей, на равнине у мягких склонов нагорья Витоша. Случилось как случилось, но, может, тырновцам и не стоит об этом жалеть, ведь бремя государственного центра не только украшает, но и уродует любой город, накладывает на него сложные обязанности, заставляет архитекторов выдумывать великое. Об этом я думал в Софии, прогуливаясь по торгово-развлекательному бульвару Витоша, от громадного Дворца национальной культуры до храма Святой Недели. Как раз за ДНК открывается панорама заснеженных вершин, как раз у храма бульвар перетекает в регулярный для всякой столицы квартал административных зданий.
Бульвар Царицы Иоанны (сейчас бульвар Витоша) в Софии. 1934 год. Фото из книги Светлина Кираджиева «София. 125 лет столице. 1879–2004 гг.»
Заметно, что новый центр Софии, в годы Второй мировой войны сильно пострадавшей от авиабомбежек союзников, в главном проектировала социалистическая рука. В процессе городского планирования сиюминутная целесообразность нет-нет да и брала верх над ценностью истории. С одним раннехристианским памятником, краснокирпичной ротондой Святого Георгия (IV век) — а это, между прочим, самая старая постройка в Софии, — народная власть поступила хитро: храм поместили в каре сталинских зданий, во двор президентской канцелярии, которую охраняют торжественные гвардейцы в касках с плюмажами, и одновременно на задворки самой пафосной в городе гостиницы Шератон София Балкан, то есть, честно говоря, к ее мусорным бакам.
Столица Болгарии как европейский город контрастов начинается прямо у аэропорта, потому что впритирку к летному полю расположен богато декорированный строительным и бытовым мусором цыганский бидонвиль. Жизнь в этом живописном чреве Софии протекает по написанным не матерью-Болгарией, а матерью-природой законам, за околицей чудовищных трущоб на грязных лужайках пасутся гнедые кони как символ ромской воли. Но только как символ, конечно. А вот и реверс столичной монеты: громадные каменные сундуки узнаваемых сталинских очертаний и пропорций — министерства и агентства, правительство и парламент, суд и банк, они символизируют стабильность государства, его преуспевание, любовь к прямым углам и строгим линиям. Ансамбль из трех комплексов внушительных зданий в районе площади Независимости (софийцы называют его Ларго), главное из которых строилось под ЦК компартии, организует пространство, как мне показалось, слишком широко, лишая его энергетики. Очарование Софии кроется, конечно, не на этих ее просторных проспектах и площадях. Оно в тиши по обе стороны бульвара Витоша, в тенистых улочках, по которым с трудом разъедутся два автомобиля. Тут плавно фланируют от столика к столику кафе сытые коты, букинисты задешево предлагают справочники по фотомастерству и автомеханике, тут бабушки в домашних тапочках выходят из подъездов поболтать с булочником и зеленщиком, тут воробьи задорно чирикают в первой весенней листве.
На шпиле главного штаба болгарских коммунистов, Партийного дома, долго красовалась рубиновая звезда, точная копия и младшая сестра кремлевской, но после смены общественного строя ее заменили национальным флагом, уволокли на вертолете в небеса, в конечном счете поместили в парк Музея социалистического искусства. Этот музей приткнулся в тени высоченного и широченного бизнес-комплекса Sofarma Business Towers, посередине спального района Изток, где чувствуешь себя точно как за московским Третьим транспортным кольцом. Есть внутри Софии несколько таких социалистических мини-городов с говорящими названиями вроде Надежда и Дружба; мы понимаем, что именно это за надежда и с кем именно эта дружба. Но теперь русская красная звезда установлена у самой земли и не способна освещать болгарскому народу путь в будущее.
Собор Александра Невского в Софии. Фото. 1944 год. Государственное агентство «Архивы», София
София смогла в 1990-е годы, уже после развенчания идеологии надежды и дружбы, с нуля выкопать метро, две удобные современные линии, хотя стройтрест Метропроект образовали еще в 1973-м. Прокладка метролиний сопровождается широкомасштабной программой археологических раскопок, эксгумирующих останки Сердики, которая якобы была так мила императору Константину Великому своими минеральными источниками, что он долго колебался, где именно ему устроить столицу Восточной Римской империи. Эти открытые исторические площадки, очевидно, помогут скрадывать пустоту площадей.
Рядом с центральной пересадочной станцией метро на пятачке радиусом в полкилометра — поучительный мир религиозной толерантности: мечеть Баня Баши (турецк. «много ванн»), кажется, единственная уцелевшая в городе после пяти веков исламского господства, большая сефардская синагога и православный храм Святой Недели. В этой церкви в 1925 году коммунисты организовали злодейский террористический акт: во время богослужения от взрыва мощной бомбы обвалились купол и перекрытия, убило не меньше 150 человек, в том числе целый класс гимназисток, но царь Борис III, главная цель покушения, по случайности не погиб. Преступников поймали, осудили и расстреляли, на стене храма траурная надпись оканчивается восклицанием «Прости их, Господи!». Правительство, однако, не простило: ответом на кампанию «красного террора» стала кампания контртеррора, жертвами которой пали несколько тысяч человек. Премьер-министра Болгарии экономиста Александра Цанкова, санкционировавшего репрессии, в левой прессе называли кровавым профессором. Для болгарской истории 1920–1930-х годов характерны невероятно жестокие политические убийства и теракты, здесь умели сводить счеты по-балкански.
Прогулка по центру Софии неминуемо выводит к собору Александра Невского работы русского архитектора Померанцева. Александр Никанорович Померанцев, автор китчевого проекта московских Верхних торговых рядов у Красной площади, они же ГУМ, строил по заказу болгарского правительства в память о новгородском князе. Примерно такой же храм, только в новорусском стиле, он запланировал и в своем родном городе, на Миусской площади, где стоит теперь памятник суперсоветскому писателю Александру Фадееву. Окончить работу до Октября Померанцев не успел, а потом его почти уже достроенный собор взорвали. Судьба софийского творения Померанцева (в храме как оберег хранится ребро пресвятого князя) сложилась удачнее: в годы Первой мировой собор переименовали в Троицкий, но потом память о Невском городу вернули. Никто не покушался и на памятник Царю-Освободителю, и на Русский памятник на бульваре Македонии, поскольку заслуги Романовых в обретении южнославянской независимости бесспорны: «Въ царствованiи Александра II-го, волею и любовью его, освобождена Болгария».
Главная (и единственная судоходная) болгарская река — Дунай, но она очерчивает северную государственную границу, так что многим городам центра и юга приличных набережных и берегов не досталось. София не исключение, столицу пересекает пара несерьезных ручьев с названиями, которые нет и смысла запоминать, но через них перекинуты сразу два красивых плоских моста: Львиный (с бронзовыми львами) и Орлиный (с бронзовыми орлами). Одна из этих речушек протекает мимо главного в стране стадиона имени Васила Левского и главного в стране Дворца культуры, прежде носившего имя дочери диктатора Людмилы Живковой. Она умерла молодой «от перенапряжения сил», а до того зарекомендовала себя прогрессивным реформатором на ниве народного просвещения. НДК открывали в 1981 году к 1300-летию прибытия на Балканы кочевников Аспаруха, но на самом-то деле строился этот комплекс для партийных съездов и других народно-хозяйственных развлечений, а также немного в пику СССР, поскольку Киевская Русь возникла только через 200 лет после Болгарского царства. В зале, который в свое время овациями встречал товарищей Брежнева и Горбачева, я с опозданием в 40 лет слушал Jesus Christ Superstar, и на сцене, представьте, ярко зажигал Тед Нили из самого первого киносостава. Великолепное во всех отношениях шоу — как верно было сказано в программке, рок-опера на всички времена, — но я, от души аплодируя, размышлял не о вечной музыке Эндрю Ллойда Уэббера, а о том, почему, интересно, болгары до сих пор не сочинили чего-либо подобного про Васила Левского.
Пейо Яворов (второй слева) в компании софийских интеллектуалов. Фото Георга Волца. 1905 год
Образу твердого как сталь революционера противостоит другой типический болгарский характер, тоже драматический и несчастливый. Именно этот характер, по-видимому, имела в виду моя тырновская подруга Марина, говоря о присущем ее соотечественникам индивидуализме. Поэта-символиста Пейо Яворова (Крачолова) можно сравнить с Александром Блоком. Впрочем, нет, вернее будет с Николаем Гумилевым, потому что Яворов, в молодости принимавший участие в партизанских диверсиях в османской Македонии, проходит теперь в учебниках не только как поэт, но и как политический гражданин. Это в высшей степени трагическая фигура: потеряв скончавшуюся в 19 лет от туберкулеза возлюбленную, Яворов вскоре женился, тоже по большому чувству, и вдруг его супруга покончила с собой из-за неимоверной ревности. Все это происходило в военное предвечерье, патриот Яворов как раз отправился на балканский фронт. Светская молва обвинила его в гибели супруги, поэт оказался в нравственном тупике и совершил попытку самоубийства, но роковой выстрел принес не смерть, а всего лишь слепоту. В октябре 1914-го он повторил попытку, получше подготовившись: принял яд, а потом для полной надежности снова застрелился. Яворов писал совсем не слащавые, декадентского толка стихи, ловко соединявшие гражданский пафос с интимной лирикой. Последние годы жизни он провел в центре Софии, в очень элегантном доме с милым палисадником, как раз в таком и должны жить Мальвина и Пьеро.
Свой любимый болгарский памятник я встретил не в Софии, а рядом с парком Царя Симеона и Клубом офицеров в Пловдиве. Это бронзовая скульптура пятерых болгарских военных, ощетинившихся против невидимого врага вокруг сундука с цепями. Главный боец сжимает винтовку с кривоватым штыком. Это рядовой третьей роты Первой пехотной Пловдивской дружины Гюро Михайлов из села Рахманлий (теперь Розовец), он оставался на посту до конца. Дело было в 1880-м: 18-летнему солдату Михайлову доверили охранять казну на третьем этаже деревянного штабного и банковского здания. Ночью вспыхнул пожар, и ковчег с финансовыми средствами оказался под угрозой, следствие потом предположило турецкую провокацию или попытку скрыть воровство. Несмотря на опасность, Гюро отказался отступить перед пламенем, поскольку, подобно герою рассказа Леонида Пантелеева «Честное слово», не получал приказа покинуть пост, а также в соответствии со статьей 115 Правил несения гарнизонной и караульной службы. В результате погиб не только бедолага Михайлов, но и еще четверо караульных, включая разводящего Николу Костадинова, который пытался снять часового с поста, да не успел. Имена всех пятерых высечены на пьедестале монумента.
Пловдив. Памятник Гюро Михайлову. Фото автора
Военный клуб в Пловдиве. Фото. 1912 год
Памятник часовым работы Ивана Топалова открыли к 50-летию их подвига, и с той поры вокруг этой скульптурной группы и Гюро Михайлова не прекращаются идеологические и философские споры. Не всем понятно, что именно так страстно охранял постовой, кроме своей чести. Иван Вазов посвятил стойкому болгарскому солдату стихотворение «У могилы», но в социалистическое время бойца Михайлова отказывались считать героем, поскольку он не проявил смекалки и, дескать, погиб ни за что. В пример болгарину поставили неизвестного мне парня, советского солдата Василия Лемешенко, который в схожей ситуации якобы не растерялся и не охранял пожар, а потушил пламя гимнастеркой. Как писала в 1953 году софийская армейская газета Народна армия, «поступок Лемешенко характерен для нового человека, советского бойца, воспитанного по уставам Красной армии». В 1960 году памятник в Пловдиве демонтировали, капсулу с останками погибших переместили на кладбище. Много позже все же возобладало мнение о том, что Гюро Михайлов достоин памяти народа. В 1994 году чудом избежавшую переплавки бронзовую композицию водворили на прежнее место. Время по-иному расставило акценты: при изучении темы в болгарской газете мне попалась статья под названием «Гюро Михайлов — символ храбрости, а не глупости».
Эта печальная история пробудила во мне личные воспоминания. В 1987 году в институтских военных лагерях мне тоже доводилось ходить в караул. Курсанту Шарому доверили охранять знамя части, и в час ночной я заступил на «тумбочку», вооруженный автоматом Калашникова и примкнутым к нему штык-ножом. «Тумбочка» была снабжена металлической пластиной, и, если я делал шаг в сторону или переносил центр тяжести, переминаясь с ноги на ногу, в караульном помещении загоралась лампочка. Тут же раздавался телефонный звонок, и командир отделения с помощью трехэтажного мата напоминал мне об обязанностях постового и сакральном значении поста номер один. Через полтора часа мучительных усилий мне удалось, чудом сохраняя равновесие, зацепить ремнем автомата стоявший в углу огнетушитель. До конца вахты огнетушитель заменял меня на боевом дежурстве, придавив своим весом металлическую пластину на «тумбочке».
Болгарские друзья рассказывают: когда кто-нибудь совершает рискованный, но мало чем мотивированный поступок, о таком человеке говорят — стоит на посту, как Гюро Михайлов.
3 Kosova — Косово Славянский мираж
В суровых добродетелях воспитан, Албанец твердо свой закон блюдет. Он горд и храбр, от пули не бежит он, Без жалоб трудный выдержит поход. Он как гранит его родных высот. Храня к отчизне преданность сыновью, Своих друзей в беде не предает И, движим честью, мщеньем иль любовью, Берется за кинжал, чтоб смыть обиду кровью[12]. Джордж Гордон Байрон, «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1809–1818)Четыре десятилетия назад молодой югославский литератор Юсуф Буджови по просьбе композитора Рауфа Доми написал либретто первой в истории косовской оперы на албанском языке. В качестве литературной первоосновы соавторы выбрали роман Милтона Гурры «Девушка из Качаника» на темы антиосманской борьбы. Премьера состоялась в 1979 году в Призрене в рамках программы югославско-албанского культурного сотрудничества: шесть главных вокальных партий исполнили солисты из Тираны, подпевали местные хористы в сопровождении оркестра радио и телевидения Приштины. Премьера оказалась неполноформатной и выглядела как концерт классической музыки, поскольку оперные спектакли тогда и в Албании, и в югославском Косове не ставили. В Косове, кажется, не ставят и теперь.
Об этом проекте Буджови, известный на Балканах историк и самый популярный в Косове писатель-постмодернист, вспоминает сейчас с легкой улыбкой, как вспоминают о своей молодости люди, умудренные опытом и многого в жизни достигшие. Мы сидим в модном кафе-пекарне Bukatore в спальном районе Приштины и беседуем по широкому кругу вопросов: обсуждаем различия диалектов албанского языка, влияние Маркеса и Бабеля на современную косовскую прозу, оцениваем политическое наследие Иосипа Броза Тито и последствия провозглашения мятежной автономией независимости от Сербии. Символы и приметы этой независимости в Косове заметны на каждом шагу, прежде всего в обилии флагов и тематических памятников. Bukatore, например, расположено напротив средней школы имени первого президента Албании Исмаила Кемали. Раньше эта школа носила имя старосербского поэта Йована Йовановича-Змая, а улица (теперь — Энвера Малоку, журналиста, застреленного в конце 1990-х годов то ли агентами Белграда, то ли албанскими экстремистами) называлась Воеводы Чолака, важного полевого командира времен Первого сербского восстания[13].
Топонимические изменения ясно показывают, чем обернулась борьба за государственную самостоятельность: практически все, что прежде было сербским, стало здесь албанским. Но у этого есть предыстория. Война 1998–1999 годов сопровождалась изгнанием из области югославской армией и сербской полицией 700 или 800 тысяч албанцев; поражение режима Слободана Милошевича после вмешательства в вооруженный конфликт стран НАТО обернулось выселением 100 или 130 тысяч сербов. Почти все албанцы вернулись в свои дома. Почти никто из сербов не вернулся; теперь их в двухмиллионном Косове, по разным данным, от 75 до 100 тысяч (до войны, как считается, было около 200 тысяч). Сербское население сконцентрировано в основном на севере области, прилегающем к территории, которую контролирует Белград. Город Косовска-Митровица на реке Ибар стал фактической границей между малым сербским и большим албанским Косовом. Но и у этой драматической ситуации тоже есть вековая предыстория, которую не опишешь в одном абзаце.
Юсуфа Буджови я спросил о том, найдется ли среди его знакомых хотя бы один серб, ощущающий новое государство как свое собственное. Тот же вопрос я задавал в Косове всем подряд, и самый оптимистический ответ получил от своей новой подруги — журналистки Амры: «Вряд ли, но есть такие, кто принял новую реальность». Буджови сказал по-другому: «Не знаю, зато мне известно множество албанцев, которые от нынешней власти не в восторге». А до войны, пока Косово еще оставалось автономной областью в составе Сербии, ситуация в Приштине была зеркальной, поэтому тогда я спрашивал своих знакомых ровно о противоположном. Кинорежиссер Экрем Крюизиу в ответ пожимал плечами: «Знаете, как начинается гимн Югославии? „Эй, славяне, еще жив дух наших предков…“ Ну какое отношение эти слова вообще имеют ко мне, албанцу?» В православном монастыре Грачаница, отстояв заутреню, я беседовал с игуменьей Теодорой: отчего, матушка, сербско-албанская вражда продолжается не одно десятилетие? Монахиня вздохнула тяжело и ответила философски: «Виновата злая кровь». Такое объяснение с политической точки зрения открывает немногое, но сомневаюсь, что кто-то из сотен экспертов, глубоко изучающих эту проблему, сможет подобрать более точные слова.
Юсуф Буджови — автор албаноязычного пятитомника по истории Косова с доантичных времен до наших дней. Его монументальный труд я изучал по англоязычной выжимке, которую тоже за одну ночь не освоишь: три увесистые книги, две с лишним тысячи страниц. В общем и целом никто в мире прежде не писал о давнем и недавнем косовском прошлом в таких деталях. Буджови, например, выдвигает смелую гипотезу о происхождении своего народа от доантичных племен пеласгов, что означает: нет в Европе нации древнее албанской, и лишь немногие государства древнее протоалбанского царства, Дардании. Сочинение Буджови в научных кругах и у широкой читательской аудитории вызвало не восторги, а хулу и нервный обмен мнениями. В Белграде его раскритиковали, в частности, за то, что пребывание Косова в составе Сербии Буджови считает оккупацией. Историкам из Тираны пришлось не по нраву утверждение, что именно Косово, а не другие области следует считать ядром формирования албанской нации. Патриотически настроенные приштинские историки уверены, что Буджови дал неверную характеристику титовскому периоду, оценив его не только как сербское коммунистическое ярмо, но и как полезный (и во многом использованный) шанс для косовско-албанской культурной, научной, общественной эмансипации.
Томас Смарт Хьюз. «Албанцы преследуют неприятеля». 1820 год
Столь резкой критики труда Буджови следовало ожидать, что бы он в своих книгах ни написал: всегда найдутся люди, для которых черное недостаточно черно, а белое недостаточно бело. Два народа разделяют давно и недавно пролитая кровь, многочисленные взаимные претензии и национальные мифологии, во многом основанные на негативном восприятии соседей. Сербия в обозримой перспективе не смирится с потерей Косова, опираясь в этой своей политике на солидарность России и Китая. Очевидно и другое: успешное развитие частично признанного балканского государства возможно не то что при поддержке, но только под строгим контролем международного сообщества. Не будь в области расквартированные международной миротворческой операции, не будь здесь размещены гражданские наблюдатели и специалисты из стран Европейского союза, судьба остающихся в Косове славян оказалась бы еще печальнее. Сербские исторические и религиозные объекты на территории области — те, которые албанским экстремистам не удалось сжечь, — до сих пор находятся под иностранной военной или местной полицейской защитой.
Амедео Прециози. «Танцующие дервиши в Галате». Акварель. 1857 год. Обряд тариката мевлеви в молитвенном доме в константинопольском районе Галата
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК ДЕРВИШИ ВСТРЕЧАЮТ СМЕРТЬ
На северо-западном пограничье Османской империи ислам часто представал не как жесткая религиозная догма, а как устная традиция и эзотерическое учение, проповедующее аскетизм и повышенную духовность. Османы редко практиковали насильственное обращение в «истинную веру», и по факту получалось так, что местное фольклорное христианство постепенно заменялось фольклорным исламом, питавшимся идеями суфизма. Проповедниками выступали объединенные в многочисленные братства (самые известные из них мевлеви, бекташи, байрами) дервиши (турецк. «бедняки») — исламские аскеты вроде монахов в христианстве и буддизме, хотя сходство это скорее внешнее. Популярность дервишей была объяснима, ведь мудрому нищему страннику легко понять нищего крестьянина. Склонность к мистике вырабатывала у многих дервишей синкретическое отношение к вере, в котором находилось место и неисламским ритуалам. Некоторые суфийские братства практиковали чуждые исламскому канону таинства причастия и исповеди, даже использовали крест в качестве символа. Утверждалось, что дервиши, часто сопровождавшие армию в походах, порой исповедовали нечто вроде криптохристианства, скрывая свою истинную веру за исламским фасадом. Эта расширенная духовная платформа привлекала многих, особенно в тех районах Балкан, где влияние христианства по каким-то причинам оказалось ослаблено. Учение мевлеви пустило корни в Боснии, а орден бекташи (турецк. «твердый камень») после запрета властями в 1836 году перенес центр деятельности на территории современных Албании и Косова. На основе учения этого братства Наим Фрашери (1846–1900) разработал первую албанскую национальную программу — в традиционной балканской парадигме, отождествляя национальность и религию. В XXI веке бродячих дервишей с посохами уже не встретишь на балканских дорогах, но память об их спиритуальных практиках живет. «Дервиш и смерть» — так называется одно из самых глубоких произведений югославской литературы. Этот написанный в 1960-е годы роман Меши Селимовича отправляет читателя в османскую Боснию начала XIX столетия изучать внутренний мир мевлеви Ахмеда Нуруддина, проходящего искушения любовью, ненавистью, властью. Считается, что книга коммуниста Селимовича — выходца из мусульманской семьи, провозгласившего себя сербским писателем, содержит аллюзии на репрессивное титовское государство и судьбу брата, партизана-антифашиста, расстрелянного в 1944 году собственными товарищами. Но в первую очередь этот прекрасный роман — философская притча. «Живые ничего не знают. Научите меня, мертвые, как умереть бесстрашно, без ужаса, — взывает к небу Нуруддин, — ведь смерть так же полна абсурда, как и жизнь». Древний мевлевийский ритуал сама («слышание») в туристическом мире получил известность как «танец крутящихся дервишей»; он внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Сама олицетворяет мистическое странствие на пути духовного восхождения к совершенству, вершина которого — экстатический транс, освобождающий дух от тяжести плоти. Мне доводилось видеть этот ритуал дервишей в Стамбуле (конечно, коммерческую версию), и, скажу я вам, невероятно быстрое, веретеном, асинхронное кружение наряженных в широкие юбки колоколом и высокие колпаки исламских танцоров производит сильное впечатление. Последователи учения бекташи высмеивают танццеремонию мевлеви как излишество в деле поклонения Аллаху. Административный центр братства бекташи располагается в Тиране, несмотря на то что коммунисты в 1967 году запретили религию, провозгласив Албанию первым в мире атеистическим государством. Запрет держался ровно столько, сколько существовал албанский коммунизм. Всемирный центр бекташи — обширный комплекс с новой мечетью, памятником основателю ордена мистику Хаджи Бекташ-и-Вели и множеством тенистых закоулков, в каждом из которых любой желающий может заняться духовным самосовершенствованием.
И сербы, и албанцы продолжают повторять все те же свои аргументы в дискуссии о правах на Косово: кто первым сюда пришел, кто здесь первым поселился, кто внес больший вклад и, главное, кто здесь агрессор, а кто жертва. Эпопея Буджови в этом отношении всего лишь продолжает диалог глухих. Интересно вот что: Сербия владела Косовом примерно 320 лет — около двух с половиной столетий в позднем Средневековье плюс восемь десятилетий прошлого века. Однако знатоки вопроса сходятся на том, что принципиально важным для формирования коллективного сознания жителей области оказался другой, османский период в 458 непрерывных лет, с 1455-го (тогда войску султана Мехмеда II покорился Призрен) по 1912 год (когда Косово досталось наконец Белграду).
В горах и ущельях Динарского хребта в середине XV века османские завоеватели встретили стойкое сопротивление союза местных князей под руководством Георгия Кастриоти Скандербега, родовое знамя которого, черный двуглавый орел на кровавом полотнище, столетия спустя стало и государственным флагом Албании, и «этническим флагом всех албанцев». Скандербег, один из учредителей Лежской лиги[14], то принимал ислам, то возвращался в лоно Римско-католической церкви, то враждовал с султаном, то получал от него фирман на правление — в общем, проводил свободолюбивую силовую политику, о которой не стыдно через 500 лет рассказывать в школьных учебниках. Этот властный феодал стал гордостью нации: он воспет в народных балладах, ему ставят памятники, его имя носят горный хребет, армейская дивизия, футбольный клуб и лучшая марка местного бренди. Первый албанский художественный фильм, копродукция с «Мосфильмом», называется «Великий воин Албании Скандербег». Заглавную роль в исторической саге режиссера Сергея Юткевича сыграл грузинский актер Акакий Хорава, пятикратный лауреат Сталинской премии, а роль султана Мурада II исполнил уроженец Константинополя армянин Ваграм Папазян, кавалер ордена Ленина. Сербы в этом фильме, снятом в 1953 году, в пору резких советско- и албано-югославских противоречий, показаны сущими подлецами. Два часа экранного времени албанцы храбро сражаются, а завершается киноповесть предсмертным моральным триумфом князя Кастриоти. Но жизнь завершилась драмой: Скандербег скончался от малярии, его родина сдалась оккупантам.
Однако мало-помалу под султанским правлением все как-то наладилось. Албанские фисы (кланы) сохранили свой жизненный уклад, при этом примерно треть населения даже через века, к концу османского периода, оставалась христианской. Местные подростки и юноши охотно шли в янычары, поддерживая репутацию храбрых воинов, на что обратил поэтическое внимание английский романтик лорд Байрон. Выходцы из знатных «арнаутских» семей становились видными военачальниками, придворными, государственными деятелями, учеными, исламскими мудрецами. 42 албанца, не больше и не меньше, занимали посты великих визирей — главных министров и хранителей султанской печати. Один только почтенный род Кёпрюлю из одноименного города (теперь — Велес в Македонии) последовательно дал империи семь премьер-министров; вторая половина XVII века вошла в историю османского государственного строительства и управления как «эпоха Кёпрюлю». Временами визири приобретали столь сильное влияние, что угрожали власти султана. Эта угроза, по мнению некоторых историков, стала причиной жестокой казни одного из представителей рода Кёпрюлю, Кары-Мустафы: после неудачной для османов битвы под Веной в 1683 году по приказу султана он был задушен шелковым шнурком: не столько потому, что не смог взять город, скольку потому, что казался опасным во внутренней политике. Один ученый Кёпрюлю, Мехмет Фуад, даже способствовал написанию этой книги — я изучал его классическую работу «Происхождение Османской империи». Этот Кёпрюлю, основоположник турецких исторической и литературоведческой школ, в 1925 году стал членкором Академии наук СССР, а после Второй мировой войны, как и его знаменитые предки, — визирем, получив портфель министра иностранных дел Турецкой Республики. В этой должности он способствовал вступлению своей родины в НАТО, чем, очевидно, разочаровал советских коллег-академиков.
Доминик Кустос. «Скандербег». Гравюра из изданного в начале XVII века в Аугсбурге собрания портретов выдающихся политических деятелей и военачальников «Галерея героев» (Atrium heroicum)
Знатные албанские династии — Махметбеголлу в Печи, Ротулла в Призрене, Джинноли в Приштине, Бушатли в Шкодере — часто располагали на местах бо2льшим влиянием, чем наместники султана, поскольку власть империи на ее окраинах периодически ослабевала. Случавшиеся в албанских краях восстания были вызваны произволом местных чиновников, недовольством крестьян тяжелыми условиями жизни, высокими налогами или неуклюжими попытками колониальных администраторов разрушить старые традиции, но не всенародным порывом сбросить узы тирании — наследника пророка Владыки вселенной здесь считали не тираном, но милосердным и щедрым правителем.
Это не означает, однако, что в Дукаджинском, Призренском или Элбасанском эялетах когда-либо царило всеобщее благоденствие; Албанию и Косово, впрочем, и теперь не назовешь процветающими краями. Показатели экономического развития здесь до сих пор скромны, хотя рыночного типа торговля и причудливое новое строительство кипят повсюду. В Албании и Косове ощущается молодая, напористая энергия, и устремлена она в буквальном смысле слова на Запад. Албанцы — самая юная в Европе нация, со средним возрастом гражданина 25 лет, поскольку их семьи не потеряли традиций быстрой многодетности. Непритязательная система образования ежегодно выписывает путевки в жизнь десяткам тысяч молодых специалистов, численность которых многократно превышает возможности устройства на местном рынке труда, так что ожидать сокращения показателей безработицы не приходится.
Это одна из причин, по которым едва ли не каждая албанская семья имеет своих рабочих представителей за рубежом, где-нибудь в Италии, Германии или Швейцарии, и денежные переводы от эмигрантов позволяют существовать (довольно часто в праздности) сотням тысяч их пока остающихся на родине родственников. В Югославии албанцы-мусульмане по всей стране традиционно держали кондитерские, албанцы-христиане — ювелирные мастерские, и в разных уголках бывшей федерации до сих пор всем известно, где выпекают самые сладкие пирожные и у кого можно недорого купить кустарное, но симпатичное золотое колечко. Пары сказанных на албанском языке простых фраз достаточно для того, чтобы расположить к себе хозяев таких лавок: вам обеспечена лишняя чашка кофе, ребенку — дармовая конфета, а вашей очаровательной спутнице — скидка на украшения. Миллионная албанская диаспора[15] в Западной Европе заметна в строительном и спортивном бизнесе, активна все в тех же народных ремеслах (в Праге, например, перстни и серьги из чешского граната продаются, как правило, в магазинах, которыми владеют албанцы), а также, увы, в некоторых других промыслах, на которые обращает внимание полиция.
Ричард Кэтон Вудвилл. «Албанец исполняет военный танец в лагере у Улциня». Рисунок из еженедельника The Illustrated London News, 1880 год
Сведения о том, что именно через албанские территории пролегает главный европейский маршрут наркоторговли, из Афганистана через Балканы на запад, только отчасти являются выдумками журналистов. Полагаю, что должность университетского преподавателя или клерка в какой-нибудь конторе на скромной зарплате — мечта далеко не каждого молодого жителя Гирокастры или Эльбасана; многие предпочитают выстраивать свою карьеру по-другому, и совсем не обязательно на поприще разнорабочих на промышленном объекте в Базеле. Об этом, кстати, с болью рассуждал Юсуф Буджови: «Образование у нас не имеет престижа, потому что университетский диплом легко можно купить, а главным критерием успешности является марка джипа».
Как в любых других странах, языка которых не знаешь, в Албании и Косове я поначалу чувствовал себя не слишком уверенно. Здешняя молодежь охотно, пусть и несовершенно, объясняется на английском; знания эти, очевидно, почерпнуты методом блужданий по закоулкам всемирой виртуальной паутины. Российским паспортом я не козырял, и на то были свои причины. В центре Тираны первый же случайный знакомый, узнав, что я русский, бросился демонстрировать на своем мобильным телефоне запись Парада Победы на Красной площади, и это удвоило мое старание говорить по-английски без московского акцента. Косовский пограничник, полистав на границе с Албанией документ гражданина государства, у которого с его родиной нет дипломатических отношений, вернул паспорт с подчеркнуто серьезной вежливостью — на не признанную Россией территорию я въехал на основании разрешения на жительство в стране Европейского союза. В Косове без нужды знания сербского/хорватского я не использовал, но всюду, где использовал, люди постарше охотно откликались, и ни разу не послышалось предубеждения. От приштинского таксиста я, как и следовало ожидать, выслушал подробную лекцию о международном положении, портье в отеле выразил надежду на то, что, увидев Косово, я расскажу русским или сербам «всю правду». Вот и рассказываю по мере сил, хотя правда эта — такая, какой я ее увидел, — совсем не для всех утешительна.
Албанский язык, родной для 7 или 10 миллионов человек (данные разнятся), музыкален на слух, но прорваться сквозь его диковинный лексический строй без специальной подготовки нереально. Этот язык единолично составляет отдельную группу индоевропейской семьи, то есть имеет только дальних лингвистических родственников. В Косове и на севере Албании говорят на гегских диалектах, которые считаются более архаичными и гибкими с точки зрения словарных возможностей. За рекой Шкумбини распространены тоскские говоры, взятые при последней (1972 года) всеалбанской лингвистической унификации за стандарт литературного языка. Как уверяют северяне, такой выбор сделан потому, что коммунистические руководители Албании были сплошь выходцами из южных кланов. Поскольку на Балканах все перемешано, в албанском языке чувствуется влияние латинской, греческой, турецкой, славянской лексических традиций. Так часто случается: если ты ничего не разбираешь в общем речевом потоке, то слух выхватывает из него отдельные слова или частицы слов, которые кажутся знакомыми по корневой основе или в силу случайного фонетического сходства. Поэтому я не сразу запомнил, как в Тиране и Приштине принято обращаться с просьбой или благодарить за услугу, зато моментально научился правильно прощаться. «До свидания!» по-албански звучит так: Mirupafshim!
Начало процесса албанского национального возрождения принято отсчитывать от 1878 года. Тогда, после окончания проигранной Османской империей войны, в городе Призрен собрались представители в основном северных албанских кланов — три сотни беев, получивших европейское или исламское образование интеллектуалов и других авторитетных людей. Призренская лига, учредителей которой тревожили территориальные притязания соседних государств, просила султана объединить все населенные албанцами земли в один вилайет и не сдавать его земли чужеземцам. Участники лиги отличались консервативными взглядами: выступали за сохранение османских порядков и своих древних вольностей, подозрительно относились к любым реформам, если они угрожали интересам крупных землевладельцев. Направленный султану меморандум не был даже требованием об автономии, но Абдул-Хамид II все равно ответил отказом, поскольку опасался роста индепендистских настроений и не мог пересмотреть данные Европе обязательства[16]. Чтобы усмирить недовольных подданных, султан направил на северо-запад своей страны сначала переговорщиков, а потом армейские соединения, однако в исторической перспективе его одряхлевшая деспотия все равно потерпела поражение.
Призренскую лигу поставили вне закона, и албанское дело еще 34 года казалось вполне безнадежным. Потом Балканы взорвала очередная война, и осенью 1912 года сербская армия проникла далеко на османский юг, взяв под контроль кусок албанского побережья с крупным портом Дуррес. Домой в Ниш и Крагуевац солдаты посылали открытки с кокетливой двуязычной надписью Поздрав са српског приморjа. Souvenir du premier port serbe, я видел такие в историческом музее. Но тогда белградской мечте о выходе к Адриатике еще не суждено было сбыться: кордоном стала образованная решением великих держав Албания. За границами нового государства осталась примерно половина албанцев, что в специфических балканских условиях создавало потенциальный очаг напряженности. Разочарованный сербский престолонаследник Александр стянул свои войска в глубь континента, сохранив власть над Косовом, областью, которую в Белграде всегда считали и теперь считают колыбелью сербской государственности.
«Замок Призрена». 1877 год. Иллюстрация из книги «Славянские провинции Европейской Турции»
Как утверждают, заседания Призренской лиги проходили в небольшом доме неподалеку от действительно быстрой речки Быстрицы. Есть и другое мнение: отцы албанского освободительного движения на самом-то деле собирались в соседней мечети Гази Мехмет-паши, и вроде бы это больше похоже на правду: аккуратно выбеленное и оштукатуренное двухэтажное здание никак не вместит сотни гостей. В пору югославской либерализации конца 1960-х годов власти дозволили открыть здесь осторожный музей, но через три десятилетия, как сказано в развешанных по стенам пояснениях, «сербские оккупанты» разорили экспозицию и уничтожили исторические документы. Непохоже, впрочем, чтобы это сильно расстраивало старших школьников, прибывших на музейное подворье с экскурсией: как и положено тинейджерам, они увлечены селфи, перемигиванием и переглядыванием. Учитель с трудом созывает всех в кучу, чтобы произнести объяснительную речь, которую то и дело сбивают шепотки и смешки; в конце концов он машет рукой и позволяет классу заняться самофотографированием.
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК АЛБАНСКИЕ СЕМЬИ ЖИВУТ ПО ЗАКОНАМ ГОР
Предание гласит, что во второй половине XVI века князь Лека Дукаджини, владения которого охватывали север современной Албании и запад Косова, составил свод бытовых правил, закрепляющий патриархальный уклад жизни «свободных горцев» и совершенствующий их мораль. Дукаджини был влиятельным феодалом, то младшим соратником, то соперником Скандербега, после его смерти продолжившим борьбу с османами. Скандербег в албанском фольклоре получил прозвище Князь-дракон, а Дукаджини — Князь-ангел. По одной версии, Дукаджини собственноручно записал «Канун» (алб. kanuni, греч. кανών — «управление»), по другой — этот своеобразный кодекс гражданского права только назван его именем. В начале XX столетия критическое изучение «канона Дукаджини», у которого со временем появилось несколько региональных «изводов», предпринял албанский фольклорист Штефан Гечови, францисканский монах, много лет проживший среди горцев и описавший их предания и племенные законы. Гечови, застреленный в 1929 году сербским националистом, успел составить сборник военных песен пограничья (ключевой жанр албанского народного творчества) и кодифицировать устные версии «Кануна». Это албанское уложение, обязательное и для христиан, и для мусульман, включает в себя 12 разделов, каждый из которых состоит из сотни статей. Задача старших членов рода — не выдумывать новые законы, а следить за неукоснительным соблюдением тех, по которым жили предки. «Канун» — энциклопедия жизни, заменяющая правительство, суд, свободную прессу и государство вообще; он регулирует бытовые и хозяйственные споры, предписывает наказание за проступки и преступления (вплоть до смертной казни, сожжения дома провинившегося или изгнания его семьи). Выше прочего ставятся принципы мужской чести и равенства перед горским законом; нет ничего более оскорбительного, чем быть публично названным лжецом, лишиться оружия или стерпеть поношение в адрес женщин твоего рода. Вот тогда албанец, как и сообщил нам лорд Байрон, «берется за кинжал, чтоб смыть обиду кровью». Ключевые понятия «Кануна», охватывающего разные сферы общинной жизни, от организации коллективного хозяйства и правил землепользования до вопросов наследования имущества и празднования свадеб, — besa, мужское обещание, которое выполняется даже ценой жизни, закон безусловного гостеприимства, кодекс «правильного поведения» и лояльность своему клану. Самое противоречивое положение «Кануна» (раздел 10, статья 3) — обычай кровной мести, широко практиковавшийся на северных, гегских, территориях албанского мира до Второй мировой войны. Родовые междоусобицы тлели десятилетиями и продолжались в буквальном смысле до последнего боеспособного мужчины в семье (женщины, дети и старики не считались законными мишенями), при этом сложный ритуал «Кануна» соблюдался неукоснительно. «Убийство мести» совершается через определенный срок после того, как той или иной семье нанесено «оскорбление кровью», и только за пределами дома потенциальной жертвы. Существует и сложный механизм посредничества в примирении враждующих. В деталях смертельный церемониал расписан, например, в убедительном романе Исмаила Кадаре «Разбитый апрель», молодой герой которого Георгий Бериша, подчиняясь «Кануну», мстит за убийство брата, прекрасно понимая, что сам автоматически станет следующим, с кого спросится «долг крови». Действие этой книги происходит в 1930-е годы. Балканский коммунизм приглушил действие экстремальных положений «Кануна», но в 1990-е, когда системы государственного управления в Албании и Косове пошатнулись, о кровной мести вспомнили снова. Я встречал данные, что за посткоммунистические четверть века в трехмиллионной Албании по обычаям кровной мести убиты 10 тысяч человек и в состоянии кровной вражды находятся 3 тысячи семей. В какой степени можно доверять этим цифрам? Одни мои собеседники утверждали, что жестокий кодекс чести албанских горцев остался в прошлом, другие против этого категорически возражали. Во всяком случае, глобализация не смогла до конца искоренить по крайней мере некоторые зафиксированные «Кануном» традиции. Многие семьи из «горных районов» по-прежнему живут многочисленными кланами, по 30–40 человек трех-четырех поколений, их дома (окна обязательно выходят во двор) огорожены высокими глухими заборами. Младшие члены семьи безусловно выполняют указания старших и помалкивают в их присутствии. Финансы контролирует старейшина рода, он же распределяет обязанности между членами семьи, выбирает профессии и занятия детям и внукам. Даже случайный гость албанского дома оказывается под защитой его хозяев, приветливость к незнакомцу считается обязательной (мне довелось это испытывать на себе). Положение женщины в такой семье далеко от современных представлений о гендерном равенстве. Кое в чем «Канун» напоминает кавказские обычаи, схожие традиции сохраняются и в Черногории. Благородный князь Лека Дукаджини, кстати, придерживался правил, которые, возможно, собственноручно собрал воедино. В 1447 году он сдержал «клятву чести», заколов князя Леку Захарию, соперника в борьбе за руку и сердце прекрасной наследницы рода Душмани Ирины, — как гласит легенда, тот оскорбил Дукаджини при попытке сватовства.
Призрен мне показался образцовым, не побоюсь этого слова, типическим и совершенно правильным восточно-западным европейским городом, потому что здесь явственно чувствуется дыхание Балкан. Даже не так: Призрен и есть Балканы, потенциально — Балканы в самом прелестном своем воплощении. Те, кому по душе эти далекие от Парижа и Москвы диковатые края, знают: нет ничего лучше, чем погожим весенним утром сидеть в тени на берегу холодной говорливой реки неподалеку от Старого моста, глядеть на полуразваленную крепость на высоком холме и пытаться понять, о чем это шепчет ветер в листве чинары над твоей головой. В радиусе 100 метров в переплетении живописных узких улиц — прекрасной архитектуры мечеть Синана-паши, величественный православный собор Святого Георгия и аккуратный католический храм Пресвятой Богородицы, так что протяжный призыв муэдзина перекликается с колокольным звоном. Из чаршии, старого города, тянет дымом от прожаренных на углях чевапчичей, ароматами нуги, засахаренных орехов и сваренного на раскаленном песке кофе. Вокруг прогуливается разноразный сельский и городской люд: почтенные албанские старики в белых валяных шапочках, черноокие прелестницы в широких цветных юбках, смуглые негоцианты, и в их лотках чего только не обнаружишь…
Но только эта идиллическая картинка совсем не соответствует реальности. На самом деле в этих благословенных краях, где так тщательно перемешаны народы и обычаи, примерно раз в четверть века вскипает злая кровь, и те, кто сильнее и многочисленнее, начинают убивать или изгонять тех, кто слабее и малочисленнее, по признакам веры, национальности, государственной принадлежности, языка. На набережной Быстрицы теперь не встретишь человека в традиционной сербской шапке-шайкаче. Призренскую риву охраняют от тех, кого тут считают врагами, внушительные памятники погибшим 20 лет назад командирам Армии освобождения Косова Джавдету Берише и Исмету Яшари Куманово — военные истуканы в полный рост, с «калашниковыми» в руках.
О существовании города Призрен я узнал в самом конце 1980-х годов, когда в одном вольнолюбивом московском доме услышал записи сараевского панк-коллектива «Курить воспрещается!». Бескомпромиссный рок-н-ролл «Караул у Призрена» с чудесным проигрышем гитары и долгим скрипичным запилом фронтмен группы Zabranjeno pušenje Неле Карайлич исполнил уже после того, как в его вокально-инструментальном ансамбле, лидере стиля «новый примитивизм», на бас-гитаре потренькал Эмир Кустурица, и до того, как увенчанный лаврами международной славы кинорежиссер к музыкальному творчеству развлечения ради вернулся. В ироничном тексте песни речь идет о том, как храбрые югославские солдаты защищают рубежи родины на позициях под Призреном, на небезопасной границе.
Моя девушка не ждет сегодня поцелуев, Сегодня не вино, а кровь наполнит мое сердце любовью, Мой палец — на спусковом крючке, мой вгляд — как у сокола, Быть может, молодым львам суждено Погибнуть здесь ради сомнительной славы.От Призрена до границы рукой подать, и это, как говорят, причина, по которой город с самой богатой культурной традицией в Косове в свое время не был произведен маршалом Тито в столицу автономной области. Албания раскинулась за живописными отрогами Динарского хребта, там, где в красивых изгибах сливаются в одну главную национальную реку Черный и Белый Дрин. Времена изменились, межалбанская граница утратила значение. Сербия и Югославия то пытались Албанию опекать, то враждовали с ней, а для косовских албанцев их соседнее национальное государство оставалось фата-морганой, воплощением несбыточной мечты о «счастье без оккупации». Когда границы открылись, мечта поблекла, хотя бы потому, что уровень жизни в Албании уступает даже не слишком высокому косовскому. Военного нашествия в Косове если и ждут, то не с юга, а с севера, но если что — вот они, бравые парни в черных беретах и темно-зеленом камуфляже, бойцы Косовского защитного корпуса (прообраз национальной армии), сыновья партизан, памятники которым стоят на улицах Призрена.
Сто с лишним лет назад Третья армия генерала Божидара Янковича решительным образом устранила из Косова османскую власть. В 1915 году этнограф Яниджия Попович опубликовал заметки «Жизнь сербов в Косове», собрав впечатления местных крестьян, учителей, священников. Вот цитата: «Напор сербской армии был столь яростным, что Косово наконец освобождено! О Господи, какое счастье! Это невозможно описать словами, нужно просто видеть слезы нашей радости. А вот и первая благодать освобождения: двадцать албанских семей, погрязших в грехах, решили не дожидаться прихода сербской армии и бежали в ночь. А те, кто остался, превратились в кротких ягнят». На сербской медали, вручавшейся героям кампании 1912–1913 годов, выбито: «Косово отомщено». Судя по свидетельствам работавших тогда на Балканах журналистов (одним из них был венский корреспондент газеты «Киевская мысль» Лев Троцкий), «благодать освобождения» на деле представляла собой кампанию репрессий против албанского населения. Не оказавший сопротивления Призрен западные репортеры называли царством смерти, столь жестокими оказались победители. Всего в области, по оценкам европейской прессы, после военной кампании 1912 года были убиты 20 или 25 тысяч человек — с явным намерением до такой степени напугать остальных, чтобы они как следует подумали, а не лучше ли им убраться восвояси. Верхом цинизма западным обозревателям показались действия генерала Янковича, под дулом пистолетов принудившего албанских старейшин из Призрена составить благодарственную телеграмму сербскому королю. А в Белграде если и признавали хотя бы частично эти бесчинства, то оправдывали их притеснениями, которым сербов «веками» подвергали в Косове османские власти и их подручные.
Классикой современной косовской историографии считается вышедшая в конце 1990-х годов книга британского профессора Ноэля Малкольма «Косово: краткая история». Я как раз листал эту книгу, устроившись с чашкой кофе под чинарой на набережной Быстрицы, кстати, по соседству с баловавшимися в короткие минуты увольнения пивком польскими солдатами из международного миротворческого контингента. Малкольм старательно пытается отстраниться от патриотических концепций истории — и сербской, и албанской. В значительной степени ему сие удается, и поэтому некоторая объективистская сухость изложения британскому автору легко прощается. Почитали бы вы некоторые другие книги про Балканы! Вот что, в частности, отмечает Малкольм: «Совсем не все, что пишут сербы об истории Косова, ложь. В их версии есть правда, но далеко не вся правда. Сербам никогда не понять природу косовского вопроса, если они не признают: население завоеванной ими в 1912 году территории уже в ту пору было преимущественно албанским. Свой опыт чужеродного, колониального правления сербы принесли на эту землю в XX веке».
Колониальную практику Белград — что при королях Карагеоргиевичах, что при коммунисте Тито, что при националисте Милошевиче — так или иначе развивал в Косове на протяжении большей части XX века. Обернулось это в итоге потерей области. Сербы, выжившие в Призрене — гордом городе нескольких религий и многих народов, — теперь собираются на таинство причастия в отреставрированном на деньги Европейского союза соборе под полицейской охраной. Другой древний православный храм, Святого Спаса, во время погромов 2004 года сожгли албанские экстремисты. Купола, впрочем, устояли, стены тщательно очищены, выскоблены изнутри, на заборе висит амбарный замок, все вроде подготовлено для ремонта. А вокруг уже ведется активное жилое строительство: новые хозяева возводят в этом прежде сербском квартале основательные дома, не снести и бульдозером.
Путь к средневековой крепости Калайда над Призреном ведет по заплеванной дорожке как раз мимо этого бывшего православного храма. Восстановление Калайды, от которой не так-то много, кроме периметра стен, сохранилось, финансирует посольство США в Приштине. В тот день, когда я исследовал древние развалины, реставрационные усилия олицетворяла бригада рабочих, неспешно монтировавших под открытым небом театральные подмостки. «Вот соберут — и откроется тут какой-нибудь фестиваль ‘Призренские летние вечера’, — подумал я, — и будут на горе над городом играть на албанском языке пьесы Шекспира и исполнять оперу про девушку из Качаника». В определенном смысле албанцы продолжают делать то, что за весь XX век недоделали в этих краях сербы, только делают это теперь при почти полном отсутствии сербов, исключительно для самих себя.
В фундамент конструкции косовской независимости заложен пафос национально-освободительной борьбы, и ее гордая воинственность имеет антисербский характер. Эта приставка «анти», может быть, не распространяется на любого серба вообще, но относится ко всему, связанному с сербской и югославской государственностью, узко понимаемой как сплошное проявление гегемонизма и ненависти к албанцам. XX век воспринимается в Косове как период «сербско-славянской оккупации», албанское коллективное сознание поэтому оправдывает самые разные способы противодействия черной ночи. Все, что так или иначе приближало косовский рассвет, должно заслуживать если не восхищения, если не безусловного поощрения, то по крайней мере понимания. Категорический императив патриотизма для тех, кто помнит югославское Косово или знает о нем по рассказам, которые отчасти уже превратились в легенды и мифы, подобно преданиям о Скандербеге, — обоснованность праведной мести захватчикам, и в сей моральной максиме не заметишь рефлексии раскаяния.
Особенно показательны в этом отношении траурные мемориалы в тех районах Косова, где в конце 1990-х полыхала война. Самый морбидно-торжественный из монументальных памятников, которые мне довелось видеть, — так называемый Храм свободы в селе Преказ в Дренице, это лесной и холмистый край в долине одноименной неширокой реки, известный партизанскими традициями. В Преказе в марте 1998 года специальные подразделения югославской армии и сербской полиции в ходе трехдневной осады усадьбы Яшари уничтожили 59 членов этого клана и их гостей, включая двоих глубоких стариков. Были убиты также 18 женщин и десять детей. Стены руины-музея, законсервированной в назидание потомкам, сплошь посечены осколками гранат и пулевыми отметинами, мертвая сателлитная антенна похожа на огромный дуршлаг, окна выбиты, в дверных проемах видны сожженная мебель и поломанные детские игрушки. В Белграде побоище объяснили тем обстоятельством, что осажденным предлагали сдаться, а они отказались.
Адем Яшари, главный по семейству, был убежденным албанским националистом и задачей своей жизни сделал вооруженную борьбу за независимость родины. В 1990-е годы югославский суд заочно приговорил Яшари, за которым тянулся глубокий след противодействия правоохранительным органам СФРЮ и Албании, к долгому заключению за терроризм. Наконец этого командира Армии освобождения Косова выследили и, выражаясь слогом полицейского протокола, ликвидировали. Яшари не признавал югославское государство и его законы. Скорее всего, он убивал сербских полицейских или готов был убивать, наверняка организовывал теракты, но достаточное ли это основание, чтобы учинять расправу над его родителями и детьми?
Преказ. Разгромленная усадьба семьи Яшари, ныне национальный мемориал. Фото автора
Старики, мужчины, женщины, дети Яшари и их дальние родственники в 59 могилах в три мраморно-гранитных ряда под охраной огромного албанского флага и пары корпулентных гвардейцев покоятся в 300 метрах от своей разгромленной семейной цитадели, на привольной лужайке у прохладного ручья. Во всем Косове мне не встречалось более ухоженного — стерильная чистота, травинка к травинке — места. У этого монумента (как и у музейного дома Призренской лиги) сменяют одна другую школьные экскурсии, мне, например, встретилась делегация первоклашек. Малыши возвращались в автобус нестройной колонной, скандируя, как на футбольном матче: «А-дем Я-ша-ри! U-Ç-K![17]» Одни улыбались, а другие — нет.
Яшари — это косовский Скандербег сегодня. Его стилизованный под знаменитое фото Че Гевары черно-белый портрет — непокорная копна волос, густая борода, решительный взор — стал патриотической этикеткой. У выхода из приштинского аэропорта установлен выполненный в абстрактной манере памятник Яшари, в Преказе развернут громадный яркий плакат со слоганом «Он жив!». Яшари посмертно присвоено звание Героя Косова; на знаке этой почетной награды выбит профиль князя Кастриоти.
Историческим предтечей антиюгославской борьбы партизан Дреницы считается крестьянское движение качаков (турецк. kaçak — «беглец», «дезертир»). Так албанцы называли вооруженных людей, оказывавших спорадическое сопротивление османским жандармам или ополчению местных землевладельцев и заодно занимавшихся грабежами и реквизициями собственности. Как и гайдуков, качаков можно считать балканскими робин гудами, а можно — бандитами с большой дороги; скорее всего, они были и теми и другими. Во втором десятилетии XX века, когда территория Косова попала под контроль Сербии, вылазки качаков наполнились смыслом борьбы с оккупантами. Символы этой борьбы — супруги Азем и Шоте Галица. В 1919 году Азем поднял вооруженное восстание в Дренице, провозгласив несколько глухих сел свободной территорией; если верить албанским источникам, армия Галицы насчитывала до 10 тысяч бойцов. Эпизодически он вступал в переговоры с противником, безуспешно добиваясь предоставления косовским албанцам автономии, открытия албаноязычных школ, прекращения притеснений по национальному признаку. Шоте была верной боевой подругой командира качаков, воевала под мужским именем Черим и после трагической гибели в 1924 году мужа — смертельно раненный главарь повстанцев скончался в лесной пещере, которая теперь носит его имя, — продолжила борьбу. Однако сопротивление выдохлось, в частности потому, что армия южнославянского королевства не останавливалась перед репрессиями против мирного населения. В этой войне клан Галица потерял 22 человека. Через три года не стало и храброй Шоте, она умерла в Албании от последствий полученного в бою ранения, и было ей едва за тридцать. На семейной фотографии Шоте стоит, по-домашнему положив руку мужу на плечо. В этом снимке нет и следа романтики: молодая женщина с правильными чертами сурового лица — в мужском одеянии, с карабином у ноги и кинжалом за узорчатым поясом.
Джон Кларк Ридпатс. «Качаки». Начало XX века. Библиотека Калифорнийского университета
Азем и Шоте Галица. Фото. Ок. 1920 года
В годы Второй мировой войны национальные албанские идеи ожили в Косове снова, однако те, кто их формулировал, в большинстве своем оказались вместе с фашистами и нацистами. Идеологи коллаборационистского движения объявили албанцев арийцами иллирийского происхождения. Еще несколько лет после общего поражения вооруженные группы националистов оказывали в Дренице сопротивление власти Тито — это притом, что и в его партизанскую армию входили девять косово-метохийских[18] бригад, в которых сражались и албанцы тоже. А ведь еще в начале 1940-х годов коммунистические идеи в аграрном Косове не пользовались никакой популярностью: в партийных ячейках состояли всего 239 человек, только 25 из которых были албанцами. Считалось, что боролись они не за независимость, а против фашизма. Интересно, что косовские албанцы, с детства привыкшие к легкому обращению с оружием, на всех фронтах Второй мировой воевали в целом неохотно. Сформированная нацистами добровольческая 21-я горнострелковая дивизия СС «Скандербег» (6 тысяч штыков), например, отличалась высоким числом дезертиров и низкой боеготовностью, так что ни один ее боец не был награжден Железным крестом. Но еврейским погромом в Приштине, казнями мирных жителей и изгнанием множества сербских и черногорских семей эсэсовцы-албанцы свою совесть запятнали. Не нужно, впрочем, забывать и о том, что счет невинных жертв титовской армии и коммунистического режима в 1940–1950-е годы также шел на тысячи.
В пропагандистской брошюре, которую я купил в мемориальном музее в Преказе, утверждается, что албанская герилья не прекращала борьбу против сербской власти «фактически ни на один день оккупации», но это не очень похоже на правду. Косово во второй половине минувшего столетия знало периоды и быстрого экономического, социального и культурного развития, и пусть относительного межэтнического согласия, хотя в Югославии и Сербии эта область играла подчиненную роль, оставаясь в многонациональной государственной семье бедной родственницей, лишенной некоторых прав. Многие историки уверены в том, что с волнений молодежи в Приштине в 1981 году, вызванных внешне неполитическими причинами (качество питания в студенческой столовой), но развернувшихся в многотысячные демонстрации под лозунгом «Косово — республика!», и начался долгий и мучительный процесс распада Югославии. Косовская «второсортность», если верить моим знакомым, ощущалась всегда и всегда переживалась болезненно, не только на общественном или политическом, но и на повседневном, бытовом уровне. Моя приятельница Арбана выросла в Косовске-Митровице. «Лет с пяти меня отдали в балетную студию, — вспоминает она. — Так вот на всех отчетных концертах сербских девочек ставили в первый ряд выступавших, а албанских — во второй». Глухое недовольство неизменно тлело на этой земле.
Приходится признать: в XX веке в целом разногласия между сербами и албанцами оказались слишком резкими, потому эти два народа и не смогли ужиться в одном государстве. Очевидно и другое: оба общества, сербское и албанское, традиционалистские и в этом отношении похожие друг на друга, стали заложниками недоговороспособности и националистических убеждений своих политических элит. Показательна судьба Ибрагима Руговы, писателя и интеллектуала с парижским образованием, в 1990-е годы возглавившего институты параллельной албанской государственности в Косове[19]. Ругова выступал за ненасильственное сопротивление Югославии и часто не отказывался от контактов с Белградом, предпочитая переговоры перестрелкам. Это не нравилось многим: албанские партизаны считали Ругову недостаточно решительным, обзывали плохим патриотом, обвиняли в национал-предательстве, а в последнее десятилетие взяли-таки верх над его сторонниками и последователями в политической внутриалбанской борьбе. Памятник первому президенту Косова — в его бронзовой фигуре можно разглядеть черты Махатмы Ганди и Андрея Сахарова — установлен в самом центре Приштины, на бульваре Матери Терезы. Теперь этот политик — удобная сакральная фигура, мертвый пример непротивления злу насилием, на который можно ссылаться как на аргумент в дискуссиях об избыточной воинственности албанцев. И Ругова — кавалер золотого ордена Героя Косова.
В разговорах с сербами о потерянном Косове почти всегда сквозят горечь и растерянность. Есть у меня подозрение, что белградский политический класс не готов отказаться от выглядящей сейчас со стороны утопией надежды на возвращение области. Как знать, может, сербы просто затаились в ожидании новых обстоятельств? Они ведь веками жили на этой земле, они уже не раз приходили сюда в том числе с намерениями завоевать, освоить, колонизировать, заселить, прогнать других. Затем, и тоже уже не раз, сами бывали изгнаны, но всегда сохраняли при этом пусть иллюзорную веру в свое косовское право. В конце концов, что такое два десятилетия международного протектората в Косове, что такое на 60 % признанная международным сообществом независимость по сравнению с почти пятью веками османского ига? В дружеских сербских компаниях я не раз слышал такой вот последний тост, аналог русской «стременной»: «Увидимся через год в Косове, если Бог даст!»
Всевышний пока не дает, но, вот представим себе, многие сербы думают так: пусть даже не при жизни сегодняшних поколений, пускай не завтра, но когда-нибудь все же настанет этот светлый день. И танк с сербским гербом на башне притормозит в древнем Призрене возле горящей огромным костром мечети Гази Мехмета-паши. И заглушит механик-водитель фырчащий двигатель, и вылезет из люка боевой машины симпатичный молодой капитан по имени Джордже или Йован. И прекрасная скромница в пышном народном наряде, в волосах которой заиграет в лучах солнца алый весенний цветок, поднесет герою кувшин со студеной водой из Быстрицы. И стянет капитан с головы пропотевший шлем, отведает ледяной водицы, от которой ломит зубы, улыбнется девушке ласково и скажет от всей души всем албанцам на свете: Mirupafshim! Давай, до свидания!
Таким, например, мог бы выглядеть будущий косовский миф со счастливой для идей сербства развязкой. А классический косовский миф, сформированный средневековым народным эпосом и его более поздним прочтением, лежит, как принято считать, в самой основе сербской национальной идентичности. Одну из многочисленных интерпретаций предложил в 1919 году мастер исторической живописи Урош Предич, автор картины «Косовская девушка»: красавица в праздничном одеянии, в богато вышитом венке помогает раненному на поле брани витязю утолить жажду. Эта милосердная молодая женщина — аллегория страдающей Сербии. Тему художнику Предичу подсказала народная песня: от витязя Павле Орловича, умирающего на трупе поверженного им в битве на Косовом поле врага, девушка узнает о гибели своего суженого Милана Топлицы с братьями и оплакивает их кончину:
Бедная, мне нет на свете счастья. Если ухвачусь за ветку ели, Тотчас же зеленая засохнет.В географическом смысле Косово поле (от серб. кос — «черный дрозд») представляет собой узкую и долгую, километров в восемьдесят, котловину Динарского нагорья, протянувшуюся примерно от города Косовска-Митровица на севере до города Феризай (в сербской традиции Урошевац) на юге. На одном из участков этой холмистой равнины, в районе современной Приштины, в междуречье Ситницы и Лаба (албанское название Лляп), июньским утром 1389 года произошло крупное сражение между объединенными силами местных сербских феодалов, союзником которых выступило Боснийское королевство, и войском османского султана. Малкольм предполагает участие в битве отряда греков и некоторого числа генуэзских наемников на стороне османов, группы венгерских и, возможно, немецких рыцарей — на другой стороне. Буджови считает, что султанскому войску противостояла широкая христианская коалиция, в которой участвовали помимо прочих военные подразделения правителей Хорватии и Валахии. Точное число сражавшихся и погибших неизвестно (по разным оценкам, участниками битвы могли быть от 40 до 70 тысяч человек), ученые не смогли также прояснить многие сопровождавшие это военное столкновение обстоятельства. Погибли оба предводителя: сербский князь Лазарь Хребелянович попал в плен к врагу, был изрублен и обезглавлен, а Мурада I предположительно зарезал молодой воевода Милош Обилич, под видом перебежчика пробравшийся к султанскому шатру. Поле боя осталось за османами, но развивать успех они не стали: наследник Мурада Баязид предпочел вернуться в столицу своей империи Эдирне, опасаясь, что смерть старого султана вызовет в стране смуту.
Король Албании Зогу I Скандербег III. Фото. 1930-е годы. © Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. / Reproduction Number: LC-DIG-ggbain‐38924
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК ВРАНГЕЛЕВЦЫ ХОДИЛИ В АЛБАНСКИЙ ПОХОД
В 1920-е годы в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев осели больше 40 тысяч эмигрантов из России. Белградское правительство сочувствовало борьбе белого движения, поэтому согласилось на организованное размещение в своей стране русских беженцев. Донские и кубанские казаки, солдаты деникинских Вооруженных сил Юга России, офицеры русской армии вместе с членами семей, монархически настроенная интеллигенция — эти люди не теряли надежды вернуться на родину, но вынуждены были искать счастья на чужбине. В 1922 году в Сербию прибыл из Константинополя барон Петр Врангель, глава Российского общевоинского союза — скелета бывшей и, как казалось тогда, прообраза будущей русской армии. Александр I Карагеоргиевич использовал тысячи хорошо обученных и готовых к бою военных беженцев в своих интересах; русские солдаты могли пригодиться на новом крайнем сербском юге. Король активно влиял на ситуацию в Албании, пытаясь привести к власти в этой стране зависимых от Белграда политиков, чтобы, в частности, обеспечить надежный контроль над Косовом. К началу 1920-х, сообщает Малкольм, относятся планы «русской колонизации Косова»: королевское правительство рассматривало возможность переселения к югу от реки Ибар 7 тысяч беженцев из России (преимущественно бывших солдат армии Врангеля). Летом 1921 года под патронатом Белграда была провозглашена буферная Республика Мирдита со столицей в Призрене; костяк ее вооруженных сил составили русские наемники. Однако из затеи ничего не вышло: марионеточное государство никто не признал, вскоре на международной конференции в Лондоне точно прочертили албанско-югославскую границу. На ее охрану заступили русские казачьи дозоры, одной из задач которых было не допустить инфильтрации в Косово качаков. Эмигранты несли службу до середины 1920-х годов. Новым ставленником Александра в Албании стал выходец из влиятельного феодального семейства Ахмед-бей Зоголли, в начале 1920-х — министр внутренних дел и обороны; его армия и положила конец Республике Мирдита. В 1924 году Зоголли вынужден был бежать из страны, которая вследствие буржуазно-демократической революции превращалась из княжества в республику, и укрылся в Белграде, где принялся собирать силы для похода на Тирану. В состав новой армии вошли югославские части и сотня русских наемников под командованием бывшего врангелевского генерала Ильи Миклашевского, которому Зоголли (сменивший фамилию на Зогу — по-албански «птица») присвоил звание майора, и полковника-черкеса Кучука Улагая, получившего погоны капитана I класса. Противников Зогу — а правительство Албании возглавил вернувшийся из американской эмиграции православный епископ Фан Ноли — поддерживал СССР. В Тиране работала советская миссия во главе с бывшим эсером и военным министром Временного правительства автономной Сибири, но теперь членом РПК(б) Аркадием Краковецким, стремившимся превратить Албанию в центр коммунизма на Балканах. Добиться этого не удалось: через две недели Зогу взял город, совершил переворот и стал президентом. В 1928 году он провозгласил монархию и взошел на престол под именем Зогу I Скандербег III. Русский отряд в албанской армии просуществовал до 1926 года, его бойцы после демобилизации получили право на военную пенсию, но не все этой возможностью воспользовались. Некоторые продолжили службу в Албании, а бывший кавалерист Лев Сукачёв даже командовал в Тиране королевской гвардией. В 1939 году, после оккупации Албании Италией, он перебрался в Рим, где по предложению Бенито Муссолини сформировал из албанцев полк для охраны короля Виктора Эммануила III, дослужившись до звания бригадного генерала. Как сложились судьбы других участников албанской авантюры? Илья Миклашевский возглавлял во Франции объединение ветеранов лейб-гвардии уланского полка, того самого, которым командовал при царе-батюшке. Аркадий Краковецкий поступил работать в ГПУ и был расстрелян в 1937 году по ложному обвинению в шпионаже. Зогу I в 1939 году обосновался в Париже, где существовал на средства жены Геральдине, писавшей детективные романы. Именем Зогу назван центральный бульвар Тираны.
Историки полагают, что в военном отношении битва завершилась вничью, некоторые современники событий даже объявили ее исходом победу славян (султан убит, захватчики ушли восвояси), но в Белграде и Крагуеваце это сражение считают безнадежным проигрышем. А ведь сербская независимость просуществовала после битвы на Косовом поле еще не один десяток лет: завоевание собственно косовских земель османы завершили только в 1455 году; столицу Сербского деспотата (это прямой преемник средневекового Сербского царства) Смедерево взяли в 1459-м; Босния покорилась в 1463-м, Герцеговина — в 1482-м, а последнее из еще сохранявших самостоятельность сербских княжеств, Горная Зета (на территории современной Черногории), — в 1499-м.
Ко времени Косовской битвы некоторые сербские князья уже являлись вассалами султана и сражались, если пользоваться патриотической лексикой, на стороне поработителей своего народа. Другие присягнули на верность врагу вскоре после боя, как, например, малолетний сын и наследник Лазаря Стефан, опекуны которого больше, чем османской, опасались венгерской угрозы. Междоусобные противоречия часто пугали сербских (как и любых других) феодалов куда сильнее, чем опасность подчинения иноверцам; не раз и не два они искали покровительства султана, только чтобы не поддаваться брату или свату. Более того, все большую популярность в научном сообществе набирает парадоксальный для ура-патриотов взгляд на события: нашествие османов на Балканы нужно рассматривать не только как историю завоевания, но и как историю их сотрудничества с европейскими властителями. Вспомним, какой жестокостью отличались общественные нравы Средневековья, и султанское правление было не более варварским и не менее просвещенным, чем правление других феодальных монархов.
«Гибель сербского царства в Косове». 1920-е годы. Открытка с картины Атанаса Бочарича
Некоторые исследователи считают, что плечом к плечу с сербами на Косовом поле сражались албанцы, выдвигалась и версия о том, что албанцем был воевода Милош Обилич (Милеш Кобили). В современной косовско-албанской историографии сражение вообще называют битвой на Дарданском поле. Получается, что миф о христианском подвиге мог бы развернуться совсем по-другому — в легенду о сербско-албанском братстве по оружию, но этого не случилось. В относительно просвещенные титовские времена Косовская битва тем не менее становилась полем культурного сотрудничества — на главной сербской театральной сцене в Белграде роль князя Лазаря исполнял албанский актер Энвер Петровци. Теперь о таких спектаклях мечтать не приходится, хотя Петровци наверняка играл князя не как первого серба, а как первого патриота Косова. По преданию, перед битвой Лазарь Хребелянович произнес пламенную речь с вариациями на тему «лучше погибнуть в бою, чем жить во стыде», призвал к объединению в борьбе с врагом и пригрозил тем, кто откажется защищать родину:
Каждому сербу, [человеку] сербского рода, Не пришедшему на бой в Косово, Не иметь от сердца плода — Ни мужского, ни женского, От руки его ничему не родиться, Ни вину розову, ни пшенице белой, И проклято будет его колено.Эти строки отлиты в бронзе на стене памятника косовским героям, 25-метровой реплики средневековой башни, построенной по проекту архитектора Александра Дероко на возвышенности в нескольких километрах от места сражения. Мемориал получил название Газиместан (араб. غازي, «гази» — «воин, защитник веры»), и здесь ежегодно 28 июня, в день Косовской битвы и в день почитания святого Вита (у балканских славян Вид), собираются сотни и тысячи тех, кто по-прежнему считает случившуюся 600 с лишним лет назад битву с неясным исходом и неочевидными последствиями столь сокрушительным для своего народа поражением, что его годовщину непременно нужно отметить массовым митингом. Сакральный смысл вот в чем: в ночь перед битвой Лазарю явился святой Илия в облике сокола и спросил князя, что он выбирает — царствие земное, то есть ратную победу и благополучие Сербии, но только пока он сам будет жить на этом свете, или мученичество ради царствия небесного, а также обещание, что сербский народ до конца времен останется православным. И ответил Лазарь: «Земное царство — на миг, а небесное — навек», и перестали куковать кукушки, и реки наполнились красным, и выросли после боя на Косовом поле алые маки — там, где пролилась кровь сербских героев.
В траве у памятника я действительно заметил несколько красных цветков, но в целом мемориал не производит торжественного впечатления. Нет, он не разорен и не то чтобы запущен, скорее подзаброшен, газон не подстрижен, гранитная плитка у подножия монумента пошла трещинами, электричество отключено, и мощные прожекторы уже не отправляют по ночам в космос сербские световые сигналы. Кормивший кошку пожилой полицейский-албанец придирчиво изучил мои документы и препятствий для посещения объекта не обнаружил. На смотровую площадку Газиместана я поднялся вместе со своим приштинским приятелем Сафетом, журналистом и историком-любителем, который рассказывал о Косовской битве в таких деталях, словно сам в ней участвовал: и как Мурад в начале боя выпустил для устрашения противников строй боевых верблюдов, и с какой стороны ударили тяжелые кавалеристы-сипахи, и на каком участке они прорвали линию обороны сербской пехоты, и откуда Милош Обилич, если верить преданию, прокрался к султанскому шатру, и с какого места через 600 лет новый сербский лидер Слободан Милошевич произнес перед многотысячной толпой националистическую речь, объявив «мобилизацию Средневековья». Тут я — к месту и к слову — рассказал Сафету об одном экспонате выставки современного искусства, которую посетил в Тиране за два дня до приезда в Косово. Экспонат представлял собой слово history, выполненное из спущенных велосипедных камер, к ниппелю каждой из которых подведен ручной насос. В случае чего любую букву, а то и все понятие целиком можно без труда поддуть.
Павле Чортанович и Адам Стефанович. «Милош Обилич у шатра султана Мурада». 1887 год
Масштабную реконструкцию средневекового сражения югославские кинематографисты во главе с режиссером Здравко Шотрой предприняли как раз в юбилейном 1989 году, изготовив двухчасовую эпопею «Битва на Косовом поле», в которой история неразделимо переплетена с легендой. В этом фильме явственно обозначены и библейские мотивы (свой последний ужин князь Лазарь проводит в окружении 12 соратников-«великанов», один из которых наутро станет героем, а другой окажется предателем), и геополитические последствия (сербские герои своими телами заслонили христианскую Европу от первого и самого страшного удара завоевателей).
Осмотрев с высоты Газиместана исторические окрестности, мы с Сафетом отправились почтить память Мурада I, внутренние органы которого захоронены в километре от памятника косовским героям. Баязид, руководивший правым крылом османского войска, после боя распорядился задушить своего старшего брата Якуба, командовавшего левым флангом, чтобы не делить власть, а тело отца повелел отправить на родину. Тюрбе с внутренностями султана — в отличном состоянии, поскольку совсем недавно отреставрировано на средства правительства Турции. За сохранностью мемориала с незапамятных времен следит мусульманская семья Тюрбадор, члены которой живут тут же, в домике за стенами усыпальницы, и тут же, с другой стороны усыпальницы, находят они последний приют на крошечном родовом кладбище. Над покрытым зеленой узорчатой тканью султанским саркофагом, как требует традиция, красуется снежно-белый тюрбан, символизирующий духовную чистоту покойного. Тюрбан Мурада бережно обернут в полиэтилен, чтобы ткань не желтела от воздействия воздуха. Выходит, даже чистейшая белизна владыки Блистательной Порты, брата Солнца и Луны, внука и наместника Аллаха на земле не может быть вечной. У входа в усыпальницу растет шелковица, расщепленный ствол которой тщательно закреплен металлическими листами и скобами. Хотелось бы думать, что это тутовое дерево помнит похороны Мурада, но вряд ли оно так: шелковица редко живет дольше трех веков. Так что не буду к уже существующим мифам добавлять свой собственный.
Противника османского султана Лазаря Хребеляновича вскоре после смерти канонизировала православная церковь. Его мощи перенесены в монастырь Раваница в центральной Сербии, который князь, собственно, и основал. Останки Лазаря покоятся в храме Вознесения Господня, в окружении фресок, иллюстрирующих богоугодное княжеское житие. Но бессмертная душа Лазаря во веки веков будет обитать в той небесной Сербии, ради которой он пожертвовал бренной славой и вывел свою рать на верную смерть, понимая, что победы ему не увидать. Сербская православная церковь, активно продвигавшая в верующие массы косовский эпос, пестовала культ князя Лазаря с первых же лет после его гибели — поначалу, правда, больше как щедрого дарителя и строителя храмов, чем как мученика, однако мотив жертвенности во имя истинной веры в конце концов выдвинулся на первый национальный план.
Косовскую битву с той или иной степенью достоверности описали несколько хронистов конца XIV — начала XV века, она привлекала внимание составителей исторических летописей и позже. Как принято считать, первое затрагивающее эту тему высокохудожественное сочинение, с посильным анализом произведений народного творчества, составил в 1601 году ранний проповедник южнославянского политического братства, бенедиктинский монах Мавро Орбини из Далмации. К тому времени о косовском сражении накопился богатый фольклорный материал. Как и в «Песне о Роланде», возник мотив предательства — оно приписывалось одному из видных сербских командиров, зятю Лазаря Вуку Бранковичу, который якобы из корыстных соображений увел свои отряды с поля битвы. Под влиянием европейского рыцарского эпоса прорисовалась связь между предателем Вуком и героем Милошем Обиличем, по драматургическому закону симметрии также превратившемуся в княжеского зятя. Обросли подробностями сказания о других героях — королевиче Марко (на самом деле он был вассалом османского султана и мог участвовать в сражении на его стороне), старом воеводе Юг-Богдане (Вратко Неманиче) и его девяти сыновьях Юговичах, сложивших головы в бою. Добавьте сюда косовскую девушку, Срджу Злопогледа, Страхинью Бановича, Милана Топлицу, верного княжеского слугу Милутина, принявшего в свои руки скатившуюся с плахи голову Лазаря… Нетрудно заметить, как явственно эти истории перекликаются со сказаниями русского былинного эпоса о князе Владимире Красно Солнышко и витязе на распутье, о поединке Пересвета с Челубеем, о бессмертном полку Игореве и засадном полку воеводы Боброка, о тонущих в Чудском озере псах-рыцарях, о плаче Ярославны и о нашем собственнном поле, Куликовом. «О Русская земля! Ты уже за холмом!»
Особенно пафосное звучание косовская тема приобрела в первой четверти XX века, когда на западе Балкан восторжествовали идеи югославизма. Убежденный сторонник союза «братских народов» хорватский архитектор и скульптор Иван Мештрович задумал возвести на Косовом поле величественный Видовданский храм в греко-римском и древнеегипетском стилях, а внутри установить десятки мраморных скульптур и барельефов: аллею полуобнаженных кариатид (матерей, жен и сестер погибших героев), а также фигуры собственно косовских мучеников. Мештрович проектировал Видовданский храм как архитектурное посвящение «религии решительной жертвы»: «Его фундамент — это павшие, его колонны — это страждущие, его купол — это бессмертные души». Скульптор по-своему интерпретировал сербский миф, полагая, что у каждого «южнославянского племени» есть свое Косово. Для хорватов это гора Гвозд, где в 1097 году венгерские солдаты убили последнего правителя независимого королевства Петара Свачича. Для боснийцев это город Яйце, место казни османами в 1463 году молодого короля Степана Томашевича, со смертью которого пресеклась домашняя династия Котроманичей. Мештрович воспринимал Косово как символ всех поражений всех южнославянских народов, а Видовданский храм — как символ их всеобщего земного и небесного воскрешения.
Иван Мештрович. Видовданский храм. Эскиз. До 1923 года
Фрагменты своего проекта архитектор с шумным успехом представил на художественной биеннале в Риме в 1911 году. До конца Первой мировой войны он с триумфом выставлял в европейских столицах скульптуры «косовского цикла», работы действительно превосходных художественных достоинств, некоторые мне доводилось видеть. О Мештровиче с восторгом писали как о южнославянском Вагнере, его скульптуры приравнивали к античным шедеврам, но гигантский строительный проект по разным причинам так и не был осуществлен. Теперь такое строительство на Косовом поле невозможно вообразить. У албанцев свои представления о жертвенном, святом и прекрасном, их храм свободы — могильник клана Яшари в селе Преказ. А Видовданский макет хранится в Национальном музее города Крушевац, древней столицы княжества Лазаря.
В основе политической интерпретации легенды кроется убежденность в том, что Косово — сердце Сербии и сербского государства; иными словами, без обладания этой территорией ни сербы, ни Сербия невозможны. Отсюда, кстати, и библейская аллюзия тоста «стременной» рюмки ракии: Косово есть сербский Иерусалим, сербы суть балканский «народ Израилев», «небесный народ» в вечном поиске утраченной родины. Эта концепция была внятно артикулирована как часть общественной дискуссии начала XIX века (того времени, когда постепенно, в боях с османами, восстанавливалась сербская государственность), чтобы превратиться в критически важную часть национальной идеологии. Подробно и очень убедительно об этом пишет в книге «Смерть на Косовом поле» белградский историк и антрополог Иван Чолович. В конце концов, ведь не случайно же британец Фрэнк Моттершоу, автор первого в истории Сербии кинофильма «Коронация Петра I Карагеоргиевича» (1904 год), по настоянию белградских, как сказали бы сейчас, спонсоров включил в свою ленту костюмированный эпизод с участием Милоша Обилича, братьев Юговичей и князя Лазаря.
Современные историки в значительной степени корректируют подобный подход, что не сказывается на стойкости славянского миража, который не блекнет и не растворяется в дымке прошлого. А прошлое таково: славянские племена появились на Балканах в начале VII столетия, но первые сербские княжества образовались не на земле Косова, а севернее, в области Рашка, и западнее, в нынешней Черногории (Дукля). Постепенно сербы проникали южнее, ассимилируя местное население, но до конца XII века территория Косова принадлежала то Византии, то Болгарии. Сербское государство консолидировалось при власти династии Неманичей, и в середине XIV столетия самый удачливый из них, король Стефан Душан, провозгласил себя императором. Его владения простирались до берегов Эгейского моря и Пелопоннеса, включая в себя всю нынешнюю Албанию. Столица греко-римской империи Душана, рассыпавшейся вскоре после его смерти на полдюжины феодальных княжеств, располагалась не в Призрене или Приштине, а в Скопье. Первой резиденцией сербских архиепископов был монастырь Жича в Рашке, где венчались на царство 19 правителей. Это, конечно, не отменяет тот факт, что на территории Косова находится немало православных святынь, а в городе Печ дважды в истории (1346–1463 и 1557–1766 годы) базировалась Сербская патриархия. Некоторые исследователи, впрочем, высказывают мнение, что для Сербии времен Стефана Милутина и Душана Сильного важность Косова заключалась в запасах полезных ископаемых, а не в соображениях духовного свойства.
Под властью османов Косово стало провинцией самого развитого европейского государства своей эпохи. В 1490 году, когда дотошные налоговые чиновники впервые переписали население области, его численность составляла около 350 тысяч человек. Официальной религией был ислам суннитского толка, но албанское и славянское население по-прежнему верило в Иисуса. Аллаху в основном поклонялись чиновники, военная знать и немногочисленные мигранты из Анатолии. Как писал в середине XIX века один французский путешественник, «Магомет не злоупотреблял своей победой». Постепенно Османская империя стала приходить в упадок, все сильнее проявлялось ее отставание от западноевропейских государств, и это отставание, несмотря на эпизодические военные победы, не удавалось преодолеть. В конце XVII и первой половине XVIII столетия, когда большинство населения Косова еще составляли славяне, область дважды ненадолго брала под контроль австрийская армия, но оба раза военные обстоятельства заставили габсбургских генералов отступить. Из-за страха массовых репрессий произошло так называемое Великое переселение сербов за Дунай. Это еще одна ключевая точка мифологии о Косове, сопоставляемая с похоронами Христа, если говорить о библейской традиции. Белградские историки полагают, что как раз в этот период Косово и заселили албанцы — за счет миграции из южных горных районов. Но есть и иная точка зрения: в ту пору из нынешней Северной Албании некому было переселяться, это были почти необитаемые края[20].
ХХ век и сербское возвращение оказались периодом системной колонизации. В первой Югославии косовских албанцев объявили принявшими ислам славянами; многие из них по своей воле или под давлением обстоятельств «записывались турками» и уезжали за Босфор; еще одна мощная волна эмиграции последовала после Второй мировой войны, в первое, самое жесткое коммунистическое десятилетие. Сербов в область завозили и при королях, и при маршале — администрация, партийный и чиновничий класс, военные и милиционеры, бюджетная и промышленная сферы были в значительной степени славянскими. Албанцам оставались труд на полях и в шахтах, мелкие торговля и предпринимательство да демонстрация достижений в науке, спорте и культуре. Ни одна из кампаний переселения не оказалась до конца успешной: многих, кому предлагали обосноваться в этих краях, отпугивали трудные условия жизни; другие с опаской относились к местным укладу и традициям; в Косове своеобразно действовала система социальных лифтов, если они ходили между этажами вообще. Никогда, даже в благоприятные для центральной власти демографические периоды XX столетия, число южных славян здесь не составляло и трети населения. Кинорежиссер Экрем Крюизиу пояснил мне настроения 2 миллионов албанцев так: «Важно не то, кто первым пришел на эту землю. Важно то, что мы уже на этой земле живем».
В социалистическое время символом дружбы народов Югославии считался пример двух молодых активистов антифашистского движения, черногорца Боро Вукмировича и албанца Рамиза Садику. В 1943 году их схватили и пытали враги, но Боро и Рамиз даже под угрозой казни не выдали боевых товарищей. Согласно партийной легенде, перед расстрелом они выкрикивали лозунги во славу своей борьбы. «Мы два листа с одной ветви, два камня из одной реки, два тела с одинаковой кровью» — такие стихи разучивали школьники Косова и Метохии. В Приштине именем Боро и Рамиза назвали построенный в конце 1970-х универсальный спортивный комплекс. Теперь этот комплекс просто Дворец молодости и спорта.
В 2008 году в день провозглашения независимости Косова на площади у дворца открыли достопримечательность со значением. Семь скульптур в виде печатных букв составили английское слово NEWBORN («новорожденный»). Буквы были ярко-желтыми, колора Евросоюза, и все желающие, от первого косовского министра до последнего цыганского попрошайки, могли расписаться на трехметровом слове черным маркером. Фотографии креативного монумента облетели мир, художник Фисник Исмаили завоевал призы международных фестивалей дизайна. Когда я осматривал NEWBORN, буквы были светло-серыми с прорисовкой в виде кирпичной кладки по углам, а N и W почему-то лежали на земле. В этой новой символике оказалось трудно разобраться, и, вернувшись домой, я поднял интернет-источники. Оказалось, что каждый год 17 февраля NEWBORN меняет цвет. Иногда буквы даже раскрашивают в цвета флагов стран, заявивших о признании новорожденного государства.
Приштина. Фисник Исмаили. Памятник NEWBORN. Фото автора
Такие художественные решения были популярны в Европе конца 2000-х. В Перми примерно в то же время на набережной Камы напротив Речного вокзала появилась надпись — огромными объемными красными буквами — «Счастье не за горами» авторства Бориса Матросова. Столь же народный, как и NEWBORN, памятник, предназначенный для граффити и фотографирования. Но пока счастье не пришло — ни в Пермь, ни в Приштину.
4 Bosna i Hercegovina Славянский намаз
Встречаются рассказы, повторяемые в народе без различия вероисповедания, такого же рода существуют и песни, и это знаменательно для Босны-Герцеговины в том отношении, что, несмотря на рознь, которую положила вера, народ до известной степени не перестал быть единым.
Алексей Харузин, «Босния-Герцеговина» (1901)В Боснии и Герцеговине есть по крайней мере три знаменитых моста, и переброшены они через воды трех рек. Все эти мосты построены во «времена султанов», все три считаются выдающимися образцами османской архитектуры, и все связаны с драматическими событиями европейской истории. Мост Мехмеда-паши Соколовича[21] через реку Дрину в Вишеграде знаменит тем, что его возвели по проекту лучшего зодчего империи Мимара («архитектора») Синана, столь талантливого, что в его честь теперь назван даже кратер на Меркурии, где пока еще нет ни мечетей, ни минаретов. Этому мосту посвятил свой главный роман единственный югославский лауреат Нобелевской премии в области литературы Иво Андрич. Рядом с Латинским мостом через реку Мильяцку в Сараеве молодой южнославянский националист Гаврило Принцип летом 1914 года застрелил австро-венгерского престолонаследника Франца Фердинанда и его супругу Софию Хотек, что, как известно, привело к изменению судьбы Балкан и всей Европы. А Старый мост через реку Неретву в Мостаре — сооружение выдающейся красоты, спроектированное учеником Синана Хайреддином, — вошел в историю еще и потому, что осенью 1993 года был самым преступным образом разрушен в ходе военного конфликта хорватов и боснийских мусульман[22]. В популярном Списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, попасть в который для любой страны — вопрос национального престижа, Босния и Герцеговина только мостами и представлена: объектами номер 946 (мост в Мостаре, уже восстановленный международными усилиями) и номер 1260 (мост в Вишеграде). Замечу для порядка, что у Старого моста — одна арка, у Латинского — четыре, а Вишеградский мост — 11-арочный, почти 200 метров длиной. В Боснии хватает и других османских мостов, тоже вполне себе красивых, например мост Арсланагича через Требешницу, мост Караджоз-бега через Буну, Кривой мост через Радоболью (тоже в Мостаре), Римский мост через Босну. Перечень можно продолжить, международным экспертам в области культуры еще есть что заносить в свои списки.
Начну о подробностях с мировоззренчески самого главного здешнего моста, на Дрине, которую многие исследователи (среди них, правда, нет знакомых нам Денниса П. Хупчика и Харольда Э. Кокса) считают извечной границей внутрибалканских миров. С этим мнением можно спорить, поскольку теперь Дрина отделяет всего лишь Сербию от Республики Сербской[23], и никакого цивилизационного слома на этой границе не заметишь. Вокруг Синанова моста, по которому сам писатель Андрич, проведший в Вишеграде детство, бегал босоногим мальчишкой, в его романе на протяжении четырех веков разыгрываются преимущественно тягостные сцены балканского бытования со всеми историческими несообразностями, романтическими притчами и человеческими драмами. «Мост на Дрине» — высококачественный образец классической прозы середины XX столетия, с нужными толиками модернизма и мистики, и заглавный образ книги ее автор, естественно, использует как мощную метафору, пусть теперь она и кажется трафаретной.
Нобелевский лауреат, как и положено, крупный мастер художественного слова. Страницы, в мелких и точных деталях повествующие о том, как по приказу жестокого Абид-аги посередине моста неторопливо сажают на кол своевольного сербского крестьянина Радислава из Уништа, без содрогания даже листать невозможно. Сердце чувствительного читателя тронет горестная история красавицы Фатимы Османагич. Она не посмела ослушаться своего самовластного отца Авдага и обвенчалась с постылым Наилом Хамзичем, но по пути на свадебный пир бросилась в хладную речную пучину, поскольку девичья гордость пересилила жажду жизни. Хватает в романе Андрича и сказаний-легенд, причем кое-какие из них характерны не только для Балкан, но и для всей Европы. В частности, это предание о том, что при возведении моста в его основание для пущей крепости конструкции замуровали младенцев-близнецов Стою и Остою. Похожие страшилки мне доводилось слышать в Албании и читать про Германию и Францию, только в этих странах в мостовые опоры замуровывали невинных девушек.
Мост Мехмета-паши Соколовича в Вишеграде. Открытка. Ок. 1890 года. © Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. / Reproduction Number: LC-DIG-ppmsc‐09315
Но мост на Дрине нужен талантливому писателю вовсе не для драматических бытописаний как таковых. «С одного высокого берега на другой переходили, точно на крыльях, по широкому древнему мосту, твердому и нерушимому, как утес, под копытами отзывавшемуся так, словно весь он был из одной огромной каменной плиты», — первоочередная функция мостов, по Андричу, в том, чтобы стоять незыблемо, натвердо и навечно связывая разные берега и разные народы, сколь бы удачливым ни было зло в своем поединке с добром. Мост Андрича — многотерпеливый символ жизни, которая течет, словно река, непрерывно и нескончаемо, то бурно, то неторопливо. Рассказывая в предыдущей своей книге об истории Дуная, я уже осмеливался вступать с мэтром балканской литературы в спор, поскольку считаю, что мосты скорее следует рассматривать как точки слома. Об этом свидетельствуют ужасная кончина крестьянина Радислава, сербского Иисуса Христа, и судьба уже упомянутого мною в главе о Македонии вождя крестьянского бунта Карпоша: ему перед смертью и смерти ради тоже суждено было усесться на смазанный бараньим жиром острый кол и тоже на мосту, через Вардар. Вообще мосты нужны Андричу, поскольку его боснийская родина — это «мир, в котором сконцентрировались все проклятия раздела земли. Это гордость без славы, мученичество без награды».
«Проклятие раздела земли» — это и правда про Боснию и Герцеговину сказано. Однако вот парадокс: со времен позднего Средневековья эта территория существует как историческое целое в одних и тех же границах, которые вы и сейчас видите на картах. Завоевательные походы империй, национальная рознь, войны и революции не смогли разорвать эту сложную страну, хотя, как кажется, толком она так и не склеилась. Это обстоятельство добавляет аргументов тем оптимистам, которые считают: на Балканах развалится все что угодно, а вот Босния и Герцеговина останется.
Да, интересы гуманизма требуют, чтобы разделы были преодолены; чтобы, фигурально говоря, на мостах никого и никогда не сажали на кол. Реальность, впрочем, не желает соответствовать морали литературы, даже книгам нобелевского лауреата. О Вишеграде австро-венгерской поры Андрич писал как о городе, который «на две трети все еще жил по-восточному и только на треть по-европейски». Эта западная-восточная жизнь давала удивительные примеры сосуществования народов и религий. Есть у Андрича такая сцена: католический священник, православный поп и мулла добродушно калякают над чашками кофе о мелких городских делах. А прихожане, разных веры и конфессий, подсмеиваются над статью вишеградского градоначальника Рагиба-эфенди Бороваца, мужчины таких роста и комплекции, что под ним проседает лошадь. Мой приятель Недим, двухметровый парень с руками-лопатами, утверждает, что он потомок этого градоначальника.
Доминик Кустос. «Мехмет-паша Соколович». Гравюра. 1603 год
Мы с Недимом беседуем об особенностях боснийского мировосприятия — о том, кем он, сын инженера-партийца и старшей медсестры, в семье которых не ходили в мечеть и не совершали намаз, себя ощущает. Кем славяне-бошняки считают, например, османов — оккупантами, оставившими после себя религию и обычаи, но не оставившими государства и языка? Ведь султанские порядки продержались в Боснии и Герцеговине дольше четырех столетий, и целые славянские поколения даже не задумывались о том, что власть наместника Аллаха может быть не навсегда. Но ее сменила империя Габсбургов, потом королевство Карагеоргиевичей, за ними Тито — их, новых хозяев, тоже нужно считать оккупантами?
Накануне последнего по счету балканского конфликта две трети населения вишеградской общины (примерно 20 тысяч человек) составляли бошняки, около трети — сербы. Весной 1992 года, в первые дни войны, город и его окрестности стали ранними жертвами преступлений: сотни или тысячи семей мусульман были изгнаны либо уничтожены; трупы многих несчастных, о чем свидетельствуют и документы Международного трибунала по наказанию военных преступников в бывшей Югославии[24], сбрасывали с моста Мехмеда-паши в воды Дрины. Община Вишеград стала сербской, и в центре города недавно открыт новый памятник Иво Андричу — творцу, всей силой своего гения приближавшему интернациональные мир и согласие. Прежний, установленный при социализме бюст писателя, как рассказывают в городе, за год до начала войны скинули ударами молота с постамента и сбросили в Дрину мусульманские экстремисты.
Богомильский надгробный камень — стечак. Ксилография Уго Шарлемона. 1901 год
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК В БОСНИИ И БОЛГАРИИ ИСКОРЕНЯЛИ ЕРЕСЬ
В X веке, в пору правления царя Петра (927–969), на юго-западе Болгарского царства возникло антиклерикальное движение, распространившееся затем по Балканам, преимущественно среди славян, и оказавшее влияние на западноевропейские христианские ереси. Считается, что сформулировал догматы новой народной веры поп Василий Богомил (возможно, калька с греческого имени Феофил), полумифический проповедник, данных о биографии которого не сохранилось. Богомилы, заявлявшие о возврате к идеалам раннего христианства, критиковали церковные институты за чванство и стяжательство и пропагандировали аскетизм и простоту, которые считали пропусками в царствие небесное. Материальный мир есть порождение дьявола, учил Богомил, а душу человеческую и вообще все духовное создал добрый Высочайший Бог. «Мрачная доктрина» богомильства, наиболее полно сформулированная в трудах «Иваново Евангелие, или Тайная Книга» и «Прения Христа с дьяволом», получила название «дуализм». Это учение о двойственности мира и постоянной борьбе света и тьмы. Богомила и его учеников объявили еретиками еще и потому, что они отрицали важные атрибуты веры вроде церковных зданий, икон, литургии, святых мощей и креста, считали, что между Богом и человеком не нужен посредник. Богомилы отвергали светскую власть, осуждали богатство, не пили вина, не ели мяса. С ересью боролись светские и духовные власти Византии, Болгарии, Сербии, Венгрии, Папского государства: богомильских проповедников высылали и изгоняли, сажали в темницы и сжигали на кострах, против богомилов объявляли крестовые походы. В Боснии, по мнению некоторых исследователей, богомилы тем не менее пользовались покровительством крупных феодалов. Самостоятельная Боснийская церковь, учение которой, как считается, близко к богомильству, сохраняла влияние почти до османского завоевания. Более значительное, чем в других районах Балкан, распространение ислама в Албании, на юге Болгарии и в Боснии большинство боснийско-мусульманских историков связывают с тем, что классические христианские традиции из-за противодействия богомильства здесь не укоренились достаточно глубоко, а вопрос смены веры часто не имел принципиального значения. «Поутру Илия, а к вечеру Алия», — гласит местная пословица. На западе Европы последователей подобных богомильству еретических учений именовали манихеями, публиканами, патаренами, катарами, альбигойцами. Последние сведения о ереси богомильства относятся к XVII столетию. Почти все сочинения духовных лидеров богомилов утеряны, их взгляды изучают по критическим текстам, некоторые историки вообще не верят в то, что богомилы существовали. Скептики считают, что столь сложная идеологическая концепция не была способна вдохновить забитых крестьян, и сомневаются в массовом распространении богомильства на Балканах.
Вишеградская послевоенная жизнь оказалась немного похожей на литературную карикатуру. Провинциальную пустоту вдруг оживил Эмир Кустурица. В отличие от Андрича (боснийского хорвата по крови и серба по позднему самоопределению), продвигавшего идею южнославянского равенства и первым поддержавшего резолюцию о единстве сербскохорватского литературного языка, Кустурица настаивает на четкой идентификации народов. Знаменитый кинорежиссер, расцвет таланта которого пришелся на 1980–1990-е годы, происходит из семьи сараевских мусульман. Со временем Кустурица пришел к выводу, что у его далеких предков были сербские корни. В 2005 году он принял православную веру и сменил мусульманское имя Эмир на православное Неманя; так звали основателя средневековой сербской монархической династии. В юности Кустурица, подобно многим югославским интеллектуалам титовской поры, считался стихийным анархистом, что легко заметить по его ранним (и лучшим) фильмам. Постепенно он сдвинулся в своем мировоззрении к антиамериканизму и державности. Теперь Кустурица выступает за реставрацию монархии, охотно дружит с Никитой Михалковым, недолюбливает империалистов и регулярно принимает ордена и премии от православных патриархов.
Богатые и знаменитые могут позволять себе разные чудные капризы; это право заработано их творческими или предпринимательскими дарованиями. Андрич сказал о таких, что они способны «соединять гордость со славой». В 2006 году в известном редким видом сосен туристическом районе Златибор на юго-западе Сербии, на холме Мечавник, Кустурица построил этносело Дрвенград, сначала как кулису к фильму «Жизнь как чудо», а потом — в качестве замены «безвозвратно утраченному из-за войны Сараеву». Улицы этого села, предназначенные не для сельской жизни, а для проведения творческих семинаров и конкурсов, названы по выбору его основателя и дают представление о политических и культурных предпочтениях Кустурицы. Честь быть увековеченными выпала, в частности, Эрнесто Че Геваре и Гаврило Принципу, Федерико Феллини и Андрею Тарковскому, Диего Марадоне и Новаку Джоковичу, а Михалкову и Николе Тесле[25] досталось по целой площади. Есть в Дрвенграде шуточная тюрьма, за решетку которой Кустурица «посадил» американского президента Джорджа Буша-младшего и генерального секретаря НАТО Хавьера Солану, наказав их таким образом за бомбардировку Югославии; есть кладбище плохих кинофильмов, тоже по персональному выбору главного гробовщика. Каждую зиму хозяин Дрвенграда, используя связи в гламурном и политическом мирах, организует в своем селе фестиваль Küstendorf — мероприятие антикоммерческого характера, без всяких красных дорожек. Победителю конкурса короткометражек вручают приз «Золотое яйцо». Так Кустурица воюет против глобализма и мирового капитала, одновременно продвигая идеи «зеленого мира», сербства и всеобщего равенства в хаосе.
Вслед за селом из дерева настала очередь Каменграда: от лесов Златибора до Вишеграда всего-то около 20 километров. Новое идеологическое строительство, прицельно посвященное Иво Андричу, Кустурица затеял на лужайке чуть ниже османского моста по течению Дрины, там, где в нее впадает небыстрый Рзав. Этот поросший ореховыми деревьями Мезалинский луг на стрелке прежде, до появления вишеградской гидроэлектростанции, заливало при каждом наводнении, но с конца 1980-х ситуация изменилась. Это предприятие Кустурицы на паях с боснийской Республикой Сербской оказалось поосновательнее — целый квартал на полсотни строений, с муниципалитетом, театром-кинотеатром, гуманитарным институтом, храмом Святого Князя Лазаря, памятниками и рынком, музеем и художественной галереей, гимназией и Академией искусств, даже с небольшими яхт-клубом и пристанью. Прекрасный мраморный и гранитный город-солнце, ослепительный и жаркий летним днем, торжественный и грамотно подсвеченный ночью, так, чтобы православный купол эффектно смотрелся на фоне османского моста. Храм этот не простой, а специальный, он чтит славу главного героя Косовской битвы. В последние годы именно сюда, а не на древнее поле брани, не к Газиместану, собираются на торжественное богомолье сербская номенклатура и патриотическая общественность, поскольку доступ в Косово теперь затруднен. Чуть сместился и фокус политической мифологии: наряду с косовскими мотивами зазвучал мотив сербской Боснии как важного национального бастиона, нуждающегося в вечной обороне.
В газетах писали, что Кустурица собирался снимать в Андричграде — ну что же еще? — экранизацию «Моста на Дрине». Еще интересно, что официальное открытие «города в городе» состоялось 28 июня 2014 года, точно в столетнюю годовщину «сараевского убийства», очевидно, как знак памяти сербского героя и тираноборца Гаврило Принципа. Иво Андрич был, листаю биографию писателя, товарищем Принципа по борьбе. В бытность студентом в Загребе, Вене и Кракове Андрич тоже состоял в революционном движении Млада Босна, хотя до поры до времени следил за деятельностью бомбистов из комфортного далека. По возвращении в Австро-Венгрию он был схвачен полицией и почти до конца Первой мировой войны томился то в тюрьме, то под домашним арестом.
Свой роман Андрич, в молодости практиковавшийся в сочинении стихов и эссе, создал три десятилетия спустя, и нет в этой книге ни пафоса, ни гордости, ни величия победы. Потому что война — сербские артиллеристы и австро-венгерские минеры — искалечила вишеградский мост и безвозвратно разрушила с таким знанием дела описанный Андричем вишеградский мир, эта война, как и любая другая, никому не принесла счастья, так чему же тут радоваться? «Хищный зверь, живущий в человеке и не смеющий обнаруживать себя, пока не устранены преграды добрых обычаев и законы, вырвался на волю» — вот что страшного случилось на Балканах в 1914-м, в начале 1940-х и в начале 1990-х, и не стоит, право дело, назначать праздники на дни скорбных памятных дат.
Мне довелось прочитать дюжину-другую книг о Первой мировой, обойти в разных странах пять или десять посвященных этой войне музейных экспозиций, посидеть над историческими трудами в нескольких европейских библиотеках, посетить поля некоторых битв и написать пару текстов о Гаврило Принципе. Общепризнано, что совершенное в Сараеве во имя южнославянского освобождения от австро-венгерской тирании убийство не было причиной Великой войны, но только дало формальный повод для ее начала; если бы не случился этот австро-сербский кризис, произошел бы какой-то другой, и всемирная история вряд ли повернула бы в 1914-м на иной путь.
Всякий раз, когда определенным образом складывались мои поездки по Европе (я бывал в Сараеве у братской могилы видовданских героев, куда перенесены останки террориста, и в его тюремной камере в крепости Терезин в Чехии, и даже на его родине в селе Обльяй на краю боснийской географии) или когда литературные исследования сталкивали меня с фигурой Принципа, я почему-то думал о том, каким тщедушным и несчастным неудачником был этот голубоглазый паренек с редкой для сербского простолюдина фамилией (искаженное ит. principe — «принц»). Такие обычно оказываются безобидными, пусть и злобными, но это, выходит, не тот случай.
Судебный процесс над террористами Mlada Bosna. Гаврило Принцип — в центре в первом ряду. 5 декабря 1914 года. Фото из книги Воислава Богичевича «Сараевское покушение» (1954 год)
Принципа на протяжении всей его 23-летней жизни, полагаю, преследовал комплекс слабости, даже имя свое он обрел не по воле родителей, а по настоянию приходского попа, который посчитал, что архангел Гавриил укроет крылом хилого младенца от смерти. Один из девяти детей сельского почтальона, Гаврило выжил. Из гимназии в Сараеве его исключили по политическим причинам — юноша рано проникся идеями славянского национализма, участвовал в антиправительственных демонстрациях и как-то раз даже получил от конного жандарма удар саблей плашмя. Школу он в итоге окончил в Белграде, однако на балканскую войну в сербский добровольческий отряд его не взяли из-за маленького роста и субтильного сложения. Но и доходяга хочет стать героем: Принцип читал сочинения русских анархистов, упражнялся в пулевой стрельбе и бомбометании и тренировал твердость характера, которой ему хватило и в решительный момент, чтобы совершить точные выстрелы в своих врагов, и позднее, чтобы не изменить убеждениям во время суда и тюремного заключения. Своих товарищей Принцип не выдал, хотя в итоге шестерых из семерых террористов все равно поймали.
Покушение на Франца Фердинанда (случайной жертвой стала и супруга эрцгерцога) со страниц мемуаров и исторических исследований предстает чередой несообразностей, а удачный для террористов исход операции кажется случайностью. История этого преступления выглядит абсурдистской трагикомедией, прямо-таки мешаниной ужаса и нелепостей. Организаторы визита австро-венгерского престолонаследника в Сараево проявили вопиющую неспособность обеспечить безопасность высокого гостя: губернатор Боснии и Герцеговины забыл проинформировать шофера-чеха об изменении маршрута кортежа, что сделало неминуемым его случайное столкновение с атентатором; в роковой момент, как раз у Латинского моста, автомобильный двигатель заглох, так что Принцип получил возможность стрелять с расстояния полутора метров. Эрцгерцогу преступник попал в шейную артерию, а его супруге случайно пустил пулю в живот. Исполнители таракта не смогли сдержать клятву смерти и совершить самоубийство на месте своего подвига, чтобы унести в могилу тайну его организации: «просроченные» капсулы с цианидом вызвали лишь рвоту, Миляцка, в которой надлежало утопиться, была слишком мелкой, попытки застрелиться оказались тщетными.
Принципа не казнили, поскольку к моменту преступления ему еще не исполнился 21 год, это минимальный по законам габсбургской монархии возраст для вынесения смертного приговора. Может быть, оказавшись в заключении, он и пожалел, что не родился раньше и не закончил жизнь в петле, потому что смерть этого террориста оказалась медленной и страшной. В тюрьме у слабого здоровьем Принципа быстро прогрессировал туберкулез позвоночника, ему ампутировали руку. Он выдержал за решеткой три года десять месяцев, не дождавшись окончания войны и образования южнославянского государства, ради чего, собственно, и затевал в Сараеве кровавое дело. Приближение кончины не сделало его мягкосердечнее, напротив, еще более озлобило, обострило революционные воззрения (как писал товарищ Принципа по борьбе, у него «были глаза свободного волка»). Узник в буквальном смысле слова иссох; согласно записи тюремного врача, мертвое тело Принципа весило всего 40 килограммов. Как вспоминал один из заключенных Терезина, это свое истаявшее тело Принцип однажды назвал «факелом, который осветит людям путь к свободе».
Латинский мост, Сараево. Открытка, 1913 год
К третьей годовщине покушения у Латинского моста установили памятник с ликами убиенных, но этот монумент простоял только чуть дольше года, его снесла драма распада Австро-Венгрии. В югославские времена считалось, что Гаврило Принцип своими выстрелами «выразил народный протест против тирании и вековечную тягу к свободе». Эти слова в середине 1950-х годов выбили на мемориальной доске рядом с впечатанными в бронзовую площадку на мостовой следами ног — на том самом месте, где в момент выстрелов стоял террорист. Когда я впервые оказался в Сараеве, в военную пору сербской осады, набережную Миляцки уродовали оспины от осколков мин, а памятные знаки были демонтированы или разбиты в результате обстрелов.
Монумент жертвам Принципа не восстановили до сих пор, никаким героизмом здесь теперь и не пахнет. Музей революционной организации Млада Босна переоборудован в довольно скромный музей истории Сараева 1878–1918 годов — австро-венгерского периода Боснии и Герцеговины, ключевым событием которого, как следует из экспозиции, стало покушение на жизнь эрцгерцога. К стене здания прикреплена памятная доска фактографического толка: кто, когда, в кого стрелял. «Бронзовые следы Принципа» изготовлены заново, площадка теперь установлена внутри, у кассы, так что убийцу легко может изобразить любой посетитель. Женщины, как я заметил, стесняются, а вот мужчины охотно ступают в чужие следы. О чем они, интересно, в этот момент думают? Возвышает ли, к примеру, нравственно то обстоятельство, что ты оказываешься в позе человека, застрелившего наследника престола великой европейской державы?
Ажиотаж вокруг имени и дела Принципа и через век с лишним не утихает, кое для кого он выглядит предшественником Че Гевары. В столице Сербии я видел яркое граффити с портретом Принципа и надписью «Бунт!», на одном книжном развале обнаружил хвалебную монографию о нем с оригинальным названием «Принципы Гаврило». В последние годы ему принялись ставить памятники — и в Белграде, и в сербском Сараеве.
Через административную границу мусульманско-хорватской и сербской половин Боснии я отправился на троллейбусе номер 103, который следует от Латинского моста через сараевские районы Грбавица и Алипашино-Поле до последних кварталов Добриньи. За ее домами и дворами улица Мимара Синана как бы сама собой переходит в улицу Сербских правителей. Троллейбус доползает до конечной, пассажиры дальше следуют пешком, рассеиваясь по окрестным новостройкам. Вывески на латинице сменяются вывесками на кириллице, в роли пограничного поста, как кажется, выступает кондитерская Солун, которой заведует отнюдь не грек из Салоник, а хмурый сербский малый в спортивных штанах.
Это другой идеологический мир — края, политкорректно названные Восточным Новым Сараевом. На полках местного книжного магазина покупателей ждут произведения сербских авторов «Русская мощь» и «Россия — Запад: тысячелетняя война». Не нужно даже знакомиться с мужиками, скучающими в пивных, чтобы предположить: уже за первой кружкой тебе убедительно объяснят, что Югославию развалила Америка, и только попробуй не согласись! Новое сербское Сараево — спальный район на 60 тысяч жителей, похожий на какое-нибудь Дегунино, правда, не столь высокоэтажный, но с такими же просторными пустырями, разноцветными торговыми центрами и пафосными православными храмами. Вроде бы это та же Босния и Герцеговина: как и по другую сторону прочерченной войной и кровью линии, здесь совершают покупки в супермаркете Konzum, делают ставки на футбол в букмекерской конторе Premier, расплачиваются за товары и услуги дензнаками с портретами поэтов Йована Дучича и Мусы Чатича, не запятнавших себя националистическими произведениями и заявлениями.
Та же страна, да не та. Я отыскал парк Гаврило Принципа, в котором не было деревьев, но стоял памятник сербскому герою — рядом с большим информационным стендом. Принцип, оказывается, стрелял в наследника престола, поскольку «в ту эпоху с тиранией можно было бороться только таким способом». Сообщается, что на месте покушения в югославское время работал музей, однако «в начале 1990-х годов бойцы правительственной армии Боснии и Герцеговины уничтожили этот мемориал». Тот, кто не удосужится проследовать по троллейбусному маршруту номер 103, может сделать вывод: это и есть вся правда о Принципе. Вот школьники стучат на спортплощадке баскетбольным мячом, вот мамаши гуляют с колясками, вот пенсионеры играют в шахматы — да они наверняка так и полагают, если вообще задумываются о вопросах истории.
Граффити фанатов футбольного клуба Славиja в Новом Сараеве. Надпись «Когда кончается любовь к Отечеству, тогда и государство должно умереть». Фото автора
В столице Боснии я остановился в квартире интеллектуала Фадила Мушича. Он и архитектор, и художник, и социолог, да еще и поэт, автор сборника военной лирики под названием «Сараевская Campo di Fiori». Над своей богемной мансардной квартирой Фадил устроил террасу, где мы и вели долгие разговоры о войне и мире. С крыши дома на набережной Бана Кулина открывается прекрасный вид на все четыре стороны, и я пишу вот эти строки, перечисляя то, что сейчас вижу вокруг себя: и минарет мечети Хусрев-бега, и городской рынок Маркале, и башни католического храма Святого Сердца Христова, и крест старой сербской церкви, и крышу синагоги, и сараевскую библиотеку, сожженную минометными гранатами и восстановленную, и здание Президиума Боснии и Герцеговины, и куст проплаченных арабскими шейхами небоскребов, и закатное солнце, падающее за спину телевышки на горе к юго-западу от города. Горы-то окружают Сараево широким кольцом, с их вершин и шарашила по всей этой красоте сербская артиллерия.
Прямо подо мной — сувенирно-ремесленная Башчаршия, богатый район восточных торговых лавок, харчевен и мастерских, над черепичными крышами поднимается терпкий дымок, потому что мясо в Боснии принято жарить на древесных углях. Жестянщик здесь и теперь соседствует с башмачником, а пекарь с брадобреем. Этот город мастеров сложился в первой половине XVI века, в пору османского расцвета Боснии, при просвещенном султанском наместнике Гази Хусрев-беге. Тогда в Сараеве, сообщает в монографии «Восточная и Центральная Европа под властью Османов» Питер Ф. Сугар, насчитывалось шесть мостов, шесть общественных бань-хамамов, три торговых двора-безистана, несколько библиотек, шесть странноприимных домов для дервишей, пять духовных семинарий-медресе, 90 исламских школ-мектебов и свыше 100 мечетей. Кое-что из османского наследия уцелело до наших дней, поскольку остались и люди, которые верят: такие объекты несут в себе удобства, знания, святость. При этом Сараево, как и вся мусульманская Босния, умеет сочетать в себе вест и ориент. В Сараеве понимаешь: Редьярд Киплинг все-таки ошибался, восток и запад счастливо перемешались, и не в британских колониях, а в Европе. На мостовой одной центральной улицы плиткой выложены стрелки компаса и надпись «Здесь встречаются цивилизации». Но встречаются они по-разному: совсем рядом — Музей геноцида в Сребренице, неподалеку — памятник убитым во время осады Сараева детям.
Сараево австро-венгерской поры. Музыкальный павильон в парке Франца Иосифа на берегу Миляцки. Открытка. 1910 год
Латинский мост — во‐он он, второй от моей крыши к северо-западу — в основе своей тоже древний, может быть, еще древнее вишеградского, хотя доподлинно неизвестно, когда он был построен. К 1541 году относятся упоминания о деревянном мосте через Миляцку, связавшем чаршию с торговой колонией Латинлук, в которой базировались ремесленники и купцы из Далмации. В 1565 году о мосте через Миляцку впервые написали как о каменном. Потом его многократно перестраивали и реконструировали; при благоустройстве речки лет 150 назад мост подрезали на одну арку, лишив его баланса и симметрии. Если и остались в основании конструкции глыбы XVI века, то теперь вряд ли кто рискнет с уверенностью отличить их от новых.
Фадил, интеллигентный дядька в очках и шляпе, из-под которой торчат творческие пряди седых волос, интересно импровизирует о прошлом и настоящем, о «мягком теле мусульманской Боснии», в которое (в отличие, например, от «твердых» хорватских земель) якобы легко проникнуть захватчику, однако приходит к банальному выводу: приказ начать войну сербы получили из Москвы, скорее всего, от православного патриарха. В пивной у парка Гаврило Принципа Фадилу лучше не появляться.
Мост через реку словно крыло ангела, уверен Иво Андрич. В уста одного из героев своей памятной книги, Али-ходжи Мутавелича, югославский писатель вложил притчу о том, что «после устройства источника нет более богоугодного дела, чем построить мост, и нет более страшного греха, чем мост разрушить». Мутавелич и мост через реку не перебросил, и источник не оборудовал, и умер от разрыва сердца в самом конце романа, потому что кончился, умер тот мир, в котором ходжа привык жить, а дальше жить ему оказалось незачем.
Мосты через Дрину и Миляцку перетерпели все невзгоды и устояли, в отличие от моста через Неретву, которому не повезло. 9 ноября 1993 года Старый мост в Мостаре разрушили — с очень большой степенью вероятности, огнем хорватских танковых орудий. До обрушения пешеходный мост мастера Хайреддина простоял 427 лет, и в последние перед смертью дни выдержал, как писали сараевские газеты, шесть десятков прямых попаданий. Вместе с каменной аркой обвалились часть сторожевой башни и скала, на которую опиралась конструкция на берегу реки.
За месяц до этого я впервые побывал в Мостаре, городе, который за время одной войны пережил сразу две. В 1992 году сербскому наступлению в долине Неретвы противостояли объединенные хорватские и мусульманские силы. Через год союзники поссорились и принялись воевать друг против друга, чтобы еще через год под сильным международным давлением замириться и заключить новый, вынужденный альянс. Мостар пострадал от обстрелов сильнее всех других боснийских городов, даже больше Сараева, на четыре года запертого в сербское артиллерийское кольцо. Права на Мостар, в котором за века сложились три славянские общины, предъявляли все участники войны. Боснийские сербы намеревались переименовать город в Алексинац (по имени местного уроженца поэта Алексы Шантича), боснийские хорваты — в Герцег-Степан-Град (по имени боснийского дворянина Степана Вукчича из рода Косачей, основавшего в 1435 году герцогство Святого Савы, давшее название исторической области «Герцеговина»). Я видел мостарские руины, скелеты выгоревших зданий, однако до Старого моста, хотя формально в те дни и действовало перемирие, не добрался: в паре кварталов от Неретвы, по бульвару Народной революции, проходила линия фронта, обозначенная колонной старых грузовиков, и подходы к реке были блокированы военными.
В ту пору должность начальника Главного штаба Хорватского совета обороны[26] занимал генерал Слободан Пральяк, грузный мужчина огромного роста по прозвищу Борода. В миру Пральяк был режиссером средней руки, работал в театрах Загреба, Осиека и Мостара, снимал для телевидения. На войну, сначала в Хорватии, он отправился добровольцем, командиром отряда, набранного, как сообщалось в прессе, из интеллектуалов и деятелей культуры. Первая профессия начглавштаба давала о себе знать: я спрашивал генерала о войне, а он, косая сажень в плечах, говорил о том, что предпочел бы обсудить с русским репортером творчество Достоевского и метания Родиона Романовича Раскольникова. Происходящее, кромешный боснийский ужас, Пральяк объяснял просто, примитивной логикой войны.
Тогда, осенью 1993-го, я до конца не отдавал себе отчета, с кем разговариваю, да и генерал-режиссер не мог предполагать, сколь трагически сложится его судьба. Через десятилетие после войны Международный трибунал по наказанию военных преступников в бывшей Югославии выдвинул против Пральяка и еще нескольких его товарищей по хорватскому оружию обвинения в совершении военных преступлений (по принципу «ответственности командира», то есть лично никого не убивал, может, и не стрелял даже, но отдавал злодейские приказы или знал, что стреляют и убивают его подчиненные, но эти убийства не предотвратил), в том числе и в связи с разрушением культурных и религиозных объектов в Мостаре. Генерал, уже в отставке, добровольно сдался международному правосудию, желая доказать свою невиновность. Его приговорили к 20 годам тюрьмы, и когда это решение суда после обжалования в конце 2017 года подтвердила апелляционная коллегия, осужденный воскликнул: «Слободан Пральяк не военный преступник!» — и махнул цианистого калия из невесть как пронесенного с собой в зал заседаний пузырька темного стекла.
Последний в жизни самурайский поступок генерала, взятый в отрыве от конкретной ситуации, мог бы вызвать уважение или по крайней мере сочувствие — как любое экстремальное движение сильной натуры, мотивированное крайним отчаянием или отсутствием сомнений в своей правоте. Личные представления о чести, впрочем, далеко не всегда соотносятся с правом. Возможно, во всем виноваты не врожденные или приобретенные качества характера, а национализм, пропаганда, война: это они деформируют представления о добре и зле, о том, как можно и должно поступать и чего нельзя в самом себе допустить ни в коем случае, это они способны исказить патриотизм до его противоположности. Это они — национализм, пропаганда, война — превращают симпатичных здоровенных бородачей в обвиняемых и осужденных. Наверное, не случись войны, Слободан Пральяк не лежал бы сейчас в могиле на загребском кладбище Мирогой, а с успехом и удовольствием ставил бы Брехта или Чехова. Но только война случилась, и Пральяк стал ее генералом, совершившим преступления. В Хорватии его хоронили как героя, а один ядовитый комментатор написал: «Пральяк сам вынес себе приговор и сам тут же привел его в исполнение». Вот вам и Достоевский.
Пральяк утверждал, что Старый мост взорвали, подведя заряд, мусульмане, бойцы армии Боснии и Герцеговины, — чтобы свалить вину на хорватов. Сохранились видеозаписи артиллерийских обстрелов и обрушения гигантской конструкции в Неретву: под пронзительно голубым небом древние каменные глыбы с глухим рокотом валятся в изумрудную воду, поднимая высоченные столбы брызг. Я внимательно изучал материалы уголовного дела IT‐04–74: суд не смог юридически достоверно установить обстоятельства гибели Старого моста. Эксперты рассудили, что технически это инженерное сооружение представляло собой имеющую военное значение цель, поскольку использовалось боснийскими мусульманами для переброски военного снаряжения с одного берега реки на другой. Не забудем, однако, что такая военная цель — не какая-нибудь артиллерийская батарея, не армейская казарма, а выдающийся памятник мирового зодчества.
Улица Мостара. Открытка. 1890–1990-е годы
Венгерско-американский исследователь Андраш Ридльмайер, составитель каталога уничтоженных в шести балканских военных конфликтах 1990-х годов объектов истории и культуры, называет разрушение Старого моста проявлением целенаправленной политики «убийства памяти». Вот ее логика: материальные свидетельства мирного сосуществования народов разрушаются, чтобы их прошлое представало сплошным полотном всеобщих ненависти и страха. В XIX веке, когда Османская империя ослабела и уже не внушала западноевропейцам ужас, среди историков развернулась дискуссия: а не римской ли постройки мост через Неретву, под силу ли было вообще азиатам сотворить архитектурное чудо? Это прежде европейские послы, облаченные в знак уважения к чужому величию в восточные одежды, в обязательном порядке целовали владыке «победоносной империи» руку, а его подданных христиан не считали достойными милосердия и сострадания, поскольку им якобы не хватало «отваги и боевого духа». Но когда западная сила принялась ломать восточную, неудобное османское прошлое пытались сначала поставить под вопрос, а в конце XX столетия решили попросту свести его ценность к нулю. Уничтожали не только связь между двумя речными берегами, уничтожали саму возможность межнациональной коммуникации.
Полтора десятилетия после войны Мостар управлялся хорватами и мусульманами по отдельности — как два самостоятельных города, по бывшей фронтовой границе; да и теперь линия разделения, пусть не обозначенная на местности, существует, она незримо проходит все по тому же бульвару. Моему маленькому мостарскому другу Тарику девять лет, на виске у него выбрито число 10, потому что парень хочет быть таким же искусным футболистом, как Лионель Месси. На «том берегу Неретвы», в пяти минутах ходьбы, Тарик бывал два или три раза в жизни в сопровождении родителей — среди хорватских сверстников ему делать нечего, в футбол они играют на совсем разных полях. Сердечнее, чем за «Барселону», Тарик болеет за местный Velež — окрестные кварталы испещрены политическими граффити «не забудем, не простим», выполненными болельщиками этой команды, в основном мусульманской. Местный фан-клуб называется Red Army, с соответствующей символикой и слоганом «Эта звезда не погаснет никогда». А «на том берегу Неретвы» свои кумиры торсиды, из хорватского «национального» клуба Zrinski.
Руины Мостара. Фото автора
Западную Герцеговину армия Мехмеда II завоевала в 1466 или 1468 году. Столетие спустя через норовистую Неретву по просьбе местных жителей и воле Сулеймана Великолепного перебросили элегантный каменный полумесяц, заменивший деревянную переправу. Проект, над правильной реализацией которого надзирал султанский зять Карагёз Мехмет-бей, потребовал девяти лет стараний и обошелся казне в 300 тысяч серебряных акче (курица в то время стоила четыре, баран — 25, за породистого скакуна или красивую наложницу давали примерно 1000 акче). 456 сероватых блоков из известняка вытесаны в каменоломне Мукоша, что в 5 километрах к югу от города. Тамошняя уникальная горная порода называется «тенелия»: пока этот камень свежий, только вырубленный из скалы, пока не выпарилась влага, он поддается обычной пиле и обработке простым инструментом. Раствор, скреплявший глыбы, каменное тесто, замешивали, как гласит легенда, с добавлением яичных белков, однако новейшие исследования этот невероятный факт опровергают. Даты строительства подтверждали две надписи, выбитые на мосте. Одна называла сооружение «свод всемогущего Бога».
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК В БОСНИИ ПЕЛИ СЕВДАЛИНКИ
Севдалинка — традиционный фольклорный жанр городской любовной поэзии боснийских мусульман, а севдах (турецк. sevda — «меланхолия», в других значениях «печаль», «любовь-болезнь») — особое состояние ума и души исполнителей и слушателей. Севдалинка, если объяснять просто, представляет собой мелодраматическую песню, часто с исламскими мотивами, исполнитель которой сам регулирует ее ритм и темп, то есть вокал определяет музыку, не наоборот. Считается, что самая старая из известных ныне севдалинок, «Болезнь царевича Муйо», написана около 1475 года. Поначалу севдалинки пели женщины а капелла, обычно в семейном кругу, потом к вокалу добавилось музыкальное сопровождение на сазе — разновидности лютни, в австро-венгерский период севдах-ансамбли пополнились скрипачами и аккордеонистами. По оценкам этнографов, к концу XIX столетия в Боснии и Герцеговине циркулировало около 4 тысяч севдалинок. Тексты для них писали известные поэты (не только мусульманские), лучшие певцы становились кумирами публики. Считается, что современный канон севдаха задала в начале позапрошлого века первая боснийская поэтесса Умихана Чувидина. Одна из самых знаменитых севдалинок, сочиненная в 1902 году «Эмина», принадлежит перу Алексы Шантича. Эта песня воспевает красоту жившей по соседству с поэтом дочери мостарского имама. Она, прекрасная Эмина Сефич, надолго пережившая прославившего ее поэта, родила в законном браке 14 детей. В Мостаре стоит памятник Эмине и песне о ней, и смотрится он куда естественнее, чем золотого цвета монумент голливудскому киноактеру Брюсу Ли в парке Зриньевац. Севдалинка веками составляла важную часть гражданской исламской традиции Боснии, была эпизодом кодифицированного патриархального ритуала романтического знакомства. Такие контакты, согласно правилам, проходили после полуденной пятничной молитвы у входа в дом юной красавицы. Она не выходила на улицу, дожидаясь ухажера за забранным деревянной решеткой окном. Юноша, не имевший возможности даже взглянуть предмету своей страсти в глаза, открывал общение песней, девушка песней же и отвечала. Так, в целомудрии, и рождалась любовь. Популярный исполнитель и исследователь фольклора Дамир Имамович (его дед Заим считается легендой севдаха), впрочем, указывает, что в севдалинках часто слышны и субверсивные, идущие вразрез с традицией мотивы, что существовала цензура, удалявшая из текстов табуированные темы. Многие в Боснии полагают севдах основой национальной идентичности. В португальской культуре схожее значение придается эмоциональному состоянию саудади и его музыкальному выражению, стилю фаду. Считается, что певец, не вошедший в состояние севдаха, не способен «с душой» исполнить севдалинку. В XX веке, в югославскую эпоху, севдалинки опростились, эти восточного разлива мелодии звучат и в Скопье, и в Сплите, и в Нови-Саде. Чистота жанра не сохраняется, севдалинка послужила основой местной эстрадной попсы, стала экспортным фольклорным товаром. Севдалинки в блюзовых аранжировках, например, успешно продает в Европу ансамбль Mostar Sevdah Reunion. Сверхсовременный севдах исполняет утонченный боснийско-сербский музыкант Божо Вречо, талантливо продвигающий женско-мужской творческий дуализм. Густо бородатый, богато татуированный Вречо носит яркие дамские наряды и украшения, часто поет о любви от женского имени, и на его концерты — это в традиционной-то Боснии! — непросто достать билеты. Мне доводилось вживую слушать и экстравагантного Вречо, и традиционный севдах в мусульманском доме, и ресторанного пошиба шансон. Моя любимая севдалинка далека от классики жанра: это баллада автора-исполнителя из Воеводины Джордже Балашевича. Естественно, в песне фигурирует и мост.
Для кого Дрина течет налево, Для кого направо. Но сильны ее глубины, Мир наш рассекают на две половины. Тайный брод, голубка, знаю, путь нам странный. Там и будет мост мой, где я встану, Твердый подо мной, Там, куда уносит конь мой вороной. Только счастья мне не будет, Если ты идешь другою стороной[27].Поэт и османский царедворец Дервиш-паша Баезидович первым заявил, что над Неретвой воссияла радуга: при протяженности 27,34 метра и ширине всего 4,56 единственная каменная арка поднялась над водой на 19 метров, то есть мост получился едва ли не выше, чем длиннее. Необычные пропорции придавали колоссальному каменному строению элегантную легкость. Географ Мустафа Абдуллах не зря считал: этот мост удивит всех мастеров мира. Предание гласит, что, не будучи уверенным в точности инженерных расчетов, архитектор Хайреддин скрылся со стройплощадки, не дождавшись разбора лесов, боялся, что его творение не выдержит собственной тяжести. Но зодчий все спроектировал дальновидно; христиане к середине XVI века еще не изобрели бронированные боевые машины с пушечным вооружением, так что мост Хайреддина, так и не увидевшего свою лучшую работу во всей ее красе, еще четыре столетия собирал восторженные отзывы чужеземцев. Эвлия Челеби, посетивший Мостар в середине 1650-х годов, оставил в мемуаре восхищенную запись: «Скромный слуга Аллаха, я прошел шестнадцать стран, но нигде не видал такого моста. Он переброшен со скалы на скалу на высоте неба». Оказавшийся в Мостаре французский путешественник заметил, что местный мост во всех отношениях круче Риальто.
К 1664 году относятся первые свидетельства о прыжках с моста в Неретву, через 300 лет превратившихся в популярные международные соревнования. У оконечностей каменного коромысла поставили сторожевые башни — Тару на левом берегу и Халебию — на правом. Они служили казармами для сборщиков налогов (их, собственно, и называли мостари), а позже были переоборудованы под пороховой склад и тюрьму. Вот так новый мост, постепенно превращаясь в Старый, и служил за небольшие деньги людям, а во второй половине XX века еще и югославскому кинематографу: на его арке снимали драматичные сцены исторических картин, вроде экранизации романа «Дервиш и смерть». Но служил этот мост, замечу, для разного: из сербских источников мы узнаем, что османские мучители иногда выставляли над Неретвой отсеченные головы христианских героев. Их потомки, выходит, ответили потомкам других угнетенных преимущественно за то, что те молились иным образом, — точными танковыми выстрелами. Помню надпись на дорожном указателе у въезда в город: «Мостар мертв!»
Мостар и Старый мост. Открытка. 1890–1900-е годы
Но теперь Мостар скорее жив, чем мертв. Центральные кварталы восстановлены, весь обновленный город — своего рода проект Европейского союза и разных меценатов, среди которых много арабов, во все это вложены тонны денег и труда. Мусульманские районы, как могут, держатся за свою старину: исламские памятники снабжены табличками «аутентичная Босния». В концепцию аутентичности входят понимание ислама как ежедневной традиции и, я полагаю, сопротивление тому, что мешает эту традицию поддерживать. Ислам в Боснии и Герцеговине действительно воспринимается скорее как бытовой обряд, чем как строгая и тем более воинственная догма, если только политика не превращает религию в инструмент борьбы за власть. Как сказал мне в полушутку мостарский мулла: «Еще совсем недавно никто не понимал, шииты мы или сунниты, это не имело никакого значения». Национализм раскрасил вооруженные конфликты в цвета религиозной нетерпимости: мечети, минареты, монастыри, кресты на куполах и колокольнях становились первыми мишенями артиллеристов.
То тут, то там в Мостаре натыкаешься на законсервированные руины, скелеты домов зияют глазницами выбитых окон. Таких рушевин в городе несколько десятков или несколько сотен, кое-что выставлено на продажу. Вечерами в уличных кафе — типичная балканская туса, юные красавцы и красавицы, рожденные и выросшие среди развалин, других городских декораций не видевшие и не знающие, выходят на романтическую охоту. Еще пять или десять лет — и последние раны сражений зарастут, исчезнут их архитектурные следы. Останется только память о войне, своя для каждого народа, и останутся скорбные мемориальные знаки: «В этом здании 20 сентября 1993 года погиб майор Халил ‘Хусо’ Джемич, кавалер награды ‘Золотая лилия’».
В июне 1994 года, едва конфликт хорватов и мусульман затих, останки Старого моста осмотрели специалисты ООН. Весной 1995-го я перебирался с одного берега Неретвы на другой по шаткой подвесной переправе. Река глубока, костей убитого моста над гладью воды не было видно. У развалин Тары меня окликнул с достоинством державшийся пожилой господин в поношенном пиджаке и сером берете, предложил за пять дойчемарок осмотреть «дом настоящей мостарской семьи». Уцелевшее при обстрелах двухэтажное здание с тенистым двором и мраморным фонтаном и впрямь напоминало музей: жилые помещения, в коврах и с низкими скамьями, по исламскому обычаю, делились на женскую и мужскую половины. Молчаливая хозяйка в цветастом головном платке принесла поднос с чаем и сухим печеньем. Подозреваю, это все или почти все, что было съестного в доме: жители Мостара, не считая тех, кто зарабатывал грабежами или контрабандой, кормились гуманитарной помощью и денежными переводами от родственников из-за границы. На подоконнике стояли фотографии двух темноволосых парней в рамках с траурными лентами…
Восстановление Старого моста началось в 2001 году и обошлось международному сообществу в 15,5 миллиона долларов. Обломки обрушившихся конструкций подняли со дна реки венгерские военные водолазы. Все тот же светлый камень «тенелия» 26 мастеров турецкой строительной компании вырубали все в том же карьере и под заунывное пение обрабатывали по тем же османским технологиям, что и 500 лет назад. Летом 2004 года мост-радугу торжественно открыли и сразу провели соревнования по прыжкам в Неретву — как знак того, что в Мостар возвращаются мир и согласие. Самый известный прыгун, почтенного уже возраста Эмир Балич (до войны он выступал в соревнованиях 20 раз — побеждал 13, все остальные разы попадал в призеры), участвовать в параде-алле отказался. В книге мемуаров Балич написал: «Я прыгал с этого моста более тысячи раз. Более тысячи раз я обнимал Неретву, более тысячи раз она принимала меня в свои холодные воды. Кем только не довелось мне быть в жизни — и кинооператором, и каскадером, и парашютистом, и боксером, и заключенным, и даже членом Олимпийского комитета. Но прежде всего я был прыгуном с моста. В тот день, когда мост был разрушен, случилась моя первая смерть. Поэтому из уважения к Старому мосту, которого больше нет, я ни разу не прыгну с нового».
Но Балич в Мостаре один такой гордый, популярность спорта и бизнеса возрастает. За прыжками (теперь это называется по-модному cliff diving) удобно наблюдать из позиционированных по обеим берегам реки бесчисленных кафе и со смотровых площадок, предаваясь размышлениям о том, что же ты все-таки видишь перед собой: Старый мост или памятник Старому мосту. Я следил за аттракционом с уровня воды, из-под каменной арки, с пристани для рафтинга. На парапет взобрался и принял позу ласточки худощавый прыгун в пронзительно-красных плавках, готовый сигануть в холодную воду за скромную сумму в 30 евро. Туристов в этот день было немного, спортсмен медлил, так что прыжка я не дождался. Скажу откровенно: с такой высотищи я не отважился бы соскочить и за куда более внушительную сумму.
Тот Олимпийский комитет, в котором состоял чемпион по прыжкам в речную воду с моста Эмир Балич, занимался организацией всемирных соревнований по зимним видам спорта в Сараеве. Этот спортивный праздник (февраль 1984 года) оказался еще и крупнейшей в истории южнославянского государства идеологической кампанией, в центр которой была поставлена самая многонациональная республика федерации, Босния и Герцеговина. Сараевская Олимпиада прошла по всем официальным показателям успешно, и политика «братства и единства», с помощью которой балканские коммунисты пытались тонко выстроить баланс национальных отношений, судя по партийным замерам общественной температуры, оправдывала себя. Или так только казалось? За полгода до Игр в Сараеве приговорили к долгим тюремным срокам группу религиозных активистов, обвиненных в преступных намерениях превратить марксистскую федерацию в мусульманскую. Среди осужденных был и автор «Исламской декларации» Алия Изетбегович, в 1992 году, при новых политических обстоятельствах, избранный первым президентом независимой Боснии и Герцеговины.
Однако любители спорта из разных стран югославскими тонкостями не интересовались. Паспорта СФРЮ за ее границами пользовались уважением, маршал Тито, лидер влиятельного Движения неприсоединения, проводил независимый курс в международных отношениях, а у себя дома, как объявлялось, строил «самоуправляемый социализм» не по чужим, а по собственным рецептам. В сравнении с СССР и его сателлитами Югославия выглядела примерным либералом: власти этой страны допускали политические дискуссии, позволяли интеллектуалам осторожно критиковать систему, даже разрешали публиковать в бульварных газетах эротические фотографии. Вот выдержка из одного партийного текста: «Совсем не случайно Олимпиада проводится в титовской неприсоединившейся социалистической самоуправляемой Югославии — в стране открытых границ, которая последовательно борется за равноправие всех людей».
Отвечая на вопросы переписей населения, почти 10 % граждан в ту пору в графе «национальность» указывали «югослав». Так выглядел балканский аналог сталинской попытки вывести в общественной пробирке «принципиально новую межнациональную общность». В Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории в добавление к традиционно «югославским» именам Бранислав и Слободан приобрело популярность имя Югослав. Если попросить каких-нибудь ветеранов коммунистической партии (да и не только их) перечислить достижения могучего вождя, они и сейчас загибают пальцы одинаково: Тито выиграл войну у немцев и итальянцев, не побоялся разругаться со Сталиным, справедливо решил национальный вопрос. При этом Югославия, крестьянская в первой половине минувшего столетия страна, быстро поднялась из руин, понастроила не только танково-тракторные заводы, но и магазины, в которых продавались приличные мебельные гарнитуры, модные мужские пиджаки и изящные женские туфельки. А Босния и Герцеговина в этом государстве была одним из центров развития новой промышленности.
Нет оснований сомневаться в том, что идея южнославянского единства пустила в боснийскую землю глубокие корни, ведь югославская гражданская идентичность существовала в реальности. Семейная история миллионов жителей федерации складывалась так, что практическое воплощение партийной наднациональной концепции, преобразованной из романтических идей интеллектуалов, разночинцев и террористов XIX столетия, несколько десятилетий выдерживало испытания — и причиной тому становились не только общественные, но и сложные личные обстоятельства. Мой друг лингвист Младен уже четверть века живет в Словении, куда вместе с родителями перебрался из Сараева военной поры. Прадед Младена по отцовской линии (словак из Трнавы, капитан военной медицины императорских и королевских вооруженных сил) в 1878 году прибыл в Боснийский пашалык Османской империи в составе XIII хорватско-славонского корпуса генерала Филипповича[28]. Там капитан женился на сербской девушке родом с севера Боснии, из-под города Брчко. У предков Младена по материнской линии хорватская и еврейская кровь; в семье одного его деда, выходца из Российской империи, говорили по-русски. Родной язык Младена, родившегося в Сараеве через столетие после оккупации этого города армией, в которой служил его словацкий прадедушка, — тот, что прежде назывался сербскохорватским; начальное образование мой приятель получил в Боснии, а школу и университет оканчивал в Любляне. Вот скажите, кто Младен по национальности и самосознанию?
Логотип Олимпийских игр в Сараеве‐1984
Во второй половине XX века Босния и Герцеговина служила главным полигоном эксперимента по идеологической переплавке народов, обычаев, языков, религий в новую человеческую субстанцию, и Олимпийские игры потребовались Союзу коммунистов Югославии для того, чтобы сомневающихся в прочности этого каленого металла, по крайней мере внутри страны, оставалось как можно меньше. Коммунисты не боялись трудностей и вызовов западного влияния: в дни сараевской Олимпиады в продаже появилась даже кока-кола в жестяных банках. Мой знакомый Александр (его отец — черногорец, мать — боснийская хорватка) в 1984 году был учеником третьего класса. Пустая банка из-под первой кока-колы, рассказывает Саша, хранилась в его мальчишеском хозяйстве целое десятилетие. Когда началась война, квартиру Сашиной семьи в пригороде Сараева разграбили сербские военные. Юноша записался добровольцем в правительственную армию Боснии и Герцеговины и почти три года провел на боевых позициях.
Йозеф (Йосип) Филиппович фон Филиппсберг. Фото. Ок. 1880 года
Торжество югославского интернационализма внесли в олимпийскую программу в качестве одной из главных дисциплин, это было важнее победы на лыжных и конькобежных дистанциях. Спортивные объекты возводили всей страной, на стройках трудились рабочие из разных краев федерации. Документальный фильм об Олимпиаде снимали силами восьми киностудий — из шести республик и двух автономных областей. Олимпийский флаг на церемонии торжественного открытия Игр несли восемь спортсменов — из шести республик и двух автономных областей, включая футболиста-албанца из Косова и лыжника из Македонии. В эстафете олимпийского огня (5289 километров) приняли участие тысячи спортсменов, студентов, ударников производства — из шести республик и двух автономных областей. Олимпийский талисман, волчонка Вучко, придумал художник-словенец, клятву от имени судей принес черногорец, Игры провозгласил открытыми хорват, оргкомитет соревнований возглавлял боснийский мусульманин. Коммунисты всё просчитали и выверили, но ничего не помогло: федерации из шести братских республик и двух автономных областей нет на карте.
Дева Мария из Герцеговины. Фото Мариуша Мусяла
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК ШКОЛЬНИКИ ПОВСТРЕЧАЛИ ДЕВУ МАРИЮ
Вечером 24 июня 1981 года шестеро хорватских школьников (в возрасте от 10 до 16 лет) рассказали, что на склоне каменистого холма Црница они только что повстречали Богоматерь с младенцем Иисусом на руках. Новость облетела христианский мир, местечко Меджугорье в Западной Герцеговине, рядом с которым произошла эта удивительная встреча, превратилось во всемирный адрес религиозного паломничества — сюда ежегодно приезжают около миллиона туристов. Школьники описали Божию Матерь как голубоглазую 20-летнюю женщину ростом около 165 сантиметров в серо-синих просторных одеяниях. Ни одному из верующих, которые с той поры поднимаются на холм (многие босиком, некоторые с деревянными или металлическими крестами в руках, есть и такие, кто ползет на коленях), не удалось увидеть Богоматерь, но своим уже давно повзрослевшим избранникам, если верить их свидетельствам, Дева Мария по-прежнему является более или менее регулярно. Двое, мои ровесники Вицка Иванкович и Иван Драгичевич, утверждают, что общаются с Мадонной в ежедневном режиме, получая от нее послания к миру или молитвенные поручения. Некоторым паломникам удается увидать на холме паранормальные явления: то воздвигнутый на вершине крест сияет словно электрический, то облака или солнечные лучи образуют в небе многозначительные рисунки. Власти Югославии расценили случившееся как клерикальную провокацию: информацию о святом явлении замалчивали, верующих преследовали, а активные проповедники чуда (например, монах-францисканец Йозо Зовко) попадали за решетку. После распада южнославянской федерации «меджугорские явления» стали рассматриваться как элемент страданий хорватского народа в антикоммунистической борьбе и символ его преданности истинной вере. В 1994 году режиссер Яков Седлар снял патриотический фильм «Богоматерь», верно, как полагали в Загребе, расставив мистические и политические акценты. В связи с расцветом религиозного туризма в далеком от столиц Меджугорье образовалась разветвленная коммерческая инфраструктура. Небесные послания распространяются на многих языках мира, каждый может их и прослушать, позвонив по специальному номеру телефона, и посмотреть об этом сюжет на YouTube. Ватикан отнесся к явлению Богоматери хорватам с настороженностью. Учрежденная папским решением в 2010 году специальная комиссия в течение семи лет всесторонне изучала меджугорские истории и в итоге признала, что божественную природу имели только первые семь сошествий Девы Марии на холм Црница (с 24 июня по 3 июля 1981 года). Отвергнув версию о возможном вмешательстве дьявола в ситуацию, комиссия рекомендовала признать Меджугорье официальным объектом католического паломничества. Уточнение внес и папа Франциск, выразивший сомнение в том, что Дева Мария является кому-то на протяжении нескольких десятилетий столь регулярно: «Богоматерь не заведующая почтовым отделением, чтобы отправлять сообщения каждый день». Я тоже поднялся на холм Црница, под самый его небесный крест. Присутствия неземных сил не ощутил, но место это, что называется, намоленное. Не устающий ждать чуда имеет бо́льшие шансы добиться исполнения мечты, чем тот, кто вечно во всем сомневается. Если же доверять глазам и чувствам истово верующих, то выясняется: Божия Матерь посещает наш грешный мир довольно часто. За два месяца до Меджугорья, например, ее заметили в Никарагуа, а пять месяцев спустя видели в Руанде.
Организация всемирных соревнований — классический пример того, как во имя торжества идеи бедную южную страну ее руководство заставило на глазах всего мира справлять хлебосольный зимний праздник. Югославская экономика скрипела, финансовую систему лихорадило, курс динара падал, а безработица, наоборот, росла, превысив к началу 1980-х годов показатель 14 % работоспособного населения. СФРЮ влезла в крупные международные долги, погашая старые обязательства за счет новых заимствований: в 1983 году каждый гражданин страны в пересчете был должен загранице 850 долларов. На беду разразился всемирный топливный кризис, и в Югославии, как и в некоторых других странах, владельцы частного автотранспорта имели право пользоваться своими машинами через день, в зависимости от номера регистрации, по четным или нечетным. Ощущалась нехватка кое-каких товаров первой необходимости, скажем растительного масла и кофе. В Белграде объявили «курс экономии и стабилизации», и амбициозный олимпийский проект парадоксальным образом стал составной частью стратегии скаредности по отношению ко всему, что в ЦК не считали «важнейшей государственной задачей». Едкий словенский комментатор заметил, что для проведения столь крупных соревнований в Сараеве не было ничего, кроме снега. Впрочем, зима‐84 выдалась бесснежной, и запорошило — к восторгу и облегчению организаторов мероприятия — только накануне открытия Олимпиады.
Партия и правительство заботились о том, чтобы народный энтузиазм был массовым, а участие в спортивно-идеологическом проекте поголовным. В 1980 году появился «Общественный договор об обеспечении средств на проведение и финансирование Олимпиады из личных доходов граждан». Жители Боснии обязывались отчислять на общее дело 0,2 % своих доходов; для Сараева и окрестностей индекс побора увеличили в 1,5 раза. Социалистический союз трудового народа, важный механизм социального и хозяйственного самоуправления, занялся организацией ежегодных кампаний по сбору якобы добровольных пожертвований. Максимальный разовый взнос составлял 5 тысяч динаров (по курсу 1982 года около 100 долларов). Такие суммы внесли, к примеру, все до единого депутаты сараевского городского совета. Пять из 12 тысяч рабочих металлургического комбината из города Зеница за активное участие в акции были награждены «золотыми», «серябряными» и «бронзовыми» дипломами. Государство демонстрировало понимание проблем малоимущих: пенсионерам, к примеру, разрешалось выплачивать олимпийские пожертвования в рассрочку. Миллионными тиражами в стране распространяли билеты олимпийской лотереи. Все эти мероприятия позволили покрыть почти 10 % расходов на проведение соревнований, которые вообще-то, если верить официальной статистике, вышли экономически прибыльным мероприятием.
Эмоциональное восприятие Олимпиады в памяти многих жителей Сараева, для многих боснийцев, да и многих бывших югославов вообще до сих пор остается праздничным. Недим, потомок вишеградского градоначальника, с улыбкой рассказывает, как его школьником отправили на стадион Кошево чистить снег, это было здорово! «Время Олимпиады — две самые лучшие недели в истории города, — вспоминает журналист Сабина Чабаравдич. — Сараево стало тогда центром вселенной». Под словами Недима и Сабины подпишутся тысячи и тысячи тех, кому теперь за сорок, и скажут они примерно такие же слова. Особенно пережившие сербскую блокаду, а она ведь продолжалась почти столько же, сколько длилась война, которую в России называют Великой Отечественной, 1410 дней и ночей. Это было ужасное время смерти, время без сантиментов. «Война в моем городе разъяла жизнь на части и уничтожила всякий ее ритм», — сказал мне еще один беженец из Сараева, писатель Миленко Ергович. Теперь многим кажется: война в Сараеве разразилась, стоило только погаснуть олимпийскому факелу.
Как и вся жизнь при социализме, подготовка к Олимпиаде опиралась на пропагандистскую накачку, взывавшую к патриотизму, сознательности и энтузиазму, на использование бесплатного труда заключенных, военнослужащих, работников бюджетной сферы, молодежи, на «социальную ответственность» бизнеса, деятели которого, руководители самоуправляемых предприятий, волей-неволей подписывали так называемые спонсорские договоры. Из старого номера газеты Oslobođenje я узнал о благородном поступке бывшего сантехника сараевской чулочной фабрики пенсионера Хамдо Телалагича, который «подарил городу месяц бесплатного труда на водопроводных трассах». Около 100 тысяч солдат командировали под Сараево сгребать снег с окрестных гор. Газета Народнa армија не таила восторга: «Сараево сегодня — гостеприимство и сердечность. Мы бы обняли весь мир, чтобы мир жил в наших объятиях, без несчастий и невзгод! Уж такие мы; мы, югославы!»
Всего через десять лет — когда одни югославы принялись воевать против других — на территории олимпийского комплекса Кошево, на тренировочном стадионе Мезарие, разместилось мусульманское кладбище, поскольку больше негде было хоронить убитых и умерших. Каждый день сербские артиллеристы выпускали по городу четыре сотни снарядов; мирные жители гибли почти каждый день. В подвалах разбомбленного спортивного дворца Zetra, на льду которого советская ледовая дружина в феврале 1984-го одержала свою очередную блестящую победу, оборудовали склад медикаментов и морг, а из уцелевших деревянных элементов отделки и зрительских кресел сколачивали гробы. Здесь к месту цитата из текста боснийского хорватского литератора Велибора Чолича «Пособие для изгнанника»: «Книги были написаны после Хиросимы, после Освенцима и Маутхаузена. Можно ли писать после Сараева? Все уже давным-давно знают, что поэт находится среди людей для того, чтобы говорить о любви, о политике и одиночестве, о пролитой крови, о страхе, о смерти, о море и ветрах. Для того чтобы писать книги после войны, надо верить в литературу». Об осаде Сараева написано немало.
Рефлексия на темы распада Югославии и сопровождавшей этот распад войны и через 20 с лишним лет после ее окончания составляет главное содержание культурных процессов в Боснии и Герцеговине. Почему так, спросил я литератора Ахмеда Бурича, только что подписавшего мне экземпляр своего очередного романа с пятиконечной звездой на обложке. «Такая звезда — клеймо, которое стоит на каждом, кто родился в югославскую эпоху», — ответил он.
В начале 2000-х группа энтузиастов загорелась идеей организовать в Сараеве новую Олимпиаду: чтобы напомнить о былых достижениях, получить иностранные инвестиции и заодно очистить город от образа вечного страдальца и репутации европейской «черной дыры». В ту пору я встречался с участниками нового оргкомитета и ветеранами олимпийского движения 1984 года. Помню один разговор о состоянии спортивных объектов. «Горнолыжные соревнования можно снова проводить на горе Белашница, — пояснили мне. — Нужно только разминировать склон, по которому проложена трасса». На другой горе над Сараевом, Требевич, размещался санно-бобслейный желоб; во время войны его превратили в артиллерийскую позицию, укрепляя орудия прямо в железобетонных перекрытиях.
Добиться права провести еще одни Олимпийские игры Сараеву не удалось, мир отчаянному призыву Боснии не внял. На восстановленном стадионе в Кошеве снова играют в футбол. Дворец Zetra тоже подняли из руин, под его новой крышей попеременно то соревнуются, то концертируют. А кладбище шахидов, скорбный городок мертвых, останется рядом с городком молодости и спорта навсегда.
Босния и Герцеговина — самое западное и самое северное государство Европы с мусульманским большинством населения. Так получилось в том числе и потому, что дальше Боснии, по направлению к Ла-Маншу, Османская империя не закрепилась[29]. А самая северо-западная боснийская точка, острие наконечника султанского копья, «ворота Боснии» — городок Велика-Кладуша, до османского завоевания входивший во владения хорватского феодального рода Бабоничей-Благайских. Сюда, в широкую полосу христианско-исламского пограничья, южнославянский эпос в середине XVII столетия поселил народных героев Муйо (Мустафу), Халила и Омера из семьи Хрньица. Три брата ураганили в Боснийской Краине[30], защищая идеалы вольности в их самом широком смысле, и никому, кроме Аллаха, не желая подчиняться, — то патрулировали, по заданиям вассалов султана, границу, то реквизировали крестьянскую собственность, то сшибались с христианскими партизанами, то наказывали саблей и огнем жадных землевладельцев. У Мустафы при этом имелся крылатый конь. Такая геройская жизнь всегда бывает короткой, вот и братья один за другим сложили свои буйные головы: первый, как в песне поется, из-за козней предателя, второй — защищая красавицу-сестру Айкуну, третий — в схватке незнамо с кем. Братья Хрньица оставили по себе также материальную память: их фамилией в окрестностях Кладуши названы и турецкий колодец с водой ключевой, и турецкая башня серокаменная.
Свободолюбивый миф имеет под собой некоторые реальные основания, один из братьев, уверяют историки, все же существовал в действительности. Боснийская Краина — территория этнической и религиозной чересполосицы, воплощение многонародных Балкан со всеми их вековыми традициями консервативной общинности, гордого упрямства и тяги к недостижимой справедливости. Об этих качествах интересно импровизировал в своей увидевший свет в 1901 году книге странствий русский этнограф Алексей Харузин: «Национальная стойкость до того характерна для Босны-Герцеговины в течение всей ее жизни, что ее нельзя не отметить. Стойкость эта, конечно, не исключала известной эволюции: страна изменялась, приобретала в известном смысле новую физиономию, но, усвоив себе раз, хотя и с трудом, что-либо, страна на этом стояла, готовая жертвовать даже жизнью». В 1878 году местные сербы и мусульмане (сообща) дольше всех с ружьями и вилами в руках сопротивлялись в Боснийской Краине австро-венгерскому вторжению. Задолго до окончания Второй мировой войны здесь возник свободный от оккупации партизанский край, Республика Бихач. В Бихаче созвали первую сессию Антифашистского вече народного освобождения Югославии, то есть в этих краях созданы предпосылки для образования «государства Тито»[31]. Но уже весной 1950 года местные крестьяне, измученные насильственной коллективизацией, подняли восстание против новой народной власти (единственное в послевоенной коммунистической Европе). Цазинский бунт коммунисты подавили, его зачинщиков расстреляли.
ДЕТИ БАЛКАН
ХУСЕЙН ГРАДАШЧЕВИЧ
дракон из Боснии
Этот видный военачальник и борец за автономию от султанской власти родился в 1802 году на севере Боснии, в городе Градачац, известном отборными сливами. Боснийский пашалык был издавна поделен на четыре десятка капетаний, полувоенных административных единиц с функциями охраны границы. Капетанией Градачац с середины XVIII века управляла знатная семья Градашчевич. Приняв полномочия капетана в 1821 году (после того как его старшего брата отравил политический соперник), Хусейн, получивший хорошее для своего времени образование, проявил качества неплохого администратора. Он деятельно занялся гражданскими проектами: в Градачаце были построены красивая мечеть Хусейния, высокая часовая башня, завершено возведение крепости. Капетан Хусейн отличался религиозной толерантностью, дозволял открытие католических школ и православных храмов. Развернутые во второй половине 1820-х годов султаном Махмудом II модернизационные реформы, угрожавшие привилегиям местной военной аристократии, вызвали в Боснии сильное раздражение. С большим недовольством были встречены роспуск корпуса янычаров и поражение империи в очередной войне с Россией, за которым последовало подтверждение автономии Сербского княжества. Выразителем этих фрустраций и лидером так называемого Великого боснийского восстания (1831–1833) стал авторитетный капетан Градашчевич. Сияние османского полумесяца тускнело: войско Градашчевича, примерно на треть состоявшее из христиан, весной и летом 1831 года одержало несколько побед над полками султанских наместников Намика-паши и Решида Мехмеда-паши. Восставшие выдвинули требования о внутреннем самоуправлении области в обмен на регулярную выплату дани султану, капетана Хусейна объявили визирем Боснии и учредили в городе Травник диван — правительственный совет. Войска мятежников были разбиты только через год. Причиной поражения историки считают то обстоятельство, что восстание из тактических соображений не поддержали герцеговские капетании, выступившие на стороне султана. Градашчевич бежал в австрийские владения, где несколько месяцев, пребывая в статусе почетного пленника, выговаривал себе выгодные условия капитуляции. В конце 1832 года он получил фирман о помиловании и по приказу султана вместе с семьей обосновался в столице империи. Через два года Хусейн скончался: по одной версии, от холеры, по другой — был отравлен. Хусейн-капетан Градашчевич, Zmaj od Bosne, числится среди главных героев и мучеников боснийского фольклора.
Семейная пара евреев-сефардов из Сараева в традиционных костюмах. Фото. 1900 год. Исторический музей, Сараево
Путешествие по северо-западу Боснии и Герцеговины — вообще-то небольшой страны площадью едва с Воронежскую область — прекрасно демонстрирует, что такое балканская провинция. В паре десятков километров от больших городов ты оказываешься в живописном полузаброшенном краю, как сказали бы англичане, in the middle of nowhere, «в центре пустоты». Эта пустота, кажется мнительному иностранцу, населена обрядами и легендами. В густой боснийской пустоте прекрасная Айкуна наполняет пузатый кувшин-ибрик водой из чудесного колодца, а крылатый вороной конь уносит сказочного героя Муйо Хрньицу высоко в небеса.
Велика-Кладуша не слишком велика: полдюжины аккуратных мечетей, шопинг-молл, один-другой супермаркет сети Bingo, пищеточки с говорящими названиями Hurma, Napoleon, Mustang; на холме над ручьем Грабарска — бывший старый замок, а теперь новодельный отель Stari Grad, который я помню брошенным и разграбленным, со вздувшимися трескучими полами. Грабарска неторопливо журчит себе на север, по направлению к цивилизации, впадая в тихую речку Кладушницу, а Кладушница впадает в речку пошире, Глину, а Глина впадает в Купу, а Купа впадает в Саву, а Сава где-то совсем далеко впадает в Дунай, а уж Дунай на самом краю балканской географии впадает в Черное море, чтобы в нем без следа раствориться. Через все эти реки люди перебрасывали мосты, чтобы, как подметил Иво Андрич, соединились разные берега.
Партизаны в Бихаче у храма Святого Антония Падуанского. Фото. 1942 год
В неполноводную Грабарску вообще ничего не впадает, однако город с населением в 7 тысяч человек, который этот ручей обнимает с юга и востока, на своем веку успел даже побыть государственной столицей. В 1993 году, посередине войны, удачливый бизнесмен, директор передового сельскохозяйственного комбината Agrokomerc Фикрет Абдич провозгласил в Кладуше Республику Западная Босния. Шесть пехотных бригад автономистов — в ситуативном союзе с Хорватией и боснийскими сербами — воевали против сараевского правительства. Это единственный эпизод в череде югославских конфликтов, когда одни мусульмане сражались против других, причем ни толкование веры, ни толкование прошлого их не разделяло — их развела политичесая лояльность. Отбыв после войны свой тюремный срок, Абдич, новый Zmaj od Bosne, вернулся в политику и занял пост мэра Велика-Кладуши. Кое-кто из бойцов его армии отсидел свое, другие уехали в эмиграцию, а те, кто остался, приравнены в правах к другим ветеранам сопротивления.
Ручей Грабарска хрустально-чист и совсем неширок. Его легко засунуть в бетонную трубу, через его русло можно запросто построить эстакаду, через него совсем несложно перекинуть мост. Но Велика-Кладуша все равно не убереглась от войны.
5 Србиja Славянское зеркало
Жизнь моя! Ты недосказанная правда или фильм из прошлого столетья, недосмотренный, но с предсказуемым сюжетом. Разница меж небылью и былью, меж тем, чего на свете нет и что незримо, — во мне, внутри, все тоньше эта грань[32]. Томислав Маринкович, «Что в итоге я упустил» (2003)На протяжении всего XIX века сербы являли соседним народам пример упорной и последовательной, кровавой и изматывающей битвы за восстановление своей государственности. Сербия, скажу метафорически, предстала словно бы чудесным зеркалом, в которое всем южным славянам следовало глядеться, чтобы распознать и свое счастливое будущее. Опыт двух ожесточенных восстаний (1804–1813 и 1815 годов) против османской деспотии; политическая, дипломатическая и долгими эпизодами вооруженная борьба за превращение отдаленного от столицы султанов пашалыка в самоуправляемое княжество, итогом которой в 1867 году стало изгнание из Белграда чужеземного гарнизона; наконец, завоевание еще через десятилетие полной независимости и превращение княжества в королевство — все это сделало сербские земли естественным претендентом на роль центра южнославянского объединения.
В Белграде, в 1841 году после паузы в 400 лет возвратившем себе столичный статус, формулу интеграции чаще всего представляли механическим процессом сложения населенных сербами территорий (или тех территорий, которые сербы считали «исторически своими») и, по возможности, присоединения к тому, что получится, окрестных, причем не только южнославянских, земель. К такой формуле в конечном счете сводились сербские национальные программы позапрошлого века — от «Плана» (Начертаније) Илии Гарашанина до геополитических построений Николы Пашича. Как раз Пашичу приписывают яркую фразу: «Сербы — маленький народ, но более великого от Константинополя до Вены нет». Сербская повестка периодически входила во взаимодействие с другими концепциями южнославянского федерализма, братства и единства, но не была им тождественна и далеко не всегда и не во всем с ними совпадала.
Когда дело дошло до воплощения по-разному понимавшейся в разных краях Балкан перспективы объединения в политическую действительность, выяснилось, что Сербия обладает перед соседями решающими преимуществами. Эти преимущества были множественными, в одном абзаце всё и не перечислить: выстраданный ценою гибели сотен тысяч статус победителя в Первой мировой войне; «домашняя» монархическая династия; обученный управленческий аппарат; закаленная в сражениях армия, готовая, когда ей прикажут, выдвинуться на новые границы; какой-никакой опыт парламентаризма; полноформатная образовательная система. К этому добавлялись, что немаловажно, устоявшийся набор идеологических институтов и символов — и собственная научная школа с выверенными интерпретациями прошлого и настоящего, и исторический музей с правильно развешенными по выставочным залам художественными полотнами, и патриотическая литература с обширной библиотекой, и театр с драматическим и оперным репертуарами освободительной борьбы, и упорядоченная в издательских и иных проектах национальная мифология.
Взятие Белграда Евгением Савойским в 1717 году. Гравюра. Национальная библиотека Австрии, Вена
Я стараюсь писать безоценочно: в конце концов, все молодые нации «делают это», именно так, а не иначе и складывалась современная Европа. XIX век оказался на западе Балкан временем вызревания проекта интеграции, в XX столетии этот проект при решающем участии сербов и Сербии дважды осуществился, чтобы в 1990-е годы продемонстрировать свою несостоятельность. Югославия, в благородных и искренних мечтах многих интеллектуалов (в том числе, конечно, и сербских) представавшая миром равного для всех процветания, в реальности демонстрировала жизнеспособность, лишь будучи спаянной обручами монархической или коммунистической диктатуры. Да что там говорить: баланс классовых, национальных, региональных, социальных, религиозных, культурных, каких угодно интересов на демократической основе на Балканах до сих пор складывается с неимоверным трудом. Сравните этот полуостров юга Европы с другим европейским полуостровом, северным Скандинавским.
«Балканские беды». Карикатура из британского журнала Punch. 1912 год
Постепенно встававшая с колен Сербия была независимой, но отсталой в технологическом отношении страной с неразвитой экономикой, основу которой составляли свиноводство и садоводство. У власти сменялись враждовавшие между собой дома Карагеоргиевичей и Обреновичей, и враждовавшие не на шутку. В 1817 году подосланные Обреновичами злодеи убили основателя рода Карагеоргиевичей и вождя Первого сербского восстания Георгия Петровича, а потом еще и отправили его отсеченную голову наместнику султана в знак своей лояльности. Страшная месть свершилась в 1903-м: офицеры из числа сторонников Карагеоргиевичей свирепо расправились с королевской четой Обреновичей, изрубив и выбросив из окон дворца их трупы. Борьбу за свободу и объединение южных славян это не остановило, памятники в Сербии ставят представителям и той и другой династий.
Столетие назад романтически понимаемая идея сербства переживала несомненный подъем, чему в немалой степени способствовали боевые победы и постепенное приращение территорий. Войны 1912–1913 годов принесли фактический слом Османской империи в ее европейских владениях, еще и умерив аппетиты восточного сербского конкурента, Болгарии. После начала Первой мировой уже не такая маленькая, как прежде, но все же небольшая Сербия с населением в 4,6 миллиона человек провела образцово эффективную мобилизационную кампанию, за считаные дни доведя численность армии почти до 500 тысяч штыков. Вена уведомила Белград о прекращении мирных отношений 28 июля 1914 года, активные бои начались через две недели. Дислоцированные вдоль линии фронта силы противников оказались примерно равными. При этом габсбургская армия, конечно, превосходила войско Карагеоргиевичей по всем мыслимым показателям, но только не в силе духа и боевой выучке. Сербы неожиданно выиграли значительную битву у горы Цер, и этой победе композитор Станислав Бинички, автор первой национальной оперы «На заре», посвятил бравурный «Марш на Дрину». В начале декабря, предвидя наступление противника, сербы оставили Белград, но тут же перешли в стратегическую контратаку, взяв верх в яростном многодневном сражении у реки Колубара, после чего отбили обратно и свою столицу. Цели войны правительство страны формулировало — для своих солдат и для всего мира — так: «Освобождение и объединение всех наших несвободных братьев сербов, хорватов и словенцев». На практике речь шла о присоединении к Сербии Боснии, Герцеговины, установлении контроля над севером Албании с выходом к Адриатическому морю и — чем черт не шутит! — о том даже, чтобы занять Салоники. Все это оказалось задачей трудной и потребовавшей больших жертв: уже в первые месяцы войны сербская армия потеряла почти 200 тысяч человек.
Горнист молодежной организации «Душан Сильный» трубит сбор. Фото из книги «Военный альбом. 1914–1918», изданной в Белграде в 1926 году
Ситуация на фронтах оставалась стабильной почти целый год, пока к осенней кампании 1915 года в зону боевых действий не были переброшены крупные немецкие подкрепления. Полки двух императоров (800 тысяч человек) повели наступление по всей 1000-километровой линии соприкосновения сторон, и тут в войну вступила Болгария, ударив славянского соседа в спину. Положение сербской армии, вытесненной во внутренние районы страны, становилось отчаянным. Главнокомандующий, престолонаследник Александр, отверг два одновременно поступивших в его штаб-квартиру предложения: оскорбительное (австро-немецкое о капитуляции) и самоубийственное (своих генералов о контрнаступлении). Регент принял иное решение: об эвакуации первой, второй, третьей армий (четвертой у Сербии не было) вместе с королевским двором и правительством за границу. Речь шла о бегстве целого государства, и я не уверен, что в мировой истории отыщется много подобных примеров.
Трагическая эпопея отступления вошла в сербскую историографию как «албанская Голгофа»: по обледенелым дорогам и тропам горных массивов Шар-Планина и Проклетие, в тяжелейших погодных условиях, колонны из нескольких сотен тысяч человек ползли к адриатическому порту Дуррес. Эти земли контролировал бывший османский полководец Эссад-паша Топтани, глава полупризнанной республики, топтавшийся у власти за счет финансовой и военной поддержки Карагеоргиевичей, а также благодаря общей военной неразберихе. Больше отправиться сербам было некуда, только к этому паше: враги перекрыли прочие линии коммуникаций.
Данные о сербских страданиях и потерях в годину «албанской Голгофы» заметно разнятся. Обобщая сведения, суммирую: в многодневный и многотрудный путь отправились около 300 тысяч офицеров, солдат, государственных служащих и иных гражданских лиц, с собой они взяли еще и некоторое количество пленных, и несколько полковых цыганских оркестров, а также мощи первого сербского короля Стефана Первовенчанного. Страны Антанты медлили с предоставлением морского транспорта, и только после ультиматума Николая II, пригрозившего союзникам выходом России из войны, в конце января 1916 года, французские, итальянские, британские корабли начали эвакуацию. Заботу батюшки-царя не забыли: век спустя, в пору нового всплеска русско-сербских симпатий, в центре Белграда подняли классических пропорций памятник Николаю II, с адекватной величию его умершей империи бронзовой осанкой. Площадка, на которой установили монумент, прежде называлась сквером Девушки из Косова, а теперь превратилась в Александровский парк, в память о погибших в авиационной катастрофе в 2016 году артистах российского армейского ансамбля песни и пляски. На церемонии открытия памятника один важный белградский политик недолго думая заявил, что Николай II «пожертвовал короной, царством и жизнью, чтобы спасти Сербию», то есть выходит: российский император, подобно князю Лазарю, сознательно выбрал путь небесный, а не земной.
Сербская армия на Корфу. Февраль 1916 года. Фото из французского издания Le Miroir
В тунисский порт Бизерта союзники вывезли около 12 тысяч человек, а основные сербские военные и гражданские силы, около 150 тысяч, оказались на самом северном греческом острове Корфу (Керкира). Как следует подготовить прием такого количества беженцев не смогли, и войско изгнанников продолжало нести потери: измученные солдаты тысячами умирали от холеры и последствий голода, негде было их хоронить. Пролив между Корфу и островком Видо, где разместились карантинные службы, известен как «голубая могила», поскольку в его водах, как считается, нашли вечный покой 6 или 10 тысяч человек. В 1938 году по проекту архитектора Николая Краснова, русского белоэмигранта в Югославии, на острове Видо возвели еще и мавзолей, византийских пропорций некрополь на полторы тысячи тел.
Сербскому «железному потоку» из Метохии на «остров спасения» посвящены не парадные марши, а самые печальные песни, какие только смогли сочинить военные поэты и композиторы, — «Изгнанники» («Синее море глубо́ко…») и знаменитая «Там, далеко». Солдат, оказавшийся на острове Корфу («…где цветет желтый лимон»), вспоминает о погибших во время тяжелого горного перехода товарищах, о разрушенной врагами родной деревне, о сожженном храме Божием, в котором он когда-то венчался, и нет конца-края этой неизбывной тоске. В трагическом песенном пафосе скрыты, как представляется, некоторые особенности коллективного характера сербов: их своеобразная жизненная жилистость, умение переносить долгие невзгоды, вечная настырность в достижении цели, стойкое стремление первенствовать, готовность жертвовать сегодняшней прагматикой во имя абстрактного счастливого «завтра», зацикленность на идеалах своей освященной национальным лозунгом борьбы. В сербский язык благоприобретено из турецкого понятие inat (инат) — в буквальном переводе «свойство поступать наперекор». Применительно к характеру нации это качество рассматривают широко, как способность и даже склонность действовать назло судьбе, противнику, даже самому себе, иногда против здравого смысла. Есть, например, анекдот о сербском крестьянине, который радуется тому, что у него сдохла корова, поскольку соседу теперь не у кого будет купить молока.
Анастас Йованович. «Стефан II Урош Милутин, король Сербский». Литография. 1852 год
ДЕТИ БАЛКАН
СИМОНИДА ПАЛЕОЛОГ
византийская принцесса
Стефан II Урош Милутин считается одним из самых удачливых и могущественных королей из династии Неманичей. Милутин (ок. 1253–1321) был агрессивным и на поле боя, и в постели: он успешно воевал с венграми, татарами, болгарами, каталонцами, Византией, существенно расширил границы сербских владений и сменил пятерых спутниц жизни, причем иногда женился, фактически не успев развестись. Последняя жена Милутина, дочь византийского императора Андроника II Палеолога и графини Ирины (Иоланды) Монферратской, была младше своего суженого на четыре десятилетия и досталась ему в качестве трофея пятилетней девочкой. В 1298 году, истощенный поражениями в затяжной военной кампании против сербов, Андроник II предложил Милутину этот брак в обмен на отказ от нового наступления. Милутин после долгих переговоров согласился, прежде всего по статусным соображениям, поскольку получал шанс породниться с первой семьей православного мира. Византийскому императору торговая операция с участием малолетнего ребенка казалась выгодной, поскольку часть уже завоеванных неприятелем территорий официально стала считаться приданым, а другую часть Андроник получал обратно. Юная принцесса носила редкое для греков имя Симонис, как сообщает хронист, по апостолу Петру (Симону), перед иконой с ликом которого в момент рождения малютки горела свеча. До своей пятой свадьбы Милутин был последовательно женат на дочери одного из сербских владетелей Елене, на дочери фессалийского деспота Иоанна I Дуки (ее имя неизвестно), на венгерской принцессе Эржебет (Елизавете) Арпад и на болгарской принцессе Анне Тертер. Анна продержалась в супругах дольше всех своих предшественниц, вместе взятых, почти 15 лет, родила Милутину двоих детей, но ее семейная жизнь все-таки окончилась неудачей — брак в угоду новым политическим соображениям признали недействительным. Андроник передал Милутину свою дочь во время встречи посередине реки Вардар, а Милутин передал Андронику свою бывшую жену, тут же отправленную в изгнание. Эта комбинация не встретила понимания в клерикальных кругах и среди соратников обоих монархов; зять оказался старше тестя на шесть лет. Согласно уговору, принявшая сербское имя Симонида должна была воспитываться при сербском дворе до достижения 12-летнего возраста, в котором, согласно тогдашним представлениям о дворянских приличиях, могла приступить к выполнению супружеских обязанностей. Некоторые византийские хронисты сообщают, что Милутин консумировал свое брачное право, не дождавшись срока. Полагают, что в связи с этим Симонида потеряла возможность иметь детей. Большинство сербских историков такой версии не доверяют, считая ее византийским наговором. Так или иначе, Симонида оказалась несчастлива в семейной жизни. Повзрослев, она порывалась уйти в монастырь, но смогла исполнить это намерение только после смерти мужа. Коронованная вдова вернулась в Константинополь, постриглась в монахини в обители святого Андрея Первозванного, но оставалась при византийском дворе, пока ее отец не был свергнут с престола и сам не попал в заточение. Короля Милутина вскоре канонизировали, очевидно, еще и потому, что он эффективно замаливал грехи: за 40 лет пребывания на троне этот король повелел построить 40 храмов. В одном из них, в монастыре Грачаница под Приштиной, пока сестры распевали псалмы, я разглядывал озаренные солнцем фрески со строгими изображениями святого сербского короля и супруги его Симониды.
С одной стороны, такие выводы близки к раскритикованной Карлом Поппером теории субстанциализма, согласно которой у всех вещей и понятий имеется глубинная реальность, потаенная истинная природа; этот неизменный набор свойств нельзя узреть напрямую, но именно он и важен, поскольку якобы «все объясняет». Однако подобрать более логичное объяснение некоторых поворотов сербской национальной судьбы я не в состоянии. Характеристики из моего перечня, конечно, не врожденные, они выкованы обстоятельствами бурной истории, которая в течение веков передвигала с юга на север и с севера на юг центр тяжести сербской государственности, не раз помещая народ и его страну на грань гибели. Сербы не сдавались и выстояли. За эти качества их уважают друзья, эти качества неприятны их соперникам и всегда вызывали ярость у их военных врагов. Не исключаю, что в некотором смысле — если говорить о национальной психологии — Никола Пашич, измеривший Балканы странным аршином, оказался прав.
В первые месяцы 1916-го союзники подлечили и подкормили сербских солдат, полки беглецов переформировали, и в середине весны шесть дивизий (150 тысяч человек) отправились на салоникский фронт. Еще две добровольческие дивизии, командированные в Добруджу, против болгар, собрали из перебежчиков, сдавшихся в плен на русском фронте — южных славян, мобилизованных в габсбургскую армию. Капитан Никола Петрович, в 1920 году издавший эмоционально убедительный мемуар под названием «Агония и возрождение», описал состояние своей армии так: «Это была сила, движимая жаждой мести и ждущая того мига, когда безжалостные часы истории пробьют наконец час возмездия». Позиционная война на севере Греции, казалось, тянулась без конца, и час пробил лишь осенью 1918-го, когда союзники смогли взломать оборону противника. Сербский анабасис завершился счастливым финалом: к началу ноября 1-я армия воеводы (фельдмаршала) Петара Бойовича заняла Белград.
Греки с Корфу оказались на редкость гостеприимными. Почти на три года зеленый остров в Ионическом море превратился в центр сербской политической и общественной жизни. Заседания парламента проходили в греческом Национальном театре, местные жители предоставили единоверным гостям сразу три православных храма. На «острове спасения» давала уроки сербская школа, тиражом в 10 тысяч экземпляров выходила сербская газета, здесь издавались учебники и детская литература, работали сербские харчевни и культурные общества. Королевское правительство разместилось в отеле Bella Venezia, владелец которого к концу войны удачно выдал за видных сербских интеллектуалов трех своих дочерей. Летом 1917 года все на том же Корфу правительство Сербии и руководители Южнославянского комитета, сформированного политиками с австро-венгерских территорий, подписали декларацию о создании по окончании войны общего государства. В документе, помимо прочего, сообщалось, что сербы, хорваты и словенцы «одинаковы по крови, по языку, по культуре, по чувству единства, по безграничности и целостности собственных земель, а также по общим жизненным интересам». Вскоре к инициативе присоединился Черногорский комитет национального объединения. Вот так, понемногу, в греческом изгнании рождалась югославская монархия.
Момчило Гаврич и престолонаследник Александр. Самый молодой участник Первой мировой войны получил звание капрала в 8-летнем возрасте после участия в битве у горы Цер. Фото ок. 1914 года
Югославский комитет в Лондоне. Второй справа в нижнем ряду — скульптор Иван Мештрович. Фото. 1915 год. Национальная и Университетская библиотека Словении
В 1920-е сербская слава воссияла как никогда ярко. Со времен Душана Сильного власть южнославянского монарха не простиралась на столь обширные территории, за одно только десятилетие XX века увеличившиеся пятикратно. Со стародавних времен подданными сербского короля не оказывались представители едва ли не дюжины балканских народов. В первом названии нового государства (Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев) были упомянуты самые многочисленные из них, поэтически именовавшиеся в пропагандистских листовках той поры разными ветвями одного южнославянского дерева. Дерево это, однако, бросало густую сербскую тень. «Первая Югославия» пыталась подравнять под общую мерку пусть близкие по происхождению и языку, но значительно отличавшиеся по самоощущению и характеру этнические сообщества, сформировавшиеся в зонах множественных исторических влияний — византийского, османского, германского, романского, венгерского, кратковременного, но мощного французского. Разные края этой страны нескольких религий и конфессий не были связаны между собой единой транспортной сетью или общими экономическими интересами. Наряду с южными славянами в Югославии жили албанцы, турки, немцы, итальянцы, венгры, румыны, цыгане, для которых интеграционные идеи оставались не имевшим содержания звуком.
Эфес почетной шпаги, преподнесенной сербскому престолонаследнику Александру Карагеоргиевичу французской учащейся молодежью. Сербский крестьянин душит трех переплетенных змей (аллегории Австро-Венгрии, Германии, Османской империи), попирая ногой четвертую (аллегория Болгарии). Фото из русского журнала «Нива». 1916 год
Александр I Карагеоргиевич из-за слабого здоровья своего престарелого отца (вступивший на престол почти в 60-летнем возрасте Петр I в народе получил прозвище Чика Пера, Дядя Петя) приступил к управлению государством, будучи еще принцем, а короновался после смерти родителя в 1921 году. В жены Александру была суждена самая красивая из дочерей Николая II Романова, Татьяна, но успешному завершению переговоров о браке помешала сначала война, потом кровавая русская смута, потом мученическая кончина великой княжны, расстрелянной большевиками. Александр в конце концов женился на румынской принцессе Марии. Отец троих сыновей и заботливый супруг, в политике создатель Югославии оказался деспотом: отменил конституцию, установил военно-монархическую диктатуру («между народом и королем не может и не должно быть посредников»), не заботился о равноправии народов, напротив, выстроил, как сказали бы сейчас, жесткую вертикаль власти. «Монарх-объединитель» и его подручные наивно пытались силой репрессий и декретов слепить подданных королевства в югославскую нацию, но из этого ничего не получалось, отовсюду лезли идеи сербства. Попытки административных и экономических реформ в том числе и поэтому были обречены на провал, страна оставалась бедной и плохо организованной. Лучи славы Колубары и Корфу погасли весной 1941-го, когда югославская армия под командованием сербских генералов смогла организовать лишь сугубо номинальное сопротивление гитлеровской агрессии.
Александра I Карагеоргиевича застрелил в 1934 году во время визита короля во Францию болгарско-македонский террорист Владо Черноземски (Георгиев) по прозвищу Шофер. Это цареубийство, вошедшее в историю как операция «Тевтонский меч», организовали Внутримакедонская революционная организация и хорватские националисты-усташи, в равной степени не воспринимавшие великосербскую идею. Легенда гласит, что смертельно раненный монарх, кровью искупивший свои политические ошибки, теряя сознание на заднем сиденье автомобиля, прошептал: «Берегите мою Югославию!» Но это всего лишь легенда.
Покушение на короля Югославии Александра I в Марселе. Фото. 1934 год
На темы о злоключениях сербской судьбы, сочиняя в своем прохладном словенском кресле фундаментальный труд «Югославия. 1918–1992», интересно импровизирует историк Йоже Пирьевец. Он считает: сербы не смогли сориентироваться в реалиях постиндустриальной эпохи, дважды подряд попытавшись построить замкнутую на саму себя Югославию, при этом лелеяли исторические мифы, берущие истоки в концепции «почвы и крови». В проблематичных сербско-хорватских попытках создать государственный союз, подмечает Пирьевец, не все было так уж безнадежно, периодами присутствовала даже любовь. По крайней мере отчасти, думаю, словенский ученый прав. Вскоре после образования южнославянского королевства поэт Юрай Вранкович охарактеризовал обстановку всеобщего воодушевления так: «Серб для хорвата как бриллиант для золотой оправы, а хорват для серба как золотая корона на гербе». Национализм Белграда и Загреба — я продолжаю следить за развитием мысли Пирьевеца — представляет собой полярно разные явления одной и той же природы, основанные на схожих системах ценностей. А словенцы подались к Карагеоргиевичам (потом и к Тито) из прагматических соображений, поскольку до определенного момента нуждались в «сербской охране» от германских и итальянских притязаний. Но ситуация изменилась, и в новой Европе для Любляны главными оказались другие факторы; конфликт Сербии со Словенией имел в своей основе выбор принципиально разных мировоззренческих ценностей.
В Белграде в 1980-е годы набрали популярность новые рассуждения о том, что сербы больше всех других дали Югославии, но меньше всех других народов от Югославии получали. Массовый послевоенный энтузиазм и эпизодическая жестокость титовского социализма приглушали такие разговоры, потом их сгладило пусть относительное по западным меркам, но невиданное прежде в этих краях хозяйственное процветание; и вот ко времени прихода к власти Слободана Милошевича дискуссии о судьбе и воле сербов оживились. Антрополог Иван Чолович в этой связи обращает внимание на то обстоятельство, что коммунисты не только выкорчевывали националистические идеи, но и периодически вступали в диалог с их проводниками-интеллектуалами. Скажем, памятник героям Косовской битвы под Приштиной воздвигли в 1953 году, когда в Югославии царил режим вполне сталинского образца. В тот же период правительство Сербии заказало маститому сербскому художнику-монументалисту Петару Лубарде фреску «Косовская битва» для одного из своих административных зданий. Коммунисты использовали «политику символов», считает Чолович, чтобы национализм не слишком сильно противоречил их идеям. Конечно, главным для страны товарища Тито оставался героический партизанский миф — о семи наступлениях нацистов, о битвах на Сутеске и Неретве, о братстве-единстве, о не менее славных, чем косовские, юнаках-коммунистах, но на более низком, республиканском уровне позволялось жить и националистической идее. Как только коммунисты, предложившие принцип классовой, а не этнической идентичности, потеряли контроль над ситуацией, национализм вернулся, то есть выяснилось, что он никуда и не уходил.
Концентрированным выражением этих общественных настроений стал обнародованный в 1986 году меморандум Сербской академии наук и искусств, в котором выражалась обеспокоенность по поводу якобы имевшего место ущемления прав сербов и предлагалась свежая, но по сути все та же наступательная национальная программа. В складную литературную и митинговую форму выдвинутые кабинетными учеными идеи привел ставший политиком (впоследствии и первым президентом Союзной Республики Югославия) писатель и теоретик национального движения Добрица Чосич: «Сербы побеждают в войнах и проигрывают в мирное время», «Сербия может или быть великой, или не быть вовсе». Тут Чосич ошибся: теперь-то понятно, что Сербия вполне может быть и не великой, но осознание этого пришло через целую череду новых жестоких войн. Ироничный итог подвел в остроумной книжке «СФРЮ для второгодников» журналист Деян Новачич: «В историческом смысле понятие ‘югославы’ обозначает балканский народ, который вымер в последнем десятилетии XX века».
Успех литературной экспедиции зависит от того, сколь тщательно она продумана и как плотно спланирована. График работы над книгой отпустил на поездку по Сербии, в которой я не бывал с середины 2000-х годов, семь дней. В путь я пустился в лучшее время года из всех возможных — стоял дождливый январь. Но согреться на Балканах всегда помогут гостеприимство и ракия.
Я дважды пересек страну по ее главной оси, с севера на юг и обратно: из столицы добрался до Ниша, потом отправился к границе с Венгрией и опять вернулся в Белград. Политические драмы последних десятилетий сделали Сербию компактнее, но никак не ограничили пределы метафизического национального пространства. Небольшая теперь страна, показалось мне, существует в двух измерениях: в реальной повседневности сербов окружают почти всеобщая бедность, горькие и сладкие воспоминания о материальном достатке и политических притеснениях югославских времен, безотчетный страх перед будущим, но в воображаемом мире многие по-прежнему питаются нектаром национального величия. Главные препятствия для превращения сказки в быль, как правило, видят в кознях мировой закулисы: империализм (американский, конечно) якобы расчленил Югославию для того, чтобы получить доступ к дешевой рабочей силе. Парадоксальным в этом контексте выглядит желание многих сербов старшего и среднего поколений воспитать умных детей, чтобы они получили пристойное образование, вызубрили пару иностранных языков и немедленно уехали в США, Норвегию или Германию счастливо жить, то есть строить чужие дома и развивать заграничные интернет-технологии. Такими жизненными планами сербы делятся непринужденно, Балканы вообще являют собой зону ограниченного частного пространства. Здесь сложнее сохранить анонимность, здесь чаще спрашивают о личном и охотнее делятся информацией, которая в других районах Европы открыта только для близких.
В Белграде я ощущаю себя не очень уютно, для меня этот город чересчур бетонный, излишне хаотичный, почти совсем бесстилевый, вот примерно как родная с детства Москва. Речь идет о субъективном ощущении — возможно, мне просто не удалось прочувствовать и понять душу Белграда, говорят ведь, что у каждого города есть бессмертная душа. Другими словми, я все знаю и про савско-дунайскую панораму со стен и террас древней крепости, над которой каменно-бронзовым карандашом торчит голая скульптура Победителя, и про австро-венгерского разлива кварталы Земуна, и про веселые шаланды на речной набережной, и про квартал гурманских соблазнов Скадарлию, адрес самых вдохновенных гедонистических строк, какие только сочинили сербские поэты, и про парки Ташмайдан и Топчидер знаю, и про площадь Теразие с гостиницей Москва и фонтаном-чесмой, и про благородную тишину (только воробушки чирикают) в респектабельном вилловом районе Дединье, и про виртуальную перекличку звонниц старого храма Святого Михаила Архангела и новодельного собора Святого Савы.
Продавец шербета в Белграде. Рисунок. Конец XIX века
Но, когда думаю о Белграде, благостная картинка не возникает. Не помогли изменить отношение к этому городу ни вдумчивые прогулки, ни попытки взглянуть на хорошо знакомое новыми глазами, ни посещение корчмы Tri šešira («Три шляпы») с народной музыкой, ни утренний кофе от приветливого официанта в том же отеле Москва, под пианинный наигрыш. Бессильным оказался авторитет воспевавших Белград талантов: и классик Иво Андрич с «Белградскими рассказами», и автор «Магии Белграда» Момо Капор, неплохой прозаик с плохой репутацией националиста, и популярный у отечественного читателя магический реалист Милорад Павич пытались своими книгами переубедить меня, да не переубедили.
Нет, впрочем, оснований сомневаться в том, что именно Белград — первая столица и главный град южнославянского мира. В последние годы этот тезис получил новое неформальное подтверждение: на разные праздники, а то и просто на выходные сюда охотно, тысячами тысяч, съезжается балканская молодежь. Здесь безопасно и совсем недорого, здесь мощная туса, открытые к общению девушки, клубные площадки европейского уровня и повсюду горячий ночной танцпол. Так что добродошли в Hangar с его рейв-вечеринами, в Drugstore c его славой лаборатории техно, в KPTM («Сколько денег, столько и музыки») с его бесконечными афтерпати, в навсегда пришвартованный неподалеку от скейт-парка Ушће танцевальный кораблик 20/44. Правда, все это насквозь прокуренное: Сербия логично использует то обстоятельство, что свои законы устанавливает, не подчиняясь евросоюзовским прописям. В кабаках, отелях, а то и в квартирах можно вешать топор, общение проистекает только под сигарету, что заставило меня вспомнить о насыщенной интеллектуальными и куртуазными дискуссиями московской жизни 1980-х.
Белград — всебалканский магнит. В этом городе собирается воедино все самое превосходное сербское, так хозяйка отсортировывает в кастрюлю для борща лишь отборные овощи. На линии Вена — Константинополь, прямо скажем, особых мегаполисов не наблюдается еще и потому, что умные здешние города завоевывают сердца отнюдь не архитектурным размахом, а небоскребы ведь способны все только испортить. Соревнование со своим естественным конкурентом, Софией, которой Белград уступает по формальным показателям, он выигрывает вследствие особенностей урбанизации, случившейся с югославской столицей во второй половине XX века. Белград расстраивался как центр 20-миллионной страны площадью в четверть миллиона квадратных километров. Для России, положим, это пустяк, но Болгария о таких параметрах и не мечтала. И кто же тогда знал, что в конце XX столетия история отпилит от титовских владений две трети и площади, на которых воздвигнуты фараоновские здания вроде Палаты федерации, окажутся велики для съежившегося государства?!
Южнославянской федерации уже и в помине нет, но нервный центр, откуда коммунисты управляли ее полетами, по-прежнему украшает плоское левобережье Савы, стоит между многоквартирными коробками 12-го и 17-го микрорайонов Нового Белграда. Пролетарские партизанские мозаики в гулких фойе Палаты, как и полвека назад, переливаются всеми цветами марксистской радуги. Этот крупноформатный административный комплекс возвели в 1950-е годы по проекту загребских архитекторов силами молодежных бригад на болотистой — чтобы не отступать перед трудностями — местности как образец стабильности самоуправляемой Югославии. Главный зал заседаний на 2 тысячи человек с девятитонной сверкающей люстрой под потолком именно так — «Югославия» — и назывался, шести просторным салонам для приема почтительных делегаций присвоили имена шести республик-сестер. Теперь, когда сестры разбежались, гостевые салоны называются как тюбики с красками: «Голубой», «Бежевый», «Красный». В самом роскошном из 744 кабинетов работал над документами Иосип Броз Тито, хотя здание своего правительства, Союзного исполнительного совета, он навещал нечасто. Мне доводилось пару раз бывать в Палате федерации (здесь ныне размещается несколько министерств, причем места еще полно осталось), так что свидетельствую: тень маршала маячит в бесконечных и бесцельных коридорах власти. У парадного подъезда, даром что мокрая зима, бьет фонтан и посетителей приветствуют, слева-справа, по 15 государственных флагов.
Центральные кварталы Белграда межвоенного периода. Фото
Белградский стеклобетонный циклоп, с архитектурной точки зрения являющий собой удачный образец школы тотального дизайна, конечно, не один такой не то что в мире, но даже и в близких европейских окрестностях. С Дворцом парламента в Бухаресте, чудом-юдом имени Николае Чаушеску, Палате федерации по степени зодческого сумасшествия точно не тягаться. Оказавшись в таких палатах, думаешь о грехе человеческого тщеславия, о том, что камень оказывается долговечнее и прочнее всесильных учений, какими бы верными они ни казались. Об этом писал Николай Бердяев, считавший человеческую культуру сплошным провалом: люди стремятся выйти к вечным истинам, к новому бытию, к новым земле и небу, но способны создать, сочинить, построить, выдумать лишь картины, романы, соборы, симфонии, административные комплексы.
Вид на белградский район Савамала через Саву. Открытка. 1890 год
Новые времена предложили моду XXI века. Теперь в Белграде созидают сверхсовременный «город на воде», символом которого станет 168-метровая (конечно же самая высокая на Балканах) кукурузина дубайского вида, наполовину оплаченная абудабийскими инвестициями. Выполнение амбициозного проекта с философией «от Савы до неба» рассчитано не на пять лет, а на целых 25. Предполагается застроить прекрасными деловыми, торговыми и жилыми сооружениями территорию, известную как Савский амфитеатр, — две сотни гектаров низкого берега почти от Белградской крепости до корпусов выставочного комплекса. Железнодорожный и автобусный вокзалы со всеми их рельсами и асфальтом Belgrade Waterfront законсервирует или уничтожит, несколько старых кварталов (в том числе дорогой сердцам многих горожан район Савамала) идут под снос. Критики предупреждают: прямо по-над речкой строить в таких количествах и такой высоты опасно, не зря здесь веками ничего серьезнее складов-амбаров не возводили, но азарт устремленного в будущее руководства города и страны берет верх. Я любопытства ради поболтался вокруг громадных раскопок, размышляя о том, как сладко, должно быть, осваивать 3,5 миллиарда евро. Асимметричные бетонные корпуса уже возвышаются над городом и рекой, а с моста через Саву занимательно глядеть, как суетятся в котловане сотни работяг в желтых касках. «Мы построим икону XXI столетия», — обещают инвесторы.
Путеводитель по Палате федерации поясняет: главное коммунистическое здание Югославии символизирует «сложность политических, общественных и культурных отношений, складывавшихся в нашем регионе». В этом смысле тягостная доля резиденции титовских правительств есть всего лишь короткий, но показательный фрагмент 23-вековой, считая от древних римлян, судьбы Белграда, вставшего на слиянии двух больших рек, на рубеже Среднедунайской низменности и Балканского полуострова, пограничного города-крепости, который всем и всегда был интересен, не раз и не два менял государственную принадлежность и название, горел дотла и рушился до подвалов. Может, и не случайно так получилось, что именно Белград стал последней в XX веке столицей европейского государства, подвергшейся систематическим — пусть «умным» и точечным — бомбардировкам.
Они продолжались 78 суток: с 24 марта по 10 июня 1999 года вооруженные силы 14 стран НАТО выпустили — как сообщалось, исключительно по военным и имевшим военное значение объектам на территории Союзной Республики Югославия — почти 25 тысяч управляемых бомб и ракет. Причиной боевой операции послужили этнические чистки, которые проводили в Косове военные и полицейские Милошевича и жертвами которых, по данным международных организаций, стали 10 тысяч человек. Против ударов возмездия в Совете Безопасности ООН выступали Россия и Китай. Страны НАТО оправдывали «гуманитарную интервенцию» массовыми нарушениями прав человека, власти Югославии назвали вторжение «агрессивной войной».
Обреченную на поражение схватку с западным миром застали в Белграде многие мои знакомые. К счастью, никто из них не погиб и не получил ранения. Ни один не поддерживал действий сербских военных в Косове, как не поддерживал и политику Милошевича; ни один не сказал доброго слова в адрес НАТО. Жертвами операции «Союзная сила» стали примерно 1700 человек (из них около 500 гражданских лиц, включая 300 погибших в Косове), политическим результатом — вывод из области югославских подразделений и учреждение там администрации ООН. Прагматики с одной стороны уверены: в 1999 году Милошевич заставил Югославию расплатиться за собственные жестокость, упрямство и спесь. Скептики с другой стороны убеждены: «гуманитарная интервенция» не соответствовала нормам международного права и принесла больше вреда, чем пользы. В Белграде, выдержавшем 212 воздушных ударов, разрушены или пострадали, помимо прочих, здания министерств обороны и внутренних дел, генерального штаба, бизнес-центр Ушће с канцеляриями партийных чиновников, телебашня на горе Авала и телецентр на улице Таковска (16 погибших и 16 раненых), резиденция президента, посольство Китая (по ошибке; трое погибших и 20 раненых), больница Драгиша Мишович (тоже по ошибке; десять погибших).
Монастырь Хиландар в дни визита короля Сербии Александра Обреновича. Фото. 1896 год
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК МОНАХИ ЖИВУТ НА СВЯТОЙ ГОРЕ
Автономное монашеское государство Святой горы Афон на восточной оконечности трехпалого греческого полуострова Халкидики — один из тех балканских уголков, куда мне пока не удалось добраться. Главная вершина полуострова (довольно сурового вида, если смотреть с моря, пик высотой в 2033 метра) тоже называется Афон, в честь античного гиганта, осмелившегося бросить огромный камень в Посейдона. Самоуправляемое сообщество 20 православных общежитных монастырей и 12 скитов (более 2 тысяч монахов), относящееся к юрисдикции Константинопольского патриархата, считается крупнейшим центром православия. Три афонских монастыря — условно говоря, славянские, каждый из них «духовно поддерживается» соответствующей автокефальной поместной церковью: русский монастырь Святого Пантелеимона (67 иноков), сербский Хиландар (58), болгарский Зограф (32). Господь, конечно, не различает страждущих и кающихся, все они его смиренные рабы, но число иноязычных иноков в афонских обителях ограничено 10 % от общего состава насельников. Обычай Святой горы, обитатели которой посвящают все свое бытие духовному подвижничеству и спиритическим практикам, — запрет на въезд женщин и ввоз женских особей животных (кроме куриц, яйца которых используются в церковной живописи, и кошек, которые ловят грызунов). Самый древний из афонских монастырей, Великая Лавра, основан преподобным монахом Афанасием в 963 году, и эта дата считается исходной точкой организованного иночества на Афоне, хотя византийский император Константин Погонат передал полуостров в собственность людям Божиим почти на три столетия ранее. Святая гора почитается как удел Богородицы (земля, находящаяся под покровительством Девы Марии), поэтому полуостров православия и выдержал тысячелетнее испытание невзгодами времени и политики. Монашеское сообщество неоднократно попадало под оккупацию, но православные святыни щадили от разрушений и разорений и османские султаны Мурад II и Махмуд II, и даже Адольф Гитлер. Зато не щадила природа (или, быть может, промысел Божий), испытывая каждую из обителей-крепостей многочисленными пожарами. В 2004 году от огня сильно пострадал Хиландар, старший в иерархии из славянских монастырей. Заложенный в 1198 году ушедшим из мира великим жупаном Стефаном, первым князем из династии Неманичей, и его младшим сыном Растко, больше известным теперь как святой Сава, но по причуде истории носящий имя греческого монаха, Хиландар считается единственной непрерывно существующей сербской институцией и, следовательно, важнейшим национальным кладезем духовности и мудрости. Мой белградский знакомый Мирко Ковачевич работает в этом монастыре реставратором, а его жена Лильяна пишет иконы и религиозного содержания картинки на липовых досках, освященных хиландарскими иноками. Один из Лильяниных подарков — список фрески «Житие Онуфрия Великого» из Соловецкого монастыря — хранится у меня дома вот уже много лет. В начале 2000-х годов я серьезным образом собирался в паломничество на гору Афон, даже написал очерк об этом воображаемом походе. Побывал в селении Уранополис (греч. «град небесный») на границе православной республики и остального мира, откуда паромы «Святой Пантелеимон» и «Достойно есть» отправляются к пристани Дафни; в Салониках посетил бюро паломников министерства Македонии и Фракии, узнал, какие документы нужны для получения разрешения на посещение Святой горы. Дальше этого, однако, дело не двинулось, отвлекла мирская суета. Наверное, мое время для такого духовного путешествия еще не пришло.
Эту балканскую войну вблизи мне наблюдать не довелось — югославские власти тогда без объяснения причин отказали в визе. Я попробовал зайти с тыла, из Македонии, но добрался только до косовской границы, вдоль которой гуманитарные агентства ООН срочно разбивали лагеря для сотен тысяч албанских беженцев. В Белграде я оказался уже после того, как Милошевич, через год с лишним, потерял власть. Его режим смела не бесславная баталия против НАТО, но вызванная очередным жульничеством на выборах волна гражданских протестов. Новые власти выдали уже бывшего президента, обвиненного в совершении военных преступлений, международному правосудию. Весной 2006 года Милошевич, не дождавшись приговора, скончался в камере Гаагского трибунала, как гласит официальная версия, от болезни сердца. Так вот, я целыми днями ходил по послевоенному Белграду, изучая его свежие ранения и шрамы. Многие еще не заросли, не зарубцевались, не были заштопаны ремонтниками, некоторые попавшие под бомбы и ракеты здания стояли полуразрушенными, в окружении строительных оград. Граффити на заборах и стенах давали ясное представление о том, какие уроки извлекли местные патриоты из проигранных их страной сражений: «Косово — это Сербия!», «Сербия — до Токио!». Общественное сознание, зараженное национализмом, меняется медленно, если вообще меняется.
Сербия, очевидно, до сих пор не залечила тройственную травму, выпавшую на жизнь одного поколения, но аукающуюся и детям, и внукам: распад Югославии, бомбардировки НАТО, потеря Косова. Напоминания об этих бедах стали белградской повседневностью, которую горожане стараются не замечать, но которой, похоже, все еще вынуждены жить. Вот безногий ветеран балканских войн в потертом камуфляже продает в подземном переходе иконки православных защитников и значки с патриотическими надписями, все за грош, но никто не интересуется. Книжные магазины полны монографий с заголовками «Агония Югославии», «Распятое Косово», «Как в XX веке убивали сербский народ», но никто не покупает. Вот плакат с объявлением о митинге в защиту Ратко Младича, но озорники испортили портрет боснийско-сербского генерала черным фломастером. А вот будничные последствия этих травм — неважная жизненная устроенность большинства населения. В Белграде популярны подержанные автомобили, потому что мало у кого есть деньги на новые. В рассрочку здесь можно приобрести не только мебель или кухонную технику, но даже ботинки или турпоездку, потому что многим и такие покупки не по карману. Балканы, это я ощутил и в Белграде, не до конца еще вплыли в XXI век. Где-то сортировка бытового мусора и семейный поход в интерактивный музей уже давно стали обыкновением, а где-то посиделки в прокуренных кафе и дискуссии о всемирном заговоре все еще остаются повседневной медитативной практикой.
Под сербское господство Белград впервые попал в конце XIII века, на короткий срок превратившись тогда в столицу князя Драгутина. Вторым, и последним, средневековым сербским владетелем, обустроившим в этой крепости свой княжеский двор, стал деспот Стефан, сын косовского героя-мученика Лазаря, управлявший Белградом до 1427 года, тоже в качестве вассала Венгерского королевства. Венграм город был известен как Нандорфехервар, и он долго оставался самым южным мадьярским оплотом. Окончательно отбившие Белград у христиан в 1521-м османы переназвали его на арабский манер Дар-аль-Джихад («крепость войны за истинную веру»). Православные славяне селились на селе, в посадах у стен твердыни Аллаха на протяжении трех с половиной столетий обустраивались греческие, еврейские, латинские купцы. Дар-аль-Джихад был типичным восточным городом с мечетями и минаретами, мало чем отличаясь от Эдирне или Босна-Сарая. Эти отличия стали разительными только во второй половине ХIX столетия, когда вслед за османским гарнизоном Белград покинули практически все мусульмане. Исламские постройки перепрофилировали или превратили в руины, смену вех пережили в Белграде только Знаменная мечеть да некоторые памятники внутри периметра крепостных стен. В последний раз эта мечеть Байракли горела в 2004 году — так сербские православные активисты выразили отношение к очередному всплеску насилия в Косове, — и я видел, как ее потом восстанавливали.
«Белградчане отличаются от остальных европейцев тем, что прадеды не оставили им домов, в которых можно было бы жить, а деды не оставили библиотек, книги из которых можно было бы читать», — написал о своем городе один из его современных летописцев. Самому древнему в Белграде гражданскому сооружению, невысокому зданию габсбургской постройки на улице Царя Душана, не исполнилось еще и 300 лет. Столица Сербии вечно молода в том плане, что новые здания здесь сооружают не рядом со старыми, но скорее на месте старых. Первыми Белград пытались — в современном смысле этого понятия — европеизировать австрийцы, оккупировавшие город в 1717–1739 годах, предварительный эскиз плана урбанизации (точнее, приведения центра хотя бы в относительный порядок) местный профессор Эмилиян Йосимович составил в 1867-м. Архитектурный ансамбль городского центра в главном сложился в югославское королевское время: Дядя Петя и Александр Объединитель приводили свою столицу в порядок, добавляя ей бульваров, блеска, дворцов, нарядности. Этим же, с новыми силами и с новой идеологией, деятельно занимался Иосип Броз, добар скроз («всем хорош»).
Открытка Первого Сокольского слета 1922 года в Любляне. Использованы мотивы работы сербского художника-фольклориста Драгутина Инкиостри Меденяка «Белый орел». Эта хищная птица, символ сербской и югославянской монархической государственности, попирает знаки австро-венгерской императорской и королевской власти
В Белграде, вот по этим причинам, весьма своеобразное ощущение исторической укорененности. Оно не римско-афинское, конечно, и даже не московско-питерское, то есть нет такого чувства, что шагаешь по святым камням, но вовсе и не американское, которое, по мнению многих европейцев, благополучно обходится вообще без «подложки» из прошлого. Белград хорош не мертвыми камнями, а другим: это подвижный, бессонный, умело свингующий город, в этом отношении он составляет удачную пару, скажем, Милану, на который, как кажется, сербская столица держит культурно-технологическое равнение.
Белград заложен и построен не у моря, но все равно у подвижной водной границы, поэтому его жителям, как я заметил, претят чопорность и отсутствие вольности. Любая изоляция, хоть военная, хоть политическая, хоть финансовая, душит этот город, изоляция Белграду противопоказана и для Белграда противоестественна. Отчасти поэтому автаркичная по сути своей политика Милошевича и вызывала такое сильное общественное сопротивление. Не случайно главным лозунгом студенческих демонстраций в годы международной блокады малой Югославии, вызванной все теми же злосчастными военными конфликтами, была кричалка Београд jе свиет! («Белград — это мир!», в старорусском значении мipъ — «вселенная», «открытое общество»). То есть требовали в первую очередь не власти для оппозиции, не социальных гарантий для родителей, даже не качественного образования для себя: добивались соотнесения жизненных возможностей, темпа развития страны с передовым европейским графиком.
Сетовать было на что: ежемесячная инфляция в начале 1993 года составила 313 миллионов процентов, в обращении находились банкноты номиналом до 500 миллиардов динаров. На этой купюре изобразили портрет литератора Йована Йовановича-Змая, автора сатирических рассказов, патриотических стихов, которые учат наизусть младшеклассники, и важного сборника трагических повестей «Увядшие розы». Я наблюдал, как ветерок гонял по аллеям белградского парка купюры с многочисленными нулями и печальным лицом Змая: эти деньги не стоили бумаги, на которой были напечатаны. Один мой знакомый пошутил горько и остроумно: «У нас одно яйцо стоит килограмм денег», — и был он недалек от истины. В конце концов правительство провело финансовую реформу, и новые динары обменяли на старые в пропорции 1 к 13 миллионам.
Сербы — гордый и горделивый народ. Белград семь с лишним десятилетий оставался столицей первого в новой истории самостоятельного славянского государства на Балканах, потом объединил под своим крылом соседей, потом еще почти полвека хвалился открытостью и умением при социализме жить как при капитализме. Оказавшись в новых исторических условиях, сербы не хотели отставать. Но все равно отстали.
Сербская традиция, конечно, таится не в космополитичном Белграде, в поисках корней нужно отправляться из столицы куда-нибудь на холмы Шумадии, в долину Моравы, в густые леса Златибора и Сувобора, на тихие берега Колубары и Студеницы. За аутентичностью нужно ехать в Ужице, потому что именно там производят лучший в стране мягкий сыр каймак; или в Крагуевац, где десятилетиями выпускали по итальянской лицензии югославские народные автомобили семейства Застава, а теперь наладили сборку Fiat 500 и где проживает самый что ни на есть рабочий сербский человек; или в Лесковац, где каким-то уникальным способом коптят на гриле несчастных телят и поросят; нужно ехать, наконец, в глубоко народные Крушевац, Кралево, Ягодину. Здесь дремлет и иногда просыпается богатырская сила: из среднесербского города Чачак в октябре 2000 года двинулась на Белград колонна строительной техники, чтобы отодвигать с пути полицейские посты и совершать в столице новую сербскую революцию.
Все брутальное, героико-патриотическое, вне зависимости от идеологической направленности, политического вектора развития и гастрономических пристрастий, рождается в Шумадии, Златиборе, в Поморавье. В живописных краях цветущих садов — сливовых, яблоневых, грушевых, абрикосовых. В любой сербской деревне, да хоть под Белградом, найдутся мастера изготовления фруктового и ягодного бренди — ракии, крепкого напитка, грубоватого, но, несомненно, выдающихся вкусовых качеств. Собственно, с рюмки шливовицы (слива), кайсиевачи (абрикос), лозы (виноград), вильямовки (груша), траварицы (полевые травы), ораховачи (орех), смоквовачи (инжир), клековачи (можжевельник) и т. п. начинается в пределах сербской географии любой мужской разговор, новыми рюмками тех же напитков этот вдумчивый разговор продолжается и заканчивается.
Запасы ракии отыщутся в каждом уважающем себя сербском доме. Будь ты хоть тысячу раз городской, столичный житель, хоть какой метросексуал, твои дед или дядя, в крайнем случае тесть или шурин, ну или деверь соседа все равно загодя прислали из-под Заечара или Алексинаца пару приятных пузатых бутылей. Те, у кого по недоразумению нет сельских знакомых и родственников, могут легко пополнить запасы, отправившись в необременительное путешествие за городскую околицу: объявления о продаже напитка высококачественной выгонки («выпечки», если точно переводить с сербского) вывешены на воротах деревенских домов. Дорогого русского гостя всенепременно угостят также историческим рассказом об обычае предков — закапывать в саду дубовый, обмазанный смолой бочонок с ракией, произведенной по случаю рождения первенца, и откапывать этот драгоценный сосуд лет через 18, по случаю проводов выросшего сына в армию или в честь его свадьбы. Это и есть самое натуральное из натурального, не обжигающее горло, но стекающее прямо в сердце, до 60 градусов крепостью, да под плач скрипки, да под духовой оркестр… Однако не пробуйте пойло под названием brlja, даже ко рту не подносите, как бы вас ни уговаривали, — этот самогон злее табуретовки.
Король Сербии Петр I Карагеоргиевич. Фото. 1904 год. © Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C / Reproduction Number: LC-DIG-ggbain‐01058
Йованка Будисавлевич. Фото. 1940-е годы
ДЕТИ БАЛКАН
ЙОВАНКА БУДИСАВЛЕВИЧ-БРОЗ
«вдова Югославии»
Югославский «маршал победы» окончил Вторую мировую войну 53-летним красавцем-мужчиной в расцвете сил и с богатым личным прошлым. Первой супругой Иосипа Броза, свидетельницей начала его политической карьеры и матерью его старшего сына Жарко, была сибирская крестьянка Пелагея Белоусова. Семейный очаг быстро угас, но развелись супруги лишь в 1936 году, когда Тито увлекся австрийской коммунисткой Люцией Боуэр (Иоганной Кёниг). Через год Кёниг расстреляли в СССР как «агента гестапо». Перед войной у Иосипа Броза завязались отношения со словенкой Гертой Хаас, ознаменовавшиеся рождением сына Александра «Мишо», но не выдержавшие испытаний политикой и временем. Молодая партизанская подруга и секретарь партизанского маршала хорватка Даворянка Паунович скончалась от туберкулеза весной 1946 года. Тито приписывают романы со многими красавицами из разных стран, в их числе с советской кинозвездой Татьяной Окуневской. В 1941 году в новелле «Ночь над Белградом» из сталинского «Боевого киносборника № 8» Окуневская сыграла роль сербского радиодиктора, в оккупированном фашистами городе исполнив для слушателей песню, в которой был и такой куплет:
Пламя гнева горит в груди, Пламя гнева, в поход нас веди! Час расплаты готов, Смерть за смерть, Кровь за кровь, В бой, славяне, заря впереди!Вскоре после войны 32-летняя Окуневская приехала показывать фильм зарубежным друзьям в Белград, где и повстречалась с Иосипом Брозом. О близком знакомстве с Тито актриса рассказала в своих мемуарах, но в других источниках подтверждений о вспыхнувшем романе я не нашел. В 1948 году Окуневскую арестовали, пять лет она провела в ГУЛАГе. А югославская мирная жизнь диктовала иную, строгую партийную мораль, и мудрецы из окружения Тито стали подбирать ему постоянную спутницу жизни. Кастинг, судя по свидетельствам знающих людей, прошли 50 молодых особ, в финальном туре из пяти лучших кандидатур маршал выбрал себе в ассистентки 22-летнюю черноволосую красавицу Йованку Будисавлевич, сотрудницу службы охраны и хозяйственной службы одной из белградских партийных резиденций. Йованка родилась в семье сербских крестьян в области Лика (Хорватия), в 17 лет пошла в партизаны. Храбро воевала, получила ранение и фронтовые награды, победу встретила бойцом 1-й добровольческой югославской пехотной бригады, действовавшей в составе Красной армии. Была ли Йованка советским агентом, в какой степени ее поступками руководили партийные соратники маршала — эти вопросы и теперь остаются предметом споров историков. Роман с Будисавлевич развивался непросто, поскольку Тито отвлекся еще на отношения с оперной певицей Зинкой Кунц, но в 1952 году Иосип и Йованка все же поженились. Со временем она, решительная, волевая женщина, подполковник запаса Югославской народной армии, приобрела значительное влияние на супруга и, как полагают, участвовала в решении кадровых вопросов, отбирая сотрудников аппарата президента СФРЮ. В руководстве страны это многим не нравилось, и, когда в начале 1970-х годов после двух или трех инфарктов престарелый политик стал отдаляться от дел, в партийной верхушке приняли меры. Была создана комиссия для рассмотрения деятельности «товарища Йованки». Жену Тито обвиняли в шпионаже в пользу СССР, в заговоре против супруга, в попытке государственного переворота. В 1975 году последовал формальный разрыв семейных отношений: Тито переехал в отдельную резиденцию, Йованка постепенно перестала участвовать в протокольных мероприятиях. О разводе не сообщалось, детей у них не было. После кончины Тито в 1980 году Йованку поместили под домашний арест, имущество конфисковали в пользу государства, свободу перемещений ограничили. Многие годы Йованка Будисавлевич-Броз провела в затворничестве, в скромных бытовых условиях, не появляясь в обществе и лишь изредка принимая журналистов. Она скончалась в 2013 году; ее похоронили неподалеку от могилы мужа в белградском мемориальном комплексе «Дом цветов». Книга мемуаров «вдовы Югославии» называется «Моя жизнь, моя правда».
Иосип Броз Тито с супругой в Мариборе. Фото. 1966 год. Архив газеты Večer (Словения)
Карта Шумадии, как считают ее патриоты, напоминает очертаниями человеческое сердце. Это ухоженный, расчерченный на полевые прямоугольники и квадраты сельскохозяйственный край с изобилием лесов, из-за которых область когда-то и получила свое название. Так и хочется сказать, что пейзажи холмистой равнины напоминают тосканские, но не встретишь тут ни кипарисов, ни итальянцев. Из шумадийского села Орашац 200 лет назад поднималось и набирало силу Первое сербское восстание, тут десятилетиями бурлил настоящий сербский народный протест. Французский путешественник Жозеф Ренак нашел нужный эпитет: «В момент опасности здесь каждое дерево превращалось в гайдука».
В Тополе, одном из центральных оплотов сербской борьбы, Георгий Петрович обустроил княжеский штаб независимости, а его венценосные потомки через столетие организовали впечатляющий фамильный мавзолей-усыпальницу, собор Святого Георгия Победоносца. Здесь, на лесистом холме Опленац, Карагеоргиевичи молятся, бракосочетаются и покоятся. Иконостас, купола, столпы, своды, стены, крипта храма, в которой установлены три десятка саркофагов с останками членов княжеско-королевской семьи (еще дюжина гробниц пока пустует во имя будущего), украшены 725 мозаичными композициями, копиями икон и фресок из 60 главных православных церквей, включая афонские, косовские и все другие. Три с половиной тысячи квадратных метров многофигурных святых картин выложены 40 миллионами стеклянных кубиков бесчисленных оттенков.
Под главным куполом (на нем поднимает троеперстие Христос Вседержитель, каждый палец длиннее метра) — тяжелое бронзовое паникадило, в центр которого поставлена перевернутая корона, символ потерянного на Косовом поле сербского царства. Почин высокодуховному проекту положил Петр I Карагеоргиевич, а завершались работы после череды войн уже в другом тридевятом королевстве, при Александре I Карагеоргиевиче. Вскоре после торжественного открытия экспозиции мозаик король-объединитель в этом же храме и упокоился. Над оформлением мавзолея трудился в числе прочих мастеров уже упомянутый русский эмигрант-академик Николай Краснов.
Строительство храма в Тополе. Фото. 1915 год. Национальная библиотека Австрии, Вена
Стеклянное хозяйство Опленаца, грандиозный православный татуаж — и галерея сербских средневековых владетелей, каждый держит в руках макет какого-нибудь основанного им важного монастыря, и Богородица (копия росписи из Печи), и святой Георгий (копия росписи из села Старо-Нагоричан), и Евхаристия, и святой Сава (список фрески из Милешева), и Тайная вечеря, и Крестный путь, и все прочее, — поднебесно красиво и красочно, в доступной форме и в библейском контексте рассказывает прихожанам о тернистом Божием пути и пути сербского народа, совершенном под руководством добрых князей, жупанов, деспотов, царей, королей и императора Душана Сильного. Логичной кульминацией этого движения вверх, говорит нам храм, стали царствования Карагеоргиевичей. Они ведь не знали, что за взлетом последует падение — изгнание, а после возвращения через полвека — декоративный статус, не позволяющий играть серьезную роль в политике.
Крагуевац, административный центр Шумадии, в 1818 году стал первой столицей автономного княжества, здесь принимали первую сербскую конституцию, открывали первые в полусвободной Сербии гимназию и аптеку, первые суд и театр, учреждали первые газету и хор народной песни, первый национальный пивной завод, отливали первую в Сербии пушку, отсюда же первоначально пытались распространять европейскую идею в ее сербском понимании. Многие реликвии государственности сохранились в Крагуеваце до сих пор, но город давно утратил столичный лоск и выглядит тихой провинциальной гаванью. Местные дали, подернутые дождливой пеленой, я рассматривал из окна ресторана Panorama на последнем, восьмом этаже отеля Kragujevac компартийной постройки. Это совсем не та панорама, которая когда-нибудь откроется восхищенному взгляду с верхотуры башни Београд. А впрочем, кое в чем сербском — точно такая же.
Крагуевац расположился прямо посередине нынешней Сербии, и можно усмотреть некоторую естественность в том, что именно отсюда власти автономии приступили к новому собиранию земель своего народа. Напомню, что средневековое сербское государство формировалось вокруг области Рашка (в последние века этот исторический регион известен еще и по своему османскому наименованию Санджак, «район»), расширившись затем в том числе и на территории современных Косова и Македонии. Некоторые Неманичи считали своей столицей Стари-Расу, где сохранился самый древний в стране (с VIII столетия многократно обновленный и перестроенный) храм Святых Апостолов Петра и Павла, один князь установил своей столицей известный с античных времен как главный перекресток Балкан город Ниш, Душан Сильный предпочел возложить стемму себе на чело в Скопье, а правил из Призрена. В пору феодальной раздробленности сербские княжества размещались и на землях нынешних Черногории, Герцеговины, юга Далмации, в широкой полосе от Дуная до адриатического побережья.
К концу XVII века новым центром сербского сплочения стали отвоеванные Габсбургами у басурман южновенгерские придунайские земли — Банат, Бачка, Срем. В Среме же еще через столетие спасался от султанской охранки Георгий Петрович, бежавший из родной Шумадии после убийства мусульманина. Бывший унтер-офицер австрийской армии, человек неграмотный, но бесстрашный, пугавший бескомпромиссностью даже товарищей по оружию, спустя время Карагеоргий вернулся на родину, чтобы возглавить православный бунт против поработителей.
Этот бунт вышел решительным и беспощадным и вызвал столь же беспощадный ответный террор султанских наместников. После разгрома в 1809 году отрядов повстанцев на холме Чегар, что близ Ниша, военачальник Хуршид Ахмед-паша, янычар грузинского происхождения, приказал обезглавить трупы врагов и соорудить из их черепов «пирамиду смерти». В без малого пятиметровую Челе-Кулу в 14 рядов вмуровали неполную тысячу мертвых голов. Со временем страшный памятник растерял свои морбидные элементы, османское государство несколько гуманизировалось, и почти все еще остававшиеся в башне черепа устранили. После того как сербы в 1878 году получили контроль над Нишской областью, «башню черепов» накрыли балдахином с православным крестом, а потом заключили в часовню, украшенную символикой смерти. Сейчас внутренняя конструкция зияет полусотней пар пустых глазниц, еще один череп — как считается, принадлежавший главарю гайдуков Стефану Синджеличу, ценой своей жизни взорвавшему пороховой погреб вместе с толпой подчиненных и противников, — помещен в стеклянный контейнер.
В описаниях подвига Синджелича — сербские в плен не сдаются! — явственно звучат жертвенные мотивы косовского эпоса, и этот герой тоже предпочел царствие небесное радостям земной жизни. Между тем непредвзятое изучение истории вопроса открывает некоторые особенности битвы на холме Чегар. До поры до времени действия сербских партизан были успешными, они теснили султанские рати и установили контроль над значительными территориями. Но избрали неверную тактику, окопались вместо того, чтобы развивать наступление на Ниш; между полевыми командирами возникли разногласия, одни покинули зону брани, другие (возможно, намеренно) не выручили товарищей. В героическом мифе и вопросах национально-освободительной борьбы эффектная смерть за родину ценится выше эффективных военных действий. Синджелич воспет в песнях, в стихах Йовановича-Змая, и менять их смысл никто не будет.
На поле боя на вершине холма Чегар теперь тоже установлен нарядный памятник, русской работы — в виде башни, символа сербского военного лагеря. Монумент находится под охраной двух пушек польского производства, из которых сербские артиллеристы якобы палили во время другого славного сражения — у горы Цер. Мемориальным комплексом заведует семья волонтеров-краеведов, и Срджан Маркович, с ходу предложив мне утреннюю рюмку шливовицы, привычно пускается в бойкий рассказ о геополитических обстоятельствах схватки храбрецов с оккупантами. И истории Срджана сродни эпосу, в них точно выдержан былинный метр. Гайдуки Синджелича рассчитывали на помощь русских братьев, но русские не пришли, потому что не смогли переправиться через набухший из-за наводнения Дунай. Хуршид Ахмед-паша первым делом бросил в бой албанских головорезов-наемников (Срджан делает многозначительную паузу), а решило исход сражения то обстоятельство, что англичане вооружили армию султана самым современным оружием. «Уже тогда британцы помогали врагам сербов», — делает вывод экскурсовод.
На протяжении всего XIX столетия Челе-Кулу и холм Чегар описывали и рисовали разные заграничные путешественники, изучавшие европейские владения Османов. Баталист Верещагин, сопровождавший русскую армию в победоносном балканском походе 1877–1878 годов, до Ниша, как известно, не добрался. Знаменитое полотно «Апофеоз войны» (изображение высокой пирамиды из черепов, над которой витают вороны) художник создал на несколько лет раньше, после возвращения из Средней Азии. На раме картины сделана надпись: «Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим». Не сомневаюсь, что и Челе-Кула, и памятник на холме Чегар Василия Васильевича очень бы заинтересовали.
Павле Чортанович. «Стефан Синджелич во время Чегарской битвы». 1900 год. Музей «Матица Србска», Нови-Сад
Ниш. Холм Чегар и Челе-Кула. Фото автора
Из-под купола чегарского монумента в ясную погоду хорошо просматривается гора Каменички-Вис, на склоны которой жители Ниша по рабочей традиции отправляются справлять Первомай, с другой стороны видны снежные шапки Стара-Планины. Город — между прочим, родина древнеримского императора Константина, древний Наис, — лежит южнее, неподалеку от слияния Нишавы и Южной Моравы. Сербским он стал полтора века назад, а до того, как говорят, вся округа была преимущественно болгарской, хотя подтверждения этого обстоятельства от местной патриотической интеллигенции теперь не добиться.
Ниш основательно пропах умело прожаренным на углях мясом, которое продают здесь на каждом углу, и я удивляюсь, как местный McDonald’s со своими гамбургерами умудряется выдерживать конкуренцию плескавиц и чевапчичей. Ниш нетороплив, но многолюден и оснащен всем, что положено иметь третьему по величине городу Сербии: античной виллой Mediana с красивыми мозаичными полами, большущей византийско-османской постройки крепостью, в которой в летнее время проводят популярные кинофестивали, самой почтенной в стране военной больницей, футбольным стадионом в парке Чаир, где я не обнаружил розовых кустов. Имеется также традиционный набор пафосных памятников: межвоенной работы освободителям города (всем сразу, чтобы несколько не возводить: за 1874, 1878, 1915, 1918 годы) и королю-всаднику с саблей наголо Александру на таком высоченном пьедестале, что аж кепка падает. В тени этого пьедестала уцелели два покосившихся обелиска за скромными оградками, могилы подполковника Андреева и красноармейца Гиниатулина, погибших в Нише в боях с нацистами осенью 1944-го. Они не единственные советские воины, простившиеся здесь с жизнью, потому что однажды нишское небо стало полем боя между союзниками по антигитлеровской коалиции.
Феликс Каниц. «Челе-Кула». Рисунок. 1863 год
В день 7 ноября летчики американской 15-й воздушной армии открыли огонь по своим: атаковали транспортную колонну советского 6-го гвардейского корпуса, следовавшую согласно приказу в сопровождении праздничного оркестра. Погибли 34 солдата и офицера, в том числе командующий корпусом генерал-лейтенант, еще около 40 человек получили ранения, два десятка грузовиков были сожжены. В ходе ответной атаки советские истребители во главе со знаменитым асом Александром Колдуновым сбили от двух до пяти (данные разнятся) самолетов внезапно ставшего противником союзника, потеряв и несколько своих боевых машин. Командование США объяснило случившееся трагической ошибкой («сбились с курса», «приняли русских за немцев»), были принесены извинения, данные о бое, чтобы не афишировать неприятный инцидент, засекретили. 22-летний капитан Колдунов, проявивший чудеса храбрости и с опасностью для жизни настойчиво демонстрировавший американцам красные звезды «Яка», как полагают, именно за эту схватку получил свою вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза. Всего он, будущий главный маршал авиации СССР, провел за годы войны 96 воздушных боев, сбил 46 вражеских самолетов и, получается, один союзнический. Один бой и одного американца ему не засчитали. Через 70 лет после победы в Нише открыли мемориал памяти 34 советских воинов, «погибших за независимость сербского народа в борьбе против фашизма».
Центр Ниша. Фото. 1930-е годы
Рассказ об асе Колдунове, блестящая военная карьера которого завершилась драмой (маршала сняли с должности главнокомандующего войсками ПВО в 1987 году после пролета на Красную площадь Матиаса Руста), привел в некоторое замешательство Срджана Тодоровича, моего компаньона в путешествиях по Шумадии и Нишавскому округу. Срджан, похоже, и не предполагал, что мир может быть устроен так нелинейно. Простой хороший человек с простыми мыслями, он дважды служил в военной полиции и с той поры, кажется, приобрел обыкновение в любой ситуации носить вольные спортивные штаны. Во всем последовательный и всегда традиционный, Срджан твердо верит в международный заговор против своего народа, каждое воскресенье ходит в церковь Святого Пантелеимона, в которой когда-то был крещен сам и в которой крестил двоих сыновей, и главным праздником считает «славу» святого Николая, когда три дня подряд собирает гостей в своем хлебосольном доме. По политике мы точно не смогли бы договориться, и я ловко переводил разговор на футбол, потому что Срджан в свои 45 лет все еще стоит в «калитке» за местную команду типа из пятой лиги, которую с добродушной любовью называет сельской. Он давно уже не выезжал за пределы бывшей Югославии, но, может, в следующем году запишется строителем в Россию или Швецию, потому что нынешняя работа водителя совсем не кормит. Срджан взял с меня обещание вернуться в Ниш в День святого Николая, потому что иначе мне никогда не понять, что значит настоящее сербское застолье.
Я пообещал и постараюсь это обязательство не нарушить.
6 Воjводина — Vajdaság Славянское поле
Нам, жителям равнин, окруженные горами города
всегда кажутся похожими на птичьи гнезда.
Джордже Балашевич, «Прикосновение шелка» (1999)Путешествие по Воеводине — незанимательное занятие. По обе стороны дороги без поворотов вы наблюдаете черные, бурые, зеленые поля, плоские как блин, без всяких шероховатостей. Номадам бы исполнять на этих просторах свои заунывные песни… Тусклое зимой и яростное летом небо накрывает это однообразие бездонной голубой или серой чашкой, и ничто не колышется вокруг. Прямо по Сергею Довлатову: пейзаж без излишеств. С другой стороны, прекрасная возможность для медитации — если перемещаться на запряженной волами повозке; прекрасная возможность для чтения — если ехать на пассажирском автобусе; прекрасная возможность для содержательного разговора — если в автомобиле рядом с тобой добрый попутчик. И я все эти возможности не упустил.
Воеводина, автономная область в составе Сербии, почти целиком расположена севернее Дуная и целиком севернее Савы, так что с точки зрения географии к Балканам она никак не должна относиться. Воеводину превращает в балканское крыльцо не география, а история, в конце концов связавшая эти земли с сербской народной судьбой так тесно, что Сербию без них теперь невозможно представить. Поглядим на карту: слева Бачка, справа Банат, то, что южнее Дуная и до Савы, — Срем[33]. На местности все организовано тесно. Скажем, исторические кварталы административного центра Воеводины Нови-Сада расположены в Бачке, а вот южные новисадские районы и крепость Петроварадин относятся к Срему. В Среме же, если верить карте, находится Новый Белград, как и еще одна важная часть сербской столицы, бывший австро-венгерский форпост Земун. Центр Белграда формально принадлежит Шумадии, а сразу за северо-восточной белградской границей, через речной остров и дунайские рукава, начинается город Панчево — это уже Банат. Как хотите, так и разбирайтесь. В Белграде и вообще к югу от Савы жителя Воеводины назовут лала, это жаргонное, но не пренебрежительное прозвище. Как считается, лалы сдержанны в эмоциях, неторопливы в поступках и по-особенному основательны в принятии решений, в отличие от более импульсивных и вспыльчивых шумадинцев, от боснийских братьев из-за Дрины или от сербов из Южного Поморавья, из Ниша либо Пирота. При более крупной фокусировке оказывается, что все это, конечно, так, да не совсем так. В Воеводине мне разъясняли, что настоящие, медленные лалы живут только в Банате, а остальное население области — огневые «сербы из Черногории». В Банате я об этом не спрашивал, но если спросил бы, то в ответ наверняка получил бы совсем иную оригинальную версию. На Балканах хаос и спокойствие гармонично сочетаются между собой, и даже если признать, что Нови-Сад меланхоличнее Белграда, не стоит делать вывод о Воеводине как о заснувшем царстве. Но вообще здесь есть ощущение некоторой отдельности. В ту пору, когда термин лала еще не был в ходу, сербов, перебравшихся из османских земель за Дунай и Саву, называли пречанцами, от слова преко — «через». Они и сейчас живут по другую сторону.
За политический контроль над этими территориями в Средние века сражались с аварами, болгарами, византийцами Венгерское королевство и его сербские феодалы, потом здесь воцарились Османы, Османов долго гнули и наконец сломали Габсбурги, а Габсбургов сломала Первая мировая война. Сербы переселялись за Саву и Дунай веками, бежали от султанского меча и исламской веры. Уже в начале XVI столетия западноевропейские картографы маркировали области Срем и Банат на особый манер, Rascia (от «Рашка»). Самих сербов часто называли «рацен», а основанный в 1694 году Нови-Сад получил от просвещенной императрицы Марии Терезии элегантное имя (лат. Neoplanta) только полвека спустя, а до того обозначался проще, Ratzen Stadt. Этноним «рацен» казался его носителям-сербам оскорбительным и постепенно исчез из употребления.
Уильям Генри Бартлетт. «Нови-Сад и Петроварадинская крепость». Гравюра. 1830-е годы
Кровавые габсбургско-османские баталии выносили на северный берег Балкан новые и новые сербские волны, вот примерный перечень военных кампаний, повлекших за собой цунами миграций: 1593–1606, 1683–1689, 1716–1718, 1720–1730… Прибой докатился и до Буды, где сербы поселились в известном веселыми кабаками районе Табан; переселенцы поднялись еще выше по Дунаю, до Эстергома и Дьора. О православном присутствии отчетливо напоминает, например, архитектура туристического городка Сентендре к северу от Будапешта. Сербов за Дунаем становилось все больше, но до поры до времени все же было не слишком много: не одно и не два столетия нынешняя Воеводина была южной Венгрией, перестав таковой считаться только в 1918-м. Распорядись история по-другому, эти земли сейчас не относили бы к балканским.
Уильям Генри Бартлетт. «Крепость Петроварадин». Гравюра. После 1830 года
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК ОСМАНЫ БРАЛИ «ДУНАЙСКИЙ ГИБРАЛТАР»
Петроварадин — одна из самых мощных крепостей империи Габсбургов, рассчитанная на гарнизон в 15 тысяч штыков с 400 пушками. Прежде на холме над Дунаем жили разные древние люди, там найдены руины кельтского и римского поселений, а в XIII веке, при венграх, обосновался цистерцианский монастырь Белакут. Монастырь окружали крепостные стены, не устоявшие в 1526 году перед османским штурмом. Габсбурги вернули эту выгодную стратегическую позицию христианскому миру через полтора столетия, и вот в 1692-м Карл Евгений де Круа, голландский принц на австрийской службе, заложил в Петроварадине новую систему укреплений. Недостроенную крепость уже через два года осадил султанский военачальник Сурмели Али-паша, но военного успеха не добился. Благодаря петроварадинской крепости возник будущий Нови-Сад, городок многонародный, но в ту пору не сербский, выросший из скромного посада на северном берегу Дуная, где жили торговцы, ремесленники, солдатские жены и прочий обслуживавший австрийский гарнизон люд. Летом 1716 года Евгений Савойский разгромил у стен Петроварадина 150-тысячную армию великого визиря Силахдара Дамада Али-паши, чем обеспечил Габсбургам успех в очередной войне за веру и территории. Пытаясь переломить ход сражения, паша геройски погиб; в белградском парке Калемегдан я навестил его мавзолей. Петроварадин, состоявший из двух разветвленных оборонительных систем, Верхней (Hornwerk) и Нижней (Wasserstadt), достраивали и совершенствовали до 1790 года — проложили, в частности, на четырех уровнях 16 километров подземных галерей. История сделала эти усилия малополезными: граница отступила к югу, и Петроварадин утратил оборонительное значение. В 1848 году гарнизон крепости перешел на сторону восставших против Габсбургов венгров и мощным артобстрелом спалил Нови-Сад, занятый верными империи полками. Бунт подавили, и еще столетие в крепости, получившей за неприступный вид название «дунайский Гибралтар», по-прежнему размещались казармы, штабы, госпиталь, склады, тюрьма (знаменитыми ее узниками в разное время были Карагеоргий и Иосип Броз Тито) и прочие объекты инфраструктуры. Когда в 1918 году Австро-Венгрия распалась, власти в Белграде планировали срыть укрепления, но ответственный за выполнение приказа полковник Драгош Джелошевич оказался ценителем инженерного искусства и добился пересмотра решения. Стены, башни, равелины, форты, казематы, эскарпы и контрэскарпы Петроварадина и впрямь производят впечатление бессмысленного военного совершенства. Снаружи, особенно с другого берега Дуная, крепость кажется пригнувшейся, она вгрызается в землю, чтобы враг не смог ее легко разбомбить. В подземелье есть 60-метровой глубины колодец, в который, улучив момент, я бросил камешек. Темнота булькнула примерно через три секунды.
В череде знаменательных дат сербской истории, связанных с походом на север, сакральное значение придается событиям 1690 года. В ходе так называемой Великой Венской войны, эпизодом которой стала неудачная осада неприятелем столицы Австрийской империи, габсбургская армия при поддержке сербского ополчения продвинулась далеко в глубь Балканского полуострова, однако завоеванные земли не удержала и вынуждена была отступить. Император Леопольд I призвал недовольных османским владычеством переселяться под габсбургскую руку. Но о формате толком не договорились: радикальный предводитель православных христиан, сербско-румынский политик Джордже (Юрий) Бранкович, поначалу получивший от императора графский титул, был австрийскими властями пленен, хотя и не заточен в тюрьму или крепость. Бранкович мечтал об обновлении сербской государственности в облике обширного Иллирийского королевства, но отпущенные ему до конца жизненного срока 22 года просидел не на троне, а под домашним арестом, составляя объемную «Славяно-сербскую хронику».
За Дунай православных христиан вывел «сербский Моисей», патриарх Арсений III Черноевич. Под его руководством Рашку, Косово, области центральной Сербии в страхе перед османскими репрессиями и в надежде на счастливое завтра покинули во второй половине 1690 года не то 30 тысяч человек, не то 37 тысяч семей, кто как считает. Политико-административную автономию, на которую рассчитывали сербы, они за Дунаем не получили. Драматические события того времени закреплены в народной памяти разными вариантами исторической картины живописца Паи Йовановича «Переселение сербов», прекрасно знакомой сербским школьникам разных поколений и, подозреваю, многим из них надоевшей. В 1895 году Йованович, реалист венской выучки, получил выгодный заказ от патриарха Георгия I, который готовился к участию «габсбургских сербов» в будапештской выставке Тысячелетия, на которой дети населявших мадьярскую часть Австро-Венгрии народов представляли свои достижения. К договоренному сроку Йованович создал монументальное, самое большое в истории сербской живописи полотно (380 на 580 сантиметров): со строгим патриархом Арсением верхом на гнедом скакуне, под гордым знаменем, с усатым всадником в шлеме и пурпурном плаще, пожилым пехотинцем с перевязанной рукой, сурово вглядывающимся в будущее, юной матерью, держащей в объятиях младенца, и сербским народом до горизонта. Картина выдержана в библейском духе и исполнена многих смыслов, но критики пожимали плечами: какой же это Моисей, если он ведет свой народ не на Землю обетованную, а прочь, в изгнание?
Патриарх Георгий остался недоволен композицией. Он потребовал переделать ту часть полотна, на которой изображались обоз беженцев, и стадо овец заменить отрядом гайдуков. Патриарху претила картина бегства сербского народа, нужно было показать, что Арсений и его паства просто распространяют в северном направлении православную веру. Георгий попросил художника вложить в руку спутника Арсения, священника Исайи Джаковича, письмо от императора Леопольда, приглашавшее сербов к переселению. Йованович подчинился, но от собственного видения темы, надо отдать ему должное, не отказался и вскоре нарисовал еще одну картину, поменьше, 120 на 196 сантиметров, на которой овцы остались овцами. Из-за этих разногласий и затяжек во времени в Будапешт поехала совсем другая, идеологически нейтральная работа Йовановича — триптих со сбором урожая, счастливыми крестьянами и рынком родного для художника банатского городка Вршац. В годы Второй мировой войны по заказам белградских меценатов Йованович выполнил еще две, менее известные версии своего знаменитого полотна.
Картина «Переселение сербов» — та, что в большом формате, — выставлена теперь в здании Патриархии в Белграде. Осматривать другое полотно, более дорогое сердцу художника, я отправился в Национальный музей города Панчево, где смог насладиться талантом Йовановича, заодно выслушав обширный комментарий словоохотливого куратора. Кроме меня, посетителей в музее в тот день не было. Немноголюдным оказался и центр Панчева — наверное, потому, подумал я, что жители заняты на производстве. Бо́льшую часть своей тысячелетней истории этот тихий городок у впадения Тимиша (Тамиша) в Дунай развивался как погранично-торгово-военно-речное поселение, наполовину немецкое, немного венгерское, немного сербское, чуть-чуть румынское. После Второй мировой войны немцев (тех, которые не уехали сами) отсюда выгнали, их хозяйства экспроприировали или разорили, зато понастроили индустриальных объектов вроде нефтеперерабатывающего завода, фабрики стекла и предприятия легкого авиастроения. Все это наверняка усилило экономику города, но не сделало его красивее и комфортнее.
Некоторый шарм Панчеву придает прибрежный, у тихих вод Тимиша, парк, протянувшийся от старого вокзала до законсервированного и постепенно, как куколка в бабочку, превращающегося в ресторанно-художественный хаб пивного завода Вайферта, в свое время самого большого на пространстве от Константинополя до Триеста. Заводом владел промышленник Джордже (Георг) Вайферт, удачливый финансист и крупный меценат, первый руководитель Национального банка Югославии. Этот почтенный господин являет собой образцовый пример немецкой интеграции в старосербское общество, в том числе и поэтому его портрет украшает ныне банкноту в тысячу динаров. Вайферт скончался в 1937 году, и трагические события Второй мировой войны уже не смогли сказаться на его судьбе и репутации, коммунисты такого буржуя наверняка не пощадили бы.
Панчево, всего в четверти часа езды к востоку от Белграда, ловко прикрепляет область Банат — исторически и венгерскую, и немецкую, и румынскую, но и сербскую, конечно, тоже — к «основной», балканской части Сербии. Пройдет еще сколько-то лет, и Панчево наверняка сольется со столицей страны, превратится сначала в окраину, а потом и просто в большой район главного сербского мегаполиса. Такая судьба уже постигла еще одну «скрепку Воеводины», Земун. Самостоятельный венгерский город на другом, правом, берегу Дуная, по другую, западную, от Белграда сторону, Земун сначала, в 1918 году, втянуло в себя южнославянское королевство, а в 1934-м — югославская столица, фактически стерев с географической карты. А ведь некогда Земун даже пытался соперничать с Белградом, и на эту тему в начале XIX века в пафосных стихах о конфликте христианской и исламской цивилизаций импровизировал молодой Виктор Гюго.
Джордже Вайферт. Фото Милана Йовановича. 1930-е годы
Ривалитет возник еще в глухом Средневековье, когда венгерский король Иштван III из династии Арпадов, очередной покоритель Белграда, использовал камни из его старой крепости для строительства новой цитадели, в Земуне, точнее, для укрепления руин древнеримского поселения Таурунум. Потом Земун взяли штурмом византийцы, оттеснили Иштвана, и император Мануил I Комнин поступил ровно наоборот — вернул камни туда, откуда они были взяты. В историческом смысле Земун считался южным пределом венгерского мира, и в 1896 году здесь не случайно построили один из памятников Миллениума, все к тому же тысячелетнему юбилею заселения венгров на паннонские равнины. Как раз об этом я думал, шлепая под зимним дождем по лужам вокруг нарядной башни Гардош: когда-то ее верхушку украшал не громоотвод; там сидела, изо всех сил размахнув бронзовые крылья, мифическая птица Турул, вестник богов. В четырех (по другой версии, в семи) самых дальних краях своего подчиненного Габсбургам королевства венгры выстроили такие башни, но XX век пережила только одна, и вот теперь она возвышается посередине Сербии символом былого мадьярского величия. Или символом бренности национальной гордыни.
На пустынных придунайских равнинах славянские мигранты представляли и для венгерских королей, и для Габсбургов несомненный практический интерес — в качестве младших союзников и верных подданных. За то, что они несли военную и патрульную службу, эти умелые и дешевые солдаты получали земельные наделы, налоговые привилегии, религиозную свободу, некоторое административное самоуправление. Постепенно вдоль дуги христианско-исламского соприкосновения сложилась система оборонительных укреплений, постоянных лагерей, новый limes, выстроенный Европой от варваров. Население 700-километровой, от Адриатического моря до Трансильвании, пограничной полосы-загогулины составило в итоге около миллиона человек, и каждый двенадцатый был солдатом одного из 17 пехотных полков. На Дунае и Тисе православные славяне, умелые речники, формировали флотилии из маневренных лодок-«чаек» (серб. шаjка) с плоским дном, на которых решали вспомогательные полицейские и боевые задачи. В составе императорской армии дольше столетия, с 1763 по 1873 год, действовал «шайкашский» речной батальон, первым командиром которого стал получивший австрийские офицерское звание и дворянский титул майор Теодор фон Станисавлевич.
Башня Гардош в Земуне в день торжественного открытия. Фото, 1896 год
С конца XVI столетия Военная Граница (Военная Краина[34]) управлялась австрийской администрацией из Граца как самостоятельная территориальная единица с опорой на Карлштадт (теперь Карловац в Хорватии) и Вараждин, города, по-современному говоря, федерального подчинения. К местным крестьянам и сербским, хорватским, влашским граничарам постепенно присоединялся разный пришлый или присланный венскими властями, готовый встать под ружье люд. Больше языковой либо национальной принадлежности, часто смешанной или неопределенной, этих военных колонистов разделяла конфессия — католиков и православных здесь набралось примерно поровну.
Разглядываю иллюстрации в исторических книжках: молодцеватые пограничники в красных, синих, белых мундирах; бравые всадники с саблями наголо и усатые пехотинцы с булавами и штыками; хитроумные схемы сложных земляных, бревенчатых, каменных фортификаций. Бытие «австрийских казаков» отличалось своеобразием. Обособленная жизнь по военному календарю, неизменная готовность сменить плуг и косу на мушкет и пику сформировали «краинский» менталитет, сочетавший свободолюбие и бесстрашие с упрямством и черно-белым восприятием мира. История распорядилась так, что эти особенности местного характера влияли на развитие политических событий, а в трагическую пору развала Югославии самым непосредственным образом сказались на судьбах Сербии и Хорватии.
Военная Граница просуществовала, если считать от даты появления первой капетании в приморском городке Сень (теперь в Хорватии), больше 300 лет — формально антиосманский «санитарный кордон» учредил в 1553-м император Фердинанд I. В 1870-е годы, после оккупации Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, все пять составлявших к той поре систему военных поселений генералитатов демилитаризовали за ненадобностью. Османская угроза к тому времени отступила, однако Габсбургам казалось важным иметь на рубеже империи отмобилизованную армию, готовую под командованием немецких и венгерских генералов выдвинуться на какой-нибудь далекий театр боевых действий. Что и происходило: граничары воевали не только против Османов, но и в Баварии, и в Силезии, и при Аустерлице, и при Маренго.
Южные районы нынешней Воеводины занимал важный Банатский участок Военной Границы, прикрывавший сердце Венгрии и Трансильванию. Если следовать исторической логике, можно прийти к выводу: этот край представляет собой настоящий плавильный котел, в котором переваривались и успокаивались горячие характеры. На Среднедунайскую равнину совсем не обязательно бежали «от турок», сюда часто переселялись по экономическим причинам, в поисках лучшей жизни. Крупнейшей организованной кампанией по колонизации южновенгерских земель стало постепенное перемещение на берега Дуная в XVIII веке 150 или даже 400 тысяч немцев из разных регионов германского мира. «Дунайские» и «банатские» швабы вместо ненависти к басурманам привезли с собой передовые методы хозяйствования, навыки мелиорации и осушения болотистых земель, умение работать в мастерских; немецкие обычаи сочетались, но не сливались с местными. Миграционные процессы были характерны для Дунайской монархии, как и для любого другого универсального государства; в Банате, Бачке и Среме рядом с венграми, сербами, немцами поселились хорваты, чехи, словаки, русины, болгары. Всем им тоже позволялось обрабатывать плодородные поля и развивать свободные ремесла. К северу от Дуная появились армяне, евреи и греки, как они появлялись всюду, где только люди вздумали заниматься торговлей.
Некогда пустынные равнины, прорезанные капиллярной сетью речных потоков, стали балканским Новым Светом, дарившим пионерам с юга надежду, но часто и разочарование. В XX веке сюда отправляли как на советскую целину — за высокими урожаями, да еще чтобы подправить национальный баланс, проще говоря, чтобы, уничтожив или вытеснив одних, обустроить других. Сто лет назад сербов и венгров на территории нынешней Воеводины насчитывалось почти поровну (33,8 и 28,1 % населения), а каждый пятый житель был немцем. Время с той поры выдалось бурное: «сербский процент» вырос вдвое, «венгерский» вдвое сократился. Немцев в Воеводине стало в 125 раз меньше, чем до войны, потому что их, в массе своей поддержавших гитлеровский режим и добивавшихся от властей в Берлине почетной автономии, после окончания боевых действий депортировали или поубивали. Панчево в этом отношении — показательный пример. Швабов заменили «победители»: в опустевших домах разместились крестьяне из Черногории, из Хорватской и Боснийской Краин, так что в 1948 году сербы впервые составили в Воеводине большинство населения. Чужие имения по логике классовой и освободительной борьбы доставались в первую очередь семьям партизан из бедных горных районов; из Черногории в Воеводину в первое послевоенное пятилетие перебралась десятая часть населения маленькой республики, 40 тысяч человек. Область слыла югославской житницей, здесь открывали высокотехнологичные производства, уровень жизни был повыше, чем во многих других краях титовского царства. Сейчас на этом пятачке европейской территории, если верить властям, проживают представители 26 этнических групп, официальный статус в автономной области имеют шесть языков. Кто-то глухо жалуется на ассимиляцию, но, похоже, этот процесс не остановить. Идут и другие процессы: местные венгры получают вторые, венгерские паспорта, местные словаки — вторые, словацкие. По зову языка, крови, а также руководствуясь практическими соображениями.
Революционный 1848 год принес Банату, Срему и Бачке межнациональные столкновения. Венгерская политическая элита требовала у австрийского императора демократических и национальных свобод, но на тех территориях, которые венгры сами контролировали, они настойчиво занимались формированием единой и неделимой natio hungarica, отсекая румынское у румын, еврейское у евреев, славянское у славян. И вот вполне лояльный габсбургскому престолу митрополит Иосиф Раячич по настоятельному требованию сербских, назову их по-модному, гражданских активистов и их прибывших из собственно Сербии сотоварищей созвал в городе Сремски-Карловцы (тогда Карлоча, если по-венгерски) многолюдный митинг, вошедший в историю как Майское собрание. Делегаты из числа уважаемых горожан и селян объявили с балкона административного здания о создании автономного воеводства в составе Австрийской империи и, главное, о восстановлении «исторических прав», дарованных прежде сербским переселенцам Габсбургами, но постепенно отжатых и императорским двором, и венгерской шляхтой.
Воеводой объявили полковника (потом генерал-майора) Стевана Шупликаца, серба из Военной Краины, послужившего и в австрийской, и во французской армии. Вместе с хорватским полком этот офицер участвовал в трагической «русской кампании» Бонапарта, от щедрот которого даже получил орден Почетного легиона, за проявленную в боях со славянскими врагами отвагу. 35 лет спустя, в дни Майского собрания, Шупликац был занят подавлением антигабсбургского восстания на севере Италии, но, как только отвоевал свое и дождался одобрения императора, вернулся на берег Дуная, чтобы заняться формированием «королевского австрийско-сербского корпуса». Завершить это дело он не успел, поскольку умер от лихорадки. Скончался Шупликац в Панчеве; у городской больницы с недавних пор стоит выполненный в современной пластичной манере памятник генералу, с выпуклыми орденами, с пушистым султаном над кивером, с широкой перевязью и острой саблей. Подумайте только, как пересекались в Европе XIX столетия освободительные и охранительные тенденции: Шупликац, оккупант России и душитель Рисорджименто, разделял стремление своего народа к большей самостоятельности, оставаясь верным слугой императора!
Анастас Йованович. «Стеван Шупликац фон Витез». Рисунок. 1845 год. Национальная библиотека Сербии, Белград
В конце 1849 года, когда венгерский бунт был (с решающей помощью российских войск) подавлен, Франц Иосиф учредил отдельную административную единицу, которой присвоили сложное название Воеводство Сербское и Темешварский банат. Неформально это территориальное образование называли Воеводиной. Великим воеводой (Grosswojwod der Wojwodschaft Serbien) был сам император, а вице-воеводой, то есть руководителем на месте, он назначал одного из своих похожих выправкой и храбростью на Шупликаца генералов, но вовсе не обязательно южного славянина, скорее наоборот. Сербы остались недовольны, поскольку ожидали большего — уж вовсе не того, во всяком случае, что администрацию области разместят в немецкоязычном Темешваре (теперь Тимишоара в Румынии), а не в высокодуховных Сремски-Карловцах или не в купеческо-ремесленном Нови-Саде.
В ту пору над землями южных славян веяли ветры объединения, сербы и хорваты робко мечтали об общей свободе. В разных краях и разных общественных кругах ее благородный образ представляли себе по-разному, причем собственная государственность являлась во снах только к самым отъявленным мечтателям. В 1860-м закончилось даже урезанное сербское самоуправление: Франц Иосиф уступил интересам немцев и требованиям венгров и упразднил воеводство, сохранив за собой пустой титул, а православным подданным оставив только религиозную свободу. До 1918 года то, что замышлялось как Wojwodschaft Serbien, именовалось венгерскими комитатами (областями) Бач-Бодрог и Срем. Вот как раз на краешек комитата Срем шпилькой воткнули земунскую башню Гардош. Название «Воеводина» вернулось на политическую карту — уже титовской Югославии — только в 1940-е.
И вот я отправился исследовать спиритуальный центр императорской Воеводины, Сремски-Карловцы, теоретически изящный городок к югу от Дуная, километрах в десяти от Петроварадина. В Карловцах обнаружилось подобие продуманного архитектурного ансамбля: солидные, чисто габсбургского вида, здания, стоящие бок о бок друг с другом храмы восточного и западного христианских обрядов, красивый фонтан с четырьмя извергающими холодные струи львиными мордами. В сторонке, но неподалеку обнаружились еще Институт сербского народа (очевидно, центр изучения его земного и небесного путей), а также примета новых времен, агрессивно наступающий на местные традиции китайский торговый центр.
Центральная площадь Карловцев идеологически выполнена по формуле «православие — патриотизм — образование». Тягу к знаниям олицетворяет основанная больше двух веков назад гимназия, справа от нее через улицу — длинная желтая двухэтажка с высоким цоколем, с балкона которой тем самым дивным майским вечером провозгласили Воеводину. Все остальное — внушительная резиденция патриарха, семинария Святого Арсения, церкви Божии — неразрывно связано с верой. На габсбургских землях с начала XVIII века функционировала автономная, хотя и находящаяся в каноническом общении с Сербской патриархией в Печи (Косово), митрополия. Под воздействием войн и политики она несколько раз переформатировалась, а потом превратилась в самостоятельную патриархию, упраздненную только в 1920-е годы как следствие сербского политического и церковного объединения. Его Святейшество патриарх пребывал в Сремски-Карловцах до 1936 года, пока не перебрался в Белград.
Православие сыграло ключевую роль в формировании и сохранении сербского национального сознания. На протяжении XVIII и XIX столетий из-за Дуная и Савы на юг, к томящимся под османским гнетом братьям, все увереннее проникали идеи просвещения и эмансипации, православный клир был важным проводником различных европейских практик и знаний в традиционное сербское общество. Империя Габсбургов была в ту пору куда более продвинутым государством, чем империя Османов, в том числе и с лучшими условиями для формирования южнославянского образованного класса. Политические сербские кружки и вольнодумные сербские газеты раньше, чем в Белграде и Крагуеваце, возникали в Вене и Пеште; в Пеште открылись и первая сербская типография, и литературно-научное товарищество Матица српска. В Воеводине центром передовой мысли считался Нови-Сад, а зоной нравственного средоточия слыли монастыри Фрушки-Горы, изолированного горного кряжа на юго-западе области. В Средние века этих монастырей насчитывалось три десятка, ныне их сохранилось 16. Когда-то, задолго до всяких ислама и православия, фактически сразу после сотворения мира, над нынешней Воеводиной плескалось мелкое Паннонское море (оттого она и получилась такая плоская), а Фрушка-Гора была тогда островом. Воды морские высохли, но Франкская гора изолированность отчасти сохранила, чем и сберегла в себе долю сербской духовности.
Павле Симич. «Майское собрание в Карловцах». Провозглашение Воеводины. Калоча (Сремски-Карловцы), 1848 год
Karlowitz впервые отчетливо отметился в мировой истории в 1698–1699 годах — международным конгрессом, зафиксировавшим потерю Османской империей по итогам как раз вот той затяжной Великой Венской войны сразу нескольких эялетов (понятнее говоря, Венгрии, всей Трансильвании и кусочка современной Украины). Чтобы подписать Карловицкий мир, представители семи держав, в их числе России, провели за круглым столом 36 рабочих заседаний. Венецианский дипломат прямо во время этих консультаций взял и умер… Он похоронен во дворе монументальной часовни Мира, возведенной на месте деревянного павильона переговорщиков. На часовню и могильный крест я глядел из-за запертых на амбарный замок ворот. Набрать телефонный номер с пришпиленной к забору записки и дождаться служки у меня не хватило пороху: шел скучный дождь, меня утомила сложная поездка по Сербии, я озяб и, главное, чувствовал себя отравленным бесконечными музейными комментариями и непрошеными лекциями о славянском братстве, обязательной составляющей любой здешней разговорной программы.
Анастас Йованович. «Патриарх Иосиф Раячич благословляет армию Сербской Воеводины. 1848»
Сремски-Карловцы. Памятник барону Петру Врангелю. Фото автора
Впрочем, в Карловцах русский человек непременно почует горьковатый дым отечества, потому что именно в этом городе в начале 1920-х годов разместился штаб проигравших Гражданскую войну врангелевцев. Поясной памятник худощавому генерал-лейтенанту в боевой папахе воздвигнут несколько лет назад стараниями отечественных военных общественников. За «черным бароном» — билборд с начинающей желтеть «семейной» армейской фотографией, Врангель в центре солдатско-офицерского полукруга. Неподалеку — в аварийном состоянии — дом, где, как гласит мемориальная табличка, Петр Николаевич настойчиво, но безуспешно работал над реставрацией романовской монархии и укреплением Российского общевоинского союза. Генерал-лейтенант провел в сербской эмиграции пять лет, потом переехал в Брюссель, где в 1928 году неожиданно скончался (предположительно, мог быть отравлен большевистским агентом). Прах Врангеля перенесен в белградскую русскую церковь Святой Троицы в парке Ташмайдан, с настоятелем которой отцом Виталием мне как-то довелось беседовать на разные светские и духовные темы. А в Карловцах похоронен отец генерала, тоже барон, философ и переводчик «Фауста» на русский язык Николай Егорович Врангель. В сербском изгнании незадолго до своей последовавшей в 1923 году кончины он завершил работу над мемуарами под названием «От крепостного права до большевиков». Завершается эта книга так: «Жизнь окончена. Впереди одна смерть-избавительница. Остается подвести итоги. России больше нет».
Отчетливое русское присутствие сохранялось в Югославии четверть века, и конец ему как более или менее целостному фактору общественного бытия настал одновременно с крахом королевства. А до той поры на здешних сценах выступали бывшие актеры Московского художественного театра, в больницах и госпиталях лечили пациентов 440 русских докторов, в школах и университетах преподавали бывшие киевские и петербургские профессора, в местные газеты «Вера и верность» или «Русский стяг» писали бывшие одесские и харьковские журналисты, а казаки, которые бывшими не бывают, иногда развлекали публику представлениями джигитовки и вольтижировки. Дамы и господа из образованных семей давали местным жителям уроки французского языка и игры на фортепиано. Только в Нови-Саде, где на несколько лет собрался цвет русского дворянства (Голицыны, Трубецкие, Толстые, Воронцовы, Бобринские, Апухтины, Державины, Дашковы, Гагарины), насчитывалось 30 генералов и 90 полковников царской армии. В Бачке и Банате (как, впрочем, и южнее Дуная) появились донские, кубанские, терские станицы, некоторым из них давали имена походных атаманов — Булавина, Некрасова, Краснова, Шкуро; здесь заседал казачий парламент. Бывшие военнослужащие саперных полков Донского и Кубанского корпусов строили по всему королевству железные дороги, другие казаки и солдаты работали в шахтах и на рудниках, на лесозаготовках и фабриках. Военные историки указывают, что Кубанская дивизия, штаб которой дислоцировался в Пожареваце, сохраняла боеспособность вплоть до начала Второй мировой войны. В 1941 году подразделения этой дивизии влились в коллаборационистский Русский охранный корпус, участвовавший в боях с югославскими партизанами и частями Красной армии.
Вместе с Белой гвардией в южнославянском государстве спасались от советской власти важные русские архиереи во главе с митрополитом Антонием (Храповицким). Единоверным беженцам было позволено устроить на пороге Балкан уголок родной земли: в Сремски-Карловцах учрежден Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом, только в 1940-е годы передислоцировавшийся на запад Германии. Священник в митре, как и генерал в папахе, оставил по себе граду и миру память в виде мемориальной таблички. Память эта грустна, как грустно все, что мы потеряли и чего уже не вернуть. Сремски-Карловцы ловко вмонтировали в сербскую архаику середины XIX века русские хтонические мотивы начала века XX; здесь кажется очевидным ответ на вопрос, откуда и почему мы такие братья. Оттуда и потому, что темпы модернизации в двух странах сопоставимы, русские и сербы — и это хорошо видно на долгой дистанции — живут в одном историческом времени и черпают национальное вдохновение из схожих нравственных источников, почитая традицию прежде новации.
ДЕТИ БАЛКАН
ДАНИЛО КИШ
свободный литератор
Данило Киш, самый известный в мире югославский писатель-постмодернист, родился в 1935 году в Суботице в семье венгерского еврея и сербки из Черногории. Мальчика крестили в православной церкви Нови-Сада, его отец погиб в 1944 году в Освенциме. Киш начал публиковаться в середине 1950-х годов, будучи студентом, филологическое образование завершил в Белграде, специализируясь на русском и французском символизме. В 1960-е и 1970-е годы преподавал сербскохорватские язык и литературу в университетах Страсбурга и Бордо. Автор, в частности, романов «Псалом 44», «Сад, пепел», «Клепсидра», сборников новелл и эссе «Мансарда», «По-этика I» и «По-этика II», нескольких стихотворных циклов. Завоевал признание как тонкий переводчик русской, французской и венгерской поэзии. Всемирную известность получил после выхода в 1976 году антитоталитарного романа (точнее, это сборник тематически взаимосвязанных рассказов) «Могила для Бориса Давидовича». В Югославии эту книгу приняли неоднозначно: автора критиковали с партийных позиций, дискуссия о недобросовестных заимствованиях в тексте Киша затянулась на десятилетие. Писатель, категорически отметавший обвинения в плагиате, в 1979 году переехал в Париж. Спустя десять лет он скончался от рака легких. Последняя прижизненная книга Киша — вышедший в 1984 году сборник философских новелл «Энциклопедия мертвых». Писатель называл себя наследником традиций Борхеса и Бруно Шульца, а литературоведы отмечали, что на творческую манеру Киша оказали влияние Джойс и Набоков. Собственно, недоброжелатели упрекали его в эпигонском подражании всем этим писателям. Киш не был эмигрантом в полном смысле понятия, не был он и отчетливым диссидентом: не порывал связей с Югославией, регулярно получал в своей стране (как и за рубежом) литературные награды. Однако коммунисты Киша не любили, и его имя превратилось в символ свободного творчества в несвободной стране. В 1995 году в Белграде вышло полное собрание сочинений Данилы Киша в 14 томах, все его значительные произведения переведены на главные мировые языки, в том числе и на русский.
Суботица. Открытка. Ок. 1914 года
В такие сентиментальные моменты, как те, что я пережил в Карловцах, важно не поддаться эмоции и не согласиться с ходу на предложение случайного знакомого приобрести вон тот просторный каменный дом всего за 180 тысяч евро — на том простом основании, что лучше и дешевле, чем здесь, новому русскому гостю (как и его соотечественникам столетие назад) нигде ничего не найти. От заманчивой сделки мне удалось отвертеться, но я четко понимал, что, отказавшись, проворонил всю свою дальнейшую жизнь.
Северный полюс современного сербского мира (46°5′55″ с. ш.) — город Суботица совсем неподалеку от границы Воеводины с Венгрией. Здесь нет и следа русской меланхолии, зато торжествует мадьярская печаль. На улицах наряду с сербской частенько слышна венгерская речь. Главное здание Суботицы, роскошный таун-холл, в котором хватило места не только всем органам местной власти, но также научной библиотеке, паре банков и дюжине различных негосударственных организаций, являет собой прямо-таки образцовый пример венгерской архитектурной сецессии. И крыша ратуши, и фасад дворца архитектора Ференца Райхла, как несложно приметить, декорированы цветной керамикой производства фабрики Миклоша и Вилмоша Жолнаи — эту глазурованную плитку, безошибочно мадьярский отделочный мотив, ни с чем не спутаешь. Обедал я неподалеку от улицы Шандора Петефи (венгерский патетический поэт словацко-сербского происхождения) в чарде, названия которой не запомнил, но в меню значились рыбный суп халасле, гуляш, паприкаш, токайское вино и ликер Unicum Zwack. Век назад, будучи третьим по численности населения городом Венгрии, Сабадка если и не бросала вызов Будапешту, то наверняка задавала тон соседним Сегеду и Байе. Все изменилось, когда по окончании Первой мировой войны сербская королевская армия эффективно вышла на новые рубежи и удержала их, действуя сообразно декларации Майского политического собрания и пребывая в уверенности в том, что Воеводина являлась исконно сербской землей. Теперь венгерское название области, Vajdaság, — только тень мадьярского прошлого.
Суботица. Открытка. Ок. 1914 года
Суботица. Ратуша. Фото автора
Закономерность такого исторического выбора подчеркивает белокаменный памятник царю Йовану Ненаду на площади Свободы. Этот феодальный правитель (вероятнее всего, самозванец) появился в период слабости центральной венгерской власти совершенно ниоткуда. В 1526–1527 годах Ненад — кажется, командир отряда сербских наемников, прозванный современниками Черным человеком, поскольку по всему его телу, от макушки до правой пятки, якобы проходила угольного цвета полоса, — смог на короткое время объединить своим мечом земли вокруг Суботицы. Правил царь вполне в балканской традиции, жестоко оборонялся от врагов и вскоре погиб, как выяснили историки-патриоты, от подлого выстрела венгерской пищали из засады. Утвердившись к северу от Дуная через 400 лет, южнославянская власть в 1920-е высекла на гранитном царевом постаменте: «Твоя мысль была праведной» — с намеком на то, что сербство в Воеводине образовалось не на пустом месте. О смысле такого «исторического права» можно, но не нужно спорить: территориальные приращения всегда нуждаются в идейном обосновании, но все-таки сила рождает власть чаще, чем справедливость. Как и многие другие проигравшие, Черный человек стал фольклорным героем, имя его вошло в легенды, хотя Сергей Есенин посвятил свою знаменитую поэму вовсе не ему.
Тот, кто когда-то в пылу романтических аллегорий назвал центральные области Сербии славянским Пьемонтом, придумал для Нови-Сада столь же сомнительный эпитет «сербские Афины». С этим городом, конечно, связаны многие имена национального возрождения XIX века, у него неплохая историческая топография, кроме того, местные предприимчивые молодые люди уже два десятилетия проводят в Петроварадинской крепости отличный фестиваль современной музыки Exit, на мой вкус, один из лучших в Европе. Придумывался он, что видно по названию, не только как исследование рок-н-ролльной танцевальной альтернативы, но и как поиск выхода из экзистенциального тупика, в котором Сербия оказалась в конце минувшего столетия. Многие посетители фестиваля нашли свой личный «экзит», переселившись с родных просторов в более благополучные страны, но многие и остались, чтобы честно поднимать придунайскую целину.
Нови-Сад неправильно сравнивать с Афинами еще и потому, что этот город задает Сербии, балканской по сути стране, центральноевропейский — никакой не слегка ориентальный, не античный, не православный, не византийский — стандарт. Новисадская кондиция Mitteleurope столь чистой воды, что даже грешит некоторой безликостью. Наверное, когда Мария Терезия в 1748 году вместе с именем даровала городу статус вольного королевского поселения, она что-то подобное и имела в виду. «Здесь будет город-сад»: конечно, это не австрийская проекция утопии Кампанеллы, но прогрессистская формула явственно прочитывается. В Крагуеваце она, скажу так, прописана простым карандашом, а в южносербском Нише от нее ни цифры и ни буквы. Первая половина XIX века, когда Нови-Сад с населением в 20 тысяч человек был самым крупным сербским городом на Земле (при этом только два жителя из трех были сербами), вообще превращена местными историками в благословенную эпоху Siècle des Lumières.
По соображениям логистической природы я остановился в профсоюзного типа отеле рядом с железнодорожным и автобусным вокзалами. До центра города прогуливался в направлении улицы Максима Горького бульваром Освобождения — мимо аккуратных, широко спроектированных многоэтажных кварталов, в которых просматриваются и мера, и стиль. На полпути мое внимание неизменно привлекал Футошкий сельскохозяйственный рынок, биржа народных новостей. Тамошние продавцы не уставали дивиться неосведомленности русского покупателя — ну кто же не знает, что именно они продают лучшую в мире крепкую капусту! Нови-Сад по причине своей особой равнинности не задал урбанистам задач повышенной сложности, может быть, поэтому здесь обнаружилось много логичных углов, спокойных линий, приятных закруглений. Этой мягкости соответствует ритм городской жизни: не слишком быстрый, но и не очень медленный, его естественная умеренность, подумалось мне, наверняка сопряжена с природными факторами вроде чередования времени суток или скорости течения Дуная.
Рядом с храмом Имени Девы Марии имеется пафосный ресторан Atina, хотя лучше, чем в нем, посидеть в шумном, но вполне живом хипстерском заведении Loft по соседству, такие в Москве были популярны в начале 2000-х. Белградско-новисадские разницы за бокалом местного красного мне растолковывала модный писатель Мирьяна Новакович, автор отличного, населенного вампирами мистического романа «Дьявол и его слуга» из сербской истории XVIII века. Мирьяна давно уже перебралась из столицы, в которой родилась и выросла, в Нови-Сад, поскольку перестала выносить напряжение Белграда, утомилась от воспаленного городского пространства. Тут и спорить не о чем, и мне Нови-Сад показался самым приспособленным для какой-никакой комфортной жизни сербским городом. Я наводил собеседницу на мысль о противопоставлении балканского и центральноевропейского, традиционного и обновленческого начал, но Мирьяна на уловку не поддалась: Белград и Нови-Сад ей в равной степени представляются исконно сербскими, ведь 80 километров не составляют цивилизационной дистанции.
Ну что ж, и нам знакомы бесплодные сравнительные дискуссии о «русской» купеческой Москве и «европейском» дворянском Питере.
7 Црна Гора — Montenegro Славянская Спарта
Пока курок в ружье не стерся, стреляли с седел и с колен. И в плен не брали черногорца — он просто не сдавался в плен. <…> Цари менялись, царедворцы, но смерть в бою всегда в чести — не уважали черногорцы проживших больше тридцати. Владимир Высоцкий, «Черногорские мотивы» (1974)Елена Киселева родилась и выросла в Воронеже в профессорской семье, живописи училась в Петербурге, в мастерской Ильи Репина, старательно писала, преимущественно портреты, напоминающие работы знаменитой парижской эмигрантки Зинаиды Серебряковой, но не только портреты — пейзажи и сцены быта тоже: девушки тонкого стана с печальными глазами, славные буржуазные мальчики в матросских курточках, запоздалые луговые цветы, задастые крестьянки в красных сарафанах. И киселевская судьба схожа с серебряковской: в начале 1920-х вместе с мужем, молодым математиком и будущим академиком, Елена Андреевна бежала из советской России в Белград, где жила в достатке, но почти перестала быть художником. Тем не менее из поездок по дальним краям королевства Карагеоргиевичей она привезла несколько симпатичных живописных циклов, один из которых посвящен черногорским краям и дальнему югу Далмации.
Елена Киселева. «Черногорка». 1920 год. Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского
Есть картины маслом на холсте, есть рисунки карандашом или пастелью на бумаге — «Базар в Будве», «Базар в Которе», вот черногорка, вот конавлянки[35], вот три далматинки. Женские фигуры с гордыми поворотами голов, с орлиными взглядами; дамы брутальной, жгучей, контрастной красоты. Главное в работах Киселевой — прекрасная благородная дикость, элемент bon sauvage, ощущение внутренней независимости, вот точно так же Серебрякова рисовала в своих путешествиях по Магрибу свободных от общества арабских нищих и жиголо. Славяне европейского востока, господа с аккуратными бородками и гуманитарные барышни из среднерусских имений, все наши девочки с персиками — неженки со стертыми лицами по сравнению с этими жгучими адриатическими типажами. Работы Киселевой, талант которой, увы, зачах в далеком краю, хранятся в Воронежском областном художественном музее. Похоронена она в Белграде, где прожила до 95 лет. В стране пребывания эта художница забыта; в сербской Википедии нет даже статьи о Киселевой, а черногорской Википедии пока не существует.
Я не случайно рассказал о художественных работах Киселевой, рисунках сильных портретных линий: на крайнем юге славянской Адриатики многие черты балканских характеров кажутся особенно резкими, необыкновенно выпуклыми. Составитель первой расовой карты Европы, французско-российский ученый Жозеф Деникер, совершив в конце XIX века путешествие по Балканам, перечислил признаки отдельного антропологического типа — динарского. Это сочетание внешних особенностей Деникер посчитал типичным для населения горных районов южной Далмации и особенно Черногории: высокий рост, стройное телосложение, крупные черты продолговатого лица, прямой орлиный нос, матовая кожа. Красивые, волевые, грубоватые люди, устроившие свою жизнь на очень непростой и в природном, и в социальном отношении территории.
На этой каменистой земле, где складчатые горы тугой гармошкой согнаны к берегу моря, острыми углами столкнулись сразу несколько цивилизаций. Славянские племена обитали в местных долинах и на взгорьях с VII столетия, здесь строились и рушились средневековые княжества Дукля, Зета, Травуния, Захумье. Княжество Дукля периода своего расцвета стало важным центром собирания сербских земель, и это государство теперь в Цетине и Подгорице считают предтечей славяно-греческого царства Стефана Душана. Приморскую полосу колонизировали сперва греки и римляне, позже Византия и Венеция, в начале XIX века Которский залив перешел под власть Габсбургов. Континентальные области в самом конце XV столетия подчинились Османам, но сопротивление завоевателям не прекращалось здесь никогда, оттого и возникло определение Черногории как «православной Спарты». Морской офицер Владимир Броневский, попавший на адриатический берег с русской эскадрой, например, узрел в Черногории «…отечество равенства и истинной свободы, где обычаи заменяют закон, мужество стоит на страже вольности, несправедливость удерживается мечом мщения». Черногорцы считают себя народом воинов и поэтов, так вот они, с песней смерти на устах и с оружием в руках, и продержались 500 лет на страже своих суровых Фермопил.
Западные историки видят причины такой славянской гордости не только в неуступчивости местных жителей, но и в особенностях местной географии. «Черногорцы формально покорились Османской империи, — пишет Деннис Хупчик. — Поскольку их деревни были труднодоступными, а условия жизни откровенно примитивными, султанские власти решили: не стоит затрачивать усилий, чтобы устанавливать прямой контроль за этими малозначимыми землями. Горцев фактически предоставили самим себе». То есть, продолжаю я мысль американского автора, Черногория сохранила внутреннее самоуправление и потому тоже, что мало какому басурману хотелось лезть к вершинам с риском получить пулю в лоб из-за какой-нибудь угольного цвета скалы. Безжизненные шапки гор здесь действительно темно-серого, аспидного оттенка, это прекрасно видно хоть с моря, хоть с самолета.
Османские чиновники без необходимости не вмешивались в дела обитателей черных вершин, позволяли им свободно выбирать себе лидеров, признавали решения собрания местных племен (сбора). Здесь установили щадящую норму дани — по 55 акче с семейства в год, примерно стоимость двух баранов, но и эти суммы выплачивались нерегулярно. Во владения черногорцев допускались только посланники султанского двора, иным османам доступ был воспрещен. Экономическая бесперспективность этих краев лишала завоевателей охоты и необходимости жестко управлять; карательные экспедиции чаще всего оканчивались либо поражением захватчиков, либо бегством местных жителей на соседние венецианские территории. Черногорцев без особого успеха пытались использовать в качестве пограничных стражников; они нехотя отрабатывали положенное на прибрежных соляных месторождениях, доходы от которых перечислялись напрямую в султанскую казну.
Не стоит сводить национальную историю к анекдоту, а национальный характер к антропологии, но географические параметры черногорского участка адриатической зоны действительно крайне своеобразны. Южные области Динарской цепи (в частности, горные массивы Проклетие и Дурмитор) — пронзительно красивый, однако на редкость негостеприимный, к тому же самый дождливый район Европы, в местечке Црквине ежегодно выпадает 8 тысяч миллиметров осадков. Устремленные к пустому небу скалы и почти отвесные каменные стены кое-где перемежаются бездонными провалами, глубина самого известного из которых, каньона реки Тары (этой пропасти нет равных во всей Европе), превышает 1300 метров. Конница здесь бесполезна, с пушками сюда не подняться, на танке не пройти. Условия для прибыльного хозяйствования в черных горах долго не складывались, и многочисленные, но немноголюдные племена, кормившиеся скотоводством, главным образом выпасом овец, вели полуголодное полукочевое существование, зато крепче становились, в лишениях закаляя волю.
Немецкая карта Черногории. 1862 год. Атлас Дитриха Раймера
Эти люди были готовы к вечной обороне от любых захватчиков и природных катаклизмов, к грабежам тех, кого считали неприятелями или нарушителями своих обычаев. Они жили общинами по законам кровного братства и кровной мести, поскольку сохраняли убежденность в том, что только так и могли зацепиться за жизнь в угрюмой стране горных козлов и горных орлов. Мораль диктовалась обычаями предков, православный священник был не только пастырем, но и товарищем по оружию, конфискация чужой собственности, особенно в голодные годы, расценивалась не как необходимость, но и как доблесть, ценность женщины определялась ее способностью поскорее нарожать побольше сыновей. «Турки взяли поле, латиняне взяли море, а черногорцы стеснились в скалах, им остались бесплодные вершины», — сетовал в путевых записках белградский писатель и дипломат Любомир Ненадович. На западе Европы уже совершилась промышленная революция, а в Черногории все еще сохранялось натуральное хозяйство. Горные села существовали в изоляции друг от друга, первую гужевую дорогу здесь проложили в 1840-м, через семь лет после открытия первой школы. До 1878 года в этой области с населением в 100 или 150 тысяч человек не существовало городов. Побывавший в Петербурге николаевских времен черногорский владетель, сравнивая свое и чужое, поразился тому, «до какой степени храбрость черногорского народа превосходит степень его образования, если можно слово сие употребить при обозначении качеств, которыми обладают черногорцы, — качеств доблестных, но облеченных мраком невежества».
По своей патриархально-героической структуре это общество напоминало албанское, правда, кодификацию ежедневного бытия славяне не довели до дидактического совершенства «Кануна». Гордившиеся бесстрашием черногорцы, как отмечали западноевропейские путешественники, только албанцев и считали равными себе, остальные народы казались им в большей или меньшей степени женоподобными. Между албанскими и славянскими хайлендерами складывались разветвленные отношения, и вовсе не всегда враждебные. Бытовали легенды об общем происхождении пяти славных черногорских и албанских родовых общин. Смешанные браки не были редкостью, некоторые знатные семьи перемешали в себе славянскую и иллирийскую кровь и порой счастливо правили, приумножая богатства. Самая известная такая фамилия — то православная, то католическая династия Балшичей (в албанской традиции Балшу), представители которой управляли княжеством Зета, 650 лет назад вобравшим в себя почти все нынешние черногорские, часть косовских и североалбанских земель.
Интересно, что Джурадж (Георгий) II Балшич, владевший Зетой в конце XIV — начале XV века, не принял участие в Косовской битве, несмотря на то что главный трагический герой этой военной драмы, сербский князь Лазарь, приходился ему тестем и старшим союзником. Согласно легенде, войско Балшича по неясным причинам опоздало на сражение на три дня, но историки обращают внимание на следующее обстоятельство: если с сербскими князьями Джураджа связывали родственные узы, то с султаном Мурадом I — куда более щепетильные обязательства вассала. Тем не менее традиционный косовский миф получил в Черногории широкое распространение, в XIX столетии превратившись и в этих краях тоже в ресурс романтической концепции сербства. Эпос указывает, что после битвы некоторые витязи нашли убежище в черных горах, откуда продолжили сопротивление иноверцам; в конце концов именно их потомки и взяли обратно свою свободу. В образе косовского героя Бановича Страхиньи знатоки фольклора узнают фигуру Джураджа II Балшича. В 1981 году в свет вышел югославско-западногерманский кинофильм «Банович Страхинья» (в международном прокате «Сокол») с итальянским актером Франко Неро в заглавной роли. Даже сегодня этот исторический боевик удивляет натурализмом сцен насилия, особенно сажания на кол. Замечу еще, что Джурадж правил своей Зетой из Улциня, где помимо прочего чеканил княжескую монету. Сейчас две трети населения этого милого курортного городка на крайнем юге черногорского приморья, с крепостью на горе и с пляжами под горой, составляют албанцы.
В крепости Улциня (в турецкой традиции Улгун) в 1676 году закончил свой земной путь каббалист Шабтай Цви, сосланный из других пределов Османской империи. Вина каббалиста заключалась в том, что он объявил себя мессией. Еретическое учение, саббатианство, вызвало ажитацию в иудейском мире. В силу обстоятельств Цви, выходец из общины романиотов (евреи с бывших византийских территорий), принял ислам и магометанское имя Азиз Мехмед. Это разочаровало его сторонников, хотя ортодоксальные последователи саббатианства считали: веру сменил не мессия, новую веру взяла его тень, сам мессия ушел на небо и вскоре вернется исполнять освободительный долг. По доносу о тайном соблюдении иудейских обрядов Азиза Мехмеда арестовали и отправили в изгнание к берегам Адриатики. По легенде, несколько лет он просидел в крепостной башне, названной именем Балшича.
«Шабтай Цви». Гравюра. Еврейский исторический музей, Амстердам
В Улцине, по другой легенде, еще долго существовала община саббатианцев — мусульман, вдали от чужих глаз практиковавших иудаизм. В югославские времена этот почтенный город вдруг разом сломал консервативную традицию: в окрестностях Улциня, в устье пограничной с Албанией реки Бояна (Буна), подальше от посторонних глаз, коммунистические власти построили нудистскую деревню для иностранных туристов. Такого черногорцы и албанцы, рыбаки и пастухи, еще не видывали. В новые времена FKK Resort Ada Bojana, конечно, уже не так шокирует местных жителей, а вот долгие закаты с видом на море здесь по-прежнему сногсшибательны.
Сменившая Балшичей на скромном престоле Зеты династия Черноевичей (Црноевичей) до последнего храбро и хитро сопротивлялась османам силой оружия и дипломатического маневра. Упомяну об этом знатном семействе в том числе потому, что с его возвышением связано появление в европейском политическом словаре термина «Черногория». Впервые в узком географическом смысле этот термин употребил в 1376 году летописец из Рагузы/Дубровника. Визуальным символом «земель над морем» стали мрачные вершины нагорья Ловчен, а Зета в конце концов осталась лишь тихой речкой в долине посреди топких болот. Под давлением неприятеля Черноевичи вместе со своими подданными забирались по горным кручам, оставили центровую крепость Жабляк-Черноевича, чтобы обосноваться в новой временной столице, живописном местечке, известном теперь как Рьека-Черноевича, а оттуда перебраться в Цетине, где долго теплилась, а потом начала крепнуть новая черногорская государственность.
Последние и самые славные Черноевичи, Иван и Джурадж (Георгий), вошли в историю прямо-таки как люди эпохи Ренессанса — оба не раз бывали на Апеннинском полуострове и напитались там духом Возрождения. Строителей православного монастыря в Цетине, главной духовной крепости горцев, явно вдохновил не только византийский, но и италийский архитектурный канон. Обученные в Венеции мастера с иеромонахом Макарием во главе вернулись домой со сложным типографским оборудованием и запасами бумаги, чтобы в 1494 году отпечатать первую в истории южных славян богослужебную книгу на кириллице. «Октоих первогласник» (сборник церковного пения на восемь голосов) вытеснен оловянными буквами на 270 листах черным и красным цветами; до сих пор, представьте себе, сохранилась сотня экземпляров этой чудесной книги. Типография Черноевича функционировала три года, а когда власть династии пресеклась и началось османское владычество, Макарий бежал в Валахию, где дважды благочестиво отпечатал Евангелие.
Степан Малый. Факсимиле обложки книги Стефана Зановича. 1784 год
ДЕТИ БАЛКАН
СТЕПАН МАЛЫЙ
царь-самозванец
Талантливый проходимец, втершийся в доверие к горцам и выдававший себя за низложенного в 1762 году и таинственно простившегося с жизнью в Ропшинском дворце российского императора Петра III, оказался умелым политиканом и продержался у власти почти шесть лет. В своих тщаниях Степан (Стефан, Шчепан) Малый был не одинок: помимо Емельяна Пугачева внуком Петра I во второй половине XVIII столетия объявляли себя десятки претендентов. Этот примерно 40-летний малый, знахарь родом из Далмации или Боснии (как предполагают, его настоящее имя Стефан Раичевич), появился в Черногории в 1766 году. Первым якобы бежавшего из Петербурга императора в чужестранце узнал капитан Мирко Танович, служивший в свое время в России и видевший Петра III. Кажется, император и самозванец действительно были похожи. Слава «чудесно спасшегося монарха» росла, и осенью 1767 года по инициативе черногорских старшин Степан Малый был посажен на царство. Он пытался укрепить централизованную власть, искоренить межплеменную рознь, запретил кровную месть, довольно успешно противостоял османской и венецианской экспансии, учредил первый в черногорской истории суд, провел перепись населения (насчитали 70 тысяч человек), предпринял усилия по сбору налогов. Свои указы он подписывал так: «Малый с малыми, добрый с добрыми, злой со злыми». Против самозванца неудачно выступал митрополит Сава Петрович-Негош, но Степан на время ловко заточил его в монастырь. Прибывший из Петербурга разбираться в ситуации князь Юрий Долгорукий (Долгоруков) также не смог убедить черногорских сербов в том, что их царь ненастоящий, хотя лично удостоверился: Степан не говорил по-русски. Со временем Степан наладил отношения с Петербургом, получил даже звание генерал-лейтенанта императорской армии и орден Святого Владимира. Однако внутренняя и внешняя оппозиции крепчали. В 1770 году на лжецаря совершили покушение, он получил тяжелые ранения, потерял зрение, но продолжал, как мог, править разобщенными черногорскими племенами из монастыря Доньи-Брчели. Достали самозванца осенью 1773-го: подкупленный османами греческий врач-убийца перерезал царю горло. Степан Малый, трагикомический персонаж сомнительных роду и племени, превратился в популярного героя высокой и народной черногорской культуры. «Лжецарь» — так называется первый снятый в Черногории полнометражный художественный фильм. В 1979 году маститый режиссер Велько Булайич представил публике фантазийную ленту «Человек, которого нужно убить: легенда о царе Степане Малом» — самозванец предстает слугой Сатаны по имени Фарф, посланным на Землю, чтобы изменить баланс добра и зла. Оказавшись в окружении добросердечных горцев, Фарф влюбляется в местную девушку и отказывается возвращаться в пекло. Сатана карает его страшной смертью. Этот остроумный кинофильм с отважными по социалистическим меркам элементами эротики Югославия представила на «Оскар».
Политической самостоятельности от османов Черногория добилась 300 лет спустя — в 1796 году, после битв у Мартиничей и при Крусах. Выплата дани прекратилась. Четыре или шесть тысяч славянских бойцов дважды победили многократно превосходившее их по численности войско Махмуд-паши Бушатлии, разбили в буквальном смысле слова наголову: череп османского военачальника выставлен трофеем в монастыре Цетине[36]. Гористый овал размером примерно 70 на 30 километров вокруг монастыря, дважды дотла сожженного врагами, но поднятого из пепелища братией и людом православным, Стара Црна Гора, превратился в ядро будущих страны и нации, и идеи сербства были здесь неотделимы от понятия черногорской родины.
Ярослав Чермак. «Черногорские беженцы времен черногорско-турецкой войны». 1877 год
Чешский балканист Франтишек Шистек, автор толковой монографии по истории Черногории, отыскал удачный образ для характеристики местной самоидентификации — концентрические круги, наложенные один на другой: жители этих краев ощущали себя прежде всего черногорцами, потом сербами (православными), а если говорить шире, то южными славянами и славянами вообще. При этом постоянные контакты между сербами из Сербии и черногорцами установились довольно поздно, а отношения не всегда складывались благоприятно. Это было прежде всего соперничество: черногорцы видели себя главными свободными от Османов жителями Балкан, потому что якобы больше других страдали во имя независимости. Со временем сказался решающий перевес Сербии — демографический, военный, экономический, научный. Общая граница между двумя государствами возникла только в 1913 году. Объединительные планы до поры до времени сводились к поискам моделей совместного царствования разных династий и определения справедливой очереди престолонаследия, пока Сербия не воспользовалась политической ситуацией и, выражаясь циничным современным языком, не отжала у черногорцев независимость. В Белграде сочли, что, сыграв важную роль в антиосманском сопротивлении, Черногория выполнила самостоятельную историческую миссию.
Свободная территория черных гор складывалась как теократическая монархия. Управлявший с 1697 года Цетинской митрополией, а потом и княжеством род Петровичей-Негошей соединял в своих руках бразды и светской, и духовной власти. Поскольку монахам полагалось быть бездетными, полномочия передавали от дяди к племяннику. Православная церковь оставалась главным черногорским феодалом, владея практически всеми пригодными для обработки земельными участками. Церковь выступала хранительницей традиций и единственной просветительницей, кого следует, карала, кого хотела, миловала. Крест православный встречал каждого обитателя черных гор при появлении на этом свете и каждого провожал на тот; для многих поколений крест представлял собой ключевой символ бытия, символ малой родины и символ мира как глобальной человеческой общины. Так и сказано в местной патриотической поэме: «Мир, вставай за крест!»
Петровичи-Негоши настойчиво добивались расширения своих земель. Постепенно к Старой Черногории присоединили прилегающие к Цетине с севера земли, Брда (серб. «горы»), потом районы Черногорской Герцеговины с центром в Никшиче, а позже и нынешнее Черногорское Приморье. Еще столетие с небольшим назад демографы регулярно подсчитывали домохозяйства, управлявшиеся черногорскими племенами. Каждое (этнограф Йован Цвиич классифицировал в начале XX века 46 племен) собиралось из братств-кланов, членов которых связывали пусть отдаленные, но родственные узы по мужской линии. До начала XX столетия, когда передвижение современных армий и развитие инфраструктуры принесло дыхание глобального мира и в эти труднодоступные балканские края, братства и племена оставались важными институтами самоуправления.
Один из исторически значимых черногорских вождей — воевода племени кучи Марко Мильянов Попович Дрекалович. Он отважно сражался с завоевателями, после победы над османами стал первым градоначальником Подгорицы, а потом, уже зрелым мужчиной, научился грамоте и сочинил несколько занимательных в этнографическом отношении книг: «Примеры человечности и геройства», «Жизнь и обычаи албанцев», «Кое-что о братоножичах». Братоножичи, белопавличи, васоевичи, морачане, пиперы, ровцы и прочие, как кажется, существуют и поныне. Влияние братств заметно не только в звучании фамилий и режиме бытового протежирования, оно сказывается и на схемах распределения финансовых потоков, отчасти даже на некоторых действиях черногорской власти; идентификация «свой — чужой» в этой стране не обязательно связана с идеологическими предпочтениями. Об общественной роли племен и братств вам, может быть, расскажут в дружеской беседе, но в интервью прессе ни один политик так ставить вопрос не согласится: принято считать, что в Черногории завершено формирование — по гражданскому принципу — современной политической нации; иначе, говорят, не было бы у нас своих страны и языка.
Воевода Марко Мильянов. Фото. Не ранее 1901 года
После русско-турецкой войны 1877–1878 годов Черногория получила международное признание, приросла Подгорицей (теперешней столицей, в которой к началу XXI века собрана треть населения страны, составляющего 620 тысяч человек). Государство из крошечного превратилось в маленькое. В 1906 году князь Никола I распорядился ввести в обращение собственную валюту, перпер, позаимствовав название денежной единицы у Византии. Национальный банк в Черногории так и не появился, эмиссией занималось министерство финансов, и казна наполнялась не столько из собственных доходов, сколько из русских субсидий и занятых у австро-венгерских банков средств. К 1900 году, например, Цетине задолжало Вене сумму, почти пятикратно превышавшую государственный бюджет.
На темы добродетельной черногорской скромности в ту пору эффектно пошутила европейская культура: в Вене с шумным успехом прошла премьера оперетты Франца Легара «Веселая вдова», действие которой разворачивалось в вымышленном балканском княжестве Понтеведро. Остроумный австро-венгерский композитор адаптировал комедию французского драматурга Анри Мельяка, присвоив его персонажам многозначительно славянские имена — граф Данило Данилович, барон Мирко Зета, секретарь посольства Негуш. Все они решают задачу государственной важности, ведь если веселая вдова богатого банкира Ганна Главари выйдет замуж за иностранца, то ее состояние, существенная часть национального богатства, уплывет из княжества: «Наша маленькая родина может обанкротиться!» Легковесная музыкальная пьеса с любовными авантюрами, переодеваниями и счастливым финалом произвела фурор в театральных кругах, но сопровождалась демонстрациями протеста обучавшихся в Вене южнославянских студентов. Князь Никола Петрович-Негош усмотрел в насмешливой оперетте оскорбление горской гордости и представления «Веселой вдовы» в своих пределах запретил. В Цетине тогда уже существовал театр, но, в общем, его репертуар от цензуры не сильно пострадал, — здесь исполняли написанную самим Николой стихотворную драму «Балканская царевна».
ДЕТИ БАЛКАН
МИЛОВАН ДЖИЛАС
комиссар и диссидент
Студент Белградского университета, выходец из черногорского села Подбишче, Милован Джилас присоединился к коммунистическому движению в 1932 году, едва отметив 20-летие. Вскоре на три года попал в тюрьму, в заключении перевел на сербскохорватский язык несколько романов Максима Горького. В 1938-м стал членом Центрального комитета Коммунистической партии Югославии. Выполнял важные партийные задания, занимался отправкой югославских добровольцев на гражданскую войну в Испанию. Вторую мировую начал организатором партизанской борьбы в Черногории, продолжал главным редактором партийной газеты Borba, закончил генерал-лейтенантом, руководителем влиятельного Управления агитации и пропаганды и, что много важнее, любимцем маршала Тито. В первом социалистическом правительстве получил пост министра по вопросам Черногории, одновременно занимаясь публицистикой, развитием марксистской идеологии и теорией черногорской национальной самобытности. Считается, что именно Джилас выстраивал идейную линию Югославии во время конфликта Тито и Сталина. В начале 1950-х годов Джилас, высокий харизматичный красавец, слыл вторым (и самым популярным) человеком в партии и возможным преемником главы государства. Именно по его предложению компартия сменила название на более неформальное — Союз коммунистов Югославии. В декабре 1953 года Джилас занял пост председателя югославского парламента, однако удержался в этом кресле всего три недели. К началу 1954-го он опубликовал в белградской печати полтора десятка статей о путях развития югославского социализма, в которых осудил сформировавшийся в стране слой партийной номенклатуры, выступил против бюрократии, за бóльшую независимость печати и судебной системы, поставив всем этим под сомнение святое — методы руководства Иосипа Броза. Джиласа немедленно лишили всех партийных постов, о нем перестали говорить как о «самом великом черногорце XX века». Он подал заявление о выходе из партии и продолжал критиковать систему. За «враждебную пропаганду» бунтовщику сначала присудили условный срок, а в 1956 году отправили за решетку. В 1957-м на Западе был опубликован политический бестселлер Милована Джиласа «Новый класс: анализ коммунистической системы», изданный к настоящему моменту на 40 языках тиражом в 3 миллиона экземпляров. Джиласу добавили еще семь лет тюрьмы, в заключении он, по обыкновению, занимался литературным творчеством, перевел «Потерянный рай» Джона Мильтона (как гласит предание, делая записки на рулонах туалетной бумаги). В 1962 году, снова за рубежами Югославии, вышла еще одна яркая работа Джиласа, политический мемуар «Разговоры со Сталиным». Диссидента амнистировали в 1966 году, но не вернули ему гражданские права, а из наград оставили только советский орден Кутузова. До конца жизни — Джилас скончался в 1995-м — он занимался публицистикой, возвращаясь к общественной деятельности по мере ослабления коммунистической системы. В 1988 году был снят запрет на издание его книг в Югославии. Джилас — самый высокопоставленный политик из стран Восточного блока, бросивший вызов вскормившей его системе.
В 1910 году черногорское княжество превратилось в королевство. Оно снова расширилось, по итогам Балканских войн, но после Первой мировой утратило независимость вместе с валютой и монархической династией.
А «своих» денег, кстати, у Черногории нет и теперь — в надежде вступить в Европейский союз эта страна, как и полупризнанное Косово, использует евро. На перперы можно только посмотреть — вон они, лежат под стеклом в музейной витрине. Как напоминание о черногорской финансовой самостоятельности прочитывается название самой популярной местной рок-группы Perper, исполняющей сильные баллады и цельнометаллические гимны вроде «Цетинских дождей» и «Храбрых соколов».
Реалии южнославянского братства, за которое пролито немало крови, понравились не всем. Из равноправного военного союзника Сербии в 1918 году Черногория превратилась в лишенную даже автономии область, подотчетную Белграду. Обстоятельства, при которых Великое народное собрание сербского народа, так называемая Подгорицкая скупщина, принимало решения о низложении Петровичей-Негошей и объединении с Сербией, квалифицируют по-разному. Сторонники собственной монархии, выступавшие под лозунгом «Один король, одна страна, один народ», подняли восстание, но их отряды были рассеяны. Теперь созыв Подгорицкой скупщины считается незаконным, пребывание Черногории в королевстве Карагеоргиевичей называют сербской оккупацией, а парламент республики в принятом в 2011 году на этот счет законе использовал термин «насильственная аннексия».
Правосубъектность Черногории вернули коммунисты-титовцы, провозгласив ее одной из шести республик южнославянской федерации, да еще добавили землицы: почти две сотни километров побережья с похожим очертаниями на взмахнувшую крыльями бабочку Которским заливом, самым большим на Адриатике. Приморский юг и горный север остаются двумя главными и совсем разными регионами страны — богатым и бедным, оптимистическим и депрессивным, перспективным и безнадежным. Побережье Montenegro — черногорское Monte Carlo, здесь появляются и расцветают отели, марины, спа, казино. Туризм и торговля развиваются на исторически новоприобретенном юге, а на севере жизнь словно замерла.
Жителям самой маленькой югославской республики после наступления социализма присвоили статус народа, и первая же перепись населения, 1948 года, выявила, что черногорцами, а не сербами считают себя 90 % населения. Со временем национальные чувства подзавяли: черногорцы составляют в Черногории чуть меньше половины, а таких, кто ощущает себя сербом, здесь примерно треть. Смешанная идентичность остается важной местной общественно-политической характеристикой, национальные цвета отличаются особой тонкостью оттенков. Бывает и так, поясняет моя приятельница Елена, что один из двух братьев считает себя сербом, а другой черногорцем[37]. Сама Елена, все семейные корни которой — на этой земле, с детства ощущала себя черногоркой, но во время последней переписи населения вдруг записалась сербкой: «Наверное, я устала от того, что сограждане с таким энтузиазмом по любому поводу машут государственными флагами».
Черногория была экономически отсталой, но важной для концепции югославизма федеративной единицей. Число выходцев из этой республики в партийном и государственном аппаратах СФРЮ, как и в Народной армии, заметно превышало черногорские 2,5 % от общей численности населения страны. В годы Второй мировой войны черногорцы сыграли важную роль в коммунистическом движении сопротивления. Парадом победителей в освобожденном от нацистов Белграде в конце октября 1944 года командовал 32-летний генерал-черногорец Пеко Дапчевич, верхом на белом коне; каждый четвертый партизанский боец, получивший звезду Народного героя Югославии, был родом из черных гор. Титовские времена многим жителям республики до сих пор представляются благословенными, сожаления о распаде Югославии в Черногории сильны, партизанская символика в моде, авторитет красного маршала высок. И понятно почему: слаборазвитым в экономическом и социальном отношениях территориям титовский социализм давал больше, чем тем республикам, которые делали решающие взносы в общий бюджет.
В союзе с Белградом Подгорица[38] состояла до 2006 года, но в конце концов и этот государственный брак был признан, как и все прочие в Югославии, неудачным. Началась третья — если считать княжества Дукля и Зета, если не забывать о юнацких усилиях Черноевичей и Петровичей-Негошей — эпоха госстроительства. Началась с размежевания: предмет «сербской язык» в школьной программе стал называться «родной язык», а еще через пятилетие превратился в «черногорский язык». Эти языки отличит друг от друга только чуткое ухо лингвиста или патриотически ориентированного политика, который нет-нет да и добавит в свои тексты одну из двух новых букв черногорского алфавита. Определенные фонетические различия наличествуют, некоторые способен уловить даже я, но существовали они и в то время, когда в Черногории изъяснялись на сербскохорватском. И так проявляется своеобразие демократии: кем себя считать, как называть язык, на котором говоришь, — вопрос произвольного выбора, нация определяет себя прежде всего через язык и субъективные ощущения единства.
Историки указывают, что начало «русскому культу», константе самостоятельной черногорской политики на протяжении двух с лишним столетий — всемерной оглядке и опоре на империю Романовых, положил первый из пришедших в своей сельской местности к духовной и светской власти Петровичей-Негошей. Молодой митрополит Данило проявил своеволие в отношениях с Османской империей: отказался сотрудничать с Печской патриархией, которой заправляли утверждавшиеся великим визирем греческие священники, и отправился за благословением на габсбургскую землю, где нашли убежище сербы из Косова и Рашки. Россия, по мере своего приближения к Балканам, выдвигалась в попечительницы Черногории. Помимо османских султанов и императоров Австрии на местные обстоятельства исстари влияла еще и Венеция, но общая с русскими вера и славянская солидарность в долгой игре оказались более крупными козырями.
Митрополит Данило установил связи с Россией и в 1711 году получил от Петра I грамоту с призывом к восстанию. Предание гласит, что Данило созвал племенной сбор, на котором обратился к пастве и подданным с яркой речью о кровном единстве и православных идеалах. Черногорская мина, однако, не сработала: армия султана подавила бунт, а поход русского царя через реку Прут, на другом фронте войны, окончился поражением. В невыгодном для России мирном договоре о южных славянах даже не упоминалось; османы сожгли Цетине, Данило нашел убежище у венецианцев. В 1715 году он посетил Петербург, где получил деньги, церковную утварь и полные святых книг сундуки, проторив этой дальней поездкой дорогу для всех своих преемников на кафедре митрополита и на черногорском престоле.
Данило I Негош. Иллюстрация из книги «Горный венец», изданной в Вене в 1847 году
В династии Петровичей я насчитал шестерых важных властителей. Почти все они правили подолгу, и каждый по-своему пытался избавить родные земли от бедности и лишений, сбросив иностранную зависимость. Каждый уповал на защиту России, и каждый такую поддержку, пускай иногда лишь моральную, получал. Если в Петербурге подозревали черногорских сербов в намерении сблизиться с Австрией или иными державами, случались размолвки. Но Романовы, грезившие о пришествии в Константинополь, в походе за русский горизонт опирались и на слабое черногорское плечо.
Сербы из Черногории получали в России образование да дивились богатству и тороватости далеких братьев; бойцы черногорской армии, когда она появилась, носили русские мундиры старых образцов и стреляли по врагам из русских ружей; черногорских княжичей иногда воспитывали русские генералы, княжон нет-нет да и выдавали замуж за родственников русского императора. Эти императоры, от Петра I до Екатерины II, от Александра I до Николая II, назначали для митрополита, монастыря в Цетине, черногорских князей и полуголодных черногорских краев в целом финансовые и вещевые субсидии. Упомяну, например, о щедрости Александра III, который повелел отсыпать зерна, на доходы от продажи которого в 1894 году близ Никшича построили длинный Царев мост через болотистую долину реки Зеты, в каждую из 19 опор замуровали по золотой монете. Романовы в политическом и духовном смыслах утверждали Петровичей-Негошей на престол. На северо-востоке Европы и на ее дальнем юго-востоке молились одному Господу, били в похожие колокола, говорили на близких языках, вместе ненавидели турок. Постепенно сварился миф о нерушимой дружбе русских и черногорцев, исполненный банальных исторических анекдотов и поговорок, которыми и теперь питается квасной патриотизм в обеих странах. Однако у этого мифа есть серьезная теоретическая основа, вырастающая из православной эсхатологии: Россию в общесербской традиции принято рассматривать как катехон, исторический субъект, препятствующий торжеству зла и приходу антихриста. Братство с русскими, будучи божественного характера, не ставится под вопрос.
Джузеппе Томинц. «Петр II Негош в одеянии владыки». 1833 год. Монастерь Рождества Пресвятой Богородицы, Цетине
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК ПОЭТ СПЛЕЛ ГОРНЫЙ ВЕНЕЦ
Героико-эпическую поэму «Горный венец», сочиненную Петром II Петровичем-Негошем в 1846 году, подписанную просто Негош и отпечатанную в типографии монастыря Армянской католической церкви в Вене, принято считать вершиной сербского стихотворного творчества. В середине 1840-х годов черногорский владыка находился в расцвете творческих сил, из-под его пера в тот период вышли также ставшие южнославянской классикой поэма «Луч микрокосма», действие которой разворачивается в межпланетном пространстве, и стихотворная документальная драма «Лжецарь Степан Малый». В «Горном венце» описан трагический рождественский вечер, события начала XVIII века: черногорские сербы «всенародной волей» истребляют и изгоняют со своих земель османов и перешедших в ислам «потурченцев». Многим историкам это событие представляется вымышленным. Поэма, так или иначе, воспевает священное наказание предателей родины и веры, или, как цинично сострил один исследователь, «попытку окончательного решения национального вопроса». В героической интерпретации рождественский вечер предстает как выбор между потерей национальной идентичности и необходимостью очищения расы во имя идеалов независимости. Исламизация черногорцев, в которой стихотворец видит предпосылки разрушения сербского культурного кода, вызывает в его душе такие отчаяние и ярость, что вероотступникам он не оставляет права на жизнь. Обычаи трудного времени позволяют поэту только мечтать о гуманизме, толерантности, милости к падшим. Расправа со «своими» — пролог борьбы за освобождение от власти «чужих», и не случайно исторический фон поэмы составляет прошлое «сербского рода», со времен Неманичей и битвы на Косовом поле. В южнославянском языковом пространстве «Горный венец» считался гимном вольности и чести, и рабочее название поэмы «Искра свободы» не кажется случайным. 2819 строф написаны сложным десятистопным хореем и стилизованы в соответствии с традициями народного фольклора. В XXI столетии книгу Негоша сложно воспринять некритически. С вековой дистанции хорошо видно, как разительно тогдашнее балканское понимание поэтической романтики отличалось от общеевропейской традиции. Еще один южный славянин, словенец Франце Прешерн, в тот же период сплел совсем другой поэтический венец, «Венок сонетов», в котором прежде других ценностей воспел любовные чувства. «Стихи его словно вытесаны из скал черногорской земли», — сказал литературовед о книге Негоша и не ошибся. «Горный венец» — жестокое чтение, хотя даже строгие критики признают за поэмой незаурядные литературные достоинства, объясняя идеологию автора особенностями его становления как мастера слова и политическими обстоятельствами. Биограф Петра II охарактеризовал истоки его дарования так: «Сербская слава была первая Негошева любовь, а звездное небо — первая загадка». Поклонники таланта Негоша, считая «Горный венец» шедевром, рассматривают эту поэму как попытку диалога черногорцев с другими народами и культурами (автор пространно описывает османские, славянские, венецианские обычаи) и свидетельство открытости природе и вселенной, явленной в философских рассуждениях. «Горный венец» — многоплановое произведение с десятками персонажей, характеры которых больше чем в действиях раскрыты в рассуждениях. Центральная фигура, владыка Данило I, целостен в стремлении объединить черногорские племена, ненависти к завоевателям и преданности делу сербства, но идеал его жизни, борьба за счастье народа, остается недостижимым.
Поколенье рождено для песен! Тяжек ваш венец, зато плод сладок, Ведь и смерти нет без воскресенья![39]Царёв мост через реку Зету. Фото. Ок. 1900 года
Такое светлое восприятие не учитывает несколько обстоятельств. Петровичей-Негошей при дворе Романовых воспринимали как бедных родственников (один из петербургских царедворцев насмешливо называл князя Николу «живописной фигурой») и уж точно не как ровню, видели в них эксцентричных говорунов, которые и не пытались скрывать за гордой осанкой и сладкими речами прагматические интересы. Черногорские князья, заверяя Россию в лояльности, просили вспомоществования и покровительства в других столицах, а кратчайший путь в Петербург из Цетине лежал через Вену. В хозяйственном отношении маленькая славянская монархия была периферией австро-венгерского экономического пространства, без которого не могла существовать. Тем не менее авторитет большой России в маленькой Черногории до самого горького финала Романовых и Петровичей-Негошей оставался высоким.
В 1806 году Петр I Петрович-Негош выдвинул идею создания славяно-сербского царства с русским соправителем на троне; армия его горных стрелков помогала флотской экспедиции Романовых на Адриатике, но из затеи совместной державности ничего не вышло. Преемник и племянник оставившего после себя завет «Богу молись да за Россию держись» Петра I, Радивой (в монашеском постриге Петр, князь Петр II), как гласит предание, остановившись на пути в Петербург во Пскове, посетил могилу Пушкина в Святогорском монастыре, чтобы вдохновиться на создание поэтических произведений.
Никола Петрович-Негош, пожалованный званием генерал-фельдмаршала российской армии, отец 12 детей, известный в столицах разных стран по прозвищу Европейский тесть, выдал двух своих дочерей за внуков Николая I Романова — великих князей Николая Николаевича, большого любителя псовой охоты, и Петра Николаевича, увлекавшегося живописью и архитектурой. Цетинские невесты, Анастасия и Милица, окончили Смольный институт; обе княжны, по воспоминаниям современников, были умны и влиятельны, но отличались высокомерием, за что их недолюбливали при русском дворе и дразнили черногорскими воро́нами. Другие дети Николы породнили Петровичей-Негошей с монархическими домами Сербии, Италии, Болгарии, а также с представителями звучных аристократических фамилий Гессен и Мекленбург.
Король Никола с семьей. 1910 год
Единственный черногорский король с королевством, Никола I, продержался на престоле в общем счете 58 лет, но в вихре Первой мировой войны потерял и власть, и свою маленькую страну. Помимо прочего ему неожиданным и неприятным образом аукнулась казавшаяся столь успешной «матримониальная политика». В 1882 году черногорская принцесса Зорка вышла замуж за Петра Карагеоргиевича, в ту пору — жившего в изгнании претендента на сербский трон, будущего короля Дядю Петю. Молодая чета провела в Цетине восемь лет, до смерти Зорки от последствий родов. После дворцового переворота 1903 года Карагеоргиевичи вступили на престол, а еще через полтора десятилетия принц-регент Александр лишил власти некогда качавшего его в люльке черногорского дедушку. Надежного престолонаследника Никола подготовить не смог: кронпринц Данило не выказывал устойчивого интереса к государственным делам, не проявлял особых талантов военачальника и не воспитал в себе твердого характера. Оказавшись после смерти отца во главе правительства Черногории в изгнании, всего через шесть дней он отрекся от престола в пользу малолетнего племянника.
В Цетине Никола, пока княжил и царствовал, обустроил двухэтажный дворец, по русским меркам гнездо аристократического рода среднего достатка — с библиотекой, индонезийским и венецианским салонами, чайной комнатой, бильярдным столом. Никола, правивший по горной узурпаторской традиции, в то же время как мог приближал Черногорию к европейским цивилизационным стандартам. К началу Первой мировой войны в столице его маленького царства работали дипломатические представители 11 стран, здесь выходили шесть газет. Цетине, очаровательный в своей скромности город с 10-тысячным населением и парочкой исторических кварталов, и теперь помнит своего единственного короля, ему даже посвящена международная велогонка «По дорогам Николы». Однако не Никола, одержавший много военных побед, но проигравший историческую схватку, главный культовый герой Черногории. Выбирая между двумя правителями, поэтом и солдатом, родина Петровичей-Негошей предпочла поэта. Здесь уверены, что именно Петр II, мечтая о счастливом будущем, первым употребил название «Югославия».
Главные национальные святыни — на одной из вершин горы Ловчен, в мрачном мавзолее, потолок которого покрыт золотой крошкой, — гробница Петра II Петровича-Негоша и 28-тонный памятник ему. Каменный пастырь восседает на троне, погруженный в тяжелые думы, за его спиной простирает крылья черногорский орел, а охраняют эту пару две огромные черногорские кариатиды. Разглядывая великолепный неоклассический монумент, я вспомнил рисунки Елены Киселевой: те же гордо посаженные головы, то же ощущение внутренней независимости. К мемориалу Негоша ведет лестница из 500 ступеней, но вершина Ловчена стоит утомительного восхождения: отсюда открывается редкой убедительности панорама — и старочерногорские горы, и новочерногорское море, и вечночерногорское небо.
Тонкий поэт, Петр II видел в русских освободителей славян. Вот как, в стиле ложного классицизма, воспел он Неву, свинцовый символ всего имперского: «С твоих берегов летят во все стороны орлы — верных защищают, неверных сокрушают… От морских пучин до небес гремит имя славянина, славного от своей колыбели!» Как и его владетельные предки, Петр II, статный мужчина с бравой выправкой, принял сан священника. При этом он был метким стрелком, пробивал из джефердара[40] подброшенное в воздух яблоко. Если того требовали национальные интересы, военный патриотизм брал во владыке верх над любовью к литературе. В 1834 году Петр Негош организовал в Цетине на русские деньги новую типографию, в которой печатал и свои произведения. Когда над родиной нависла угроза очередного османского нашествия, черногорцы переплавили литеры в пули.
Подобные истории работали на восприятие Черногории во внешнем мире как земли «героев со стальной грудью», хотя своих Джеймса Фенимора Купера и Карла Мая на черногорцев не нашлось. Митрополит и поэт Петр II называл родной край «свободы сербским гнездом» и всегда вел себя соответствующим образом. Скажем, при посещении достопримечательностей Рима отказался приложиться к святой реликвии, честным веригам, которыми был опутан в темнице апостол Петр: «Черногорцы не целуют цепей». Эпические рассказы о доблести, о подвигах, о славе в черногорской традиции вообще играли важнейшую роль. Выдающимся представителем народной героической поэзии стал гуслар[41] из села Обров Авдо Меджедович, творческое наследие которого составляют 13 или 14 эпических поэм общим объемом в 80 или 100 тысяч строф. Знакомство с Меджедовичем позволило американскому филологу Милману Пери в 1935 году решить для мировой литературы так называемый гомеровский вопрос: способен ли один автор сочинить эпос размером с «Одиссею» либо «Илиаду»? Самородок с черных гор доказал: да, способен. Интересно, как здесь, в окрестностях городка Биело-Поле, смешались балканские влияния: исполнитель фольклорных юнацких песен Авдо Меджедович был мусульманином и в молодости девять лет прослужил в султанской армии.
«Гуслар из Герцеговины». Рисунок из книги «Сербские народные песни», изданной сербским просветителем Вуком Стефановичем Караджичем в 1823 году в Лейпциге. Предполагается, что играющим на гусле изображен сам Караджич
Когда царская Россия стала советской и уничтожила Романовых, когда Сербия изгнала Негошей и превратила Черногорию в часть королевской Югославии, отношения русских и черногорцев нарушились, потому что нарушилось единство целей их политических классов. Многое изменилось. Цетине потеряло столичный статус, Подгорица (буквально: «селение под холмом Горица»), наоборот, его приобрела. Этот важный опорный пункт османской власти разрастался вокруг крепости у слияния речек Морача и Рибница. В 1878 году, когда решением Берлинского конгресса Богуртлен (в переводе с турецкого «черника») был передан княжеству Николы Петровича-Негоша, каменные укрепсооружения разрушили. В годы Второй мировой войны британские бомбардировщики совершили на оккупированный нацистами город 70 налетов, которые оставили в Подгорице 4 тысячи мертвых, почти треть тогдашнего населения. Под бомбами союзников уцелело немногое из исторически ценного — две мечети да часовая башня, на которой совсем недавно для точного времяисчисления установили французский дигитальный механизм. Послевоенное бетонное восстановление принесло Подгорице урбанизацию, но не принесло уюта.
На протяжении почти всего XX столетия «особые» русско-черногорские связи оказались утопленными в проблемах и достижениях советско-югославских отношений. Поворот к старому произошел в новом веке, когда Черногория оказалась удобным адресом русской эмиграции. Бизнесмены из Москвы и Петербурга зачастили сюда с проектами и инвестициями, контакты оживились, и вскоре по традиции подоспели «подарки русского народа». В Подгорице через Морачу перебросили пешеходный Московский мост, воздвигли памятник Александру Сергеевичу с Натальей Николаевной, а еще Владимиру Семеновичу, вспомнив, что оба русских поэта сказали по черногорскому слову.
С Пушкиным вышло вообще-то забавно: в 1835 году он попался на уловку Проспера Мериме, приняв за подлинные «иллирийские легенды» выдуманные этим французским писателем «прозаические переводы» несуществовавших песен «полудиких народов», собранных несуществовавшим собирателем балканского колорита. Дюжину литературных мистификаций, одна из которых посвящена героике черногорской борьбы с Наполеоном, Пушкин вольно пересказал в стихотворном цикле «Песни западных славян».
Нам сдаваться нет охоты, — Черногорцы таковы! Для коней и для пехоты Камни есть у нас и рвы…Теперь Пушкин — вестимо, с поднятой в творческом порыве рукой — обречен вечно декламировать эти строки своей сидящей под фонарем между зданиями парламента и центрального банка супруге. На бронзовой лавочке достаточно места, чтобы усесться рядом с N.N. и сделать эффектное селфи.
В отличие от Пушкина, который никогда не выезжал за пределы Российской империи, Владимир Высоцкий побывал в Югославии дважды. Один раз он играл Гамлета в спектакле Театра на Таганке на белградском фестивале БИТЕФ, а в другой, в 1974 году, принимал прямо в Черногории участие в съемках военно-героической драмы «Единственная дорога». Эта кинолента рассказывает о титовских партизанах, громящих колонну гитлеровских бензовозов, в кабинах которых сидят прикованные цепями советские военнопленные, — и вот югославы бьют врага, освобождая русских товарищей по антифашистской борьбе. Высоцкому, написавшему для этого фильма три песни, досталась роль погибшего на 24-й минуте действия шофера Солодова. Тогда же местные журналисты сняли посвященный полузапретному советскому барду получасовой фильм-монолог. Стоя на морском берегу, поэт читает только что написанное им стихотворение «Черногорские мотивы» о доле и яростном счастье умереть за родину, не дожив до тридцати. И вот теперь бронзовый Высоцкий — в динамической позе, с гитарой в руке, голый по пояс, с философским черепом у босых ног — навечно установлен у подгорицкого моста.
Георг Ковальчук. «Собор Святого Трифуна в Которе». Олеография, 1909 год
Характерно, что и Пушкин, и Высоцкий с интервалом без малого в полтора столетия проэксплуатировали главный балканский исторический миф — о славной смерти во имя свободы, то есть о такой смерти, которая и цениться должна выше жизни. Чего же удивляться: это первое, и во многих случах единственное, из того, что известно о черногорцах за пределами южнославянских территорий. Скульптор Александр Таратынов, со своей стороны, собрал для производства памятников П. и В. главные стереотипы восприятия русских поэтов.
В Черногории ныне обосновались тысячи выходцев из путинской России — предприниматели с кошельками разной толщины, креативная либеральная публика, люд попроще, захвативший с собой на чужбину полный набор ценностей и ухваток родной земли. Отечественное присутствие заметно не только в Подгорице: в Которе расцветают, а потом отцветают артпроекты галериста Марата Гельмана, в Будве открываются парикмахерские салоны для русскоязычных красавиц, фитнес-центры для русскоязычных физкультурников, детсады для русскоязычных малышей. С новостями и полезными советами знакомит «Русский вестник», любимую песню на ультракоротких волнах исполняет «Русское радио», вилла за пару миллионов черногорских евро продается в жилом комплексе Царское Село. Примерно так в кремлевских мечтах должны бы выглядеть курорты южного берега Крыма. История совершила петлю, ведь когда-то от неустроенности бежали на северо-восток Европы с ее юго-востока, а не наоборот.
8 Hrvatska Славянская звезда
Хорватия похожа на женщину, которая, хотя и мечтает о полной свободе, снова и снова выходит замуж — чтобы опять взбунтоваться в браке и добиваться развода.
Владимир Дворникович, «Характерология южных славян» (1939)Хорватию я знаю много лучше других балканских территорий, поскольку прожил в этой стране не неделю и не месяц, а несколько лет. Дело было в середине 1990-х годов — как раз на это бурное и интересное время пришлась пора моей журналистской молодости: первая долгая заграница, первая настоящая война, наслаждение красотой жгучей южной природы и южными славянскими характерами. Я так увлеченно углублялся в подробности местной жизни, что обширное новое знание и разнообразный новый опыт в конце концов сыграли со мной неприятную шутку — произошла информационная интоксикация.
После того как воооруженные конфликты в Боснии и Хорватии потухли, профессиональные обстоятельства перенесли меня в Прагу, прекрасный город в самом центре Европы, в котором балканское эхо если и звучит, то только иногда и совсем приглушенно. Еще несколько лет я по инерции следил за событиями в бывшей Югославии, пока не почувствовал безразличие ко всему, связанному со странами, которые совсем недавно с таким рвением изучал. Я свернул поездки в Загреб, Белград и Сараево, перестал читать Милорада Павича и Миленко Ерговича, листать сербские политические газеты и хорватские глянцевые журналы, слушать боснийские рок-группы, цыганские свадебные оркестры и далматинских авторов-исполнителей, смотреть передовое словенское и традиционное болгарское кино, вообще интересоваться тамошними новостями. Казалось, что эти новости движутся по замкнутому кругу и что сказанное однажды Петром Столыпиным о России «Здесь за десять лет меняется все, а за двести лет не меняется ничего» в такой же, если не в большей, степени верно и в отношении Балкан. Разве что на Балканах и за десять лет ничего не меняется: через время включишь телевизор, откроешь газету, а там все те же лица. Или точно такие же.
Прошло немало лет, прежде чем ко мне — как кажется, тоже по не вполне линейным причинам внутреннего характера — вернулась чувствительность к уже подзабытым краям. Я не то чтобы вновь с удовольствием зачастил на европейский юго-восток, скорее пришло осознание того, как заметно происходящие там процессы в конечном счете влияют на судьбы многих дальних стран до самого Ла-Манша. Конечно, Балканы по-прежнему чаще объект, чем субъект большой международной политики, но различные европейские циклоны часто формируются как раз на пространстве от Дуная до Босфора, чтобы потом малопонятным образом влиять на чужую погоду и чужие общественные настроения. Между двумя зонами моего профессионального интереса к бывшей Югославии пролегли полоса в 12 лет — полный цикл зодиака — да десяток написанных на другие забавные и важные темы книг, четверть полки из шкафа.
В Хорватии я впервые оказался утром 22 июня 1993 года, это был, как напоминает календарь, вторник. Душный и жаркий. В аэропорту я с любопытством разглядывал клумбу с цветочным рисунком в виде герба Загреба с выложенным по случаю грядущего юбилея хорватской столицы горшками с бегониями числом 900. Бросив дорожную сумку в гостинице Dubrovnik, я отправился осваивать новую страну — прямо на центральную площадь Бана Йосипа Елачича[42]. На просторном плацу только под крупом бронзового жеребца и можно было укрыться от зноя; казалось, совершенно пустой город, выжженный горячим солнцестоянием, замер в параличе, без всякого движения. В сторонке бессильно булькал опоясанный низким гранитным кольцом родник Мандушевац, замурованный было в конце XIX века при ремонте мостовой и еще через столетие, во время очередной реконструкции, вновь обретенный. Легкий ветерок колыхал плакаты с траурными портретами хорватской баскетбольной легенды и кумира моей юности Дражена Петровича (несколькими днями ранее исполнилась годовщина его гибели в автокатастрофе), но эти слабые дуновения не способны были принести прохладу и развеять июньское марево.
Загреб. Площадь Бана Елачича. Фото. 1880 год
22 июня Хорватия в безмолвии отмечала новый праздник, придуманный после провозглашения независимости День антифашистской борьбы. Считается, что одновременно с нападением гитлеровской Германии на сталинский Советский Союз — фактически прекратившим действие пакта Молотова — Риббентропа, что позволило коммунистам разных стран начать борьбу против нацистов, — в лесу Брезовац у города Сисак в полусотне километров от Загреба под могучим старым вязом был учрежден первый на югославской территории отряд Сопротивления. Партизаны сражались против немецких оккупантов и местных сторонников фашистов — вооруженных сил Независимого Государства Хорватия (НГХ). Прямо назавтра отважные бойцы заминировали железнодорожную ветку, через пару дней пустили под откос еще один эшелон. Партизаны сисакского отряда народного освобождения (почти все хорваты) проводили разные подрывные мероприятия, совершали диверсии, ликвидировали усташских чиновников и полицаев. В конце сентября отряд попал в окружение, но под покровом ночи его бойцы смогли переправиться через Саву и соединиться с другими товарищами по борьбе. В канонической версии истории Югославии утверждалось, что Иосип Броз Тито принял решение о всеобщем восстании 4 июля 1941 года (впоследствии — День борца), поэтому брезовацкую инициативу и не замалчивали, и не выпячивали. Мемориал, абстрактный бетонный вяз, появился в партизанском лесу после смерти маршала.
В социалистической Хорватии памятную дату начала антифашистского сопротивления назначили на 27 июля — на так называемый День народного восстания в местечке Срб в отрогах Велебитских гор. В титовской историографии эти события представлены как первый яркий пример вооруженного отпора (преимущественно сербского) злодеяниям НГХ. Монументальный памятник — стелу с бронзовыми скульптурами знаменосца, бойца с ружьем, крестьянина с вилами и матери-защитницы в платке — установили в 1951 году. Хорватская историческая школа рассматривает восстание в Србе как противоречивое явление: больше, чем антифашистская борьба, это была вооруженная акция против хорватов, в основном против мирного хорватского населения. Повстанцы якобы были разными — и коммунистами, и националистами-четниками, и рассчитывали они на вмешательство в ситуацию на своей стороне итальянских оккупационных сил. В первой половине 1990-х годов Срб (большинство населения городка по-прежнему составляют сербы) опять попал в зону вооруженного конфликта, и памятник разрушили. По одной версии, хорватские танкисты, чистого злодейства ради. Через 20 лет мемориал восстановили и повторно ввели в эксплуатацию в присутствии президента республики.
Плакат «Все на фронт! Все в партизаны!». Ок. 1943 года
Нюансировка памятных дат имеет под собой ясную национально-идеологическую основу, как и почти всё на Балканах. Новая Хорватия, начиная отсчет истории сопротивления со «своих» партизан, тем самым утверждает связь государственной традиции с антифашистским движением, а не с НГХ, младшим союзником и послушной марионеткой немецких национал-социалистов, страной, в которой действовали концентрационные лагеря и расовые законы. Ведь первый опыт восстановления хорватской государственности (через паузу в восемь с половиной веков[43]) оказался печальным, если не сказать трагическим, и все же опытом, от которого загребские политики в 1990-е годы не смогли или не захотели полностью отказаться. То обстоятельство, что в апреле 1941-го многие хорваты приветствовали приход к власти усташей — поскольку, как объясняется, были разочарованы положением своего народа в королевской Югославии, — конечно, не затеняет многочисленные преступления режима Анте Павелича. Как, впрочем, не отменяет и тот факт, что относительно общей численности населения антифашистское сопротивление в Хорватии к концу войны оказалось самым массовым во всей Югославии.
Казнь командира партизанского батальона хорвата Степана Филиповича в оккупированном нацистами Вальеве. Эта фотография, сделанная 22 мая 1942 года, считается одним из символов югославского коммунистического сопротивления. Филипповичу приписывают слова, ставшие лозунгом партизанской борьбы: «Смерть фашизму, свободу народу!»
В 1992 году, в разгар военного конфликта с сербами, на должность начальника генерального штаба вооруженных сил Хорватии был назначен 73-летний генерал-полковник Янко Бобетко, давно уже находившийся в запасе. На военную пенсию генерала отправил в начале 1970-х сам маршал Тито за сочувственное отношение к обновленческим настроениям в руководстве хорватской компартии. А летом 1941 года Бобетко был молодым бойцом того самого сисакского отряда народного освобождения; он ушел в партизаны, как утверждает биограф генерала, после того как усташи казнили его отца и троих братьев. В кадровом решении‐92 несложно усмотреть политическую символику: армию новой Хорватии возглавил проверенный патриот, но вовсе не националист, а напротив, заслуженный борец с хорватским и немецким фашизмом[44]. Однако это не помогало изменить общую картину: и в Белграде, и в Загребе память о Второй мировой войне проецировали на происходящее здесь и сейчас: сербская (югославская) пропагада едва ли не в каждом хорвате видела усташа-гитлеровца; хорватская пропаганда едва ли не в каждом сербе видела националиста-четника. Коммунистов при этом ненавидели почти все. Два народа, так получается, по крайней мере отчасти, сводили между собой исторические счеты.
Неизвестный автор. «Барон Франц фон дер Тренк». 1742 год. Музей военной истории, Ингольштадт
ДЕТИ БАЛКАН
ФРАНЦ ФОН ДЕР ТРЕНК
бретер и виньяк
Сын прусского офицера, служившего Габсбургам в разных краях империи, Франц фон дер Тренк воспитывался в иезуитском колледже, однако его интересовала карьера не священника, а солдата. Первый военный опыт оказался неудачным: в 1731 году 20-летнего офицера уволили из армии за своеволие и отказ подчиняться приказам. Несколько лет фон дер Тренк провел в семейном поместье в Славонии, в пограничной с Османской империей зоне, однако после смерти жены и четверых детей от чумы вернулся в военный строй, поступив на службу Российской империи. Характер барона сочетал безрассудную храбрость с жестокостью и способностью беспрестанно конфликтовать с сослуживцами; утверждают, что за свою жизнь фон дер Тренк дрался на дуэлях 102 раза. Неспособность соблюдать субординацию подвела его под трибунал; смертный приговор, по воле генерал-фельдмаршала Миниха, заменили тюремным заключением. Фон барона помиловали, и он вернулся на Военную Границу, в Брод (теперь Славонски-Брод), где его отец командовал гарнизоном крепости. После начала войны за австрийское наследство (1740–1748) фон дер Тренк получил от только что восшедшей на престол императрицы Марии Терезии разрешение экипировать за свой счет иррегулярный пехотный корпус. Вначале тысяча (позже 2 или 5 тысяч) сербских и хорватских крестьян под командованием получившего полковничье звание барона — пандурский полк — совершала рейды по тылам прусского, баварского и французского противника. Пандуры, действовавшие в летучей партизанской манере, отличались отвагой и дерзостью в бою, не проявляя милосердия не только к врагам, но и к мирным жителям и покоренным городам. Фон дер Тренк подавал пример: он никогда не отступал, никого не жалел, получил в боях и драках 14 ранений. В 1746 году барон вновь предстал перед судом по обвинениям в своеволии, незаконной выдаче офицерских патентов и присвоении зарплаты подчиненных, вновь был приговорен к смерти и вновь был помилован. В 1749-м, сочинив два тома военных мемуаров, он умер в крепости Шпильберк в Брюнне (теперь Брно в Чехии), где находился под вольным домашним арестом. Фон дер Тренк похоронен в крипте храма Воздвижения Креста Господня, и мне доводилось стоять у его гроба со стеклянной крышкой: мумифицированный барон вовсе не выглядит героем. Франца фон дер Тренка не следует путать с его младшим двоюродным братом Фридрихом. Ловелас и авантюрист, офицер прусской армии и отец 14 детей, Тренк-младший был обвинен в измене государю Фридриху II, бежал из тюрьмы в Россию, потом вернулся на родину и опять оказался за решеткой. Он окончил свои дни в 1792 году, обвиненный в шпионаже в пользу Австрийской империи, под ножом революционной французской гильотины. Оба Тренка превратились в фольклорные фигуры. Франца, который якобы называл себя славонцем, в Хорватии считают образцом гусарской удали, как поручика Ржевского в России. В Загребе и Осиеке принято думать, что именно благодаря полку барона хорваты снискали в Европе славу искусных воинов. Слухи о жестокости фон дер Тренка в Хорватии объясняют интригами недоброжелателей. Полковнику посвящено немало книг (одну, «Пандур и гренадер», написал автор цикла романов о вожде апачей Виннету Карл Май, другая называется «Дьявольский барон»), о его похождениях повествуют пьеса и оперетта, о нем снят кинофильм, барон попал в список кумиров марк-твеновского Тома Сойера. В 1912 году местечко Митровица неподалеку от Пожеги, где расположено заброшенное теперь имение фон дер Тренков, переименовали в Тренково. Главная достопримечательность Тренкова — ресторан Barun Trenk; в меню — виньяк Trenk в бутылках с пробкой в форме головного убора пандура. Пандурские полки сохранялись в армиях европейских государств до начала XIX века. Время поменяло смысл понятия: в Хорватии, Сербии, Венгрии слово «пандур» стало обозначением тупой полицейской силы, вроде жандарма в России.
«Пандур». Литография. Середина XVIII века. Библиотека Университета Белграда
Сербско-хорватские отношения всегда были определяющими для судьбы южнославянского государства, и когда в 1980-е годы окончательно нарушился их баланс, перестала существовать и вся эта вполне искусственно составленная страна, которая, если смотреть издалека, казалась устроенной довольно естественным образом. Хорваты в обеих Югославиях (и в довоенной, монархической, и в послевоенной, коммунистической), по мнению многих, представали главными смутьянами, не защищавшими «общее дело». Тем более любопытно, что самые известные теории южнославянской и панславянской интеграции выдвигали вовсе не сербские, а хорватские прогрессистские умы.
Одним из первых на этом поприще отличился богослов и лингвист Юрай (Юрий) Крижанич, в середине XVII века разработавший всеславянский язык и считавший, что будущее связанных родственными узами народов способна гарантировать только общая для всех Русская империя. С 1649 года этот католический ученый принялся наезжать в Москву, продвигая идею церковной унии (Крижанич полагал, что русский народ по случайности принял неправильную версию христианства). Православному царю Алексею Михайловичу эти взгляды не понравились: в 1661-м миссионера сослали на 15 лет в Тобольск, правда, с приличным жалованьем. В Сибири Крижанич и проводил свои научные изыскания. В конце жизни он успел вернуться в Европу, обосновался в Польше, а потом геройски погиб, защищая осажденную османами Вену.
Русский язык Крижанич считал главным в славянской семье, а русских называл «старшим славянским племенем»: «Русский народ испокон веков живет на своей родине, а остальные, вышедшие из Руси, появились как гости в странах, где до сих пор пребывают. Не русская отрасль — плод словенской, а словенская, чешская, ляшская отрасль — отродки русского языка». Свой очищенный от чужеродных заимствований лексикон Крижанич составил, соединяя старославянскую и русскую речь с сербскими и хорватскими выражениями (лингвистически точнее, с заимствованиями из штокавского и кайкавского наречий[45]), вкрапляя еще и слова из языков других славянских народов. На этом идеальном говоре — относительно понятном каждому славянину, но полностью ясном только одному его автору — Крижанич и проповедовал родоплеменное братство. Многие ученые считают его основоположником сравнительной славянской филологии. В России сочинения Крижанича (особенно переведенный со всеславянского на русский тираноборческий труд «Политика») переиздают до сих пор.
Через два столетия после Крижанича филолог Людевит Гай, автор латинского алфавита хорватского языка и редактор первой в национальной истории политической газеты, сформулировал главные положения романтической концепции иллиризма — теории духовной, языковой и иной общности южнославянских народов, расселившихся в пределах некоторой существовавшей в древности Великой Иллирии. Все эти народы, считал Гай, произошли от коренных жителей балканского северо-запада, покоренных римлянами. В Сербии теорию иллиризма приняли с прохладцей, поскольку тамошние процессы формирования национального самосознания ставили прежде всего задачу объединения всех сербов в границах одного государства. Вук Караджич, например, выражал надежду на то, что, несмотря на трудности, хорваты-католики постепенно поймут: они на самом деле сербы. Такие надежды вызывали обиду и резкую реакцию: хорваты — это храбрый государствообразующий народ, а сербы — «нищее простонародье», слово «серб» — от servus (лат. «раб»); сербы и словенцы в действительности хорваты. Великохорватская идеология прямо противостояла великосербской, национальные чаяния не желали соответствовать «общему делу».
Идеология вообще-то не предназначена для поисков истины, она служит для выражения интересов различных социальных, национальных, политических групп. Полемика о происхождении народов и их языков — то угасая, то вспыхивая, то бурно, то вяло — ведется в разных краях бывшей южнославянской федерации до сих пор. Объединительная тенденция вот уже полтора столетия борется с тенденцией обособления. Сейчас кажется, что первая на западе Балкан проиграла окончательно, что сама идея единства оказалась политическим самообманом и, следовательно, чревата непрестанной драмой. И 100 лет, и семь десятилетий назад большинство думало по-другому, а сегодня никто не знает, каким образом национальные и наднациональные интересы будут сочетаться, скажем, еще через полвека в единой Европе нашего общего — естественно, светлого — будущего.
Андреас Стауб. «Людевит Гай». Литография. 1830 год
Термин «Югославия», как считают ученые, не согласные с «черногорской теорией», предложил для употребления во второй половине 1860-х годов деятель хорватского национального возрождения, епископ из Джякова Йосип Юрай Штросмайер. Кстати, он был не совсем славянином, а потомком офицера-немца, выходца из Штирии. В Хорватии почтенного епископа почитают как отца отечества, в том числе и потому, что Штросмайер деятельно (и относительно успешно) выступал за автономизацию разобщенных хорватских земель в составе Австро-Венгрии. Современник и мировоззренческий противник Штросмайера Анте Старчевич считал унизительной любую форму национального подчинения: «Будь ты в тюрьме один, будь с товарищем, все равно ты заключенный». Этот политический писатель обосновывал требования национальной независимости популярной в Европе XIX столетия концепцией «исторического права»: ведь Хорватия как государство непрерывно существовала со времен Средневековья, добровольно приглашая иноземных королей на царство. В работе «Избранные письма» (1871) Старчевич предложил хорватским патриотам программу действий сразу на несколько поколений вперед: «Все исторические народности на своей земле равноправны, нет ни первой, ни второй, ни средней, ни последней, каждая народность имеет право на сущестование и развитие… Пусть будет счастлив мадьяр в Венгрии, Австрия — у себя дома, но превыше всего — да будет счастлив хорват в Хорватии».
Старчевич тоже считается отцом отечества, и он куда популярнее нацеливавшегося на солидарность между народами Штросмайера. Мой сын, друживший с пареньком по имени Борна (тезка первого князя Приморской Хорватии), поступил в среднюю школу имени Старчевича, и мне доводилось присутствовать на линейках в фойе учебного корпуса у бюста этого великого гражданина. Как-то раз мы даже отправились на экскурсию на могилу Старчевича в загребский пригород Шестине. Одна из мраморных фигур монументального надгробного памятника — прекрасная Croatia, дама со стиснутыми кулаками, уставшими от иноземных оков. Хорватский историк Иво Голдстейн сообщает: Старчевич перед смертью настоял на том, чтобы его похоронили за границами Загреба, протестуя против засилья австрийцев в городе. Редкой чистоты принципиальность.
Почему же у хорватского отечества такие разные отцы? В Хорватии принято считать, что югославизм возник не просто из безотчетного и беспричинного желания объединиться в братстве, но, в частности, как реакция связанных «общностью языка и чувств народов» (выражение журналиста Натко Нодило) на попытки германизации, мадьяризации, итальянизации или на османскую угрозу. В этой теории тоже много романтизма: например, ее основоположники намеревались превратить Хорватию в центр южнославянской если не политики (эту роль играла уже имевшая государственность Сербия), то культуры — мечтали о «южнославянской Тоскане», а Загреб представляли «южнославянской Флоренцией», хотя на эту роль претендовал еще и Дубровник. Нодило в 1860-е или 1870-е годы предсказывал возникновение «Южной Славии», страны от Дуная до Эгейского, Черного и Адриатического морей.
Загреб. Площадь Анте Старчевича. Фото. 1943 год. Государственное агентство «Архивы», София
Усилия народов по «определению себя» на Балканах предпринимались точно таким же образом, как и в остальной Европе, разве что с некоторым отставанием по фазе — либо через языковую, либо через религиозную идентификацию. Российский историк Владимир Фрейдзон верно заметил: наднационального и нейтрального югославизма не существовало — в Сербии эти настроения в XIX веке были выражены довольно слабо, а в Хорватии стали формой такой национальной интеграционной идеологии, в которой национальный компонент был важнее интеграционного. Хорваты, получается, постигали свою суть через солидарность с соседними славянскими народами.
Посеянные епископом Штросмайером и его единомышленниками идейные зерна дали нескорые, но бурные всходы: в конце Первой мировой войны югославизм стал raison d’etre расширенного сербского королевства под скипетром династии Карагеоргиевичей, а после Второй мировой способствовал продвижению проекта Балканской федеративной республики. Но размах исторического маятника широк: в 1947 году государственное объединение Югославии и Болгарии выглядело перспективой столь же реальной, сколь утопическими кажутся теперь сербско-хорватское или болгарско-македонское государственное братство.
В начале XIX века на месте нынешнего исторического центра Загреба располагались два самостоятельных — наполовину деревянных, а потому регулярно горевших — городка с населением едва ли в 3–4 тысячи человек каждый, и оба были защищены от потенциального неприятеля линиями крепостных стен. Они раскинулись на отрогах невысокого горного массива Медведница, прикрывающего Загреб от северных ветров. Со склонов Медведницы, узнаем мы из стародавних летописей, к долине Савы стекали сразу десять чистых ручьев. Дворянско-ремесленный, в основном светский Градец (Грич), который в XIII столетии получил милостью венгерского короля статус свободного города, и возникший вокруг подворий и резиденции епископа Каптол (от лат. capitulum — собрание членов монашеского ордена) объединились в одну урбанистическую сущность по воле императора только в 1850 году.
Но до того как Градец и Каптол стали одним целым, отношения между их жителями складывались непросто: селения разделял самый знаменитый из всех ручьев, Медвешчак, а через него был перекинут Кровавый мост, не случайно получивший свое название. На берегах этого живого ручья возникла первая загребская протопромышленная зона: колеса водяных мельниц приводили в движение прядильные машины, барабаны для дубления кожи, жернова для помола муки. Из-за прав на владение и пользование хозяйственными объектами и случались рукопашные споры «градецких» и «каптольских», которые к тому же иногда поддерживали претендентов на хорватский престол из разных династий или от разных партий. И это также добавляло внутризагребским конфликтам ярости.
Загреб. Каптол. Открытка. 1905 год. © Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C / Reproduction Number: LC-DIG-ppmsc‐09347
От оригинальной средневековой застройки в Верхнем городе мало что сохранилось, в основном фундаменты домов, планировка кварталов да кирпичи стен. Как принято считать, с высоты птичьего полета до сих пор можно различить древнее деление Градеца на девять самостоятельных инсул, как бы микрорайонов. Я честно изучал соответствующую аэрофотосъемку, но ничего подобного не обнаружил. В толще единственных уцелевших ворот Градеца, Каменных, выставлена икона Богоматери с младенцем на руках, изображение на льняном полотне. Икона конечно же чудодейственная, защитница; она тоже горела в пожарах, да не сгорела. Сын Божий, по загребской версии, — довольно взрослый любознательный мальчик, в левой руке он держит небольшой глобус, такой, какими, наверное, были бы глобусы в его время, если бы тогда уже выяснили, что Земля круглая. Вот рассказывающая об этом уголке Градеца строфа из романтического стиха Антуна Густава Матоша[46] «Серенада», написанного в 1909 году:
Я так люблю тебя, ты как любовь Земли, Чья дочь — моя Хорватия родная: Мадонна, что на Каменных вратах, Сияет духом, лишь перед порогом Окажется вдруг грешный ангел мрака[47].В 1880 году Загреб (в немецкоязычной традиции город назывался по-другому, Аграм) довольно чувствительно тряхнуло. Проведенным после стихийного бедствия реставрационным работам обязаны своим нынешним внешним видом два самых известных здесь объекта культа. Кафедральный собор Вознесения Девы Марии и Святых Стефана и Владислава в Каптоле получил две 100-метровые готические башни вместо одной ренессансной, которая выглядела, судя по рисункам XIX столетия, поинтереснее новых. Церкви Святого Марка в Градеце землетрясением снесло крышу. Новое покрытие сделали оригинально черепичным, из разноцветных плиток выложили огромные гербы — города Загреба (белый замок на красном фоне) и существовавшего номинально Королевства Хорватии, Далмации и Славонии. Выглядит красиво, узнаваемо и по-современному туристически, словно рекламный проспект.
Медвешчак примерно в ту же пору спрятали под землю — сперва в деревянные, а потом в бетонные трубы. Кровавый мост превратили в недлинный проулок Крвави-Мост. Поверх ручья уложили брусчатку, и улица первое время, напоминая о былом, называлась попросту Поток. В начале XX века ей присвоили имя городского историка Ивана Ткалчича. Теперь Ткалчичева — популярная гастрономическая зона, со столиками бесчисленных ресторанов, пивных, баров, кафе. Это не всем загребчанам нравится, планировщиков уже четыре десятилетия критикуют за то, что при переустройстве района они якобы выбрали самый коммерческий вариант из всех возможных. А «Медвешчак» уже почти 60 лет — клуб профессионалов хоккея с шайбой, трехкратный чемпион Югославии и типа стократный хорватский чемпион (в первенстве этой страны участвуют всего четыре команды); в 2013–2016 годах, в усиленном составе (пока были деньги), еще и участник Континентальной хоккейной лиги. Игроков клуба прозвали «медведи» (настоящие медведи в лесах Медведницы уже не водятся), а любимая кричалка хорватских поклонников хоккея с шайбой (есть в южняцком Загребе и такие): «Zik-zak, Med-veš-čak!» Я и сам так кричал, сидя на трибуне городского спортивного дворца.
Ниже Градеца и Каптола, собственно, и организовалась площадь Бана Елачича, на которой исстари раскидывали товары лавочники и купцы, а люди государевы взимали с них мыто. Елачич-плац задумывалась еще и как место для народных собраний и романтических свиданий, теперь здесь сходится десяток трамвайных маршрутов, ведущих и на запад, и на восток, и куда еще душе угодно. Загреб, по моим ощущениям, — открытое, свободное городское пространство, ритм и пульс которому задает как раз центральная площадь.
Все, что находится южнее Елачич-плац, «ниже» Медведницы, построено за последние полтора столетия — согласно по-венски тщательно продуманному и не чуждому симметрии плану; построено вольготно, до самой железной дороги и открытого в 1891 году респектабельного главного вокзала. Километровый каменный прямоугольник правильно разрезан стройными улицами (есть и Гая, и Крижанича, и барона фон дер Тренка) и прорежен по бокам двумя гирляндами тенистых скверов и парков (есть и Штросмайера, и Короля Томислава), в которых по утрам обитают мамы с младенцами, по вечерам — подростковые компании и круглосуточно — скульптуры выдающихся хорватов. Выкованная в 1880-е годы «зеленая подкова» работы не кузнеца, а садового архитектора Милана Ленуцци, секвенция из семи организованных широкой буквой U не каменных, а травяных площадок, — подлинная гордость Загреба, его бесспорно лучший урбанистический проект.
Почтовая открытка Итальянского регентства Карнаро с изображением Габриэле Д’Аннунцио, отправленная в марте 1921 года
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК АВАНТЮРИСТЫ ЗАХВАТЫВАЛИ ФИУМЕ
Риека — крупный порт на побережье Кварнерского залива и третий по численности населения город современной Хорватии. В XIX веке Риека (дословный перевод — «река», в немецкой традиции Флаум, в итальянской и венгерской — Фиуме) находилась под административным управлением Будапешта. После окончания Первой мировой войны права на город заявили Италия и новообразованное Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. В обстановке всеобщего беспорядка и безвластия, не дожидаясь окончания затянувшихся переговоров о статусе города, в сентябре 1919 года Фиуме захватили 2 тысячи итальянских добровольцев под командованием 57-летнего поэта и авантюриста Габриеле Д’Аннунцио. Этот модный в Европе литератор сочетал в своем творчестве традиции декаданса с мотивами эротики и эпикурейства. В России начала XX века популярность Д’Аннунцио была сродни мании: в 1904 году вышло полное собрание его сочинений, ему подражали акмеисты, Николай Гумилев посвятил ему оду («Судьба Италии — в судьбе / Ее торжественных поэтов»). Д’Аннунцио — автор дюжины романов (наиболее известна трилогия «Романы Розы»), десятка трагедий и пяти стихотворных сборников. На родине он был, помимо прочего, депутатом парламента и популярным светским львом; его роман с актрисой Элеонорой Дузе фраппировал высшее общество. В 1911 году Д’Аннунцио из-за финансовых неурядиц переехал во Францию, но вскоре после вступления Италии в Первую мировую войну добровольцем отправился на фронт. Вначале служил в авиации, затем, после потери глаза, — в ударных пехотных подразделениях, получил звание подполковника. Захватив Фиуме, этот поэт и воин провозгласил создание независимого города-государства Итальянское регентство Карнаро. Первый проект конституции Д’Аннунцио, привычно эпатируя публику, написал в стихах; этот основной закон, в частности, вводил обязательное музыкальное образование. На ярком гербе регентства, под латинским изречением «Кто против нас?» изображался пожирающий собственный хвост золотой змей. Д’Аннунцио, проводник фашистских и корпоративистских идей, опробовал в своем карликовом государстве элементы нового политического стиля: шествия чернорубашечников, древнеримские приветствия, эмоциональные диалоги вождя с толпой. Сам Д’Аннунцио принял титул регента (дуче), а знаменитого дирижера Артуро Тосканини уговорил занять пост министра культуры. Новые хозяева Фиуме ожидали, что «освобожденную» ими область аннексирует Италия, однако из-за дипломатического вмешательства стран Антанты этого не произошло. Подписанный Белградом и Римом в ноябре 1920 года Рапалльский договор предоставил Риеке/Фиуме статус вольного города, в котором, как предполагали, могла бы разместиться штаб-квартира Лиги Наций. Д’Аннунцио отказался признать это соглашение и объявил Италии войну. Регент удерживал власть еще полтора месяца, но в конце 1920-го был наконец вынужден сдать город и вернулся на родину. Область Фиуме еще три года сохраняла формальный статус буферного государства. Осенью 1923-го итальянцы нашли предлог высадить в городе десант и вынудили южнославянское королевство отказаться от претензий на эту территорию. Д’Аннунцио приветствовал политику Бенито Муссолини и прославлял его колониальные захваты. В 1938 году поэт умер. После Второй мировой войны Риеку вместе с полуостровом Истрия включили в состав Югославии.
Вообще Загреб — удачный объект для любителей альтернативной истории, ведь этот город вовсе не был обречен на то, чтобы стать хорватской столицей. Тишайший теперь Вараждин и в XVII, и в XVIII веке выглядел и помноголюднее, и поблагороднее — не случись в этом городе в 1776 году испепеляющего пожара, императрица Мария Терезия вряд ли приняла бы решение о переводе земельного правительства хорватской территории в Градец и Каптол. Промышленность до поры до времени быстрее развивалась в Риеке/Фиуме, но благоприятных условий для брожения хорватской идеи в этом населенном преимущественно итальянцами городе не складывалось. Далмация, бедный край виноделов и рыбаков, один из двух, наряду со Среднедунайской низменностью, исторических центров хорватского королевства, лежала слишком далеко от Вены и вообще от любого политического бурления. Так и случилось, что Загреб, расположенный посередине важных для национального сознания исторических территорий, в итоге оказался на скрещении торговых путей и хорватских интересов. Хотя сейчас до границы страны от ее столицы, между прочим, всего-то с полчаса неспешного хода пассажирского поезда.
У Загреба, в начале XX столетия замыкавшего список десяти крупнейших городов своей тогдашней страны, Австро-Венгрии, теперь множество амбиций. Они оправданны: здесь есть особые стиль и творческий шарм, даже некоторый шик, можно сказать. Местные журналисты любят пышно называть свой 800-тысячный город хорватской метрополией. По загребским улицам так и хочется пройтись в длинном пальто и широкополой шляпе — именно так, «в пол», правильно одеты некоторые городские скульптуры: и Мирослав Крлежа, и Августин Уйевич[48], и Антун Густав Матош, да мало ли кто еще. Иногда я таким образом и наряжался, но местные безошибочно определяли во мне иностранца и не принимали за своего. В облике Загреба практически не угадывается балканская традиция, по крайней мере в архитектуре она выражена вовсе не так явственно, как в характере жителей. Зато здесь присутствует центральноевропейский стандарт, заметен почти нарочитый, а на самом деле естественный оммаж бывшей имперской столице, чувствуется расслабленное медитерранское дыхание, угадывается венгерская степная широта, ощущается также некоторая славянская душевность. Столичные жители словоохотливы и открыты к общению, желающий поболтать легко найдет собеседника хоть у газетного киоска, хоть на рынке Долац, хоть за столиком кафе.
В Хорватии своеобразно переродился британский культ дендизма. Центр Загреба — доброжелательная пешеходная зона, предлагающая и молодежи, и тем, кто постарше, главные уличные занятия и удовольствия: не спеша фланировать, лорнировать других и демонстрировать себя, потягивать смешанное с водой вино или смаковать кофе в одном из бесчисленных питейных заведений, коротая часы в бесконечных разговорах. Боговичева улица, эпицентр такого рода наслаждений, — от отеля Dubrovnik до Цветочной площади с памятником поэту Петру Прерадовичу и православным Преображенским собором в росписях современного русского художника — в народе известна как «спица». Согласно толковому словарю, спица — конструктивный элемент колеса, соединяющий ступицу и обод. В таком случае загребская špica — конструктивный элемент города, включающий его обитателей в общий жизненный круговорот.
Новый Загреб — районы за Савой, творение послевоенной поры массового жилстроительства, — отмечен жирной печатью соцреалистического зодчества. Финальным аккордом этой идеологической кантаты стали масштабные инфраструктурные проекты, связанные с проведением в Загребе в 1987 году XIV летней Универсиады. Никто тогда и не подозревал, что праздник студенческого спорта, заполненный сплошной символикой международного сотрудничества (как раз в дни Универсиады в Загребе очень кстати родился 5-миллиардный житель Земли Матей Гашпар), окажется для Югославии последним.
Однажды в букинистической лавке на Илице я купил несколько черно-белых загребских акварелек, они и сейчас — вон там, слева, в эбонитовых рамочках — висят на стене моего кабинета в Праге, и всякий раз, смахивая с их стекол пыль, я с удовольствием разглядываю эти городские пейзажи. Вроде бы простенькие работы: сероватые, чуть размытые облака над церковными крестами, как-то сзади и вдали, не на главном плане; четко очерченные силуэты зданий; полное безлюдье и, кажется, тишина. Словно в тот мой самый первый хорватский день. Твердые линии рейсфедера придают рисункам неизвестного мне Марио Матича преподавательскую строгость, не допуская и мысли о двойственности.
Перечитал еще раз начало этой главы и подумал вот о чем: интересно, по каким причинам тогда, в середине 1990-х, считая себя жадным до впечатлений почемучкой, я так и не удосужился досконально изучить Загреб, не обошел все до последней его улицы, все его подъезды и этажи, не заглянул во все его подворотни и музейные углы? Скорее всего, сказался синдром «первой заграницы» — сложный комплекс переживаний получившего советские образование и воспитание молодого человека, наконец вырвавшегося на Запад. Эти чувства, может, и не дано понять рожденным после СССР: тебя до такой степени подавляют ощущения всесторонней и ежеминутной новизны, что пропадает способность следовать логически определенным приоритетам. В памяти остается не то, что ты отбираешь, но то, что само собой не забылось. Прекрасно помню, например, как горьковато отдавал углем зимний загребский воздух, потому что кое-где еще топили древесными брикетами; как в парке Зриньевац играли листьями платанов майские солнечные лучи; помню даже, в каком шахматном порядке официанты расставляли столы на террасе кафе Loptica («Мячик») у спортивного комплекса Mladost, куда я наведывался по выходным попрыгать под баскетбольным кольцом. Всё это приятные, милые, тактильные воспоминания из области бытовой культуры, которая в охваченной войной Хорватии была заметно выше постсоветской московской. Но ощущения Загреба как уникального исторического центра внутри меня тогда не было и в помине. Впрочем, не появилось такое ощущение и теперь.
Кардинал Алоизие Степинац приветствует Анте Павелича. Фото. 1941 год. Белград. Музей истории Югославии
ДЕТИ БАЛКАН
АЛОИЗИЕ СТЕПИНАЦ
блаженный кардинал
Жизнь священника Степинаца — наглядный пример того, как сложно доброму пастырю сохранить моральный авторитет в суровые времена. Юноша из многодетной семьи виноградаря, Алоизие Степинац не успел поступить в семинарию, поскольку 18 лет от роду, в 1916-м, его мобилизовали в австро-венгерскую армию. Сражался на итальянском фронте, был ранен в ногу, на полгода попал в плен. Духовный сан и степень по теологии Степинац получил почти в возрасте Христа, но потом быстро поднялся по карьерной лестнице и уже в 1937 году вступил в должность архиепископа Загреба. Этот священник не чуждался некоторых мирских радостей, например отлично играл в волейбол, но в своем мировоззрении был образцом католического консерватора. В 1941-м Степинац приветствовал восстановление независимости Хорватии. В усташах он видел силу, способную освободить народ от политического подчинения Сербии, а южнославянский союз считал «величайшим злом в Европе, может быть, даже бóльшим, чем протестантизм». Оценки деятельности Степинаца в годы Второй мировой войны противоречивы. С одной стороны, он не скрывал националистических взглядов, поддерживал режим Анте Павелича, участвовал в официальных мероприятиях, старался создать в Ватикане благоприятное впечатление об усташских порядках. В то же время Степинац пытался дистанцироваться от преступлений режима, протестовал против массовых казней, предпринимал усилия по спасению евреев и сербов. При этом он оправдывал насильственное окатоличивание православных, считая, что задача христиан «в грустные времена» — любыми путями уберечь людей, которые впоследствии, если Бог даст, получат возможность вернуться в свою конфессию. Когда война закончилась, наступил черед духовного подвига Алоизие Степинаца: архиепископ резко возражал против закрытия церквей и преследований духовенства, практиковавшихся коммунистическими властями восстановленной Югославии. В 1946 году его арестовали по обвинению в коллаборационизме и приговорили к 16 годам лишения свободы. Пять лет Степинац провел в тюрьме, где продолжал пастырское служение. Когда отношения Югославии со странами Запада смягчились, архиепископа перевели под домашний арест в родное село Брезарич. Поклонники Степинаца считают его мучеником, критики ставят архиепископу в вину соучастие в преступлениях НГХ. В 1952 году Степинаца возвели в сан кардинала; через восемь лет он скончался от редкой болезни, избытка красных кровяных телец. В 1998-м папа Иоанн Павел II беатифицировал Степинаца. Он пользуется высоким авторитетом у верующих; в Сербии его считают «усташским викарием». Британский биограф Степинаца Стелла Александер характеризует его так: «Хотя может сложиться впечатление, что архиепископ был недостоин роли, которую ему выпало играть в истории, он, учитывая наложенные временем ограничения, вел себя куда достойнее многих представителей своего народа. Моральные качества Степинаца соответствовали его духовному сану».
Лучшая пора в Загребе, на мой вкус, — середина осени, неделя-другая накануне обвального листопада. В эти дни особенно приятно бродить по улицам Верхнего города, спускаться с бульвара Штросмайера на Илицу, попутно отыскивая себе интересное занятие, например наподдать ногой упавший каштан и смотреть-слушать, как он катится-скачет по ступеням, пока движение не погаснет в опавшей листве. Правда, такое развлечение — занятие не для миллионов, потому что Загреб никогда не был и вряд ли станет крупным туристическим центром. В представлении иностранцев этот город — остановка по дороге к теплому морю или на пути с побережья, ночлежка для тех, кто на сей раз решил не проскочить мимо по автобану со скоростью 150 километров в час, а задержаться хотя бы на полдня. Оттого историческим кварталам Загреба свойственны элегические настроения: и Верхний город (если к зданию парламента перед началом его сессии не подтягиваются депутаты), и Каптол (если к парадным вратам кафедрального собора перед началом мессы не спешат верующие) обычно уныло пусты. Узорчатую крышу храма Святого Марка оккупируют воробьи, а по Каптолу, вокруг фонтана со статуей Пресвятой Девы Марии с четырьмя ангелами, маршируют голуби. Тех, кому хочется общения и веселья, милости прошу на Ткалчичеву и Боговичеву, где нет ни государственных символов, ни религиозных знаков и знамений.
Один из ключевых символов романтики хорватского национального возрождения — образ Денницы, последней утренней звезды. Денница прекрасно известна и русской поэтической традиции, этот парафраз Венеры, рассвета, утренней зари встретим и у Пушкина, и у Баратынского, и у Фета, и у Брюсова. Для хорватов Danica — понятие еще и общественно-политическое. Именно так именовался первый литературный журнал на хорватском языке. Это, проще говоря, загребский вариант «Современника», кстати, вышедший в свет на год раньше своего российского аналога. Людевит Гай запустил еженедельное издание Danicza Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka в начале 1835 года как приложение к популярной газете, под красноречивым, но теперь звучащим довольно сомнительно девизом «Народ без национальности словно тело без костей». Если допустить, что редактор издания прав, то признаем: народное тело на Балканах почти всегда очень уж костлявое.
Утренняя звезда еще и образ славянской мифологии, из языческих времен поклонения силам природы. Danica — невеста Солнца и сестра Месяца, обещающая радостный новый день и, следовательно, возрождение. Поверье гласит: звезда воссияла, когда ангел вознес на небо прекрасную юную деву. Все эти смыслы в Загребе попытались соединить четверть века назад, когда в новообразованной республике составляли реестр официальных поощрений граждан. Орден Утренней Звезды Хорватии вручают в семи разных категориях за «продвижение государствообразующей идеи» в области культуры, экономики, науки, просвещения, здравоохранения и тому подобного. Хотя это не главная награда Хорватии, а только тринадцатая по степени важности, мне она нравится больше всех других: здоровенная серебряная звезда (размером чуть ли не с Венеру), в середину которой вмонтирован лик славного исторического персонажа, подавшего пример служения отчизне в ту пору, когда она еще не была независимой. За изобретательство, например, по ведомству утренней звезды отвечает Никола Тесла, за спорт — Франьо Бучар[49], а за милосердие и социальную защиту — Катарина Зринская.
Загреб. Собор Вознесения Девы Марии и Святых Стефана и Владислава до землетрясения 1880 года
Она и есть самый примечательный участник «великолепной семерки» ордена Danice Hrvatske. Любящая дочь одного родовитого аристократа и верная супруга другого, получившая прекрасное образование, Катарина и сама давно превратилась в символ — не только охраны семейных ценностей, но и объединения усилий патриотически настроенной знати во имя освобождения родины. Волею любви эта незаурядная женщина оказалась причастной к высокой политике. Зринские и Франкопаны — два богатых дворянских дома, крупные землевладельцы, военачальники, покровители искусств — на протяжении нескольких веков играли видную роль в истории Хорватии и Венгрии и в деле антиосманского сопротивления. В 1670 году муж Катарины и отец ее четырех детей Петр Зринский и ее младший единокровный брат Фран Крсто Франкопан допустили роковую ошибку, замыслив «мятеж магнатов» с целью отделения от Австрии хорватских и венгерских земель. Заговорщиков томило недовольство политикой императора Леопольда I, который после успешной войны с армией султана не стал добиваться от поверженного врага освобождения «исконных» христианских земель, но заключил с ним «позорный» мир.
Комплот оказался плохо подготовленным, дворянское восстание не поддержали ни в городе, ни на селе, ни из европейских столиц. В отчаянии Зринский и Франкопан (оба, как и Катарина, поэты), рассчитывая на прощение монарха, отправились в Вену, но суд вынес им обоим суровый приговор: отсечение головы и правой руки. В последний момент император проявил снисхождение — руки мятежникам оставили, но головы отрубили. Предсмертное письмо 49-летнего Петра Зринского супруге, начинающееся словами «Мое дорогое сердце, воля Господа свершится…», считается образцом эпистолярной любовной лирики и переведено на множество языков. Катарину, активно сочувствовавшую планам мужа и брата и даже выполнявшую некоторые их деликатные поручения, вместе с несовершеннолетней младшей дочерью заточили в доминиканский монастырь в Граце. Через три года графиня, помутившись рассудком, скончалась. Дворянскую оппозицию разгромили, земли и имущество обоих благородных родов арестовали в пользу казны.
Об этом верхушечном заговоре, не имевшем ясного плана и социальной поддержки, на 200 лет позабыли, пока в хорватских землях усилиями Анте Старчевича, восславившего героев дворянского мятежа в выступлении с парламентской трибуны, не началась кампания по их реабилитации. В 1893 году вышел в свет роман Эвгена Кумичича «Зринско-франкопанский заговор», ставший, как сказали бы сейчас, национальным бестселлером. В тот же период хорватский художник-историограф Отон Ивекович создал несколько вариантов картины на тему последнего прощания Петра и Катарины в родовом замке в Чаковце. Это полотно стало классикой патриотической живописи: одетая в черное графиня порывисто обнимает мужа, понимая, что расстается с любимым навсегда, а ее младший брат смущенно ожидает в сторонке. В 1919 году останки Зринского и Франкопана перенесли в загребский кафедральный собор, где они покоятся под плитой с надписью «Погибшие достойно живы вечно». Имя Катарины Зринской присваивалось хорватским благотворительным комитетам и обществам, создававшимся для продвижения идеалов добрых католичек и образцовых матерей, так что ее лик не случайно украсил серебряную орденскую звезду.
Иногда говорят, что Хорватия, страна небольшой территории, но длинных границ, напоминает очертаниями птицу с распростертыми крыльями. Общая протяженность хорватской пограничной линии (без учета берега адриатических островов) — почти 4 тысячи километров. Это больше, чем, например, у Польши, которая в пять раз превышает Хорватию по площади и почти девятикратно по населению. Мне, однако, Хорватия кажется похожей на бумеранг, такую уж причудливую форму подарили ей история и география. При желании в этом можно увидеть знак судьбы: ведь, как известно, сколько ни запускай бумеранг в небо, он возвращается.
Накануне краха Австро-Венгрии на нынешних хорватских территориях (население 3,5 миллиона человек) проживали 130 тысяч немцев, 100 тысяч венгров, почти 50 тысяч чехов, 20 тысяч словаков. Примерно пятую часть населения составляли сербы. В конце 1940-х, когда хорватскими стали некоторые области, входившие в межвоенный период в состав Италии, гражданами социалистической республики считались 75 тысяч итальянцев. Единая страна складывалась из региональных кусочков постепенно, в результате непростых политических процессов, сочетавших в себе противоположные тенденции сближения и размежевания разных народов и групп населения — и близких между собой в этническом и языковом отношениях, и друг от друга далеких.
Войны и волны массовых переселений постоянно корректировали этнические карты, просеивали Балканы сквозь национальное сито все с более и более мелкими ячейками. «Собирание» нации оказалось непростым еще и потому, что пути развития отдельных хорватских территорий — Загреба и Загорья (ядро области, считавшейся собственно Хорватией), Славонии и теперешней Воеводины, находившихся под влиянием Венгрии и Сербии, итальянизированных Далмации, Истрии и Кварнера, живущей по законам наследственной солдатчины Военной Границы, — вышли очень уж разными. Сложить мозаику в хорватский рисунок было трудно. Некоторые населенные хорватами (или населенные отчасти хорватами) районы — Западная Герцеговина, Босанская Посавина, Которский залив, Восточный Срем — по разным причинам остались вне границ современного «материнского» государства. Единственный период, когда это государство хотя бы формально объединяло почти все земли, которые в хорватском коллективном создании принято считать «своими», пришелся на несчастливое время НГХ, стопроцентно зависимого от старших партнеров по Оси и поделенного ими на немецкую и итальянскую зоны влияния.
Многовековое давление Османской империи с юго-востока на северо-запад Европы промяло в границе современной Хорватии огромную дугу. Из Осиека, главного города области Славония, до административного центра крайнего юга страны, Дубровника, — примерно 350 километров свободного птичьего полета, если двигаться напрямую, через Боснию и Герцеговину. Строго вдоль хорватской границы птицы не летают, но если зачем-нибудь все же полетели бы, то почти удвоили бы протяженность маршрута.
В новых условиях, в 1990-е годы, районы компактного проживания сербов в Далмации, Кордуне, Лике, в Бановине и Славонии при открытой поддержке националистов из Сербии и соучастии белградских властей стали оплотами сепаратизма: когда Хорватия провозгласила независимость, так называемая Республика Сербская Краина объявила о своем выходе из состава Хорватии. Местные сербы традиционно «держались» за Югославию, а институты федеративной государственности — полицию, армию, партийный и административный аппарат — считали залогом безопасности и равноправия. Началась война, которой в Хорватии присвоили статус отечественной и которую в этой стране считают прямым результатом сербской агрессии. Как раз в ту пору — хотелось бы верить, что такое случилось последний раз в истории, — и были прерваны прямые линии коммуникаций на западе Балкан, оставшиеся доступными только для птиц.
ДЕТИ БАЛКАН
ЗВОНКО БУШИЧ
угонщик самолета
Выходец из хорватских районов Западной Герцеговины, 20-летний загребский студент Звонко Бушич в 1966 году уехал в Австрию изучать историю славян. В Вене он познакомился с американской студенткой Жюльен Эдит Шульц, которая через несколько лет стала его женой. В 1970-м молодая пара совершила свой первый публичный политический акт: с высотного здания, выходящего на центральную загребскую площадь, Бушич и Шульц разбрасывали антиюгославские листовки. Выйдя из тюрьмы, они перебрались вначале в ФРГ, а затем уехали в США, где принимали участие в деятельности организации «Хорватское национальное сопротивление», боровшейся против Югославии в том числе террористическими методами. 10 сентября 1976 года Бушич, Шульц и еще трое хорватских эмигрантов захватили авиалайнер Boeing‐727 компании TWA с 76 пассажирами и членами экипажа, выполнявший полет из Нью-Йорка в Чикаго. Бушич сообщил пилотам: на борту находится взрывное устройство, еще одно заложено в камере хранения Центрального железнодорожного вокзала Нью-Йорка и может быть приведено в действие по его сигналу. Террористы потребовали публикации в пяти ведущих американских газетах прокламации «Призыв к борьбе против сербской гегемонии» и ее распространения в нескольких мировых столицах. Самолет взял курс на Европу, во время дозаправки в Гандере угонщики освободили 30 пассажиров. В Париже после переговоров с послом США во Франции террористы сдались полиции. Взрывное устройство на борту авиалайнера оказалось муляжом (скороваркой), никто из пассажиров не пострадал. В Нью-Йорке при обезвреживании бомбы один полицейский погиб, другой получил ранения. Американский суд приговорил Бушича и Шульц к пожизненному заключению с возможностью ходатайствовать о помиловании через десять лет. Шульц провела за решеткой 13 лет, Бушич — 32 года. В 2008-м он был освобожден при посредничестве хорватских властей и правозащитных организаций и депортирован в Европу без права возвращения в США. В Хорватии, примкнув к маленькой правоконсервативной партии, Бушич неудачно пытался заняться политикой. В 2013 году он застрелился в своем доме под Задаром. В предсмертном письме Бушич дал понять, что реалии завоевавшей независимость родины оказались далекими от идеалов его борьбы.
Сербский мятеж продлился пять лет, пока не был сломлен хорватской военной силой и погашен усилиями международных посредников. Мне доводилось работать по обе стороны линии фронта, разное повидать, беседовать там со всеми, кто только соглашался со мной говорить, — и с генералами, и с рядовыми, и с националистами, и с пацифистами, и со священниками, и с тюремщиками, и с гражданскими, и с военными; присутствовать на медальных парадах и переговорах о перемирии; осматривать боевые позиции и попадать под обстрелы, а потом в обозе хорватской армии объезжать городки и села, брошенные бежавшими в страхе перед репрессиями сербами. Накопилось немало драматических репортерских воспоминаний, неутешительный набор батальных картин, и вот его горестные фрагменты: простреленный танковым выстрелом дорожный указатель Beograd на соединяющей сербскую и хорватскую столицы автостраде; памятник в Пакраце героическому партизану Второй мировой, бронзовое горло которого вырвано осколком снаряда новой войны; чашки с остывшим чаем в сербском доме в Слуне — хозяева оставили свое жилище, не успев закончить трапезу…
В результате вооруженного конфликта 1991–1995 годов численность сербов в Хорватии сократилась почти втрое, с 12,1 до 4,3 % населения. Самый острый вопрос отношений с национальным меньшинством оказался урегулированным жестким образом: в связи с фактическим упразднением собственно меньшинства в качестве заметной политической силы. Эмпирическим способом подтвердилось, что военные способы разрешения территориальных и иных противоречий и в наше время оказываются действеннее и эффективнее мирных: границы определяются по результатам боевых побед, посредством этнических чисток и массовых переселений. Этому в XX веке научил не только опыт двух мировых войн — именно так случилось на излете столетия и в Боснии и Герцеговине, и в Хорватии, и в Косове.
Вооруженные конфликты, сопровождавшие распад бывшей Югославии, вовсе не черно-белые, не контрастные истории, хотя в каждом из них, как кажется, есть главный виновник. Принцип нерушимости границ неизменно противостоит праву народов на самоопределение, поэтому в позиции любой стороны при желании можно отыскать убедительные агрументы за или против. Войны, «освободительные» для одних, по мнению других, — «захватнические». Национальные версии прошлого часто прямо противоречат друг другу, почти всегда эти версии невозможно примирить.
Может быть, еще и поэтому много лет после войны меня не тянуло в те края, где я провел журналистскую молодость.
Республика Хорватия, теперь член НАТО и Европейского союза, сумела как-то перешагнуть через двусмысленный военный опыт, овеянный ветром национального освобождения, пафосом борьбы за независимость и патриотической романтикой молодой государственности. В начале 1990-х хорватскую политику сильно качнуло вправо, в увлечение усташской иконографией, в турбопатриотизм, в поиски неуместной исторической преемственности. Независимость всегда завоевывается в условиях, при которых часть граждан считает национализм «позитивным фактором»; вооруженная борьба собирает под знамена родины в первую очередь не либералов и не сторонников дружбы народов. Когда фантомные боли поражений и побед поутихли, волна агрессии схлынула, политический компас скорректировали: кое-кто из «своих» военных преступников осужден, кое-какие уроки из заблуждений государственных мужей извлечены, кое-что из «перегибов» выправлено.
Другое дело, что вооруженный конфликт 1990-х, как спустившийся с горных вершин ледник, оставил за собой мощный шлейф из сотен тысяч искореженных судеб. Целые полки ветеранов войны, объединившихся после победы в многочисленные братства и товарищества, требуют повышенной социальной защиты, ждут от властей привилегий, а от журналистов и историков — славословия по поводу «праведной борьбы». Это теперь уже старшее поколение, 50–60-летние, но избирателями они быть не перестали и общественную активность не утратили. Украшавшая идею независимости пропагандистская мишура потускнела, но все еще поблескивает. Футбольная команда «Хорватский доброволец», 20 лет назад выступавшая, подобно национальной сборной усташского периода, в форме черного цвета, уже не играет в высшей национальной лиге — «свалилась» из-за нехватки спонсорских средств во вторую. Обширные романы писателя-деревенщика Миле Будака, идеолога хорватского нацизма, человека, ответственного за проведение кампаний массовых репрессий и за это в 1945-м повешенного коммунистами, уже не выходят в лидеры продаж, хотя все еще стоят на полках книжных магазинов. Теперь имя Будака носят улицы не в десятке хорватских населенных пунктов, как в начале 1990-х, а только в двух или трех провинциальных городах.
Вообще кажется, что мир после войны и стремление жить по установленным в старой Европе правилам даже на Балканах должны способствовать отказу от идеологических крайностей, и от черного, и от коричневого, и от красного. Антипод Миле Будака — беспартийный поэт Владимир Назор, 66-летним дедушкой бежавший от усташей к партизанам, сочинивший километры пафосных стихов, а после общей победы и до своей смерти в 1949 году возглавлявший вполне коммунистическую Народную республику Хорватию. Его имя присвоено главной национальной литературной премии. Стоит повнимательнее присмотреться и к жизненному опыту другого «хорватского великана», Мирослава Крлежи. Классик всех местных классиков, знаменитый прозаик, плодовитый публицист и тонкий полемист, после прихода к власти Анте Павелича он решил не покидать Загреб, потом отказался от предложения уйти в партизаны, но не принял ни одной из должностей, которые предлагали ему усташи. Всю войну Крлежа писал «в стол», делал дневниковые записи, в официальной печати не опубликовал ни строки. После смены режима он сначала попал в мягкую опалу, а потом в тень славы маршала Тито, человека рабочей косточки, любившего дружить с интеллектуалами. Имя Крлежи носит Загребский лексикографический институт, Крлежей же в свое время по наказу партии и основанный.
Загреб сегодня по всем контрольным параметрам — кондиционная, хорошо форматированная столица центральноевропейской страны. Осиек, Вараждин, Риека, Карловац — вполне приличные региональные центры, приведенные в приличный урбанистический порядок, пусть в основном и на средства из европейских фондов развития. Хорватия — страна выдающихся природных красот, равных которым, поверьте, найдется не так много не только на Балканах. Когда любуешься Плитвицкими водопадами или закатом солнца на побережье Истрии, когда прогуливаешься от Ткалчичевой к Боговичевой, когда медитируешь с удочкой в руках на дунайском плесе в национальном парке «Копачки Рит», конечно, не вдаешься в сравнительные подробности мировоззрения Будака и Крлежи. Подобного рода философия оставлена для дискуссий на страницах газет и на просторах интернета, для школьных и университетских программ. За последние десятилетия (в который раз за минувший век!) эти программы снова переписаны и снова составлены натвердо.
Без всяких идеологических сомнений.
9 Dalmacija Славянская стена
Эта терпкая и суровая земля, эта узкая береговая полоса, стиснутая между горами и морем, не обладает легким изяществом и соблазнительным очарованием своей соседки Италии, но зато она менее банальна, не столь опошлена толпой туристов и сохраняет в себе привлекательность несколько заброшенных древностей.
Шарль Диль, «Французские воспоминания в Далмации» (1901)Одно время моим журналистским начальником был итальянец, страстная и темная натура. Как-то, вернувшись из очередной поездки по Балканам, я собрал радиопрограмму о хорватской Адриатике, летнюю получасовку отпускного звучания под названием «Славянский берег». Марио по долгу службы послушал и оценил мое творчество кислой улыбкой. «На самом-то деле берег итальянский», — сказал он.
Это одновременно так и не так, смотря что иметь в виду. Далмация — область в современной Хорватии на побережье Адриатики, примерно от острова Раб на севере до Которского залива на юге (или, по мнению других географов, включая принадлежащий Черногории Которский залив и еще ниже, вплоть до города Бар), через узкое море от Равенны и Анконы, — колонизирована римлянами на переломе эпох вместе с населявшими ее племенами, среди которых особой боевитостью отличались иллирийцы. В иллирийскую племенную группу входили дарданы, либурны, далматы, истры и другие древние люди. Все они, словно в море соль, растворились в истории, оставив вместо и после себя названия на географической карте: Иллирия, Истрия, Либурния, Далмация. Так вот и получилось: далматов нет, но есть собака породы далматин, белая с черными пятнами, хотя кинологи и не признают, что она происхождением из Далмации.
Якоб Альт. «Центральная площадь Себенико с кафедральным собором». Акварель, 1841 год
С самого начала времен и до открытия Америки Адриатическое море («текучее отражение Италии», по удачному выражению одного автора), конусообразный водный путь шириной в 150–200 километров, оставалось едва ли не главным каналом мировой торговли. В Далмации латинская городская цивилизация успешно пережила Средние века, пришлые славяне подчинились здесь верховенству греко-романской, а потом италийской культуры, не то что адаптировав, но попросту и без заметных изменений приняв и заморскую архитектуру, и постепенно установившийся патрицианско-плебейский быт, и прекрасный в своей неспешности медитерранский образ жизни. Виноградная лоза и масличное дерево, косой парус и рыбацкая сеть, танбур и лютня, монашеская проповедь и рыцарский танец морешка определяли ритм и смысл здешнего берегового существования для десятков поколений. Миновали столетия подчиненности Византии, промелькнула пора средневековой хорватской независимости, начался и завершился период венгерского владычества. Все это были процессы и перемены, не слишком влиявшие на мораль и нравы, определявшиеся для местных жителей главным образом верой в общего Бога и лояльностью к своему феодалу. Люди продолжали обитать между сухой землей и соленой водой, любой из них умел грести, и каждому море давало пропитание и смысл существования. Все свидетельствует о том, что Иосиф Бродский сделал правильный вывод: «Если выпало в империи родиться, / Лучше жить в глухой провинции у моря».
Венецианский дож Пьетро II Орсеоло тысячу лет назад впервые поднял на восточном берегу Адриатики флаг с изображением крылатого льва, символ евангелиста Марка, пожаловав себе и сотне своих преемников титул Dux Dalmatiae, повелитель Далмации. Венеция незадолго до этого вышла из подчинения Византии и утверждала себя в качестве молодой, активной, хищной державы. Мало-помалу венецианцы научились отгонять пиратов, грабивших морские караваны на пути из адриатической подмышки к каблуку апеннинского сапога, и превратили далматинские воды в свое внутреннее озеро. Себенико и Брацца, Спалато и Трау, Лесина и Лагоста, славные судостроением и моряками, «красивые и чистые, словно прекрасные драгоценные камни», в ту пору не знавшие своих нынешних славянских имен города и городки, с безопасными гаванями и обилием пресной воды, постепенно переходили под контроль новых владельцев. Одних торговая империя брала силой, как Зару-Задар, других, как часто водилось в Средневековье, покупала у их поиздержавшихся сюзеренов. Третьи подчинялись северным богачам добровольно, поскольку видели смысл и выгоду в том, чтобы считаться венецианскими.
Венецианцы брали в подчинение иногда не сразу и не всех желающих, потому что в первую очередь руководствовались соображениями финансовой выгоды. Каттаро (Котор), например, передал шесть запросов, прежде чем получил согласие на то, чтобы быть присоединенным. Но вообще-то хватка негоциантов-колонизаторов оказалась бульдожьей. В итоге во всей Далмации одна только упорно сопротивлявшаяся потере самостоятельности торговая Республика Рагуза (Дубровник[50]) сумела выскользнуть из венецианского капкана, хотя дважды все-таки попадала в зависимость от оборотистых купцов из лагуны. Высвободившись, город-государство, население которого со всеми окрестностями вряд ли когда превышало 30–40 тысяч человек, перенял венецианскую оборотистость и скопировал венецианскую систему общественного устройства.
Вот что удивительно: на протяжении веков Рагуза умудрялась оснащать многопарусный торговый флот и содержать коммерческие миссии почти во всех балканских краях. Не будь этой предприимчивости, уверяют знатоки прошлого, дубровчане не прокормили бы себя на той скудной земле, которой владели. Их олигархическая республика выживала, поскольку умела торговаться и откупалась от завоевателей, постепенно — в силу военных и политических обстоятельств — склоняясь к прагматичному союзу с османами против главных коммерческих соперников с севера Адриатики, пусть те и были единоверцами. Чтобы не иметь сухопутной границы с недружественной Венецией, Рагуза в 1699 году добровольно передала Османской империи 25-километровый участок побережья вокруг города Неум (именно поэтому у Боснии и Герцеговины сейчас имеется пусть маленькое, но свое приморье) и клочок южной земли, местность под названием Суторина. Османское влияние достигло степени, позволившей Жаку Кастеллану назвать Рагузу «окном, через которое султаны глядели на итальянский мир». Ему вторит Ноэль Малкольм: «Рагуза была Гонконгом Османской империи». Итальянский дипломат Луиджи Виллари в 1904 году озаглавил свою фундаментальную работу так: «История Республики Рагуза: эпизод турецкого завоевания», и с ним тоже не поспоришь.
Этот город-республика оставался единственным, как сказали бы сейчас, политическим субъектом на Балканах, которому османы позволяли существовать независимо. Российский историк Владимир Фрейдзон поэтически верно написал, что Рагуза веками «стояла на краю османской пропасти», но так и не упала в нее (чтобы потом свалиться в пропасть французскую). Кое в чем здесь подавали пример передовым державам своей эпохи: Рагуза первой признала независимость США (за четверть века до того, как потеряла свою собственную), первой в Европе, еще в конце XV века, заявила о неприемлемости рабства, первой учредила медицинский карантин. В Дубровнике до сих пор сохранена основа водопроводной системы XIII столетия, отчего, кстати сказать, город теперь мучается, поскольку канализация представляет собой серьезную коммунальную проблему.
Дипломаты из Рагузы оказались столь же искусными, сколь мощной была венецианская военно-финансовая машина. Когда Балканы почти целиком превратились в Османскую империю, Венеция, вообще-то мало интересовавшаяся внутренними землями, сохранила контроль за узкой полосой далматинского побережья. Пышность венецианской власти усиливали ритуальные элементы многочисленных церемониалов. Само прибытие дожа в город, выход его под красным шелковым зонтиком из галеры, торжественная процессия по главной улице к собору — все это наглядно демонстрировало силу, богатство, влияние. Деньги стали венецианской сутью, а главным символом всевластия этого города продавцов и покупателей была морская мощь. Каждая построенная в XV веке galea grosso перевозила 250 тонн груза, ее команда состояла из 180 гребцов и 20 арбалетчиков, защищавших экипаж от пиратов; галеры прямо-таки чеканили золотые монеты.
Далмация считалась важным берегом. В борьбе за коммерческие маршруты Восточного Средиземноморья Венеция долгие годы выясняла отношения с флотами других итальянских городов-республик, прежде всего Генуи и Пизы. В 1298 году у острова Курцола (Корчула) произошло одно из крупнейших сражений тех времен: генуэзцы за несколько часов пустили ко дну 83 венецианские галеры. Плененный капитан-генерал моря (так венецианцы называли своих флотоводцев) Андреа Дандоло, охваченный стыдом, посчитал возвращение из боя в кандалах ниже своего достоинства и размозжил голову о планшир корабля. Другой морской командир, рангом пониже, поступил рациональнее — использовал месяцы неволи для того, чтобы надиктовать более грамотному товарищу по несчастью мемуар о дальних путешествиях, ставший всемирно известным под названием «Книга чудес света». Благоразумного офицера звали Марко Поло, и рассказывал он о своем торговом паломничестве в Китай.
Исследуя берега Корчулы, я вглядывался в морские глубины, но души утонувших капитан-генералов и простых гребцов ничем не выдали своего присутствия. Венеция, получается, не всегда брала над неприятелями верх, но оказалась самой стойкой, хитростью, жестокостью, расчетливостью продержавшись в хозяевах береговой Далмации дольше всех других, целых 800 лет. Первое венецианское полутысячелетие историки считают периодом развития и взлета, последние три века — временем старения и упадка, за которыми последовал крах. Крах, но не забвение. Вот что интересно: на Балканах потратили целое ХХ столетие, чтобы как следует расправиться с османским наследием, следы которого отчетливы теперь только там, где смогла основательно закрепиться исламская культура, в основном в Боснии и Албании. А вот о венецианском господстве на северо-западном побережье полуострова до сих пор вспоминают со смешанными чувствами.
Это и понятно: одна из особенностей провинции — ассоциировать себя с мировыми столицами цивилизационной моды, каковых в Италии и теперь предостаточно. Главная улица Задара по-прежнему называется Калеларга — Длинная улица, и это действительно большой торговый променад, с бутиками (пусть и наполовину, кажется, фейковыми) иностранных модных домов и чередой ювелирных лавок, в которых по традиции заправляют албанцы. Нужно верно понимать прошлое, не накладывая на него современные клише: ведь это не Италия 800 или 600 лет назад воевала с Хорватией. Задарскую крепость обороняли говорившие по-итальянски лавочники и ремесленники, армянские торговцы и греческие рыбаки, славяне из окрестных селений, разные ополченцы без роду и племени. На палубах атаковавших город венецианских галер находились точно такие же италийцы, греки, славяне, военные рабы из африканских и ближневосточных краев, сотня-другая каталонских, венгерских или фламандских наемников в тяжелых доспехах. За штурмом следовали пожар и грабеж, пока наконец не устанавливался тревожный мир, и город в своей повседневной жизни снова не отличал эллина от иудея, выплачивая Венеции дань и следуя ее правилам о таможенных сборах. Эта империя не была расточительной или щедрой, Венеция не имела привычки заботиться о благосостоянии тех своих подданных, которые не проживали на островах лагуны, а потому ни один из них настоящим veneziano не считался.
Сегодня италийское влияние в Далмации множественно — и в ежедневной культуре, и в быту, и в традициях, да и в атмосфере тоже, даже в мелких мелочах. Скажем, единственный югославский победитель музыкального конкурса Eurovision (1989 год) — поп-группа из Задара со вполне апеннинским названием Riva. Само понятие «рива» давно укоренилось в хорватском языке: так с равными основаниями назовут парадную набережную с кафе-ресторанами и в нынешней далматинской столице, 200-тысячном Сплите, и в скромной рыбацкой деревушке Стоморска на недалеком от этого города острове Шолта. С самим итальянским присутствием как фактором политической жизни на хорватском побережье Адриатики со всей решительностью покончили коммунисты. После войны из Югославии были выселены, фактически изгнаны, 100 или 200 тысяч итальянцев; обещанная им компенсация за собственность не выплачена до сих пор. Так был решен многовековой спор на тему о том, кому принадлежит восток Адриатики, что бы об этом ни думал мой бывший начальник-итальянец.
Снятая в конце 1970-х годов полузапретная в социалистическое время пацифистская кинодрама «Оккупация в 26 картинках» парадоксально интерпретирует проблему непростых национальных и общественно-политических переплетений. Фильм Лордана Зафрановича рассказывает о том, как в оккупированном фашистами Дубровнике расходятся жизненные пути трех верных довоенных друзей — хорвата, итальянца и еврея: один становится партизаном, другой поддерживает дуче, третий едва не попадает в концлагерь. Режиссер руководствовался марксистским пониманием истории (хорошие в конце фильма застрелили-таки плохого), но это не помешало ему следовать аморальным, по меркам югославских властей, принципам неореализма. 26 картинок итальянской оккупации Дубровника получились разными, и не все они одинаково черные.
Набережная Зары и пароход «Гёдёллё». Открытка. 1909 год
Уже тысячу лет назад уверенное большинство населения Далмации составляли южные славяне, в основном хорваты, но и сербы, хотя сами они чаще всего свою национальную принадлежность не различали. Итальянцы экспортировали в эти края преимущественно чиновников, купцов типа Марко Поло (рожденного, по местной легенде, в городе Корчула, что с негодованием опровергают в Риме и Венеции), разных творческих людей эпохи Ренессанса да жгучих красавиц из патрицианских семей. Горожане, вне зависимости от рода и племени, называли себя латинянами, в деревнях обитали склавы, склавины (славяне), но ни те ни другие не считали Далмацию итальянской землей. В конце XVIII столетия в светских салонах Зары и Рагузы заговорили даже о формировании славяно-далматинского народа, связанного с итальянцами в культурном отношении, но чуждого им этнически. Эту конструкцию впоследствии активно продвигал филолог и языковед Никколо Томмазео (Никола Томашич), пока такое романтическое восприятие реальности не вступило в конфликт с общественной практикой. Томмазео увлекся политикой, стал крупным деятелем Рисорджименто, и его мощная фигура принадлежит итальянской, а не сербской или хорватской истории. И уж тем более не славяно-далматинской.
Памятник Никколо Томмазео в Себенико (Шибенике). Открытка. 1910 год. Памятник разрушен после Второй мировой войны
Итальянский оставался в Далмации языком администрации и торговли, в большой степени — культуры, на хорватском («далматском») говорили преимущественно в селах и на кухнях. Это приметил и Наполеон, в 1805-м получивший восточное побережье Адриатики и отдавший его поначалу своему же Итальянскому королевству. Еще через четыре года были учреждены Иллирийские провинции, названные Бонапартом, решительно отрезавшим от моря вражескую на тот момент Австрию, «славянской стеной французско-итальянских государств».
Бонапартистский эпизод оказался коротким, но тем не менее ярким мигом местной истории, повлекшим за собой значительные последствия. «В какие-нибудь несколько лет мощная мысль императора организовала и преобразила на расстоянии эту страну», — писал восторженный французский соотечественник. Конечно, все было не совсем так, хотя бы потому, что несший Европе свободу от пережитков феодализма Бонапарт управлял своими далекими владениями жестко, без милосердия. Иллирийскими провинциями заведовали французский генерал-губернатор, французский генерал-интендант и французский комиссар по делам юстиции. Берегом Далмации Наполеон мостил себе путь в Европейскую Турцию, целясь в древний Константинополь, но этим планам мешали то война на Пиренеях, то русские с англичанами.
Несмотря на кратковременное пребывание на северо-востоке Адриатики, новые оккупанты успели сделать для экономически отсталой и изолированной от других краев Далмации немало: наладили гражданское управление и почтовую службу, позаботились о дорогах и общественных сооружениях, дозволили образование и газеты на местных языках, построили госпитали и богадельни, разбили общественные парки, срыли устаревшие береговые укрепления, упразднили отжившие свое ремесленные корпорации. Но главное — в Иллирийских провинциях ввели Кодекс Наполеона, диктовавший верховенство права и даровавший дотоле находившимся на положении немых холопов рыбакам и ремесленникам различные, пусть отчасти умозрительные, достоинства человека и гражданина.
Неизвестный автор. Портрет Фаусто Веранцио (Фауста Вранчича). 1605 год
ДЕТИ БАЛКАН
ФАУСТ ВРАНЧИЧ
первый бейсджампер
Итальянцы считают этого универсального ученого эпохи позднего Ренессанса венецианцем и именуют по-своему — Фаусто Веранцио. Вранчич-Веранцио родился в 1551 году в знатной славянской семье в Шибенике (тогда Себенико), учился в Пожони (теперь Братислава) и Падуе, жил в Праге и Риме, служил при дворах двух европейских монархов и возглавлял епископство в Венгрии, затем состоял в монашеском ордене варнавитов и хорватском братстве Святого Иеронима (учебное заведение для священников-славян) в Риме, а скончался в 1617 году в Венеции. Перу Вранчича принадлежит сравнительный словарь пяти языков (видимо, первый в истории), среди которых наряду с латынью, итальянским, немецким и венгерским был и «далматский». Этот язык не следует путать с далматинским (вельотским) — не имевшим литературной формы и умершим к концу XIX столетия языком романской группы, на котором говорили дальние потомки ассимилированных иллирийских племен. В 1615 году Вранчич завершил работу над главным трудом своей жизни, энциклопедией «Новые машины». В этой книге содержатся детальные описания и применимые к практике чертежи 56 технических устройств — подвесного и арочного мостов, водоочистных сооружений, ветряной турбины и водяной мельницы, сельскохозяйственных орудий и строительных инструментов, универсальных часов и колесных повозок. Я листал переиздание этой чудесной книги: в основном Вранчича интересовало применение тягловой силы, а также энергии воды, солнца и ветра. В популярную науку этот энциклопедист вошел как один из изобретателей и первый успешный испытатель парашюта. Свою модель Homo volans, Человек летающий (чертеж номер 38 в «Новых машинах»), Вранчич, согласно одной легенде, собирал по эскизам Леонардо да Винчи. Использовав натянутый на деревянную раму холст размером 6 × 6 метров, 65-летний смельчак совершил прыжок с колокольной башни при соборе Святого Марка в Венеции — вследствие чего, очевидно, и может считаться пионером бейсджампинга. Семейству Вранчич-Драганич до сих пор принадлежит резиденция на далматинском острове Првич. Под потолком Технического музея в Загребе я видел фигуру древнего парашютиста из папье-маше, болтающуюся на стропах; похожая украшает экспозицию музея в Шибенике. Первый бейсджампер — главная знаменитость Првича, островитяне проводят «креативные дни Вранчича» в мемориальном центре его имени. Земляки запросто называют этого талантливого ученого, обогнавшего свое время, Фаустом.
Homo volans. Рисунок из книги Фаусто Веранцио «Новые машины», изданной в Венеции в 1616 году
Над побережьем повеяло вольнодумством. Рядовые труженики моря и виноградников, многие впервые в жизни, стали задумываться не только о своей вере, но и о своей национальности. Губернаторствовать во французской Адриатике был определен видный наполеоновский генерал Огюст де Мармон. Он, едва 30-летним, получил титул герцога Рагузского, а затем и жезл маршала. Мармон управлял Далмацией рачительно и разумно, но в историю своей родины вошел как изменник, поскольку в тяжелую годину поражений покинул терявшего силу и власть Наполеона. Маршалу неожиданно аукнулся его южный дворянский титул — во французском языке в ту пору появился и до сего дня существует глагол raguser, «подло предать». Это не вполне справедливо, ведь губернатор был не единственным изменником, да и при чем здесь Рагуза-Дубровник? Так или иначе, Иллирийские провинции не пережили падение Бонапарта и с 1816 года на целый век стали австрийской землей, королевством без собственного короля.
Жан-Батист Паулин Герин. «Огюст Федерик Луи Витесс де Мормон, маршал Франции». 1837 год. Национальный исторический музей, Версаль
Интересно, что и поколения спустя французские путешественники продолжали относиться к Далмации, далекому от Парижа и, в общем, совершенно незнакомому для них краю, как к своей несчастливо утраченной собственности. Византолог Шарль Диль, на переломе XIX и XX столетий посетивший Балканы, оставил чудесную, пусть и наивную по меркам сегодняшнего дня книжку путевых заметок, в которой хвалил Бонапарта за прогрессизм, а добрых далматинцев — за простодушие и гостеприимство, цветисто называя адриатическое побережье «Швейцария, омываемая морем и позлащенная солнцем Востока».
Древние государства заложили в Далмации основы античной культуры, итальянцы припудрили Далмацию традициями олигархических городов-республик, французы попытались научить презрению к тиранам. В Далмации сухие каменистые почвы, но зерна иностранных диковинных злаков все-таки проросли и дали всходы. На юго-востоке Старого Света, пожалуй, не сыскать более ладного, целостного, гармоничного края. Здесь нет привычного для Балкан контраста характеров и красок, здешний резной камень столь элегантен, что дворец Диоклетиана в Сплите относят к самым блестящим примерам древнеримского зодчества, а собор Святого Доната в Задаре, пустотелый и гулкий, как колодец, приравнивают к лучшим образцам византийской архитектуры. В Далмации в употреблении ключевое для Средиземноморья и, в общем, чуждое Балканам с их консервативной общественной структурой понятие «площадь» (по-народному piazza, также в значении «рынок»), в метафизическом смысле «открытое пространство» — открытое всем ветрам, любым влияниям, разным воздействиям, свободным дискуссиям. И это тоже в большой степени итальянская мода.
Человек настойчиво атаковал эту узкую прибрежную полосу в основном с моря — Далмация и сейчас не сказать чтобы очень уж тесно связана с внутренними землями, от которых хоть в какие века ее отгораживал коварный и корявый Динарский хребет. Морские контакты этого края с внешним миром всегда представали как сугубая необходимость, далматинцы были вынуждены торговать, чтобы выжить, потому и сделали на века основами своего существования судостроение и мореплавание.
«Плыви прямо на восток, и твое судно окажется перед преградой из известняка», — советует отправляющемуся из Италии путешественнику британский историк Роджер Кроули, автор великолепной трилогии о погибших империях Средиземного моря. Горы, небо, Адриатика на разных участках 400-километрового побережья соединяются друг с другом по-разному. Далматинский берег изрезан заливами и бухтами, изобилует пещерами и рифами, здесь сотни островов и множество естественных якорных стоянок, способных укрыть целый флот. Эти края словно созданы для настоящих пиратов. В Дубровнике, Макарске, Цавтате белесые известняковые склоны вырастают из воды круто, так, что рано поутру едва ли не закрывают солнце. Крепостные стены Котора подняты от побережья на 200 метров, зацеплены на вершине почти отвесной скалы, чтобы враг не обескуражил с тыла. В таких городах ты можешь свернуть от моря налево или направо, но не пойдешь вперед и вверх, а останешься на пьяцце выпить чашку кофе. Задар, Шибеник, Трогир, наоборот, отодвинуты от вершин чередой пологих холмов, и если двигаешься в Далмацию из Загреба или Сараева, то перепад высот и смена климата не слишком-то и заметны. Обратная дорога другая: пейзаж напоминает, что примерно здесь полвека назад западногерманские кинематографисты жарили на большом огне шницель-вестерны о подвигах вождя апачей Виннету и его белого брата по крови Шаттерхенда.
Луи Сальватор. Иллюстрации из издания «Типажи сербов Адриатики». 1870 год. Британская библиотека
Шарль Диль любовался далматинским побережьем с борта большого пассажирского парохода Senegal. Моя палуба оказалась скромнее, зато героичнее: однажды, в пору самых долгих дней и самых коротких ночей, мне довелось пройти от Задара до Сплитских ворот и обратно под белыми наполненными ветром парусами. Веял горячий норд-вест, который в хорватских широтах называют маэстралем. 46-футовая яхта Dafne крепкой баварской постройки отлично слушалась штурвала и держала курс; темного рома и светлого пива было в достатке. Вместе с моим сыном и нашими общими друзьями на борту быстрая Dafne за неделю матросских вахт опутала невидимыми семимильными петлями чертову дюжину адриатических островов неземной красоты — Пашман, Углян, Корнат, Зларин, Дрвеник, бросая якорь в безмолвных аквамариновых бухтах или швартуясь у городских причалов.
В таком путешествии смысл бытия открывается обитателю материковых просторов по-иному, чем у себя дома, не в вертикальном, как на Олимпе или в Рильских горах, а в строго горизонтальном измерении. Существуя на уровне моря, в огромном колышущемся пространстве, ты прежде всего оцениваешь панораму; иными словами, если глядеть на мир с большой воды, то все в нем оказывается «шире, чем выше». Кроме какой-нибудь кампанильи на спине прибрежного холма, кроме мерцающего свечкой маяка, нет нигде вертикали, а значит, нет и подчинения твоих мысли и воли. По маленьким плоскоголовым островам в косматых зарослях кустарника скачут дикие козы, над ними реют бестолковые чайки, зудят комары, в прибрежных глубинах ходят таинственные немые рыбины. На островах побольше течет своим чередом ме-е-едленная жизнь, ценности которой, как кажется, кардинальным образом должны отличаться от общепринятых. Полтысячи обитателей острова Првич, скажем, гордятся тем, что единственный настоящий автомобиль в их краю до сих пор пожарная машина, хотя два здешних поселения, Шепурине и Првич-Лука, соединены асфальтированной дорогой протяженностью в километр. Природа и география диктуют острову свою логику: тут попросту некуда ездить, сюда можно только приплыть. Зато приплыть сюда можно отовсюду.
Приморское и сухопутное миросозерцание устроены неодинаково, но приводят к одному финалу. Готовясь бросить якорь у острова Муртер, едва войдя в бухту Храмина, матросы и рыбаки уже не один век крестятся на храм Градинской Богоматери. Любовался этим храмом и я, да и как не умилиться при виде уютного, открытого солнцу и ветру кладбища на Градинском холме? Здесь проводятся разнонаправленные земляные работы, по соседству с последней обителью вот уже который год раскапывают руины древнего поселения. Тут бы нам всем и лежать, под вечной и над вечной голубизной, под шепот масличных деревьев и в их неверной тени…
Далматинское каботажное плавание вплотную приблизило меня к исполнению старинной мечты, но не позволило все же ее исполнить. Наш морской экипаж не дотянул до архипелага Палагружа, самой южной хорватской территории, а значит, одной из оконечностей славянского мира. Θάλασσα, «пелагос» — «море» по-гречески. В середине 1990-х я поневоле вспоминал о Палагруже каждый день — по той простой причине, что этот архипелаг в обязательном порядке упоминался в прогнозе погоды, после выпуска политических и спортивных новостей хорватского ТВ; на карте рядом с чудным названием красовались либо черная тучка, либо желтое солнышко. Всей семьей мы частенько валяли дурака, мечтая о том, как бы побывать на Палагруже, как бы хоть разок увидеть эту горстку таинственных скал, расположенных, кстати, ближе к Апеннинам, чем к Балканам. На островке Вели-Палагружа, населенном одними ящерицами и бакланами, говорят, только всего и есть что маяк, канатная дорога да галечный пляж. Здесь — зона опасного мореплавания, по которой гуляет самая мощная из зарегистрированных в истории Адриатики, девятиметровой высоты волна. На такую морскую высоту нашей Dafne подняться не под силу. Выходит, как раз у Палагружи вздымается хорватский девятый вал.
Впервые я оказался в Далмации в разгар боснийской войны. Путь в осажденное сербами Сараево пролегал через Сплит, добраться в блокированный город можно было только по «воздушному мосту», организованному миротворческой операцией ООН в бывшей Югославии. Журналистов в Боснию перевозили малыми партиями на военных грузовых самолетах Hercules с французскими экипажами. Ждать вылета приходилось по нескольку дней, и, впервые в своей жизни собравшись на фронт, я неожиданно оказался на морском курорте.
Отправка на войну производилась из аэропорта Ресник, куда предписывалось лично являться дважды в сутки на регистрацию, иначе, как в советские времена дефицита, запросто «потеряешь очередь». Составлением полетных списков и аккредитацией репортеров при миротворческой армии руководил ражий британский сержант по фамилии Джонс. Я его прекрасно помню: этот Джонс был мощно лыс и весь, сколько из-под майки цвета хаки виднелось кожи, покрыт цветными татуировками, что в невинную пору конца прошлого столетия казалось пощечиной общественному вкусу. Ушлые коллеги поговаривали: движение очереди в Реснике ускорялось с помощью простых коррупционных механизмов. Предложить взятку я, однако, не решился. Через год или полтора систему аккредитации упорядочили и усложнили, поскольку выяснилось: с помощью журналистских удостоверений «мафия» (не исключено, что благодаря и сержанту Джонсу) небескорыстно эвакуировала из Сараева состоятельных горожан.
Олеко Дундич. Фото. 1919 год. Иллюстрация из книги «Коммунисты Югославии 1919–1979», Белград (1979 год)
ДЕТИ БАЛКАН
ОЛЕКО ДУНДИЧ
красный кавалерист
Помощник командира 36-го полка 6-й кавалерийской дивизии Первой конной армии, адъютант командарма Семена Буденного Томо Алекса (Олеко) Дундич родился в 1896 или 1897 году в далматинском селе Грабовац в хорватской семье. Данные о его биографии противоречивы: согласно советским источникам, Дундич родом не из Далмации, а из сербского села Косьерич и не из хорватской, а из сербской семьи. Все это, в общем, не важно, потому что он мертвая и теперь почти забытая легенда. Считается, что 12-летним мальчиком Алекса уехал в Латинскую Америку, где два (или четыре) года работал погонщиком скота. После начала Первой мировой войны вернувшегося на родину юношу призвали в габсбургскую армию, он служил унтер-офицером сначала гусарского кавалерийского, а затем 70-го пехотного полка. Доблестно воевал, дважды был ранен. Весной 1916 года в бою под Луцком Дундич попал в русский плен. Вскоре записался в Сербский добровольческий корпус армии Российской империи, сражался в звании подпоручика. После Февральской революции перешел на сторону большевиков, вступил в партию. Активный участник Гражданской войны, командир красного партизанского отряда в Донбассе, затем — офицер-буденновец, отличившийся при обороне Цырицына. Кавалер ордена Красного Знамени, удостоен наградного оружия. Убит летом 1920 года в бою с поляками под Ровно. Похоронен в городском Центральном парке культуры и отдыха. Прах Дундича и установленный на его могиле в 1952 году памятник, вероятно, будут перенесены на военное кладбище в соответствии с проводимой на новой Украине политикой декоммунизации. На цоколе монумента выбита цитата из воспоминаний Буденного с обращением к «красному Дундичу». О храбрости Дундича и его мастерстве наездника писали Исаак Бабель в «Конармии», Алексей Толстой в «Хождении по мукам», Владимир Богомолов в повести «За ваше завтра». Канонический образ южнославянского кавалериста закрепил снятый в 1958 году советско-югославский фильм «Олеко Дундич» режиссера Леонида Лукова. Создатели киноленты сделали выбор в пользу сербской версии происхождения героя. В Белграде именем Дундича назвали конно-спортивный клуб, но этот красный всадник — персонаж советского эпоса. Ни один из моих знакомых в Сербии и Хорватии и понятия не имеет о том, кто такой Дундич.
Ездить в Ресник с надеждой и за очередным отказом было ближе, чем из Сплита, из милого городка Трогир, в котором я по этой причине и поселился. Трогир и Сплит разведены по разным берегам живописного Каштеланского залива, а соединены двумя параллельно идущими путями, которым уже в XXI столетии присвоили значительные для новой Хорватии названия: шоссе Иоанна Павла II и дорога Франьо Туджмана. С обеими знаменитостями я вскоре познакомился, примерно в одно и то же время: у первого президента независимой Хорватии брал интервью незадолго до того, как в Загреб с пастырским визитом осенью 1994 года прибыл папа римский.
Историческая часть Трогира, известного в византийские времена как Трагурион, а в венецианские — как Трау, расположена на небольшом острове в форме бородавки, отделенном узкой протокой от материка и протокой пошире — от большого острова Чиово. С островка на остров можно попасть по разводному мосту, под которым яхте формата Dafne ни за что не проскочить, потому что у нее немедленно сломается мачта, а пройти только верткой рыбацкой лодчонке. На юго-западной оконечности островка возвышается квадратная в периметре крепость Камерленго, скорее это даже большой форт. Сейчас в мире, насколько мне известно, существует только одна должность camerlengo — ее занимает управляющий хозяйством Ватикана кардинал, а раньше так называли финансистов и администраторов во многих итальянских городах. Легко предположить, что камерленго Трау хранил свою казну за семью замками в Цепной башне с толстенными стенами.
Крепость, смекнул я, когда-то защищала обе протоки и городской порт, но теперь-то она ничего не защищает, поскольку впритык к фортификациям разбито изумрудного цвета футбольное поле, на котором изредка выигрывает домашние матчи клуб пятого хорватского дивизиона «Трогир», основанный еще в 1912 году, очевидно, для более славных побед. За стадионом приткнулся к кромке моря небольшой, античных пропорций павильон. Это недоделанный монумент Благодарности Франции, который в 1808 году повелел воздвигнуть в оккупированном городке маршал империи. В беседке планировался бюст Наполеона, но бюджет Трогира сводили с трудом, а взимать поборы на памятник с местных жителей, изнуренных постоем французских и итальянских солдат, комендант поостерегся. В народе павильон до сих пор называют памятником Мармона, не уточняя деталей.
На зубчатых стенах Камерленго, если присмотреться, увидишь щит со львом святого Марка, герб 65-го венецианского дожа Франческо Фоскари, о котором написал пьесу Джордж Байрон, герб 84-го венецианского дожа Пьетро Лоредана, избранного рулить республикой в возрасте 85 лет, а также герб князя Маддалено Контарини, венецианское семейство которого было столь родовитым, что целой книги не хватит перечислить всех ее выдающихся отпрысков.
В Трогире я проводил время в праздности, но в глубоких деталях исторический город изучить не успел, поскольку слишком усердно выпивал, купался и загорал. Потом неожиданно подоспела очередь лететь в Боснию, и сразу после приземления в сараевском аэропорту Бутмир я попал под обстрел. Грань между войной и миром показалась мне неимоверно зыбкой, а моментальный перепад ощущений — от пляжа к осаде — неимоверно радикальным. По сути, думал я, трясясь в чреве доставившего нас от взлетно-посадочной полосы в центр осажденного города бронетранспортера ООН, у балканских войны и мира общее только одно — безоблачное, белесое от жары небо, куда поднялся и откуда через 45 минут спустился пузатый четырехмоторный Hercules.
Все прочее оказалось совсем разным.
Спиритуальное сердце Трогира бьется, конечно, не в грозной крепости Камерленго, а в благолепном католическом соборе, что в северной части островка-бородавки. Храм, давно по достоинству оцененный и искусствоведами, и ЮНЕСКО, посвящен покровителю города святому Лаврентию, но часто эту базилику называют еще собором Святого Ивана. Архидиакона Лаврентия умучили 10 августа 258 года в Риме по приказу императора Валериана, и вряд ли именно скромный Трагуриум на далеком берегу находился в фокусе молитв благочестивого монаха. Лаврентий («увенчанный лавром») — популярный в христианском мире страстотерпец, принявший за веру страшную смерть: его заживо изжарили на решетке, причем пока одни палачи подкладывали снизу горячие угли, другие прижимали тело несчастного к раскаленному железу рогатинами. Но даже в такой ситуации Лаврентий не утратил бодрость духа. «Вы испекли одну сторону, поверните же на другую и ешьте мое тело!» — приговаривал он. Поучительным будет упомянуть о том, что через два года император Валериан попал в плен к своему врагу персидскому царю Шапуру I, который, унижая надменного римлянина, использовал его спину как скамейку, когда садился на коня.
Трау. Открытка. Начало XX века. Фото: © Snapshots of The Past / flickr.com / CC BY-SA 2.0
Епископ Иван Трогирский, в Трау проповедовавший и там же почивший, заботился об этом городе при жизни и, как считается, вместе с Лаврентием надежно охраняет Трогир после смерти. Бенедиктинский монах Джованни Урсини (родом из местечка Осор) в конце XI века получил епископскую митру; однажды прямо во время мессы на него снизошел Дух Божий; спасая терпящих кораблекрушение, Иван по воде ходил аки по суше. Он совершил также множество иных благодеяний, в частности как-то раз отвел от городских стен завоевателей. Скончался этот праведник, судьба которого сплетает воедино славянские и романские корни Далмации, в похожем на частокол 1111 году. Останки епископа были утеряны, но потом магическим образом, через вещий сон набожного прихожанина Теодора, обретены заново. И вот теперь святой Иван покоится в прекрасной, розового камня, часовне Святого Ивана в соборе Святого Ивана (или Лаврентия) в кругу мраморного Иисуса Христа и апостолов его.
Скульптура самого́ добродетельного епископа украшает северные ворота Трогира. В одной руке святой держит посох, а другой благословляет все вокруг — и древний город, и славных его жителей, и случайных его гостей, и безмятежное море за своей спиной, и универсам Konzum перед собой, и то самое белесое балканское небо над головой. Каждый год в конце лета, когда Земля преодолевает шлейф пылевых частиц, осколков льда и камня, выпущенных кометой Свифта — Таттла, святой Иван автоматически осеняет пятиперстием даже этот метеорный поток, что восходит над Далмацией со стороны созвездия Персея. В христианском мире Персеиды называют слезами святого Лаврентия, поскольку его испекли точно такой же ясной и душной августовской ночью под мерцание звездной пыли. Вот так два покровителя Трогира вступают в прямое духовное общение.
Название Τρογκίρ вполне можно перевести с греческого как «Козельск». Трогир, как и русский Козельск, достоин титула города воинской славы — только азиатские захватчики (сарацины) разрушили его на столетие раньше Козельска, который в 1238 году дотла сожгли монголы, в буквальном смысле слова утопив 12-летнего князя козельчан Владимира в крови. В 1242-м за стенами Трогира ровно от тех же монголов, добравшихся до своего «последнего моря», укрылся венгерский король Бела IV. Очевидно, и его ждала бы горькая участь маленького Владимира, но тут стало известно о кончине от пьянства хана Удэгея, и монгольское войско сняло осаду, окончив свой успешный западный поход. А то бы — кто знает? — и не было сейчас никакого Трогира.
Из Сплита сюда станет когда-нибудь возможно добраться поездом городской железной дороги, которую пока дотянули только до аэропорта Ресник. Сплит в 15 раз крупнее Трогира, и слава его много громче — прежде всего из-за великолепия дворцового комплекса, построенного 1700 лет назад по приказу императора Диоклетиана[51]. Ничего подобного этому граду-прямоугольнику со сторонами примерно в 200 метров, отгороженному от остального Сплита высокими стенами, от античного мира не сохранилось. А может быть, ничего подобного в античном мире и не существовало — подтверждено, по крайней мере, то обстоятельство, что это единственный в истории случай, когда из императорского дворца получился вначале средневековый, а потом и современный город. Южная стена дворца выходит на кудрявую, в пальмах, набережную Хорватского национального возрождения, северная — к тенистому парку Йосипа Штросмайера, восточная — к оживленному зеленому рынку, западная — к чинной Народной площади и ратуше образца XV века. Дворец, набережная, парк, площадь, рынок, ратуша — всеобъемлющая система понятий, за пределы которой для постижения законов бытия выходить столь же избыточно, как за диоклетиановы стены, потому что внутри их и сейчас есть абсолютно все, от молельни до богадельни, от дома моды до обители греха, от почты до бани. В тот же квадрат вместилась идеология вульгарного хорватства — герб в красно-белую клетку, настоянный на пафосе войны за выстраданную независимость патриотизм, холодное недоверие к сербам, так и не ставшим братьями, поиски старого исторического и нового внутреннего родства с Западом.
Мост Чиово в Трау. Открытка. Начало XX века
Как-то дождливой февральской полуночью я блуждал по улицам дворца Диоклетиана в поисках питейного заведения, чтобы в спокойной обстановке составить для московской спортивной газеты отчет о только что завершившемся в Сплите матче футбольной Лиги чемпионов. Зонта при мне не оказалось, я устал и продрог, а потому заказал в первом подвернувшемся прокуренном баре двойную порцию коньяка. Принесли мартель в пузатом бокале, почему-то заполненном кубиками льда. Я было удивился, но надменный официант проявил непреклонность. В его движении, прямо по песне «Машины времени», сквозило раздражение: не знаю, как в других странах, но у нас, сказало лицо официанта, коньяк охлаждают.
Городской мотив Сплита. Фото. 1927 год. Цифровая библиотека Словении
«Вид на Спалато и лазарет». Гравюра. Ок. 1800 года
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК ЕВРЕЙ ПЕРЕХИТРИЛ РАГУЗУ
Работая над этой книгой, я отыскал ответ на вопрос, над которым задумывался не раз, путешествуя в том числе по Далмации. Почему многие города с великой историей не выдерживают ее натиска и теряют свое значение? Почему, например, Дубровник с его славным прошлым независимой республики, с великолепно развитыми торговыми связями теперь заурядный, пусть и очень красивый, городок с едва 40-тысячным населением? Почему именно Сплит, а не Задар и не Шибеник остался в столицах Далмации? За поиском ответа пришлось вернуться во вторую половину XVI века, когда Республика Рагуза, заручившаяся в Османской империи купеческими привилегиями, контролировала товарообмен внутренних областей Балканского полуострова со странами Леванта. Венецию это не устраивало. Автором идеи перенаправить балканские товаропотоки в гавань Спалато стал предприимчивый португальский еврей, купец Даниэль Родригес. Венецианский консул в нескольких адриатических портах, он занимался откупом соли, подолгу жил в Рагузе, Ускопе, Босна-Сарае, наладил повсюду прекрасные коммерческие связи, досконально изучив конъюнктуру балканского рынка. Самым удобным портом для вывоза османских товаров в Венецию Родригес считал Спалато, где требовалось создать правильную гавань, «чтобы ее округа стала одним широким руслом, через которое будут сливаться все богатства Леванта». Такая идея долго не встречала поддержки, поскольку Венеция страшилась расходов, а нобили в Спалато отвыкли от деловой активности. Родригес долго вел переговоры, пока в 1580 году не начал наконец перестраивать городской порт за свой счет. Венеция решилась на инвестиции только через восемь лет и не прогадала. Гавань Спалато расчистили, соорудили долгий мол и просторный причал, построили складские помещения, постоялые дворы и карантин, приспособили для хранения товаров подвалы дворца Диоклетиана. В 1592 году наисовременнейший по меркам того времени scala («причал») ввели, как сказали бы сейчас, в эксплуатацию. Спалато объявили porto franco. Расчеты Родригеса подтвердились: из внутренних областей Балкан в обмен на вино, соль, ткани, рис, мыло пошел поток грубого сукна, шерсти, кож, воска, сыра. Реконструкция порта обошлась в девять тысяч венецианских дукатов, а приносил он по 200 тысяч в год. В 1626 году товарооборот Спалато составил четверть венецианской торговли. По торговым связям Республики Рагуза был нанесен тяжелый удар. Даниэль Родригес сказочно разбогател и остался в Спалато, до конца жизни финансируя различные проекты еврейской общины. Туристам теперь показывают его дом в центре города.
Сплит — большой и шумный приморский город, тут есть чем заняться и на что посмотреть, но больше прочих достопримечательностей, даже больше образа выращивавшего на пенсии капусту императора, меня впечатляет монумент средневековому просветителю, пропагандисту глаголического письма Гргуру из города Нин. При важном для хорватов короле Томиславе (910–928 годы) этот епископ Гргур был кем-то вроде митрополита Филиппа при Иване Грозном. К Сплиту Гргур Нинский отношения вроде не имеет, но здесь, как и в некоторых других городах, почетному священнику поставили огромный памятник работы главного скульптора Хорватии Ивана Мештровича. Внушительная пластическая фигура: десятиметровый косматый старик-проповедник в колпаке с крестом, похожий на гигантского вздорного гнома. Выставленная вперед правая нога Гргура в византийского кроя сандалии оказалась прямо у ведущей из дворца в парк лестницы. Большой палец проповедника отполирован поколениями туристов до ярого блеска. В ателье Мештровича в Загребе я с восхищением разглядывал скульптурный эскиз руки нинского епископа: судорожное пятиперстие, экспрессию которому придает напряжение бронзовых мышц, зовет и к вере, и к верности, и к верной борьбе за эту веру. Но не только к духовному в человеке обращен этот зов.
Иван Мештрович. Фото. 1940-е годы. © Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C / Reproduction Number: LC-DIG-ggbain‐37623
Мештрович — как свидетельствует и цикл его косовских работ — был, напомню, убежденным сторонником южнославянского братства. Собственно говоря, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев возникло при его, активиста Южнославянского комитета, непосредственном участии. Выражая с помощью скарпеля и троянки свои мировоззренческие убеждения, Мештрович наваял немало монументов, воспевающих величие народных подвигов, — и мавзолей Петра II Петровича-Негоша на горе Ловчен, и статую Победителя в белградском парке Калемегдан. Где бы Мештрович ни учился изящным искусствам, где бы ни выставлялся, куда бы от усташей или коммунистов ни эмигрировал, югославское проклятье с себя он так и не снял. Зато совершенно бесспорной в художественном отношении выглядит мраморная, бронзовая, деревянная эротика, явленная в творчестве этого мастера его современникам и потомкам. Чувственная пластика форм описана в толстенном альбоме «Мештрович: скульптура и нагота», посвященном телесности скульптурного ремесла. Искусство нелинейно, и самое сексуальное из того, что изваял Иван Мештрович, — не фонтан-переплетение нагих тел «Источник жизни», установленный на загребской площади, не чувственный «Отдых» из ателье на загребской же Венецианской улице, даже не прославляющая лесбийскую любовь великолепная композиция «Две вдовы» (безутешные подруги погибших на Косовом поле героев, с головами мадонн и телами грешниц), но как раз тот самый скульптурный эскиз кисти глаголического епископа-просветителя. Экая динамика, экий призыв, какая страсть!
С ногой и рукой Гргура Нинского меня познакомил сплитский театральный критик Анатолий Кудрявцев, сын белого офицера, изгнанного русской Гражданской войной из Москвы в королевскую Югославию. Anatoliy Kudrjavcev, дородный господин благородных манер, несмотря на жару, облаченный в плотную светлую тройку, в мягкой старомодной шляпе, на языке своего отца говорил плохо и без удовольствия, хотя и занимался переводами на сербский и хорватский Лермонтова и Чехова. Но то, что Кудрявцев говорил, было крайне интересно: он вольно рассуждал о значении Адриатики в жизни Сплита, о связях моря и суши вообще, а также об особенностях бытования человека на кромке необозримого динамического пространства, которое невозможно понять, а возможно лишь принять. Через несколько лет после нашей встречи Кудрявцев (теперь уже, увы, покойный) выпустил занятную книжку под названием «В поисках потерянного Средиземноморья», в которой эта его концепция понимания текучей воды как вечной возможности перемен, с изложением основ философии жизни как непрестанного ожидания у моря погоды, получила завершенный облик.
Мы с Анатолием Александровичем, помню, сидели на террасе прибрежного кафе и слушали, как шлепает в гранитный парапет набережной ленивая волна. Пальмы шептали нам что-то свое, но кроме плеска воды и шума ветра присутствовал еще один звук. Беседа текла под жужжание электрогенератора: в Сплите военной поры не хватало электричества, и каждый бизнес, чтобы не схлопнуться, сам себе грел воду и морозил холодильники. Над набережной Хорватского национального возрождения словно вился незримо тихий пчелиный рой.
Загреб. Скульптура Ивана Мештровича «Фонтан жизни». Фото Ольги Баженовой
Когда Анатоль Кудрявцев был молод, он — это я вычитал в биографии старика — на весь город слыл знатоком и энтузиастом игры в пицигин, которую не практикуют больше нигде в мире, только на сплитском пляже Бачвице: пятеро участников любого пола, возраста и телосложения перебрасывают друг другу мячик размером с теннисный, стоя на песчаном мелководье. В зрелые годы Кудрявцев стал теоретиком пицигина, включив эту игру в сводный список способов взаимодействия человека и Мирового океана — наряду с морскими битвами, добычей нефти на шельфе и подводной охотой. Мне тоже доводилось баловаться пицигином в Бачвице. Это веселое, всесторонне развивающее, подвижное проведение досуга на свежем воздухе — можно и посмеяться, и нырнуть, и симпатию девушки привлечь. Судя по тому, что творилось на пляже, сплитские, кажется, в основном за этим к морю и ходят — чтобы играть в пицигин.
Загреб. Иван Мештрович. Эскиз кисти Гргура Нинского. Фото Ольги Баженовой
Восхитительный Дубровник я впервые в жизни увидел в полевой бинокль, одолженный у бойца хорватской военной полиции. Эта приморская панорама — остров Локрум, полукруглый форт Святого Ивана посередке старых стен — открылась мне весной 1994-го, когда бои на крайнем юге Далмации уже закончились, но война в бывшей Югославии еще как продолжалась. Вокруг благоухали магнолии. Мы стояли на террасе гостиничного комплекса Belvedere в районе Плоче-Иза-Града, в полутора километрах от крепости, выдержавшей за века своей каменной службы не одну осаду, и военполицейский прямо на местности показывал мне, откуда именно вылетали и куда именно попадали сербско-черногорские мины и снаряды. Они попадали в палаццо Спонца (XVI век), в храмы Святого Игнатия и Святого Власия (XVIII век), в звонницу францисканского монастыря (XIV век), и все эти точные выстрелы иначе как военные преступления квалифицировать нельзя.
В той или иной степени поврежденными оказались две трети зданий исторического центра Дубровника. В Плоче-Иза-Града располагались хорватские боевые позиции, корпуса отеля раскурочила вражеская артиллерия. В октябре 1991-го местные сербы провозгласили, как бы трагикомично это ни звучало, новую Дубровницкую республику, но никто ее всерьез не воспринял. Осада города продолжалась полгода и стала одним из самых тягостных эпизодов балканского военного конфликта. Ожесточенные бои развернулись за мощный форт Imperial, построенный по велению Бонапарта на высокой горе Срж прямо над древней крепостью. Теперь несколько десятков хорватских бойцов защищали цитадель от неприятельского натиска. Это была героическая битва, но музей Отечественной войны, размещенный в казематах, мало кого интересует: из 1,5 миллиона туристов, ежегодно посещающих Дубровник, сюда приходят едва 50 тысяч. Да и понятно почему: корейцы и испанцы посещают Адриатику не за этим.
После того как под международным давлением части Югославской народной армии, отряды черногорской территориальной обороны и всяческие полувоенные банды были отведены из зоны боев, хорваты вытеснили неприятеля из своей республики. Belveder четверть века простоял в запустении, пока его не приобрел русский олигарх с понятной целью превратить в самый роскошный на всей ривьере гостиничный комплекс. Изучая послевоенный Дубровник, я на закате сентябрьского солнца отправился было к возрожденному отелю посмотреть, как работают кремлевские деньги, но до пункта назначения не добрался: отвлекло объявление о концерте More Love to Tchaikovsky в Музее современного искусства. Джазовые импровизации произведений знаменитого соотечественника (скрипка, клавиши, барабаны и вокалистка с осанкой Цвиеты Зузорич), в том числе на стихи Булата Окуджавы, несколько меня озадачили, но тем не менее заставили пересмотреть планы на вечер.
Марко Мурат. «Цвиета Зузорич». 1929 год
ДЕТИ БАЛКАН
ЦВИЕТА ЗУЗОРИЧ
лик красоты и ролевая модель
На италийский манер эту рыжеволосую дубровчанку звали Флорой Зузори. Одна из пяти дочерей богатого славянского купца, она родилась в 1552 году в Рагузе, но выросла и получила гуманитарное, как сказали бы сегодня, образование строго напротив Далмации, на западном берегу Адриатики. С юных лет Цвиета составляла лирические стихи по-хорватски и по-итальянски; кое-что якобы переводилось на французский. В 1570 году избранником Зузорич по воле ее отца стал торговец текстилем Бартоломео Пешони, вскоре назначенный флорентийским консулом в Рагузу. В Далмации они провели 13 вполне счастливых лет, пока деловые неудачи Пешони не заставили супругов вернуться в Анкону. В своем поместье под Рагузой Цвиета-Флора вела литературный салон «Академия согласия», в котором собирались писатели, поэты, художники, музыканты. Обаяние, ум, талант и, главное, красота Зузорич воспеты в многочисленных сонетах, мадригалах и балладах; в ее салоне, узнал я, родилось поэтическое направление, получившее известность как «стыдливая любовная лирика». Самый знаменитый из писавших о красавице и умнице из Рагузы — автор рыцарской поэмы «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо. Он посвятил Зузорич пять стихотворений, хотя сам ни разу ее не видел.
Во времена весны твоей могла Ты с розою пунцовою сравниться, Что грудь подставить ветерку стыдится И робкой ласке первого тепла[52].Цвиета пережила всех своих воздыхателей, скончавшись в возрасте 96 лет. Однако собственного представления о внешности Зузорич нам, как и поэту Тассо, не составить: в последние годы установлено, что на двух «ее» портретах кисти живописцев XVII века запечатлены другие знатные красотки. У историков литературы есть сомнения даже в том, что Зузорич сочиняла стихи и эпиграммы, по крайней мере до нас ни одна из написанных ею строф не дошла. Зато миф о Зузорич, ее жизнь и судьба служат отличной ролевой моделью для миллионов женщин традиционных взглядов. В межвоенном Белграде учредили Общество друзей искусств имени Цвиеты Зузорич. В парке Калемегдан в 1929 году построили художественный павильон ее имени, и я не раз бывал там на разных интересных выставках.
Осенью 1991-го славянские братья не впервые атаковали Дубровник. В 1806 году, когда на вершине Сржа еще не существовало форта Imperial, Рагузу блокировала и обстреливала эскадра под командованием вице-адмирала Дмитрия Сенявина, проводившая по хотению русского императора так называемую Адриатическую (или вторую Архипелагскую) экспедицию. В Хорватии эту кампанию считают русской и черногорской агрессией: с суши царский Балтфлот поддерживали 3 тысячи бойцов владыки Петра I Петровича-Негоша. Адмирал действовал в основном против Бонапарта, и местное население в особый расчет не принималось — ну жители и жители, однако и Дубровник, и Которский залив пережили несколько драматических моментов. Сенявин заключил было соглашение с отсчитывавшей свои последние годы Рагузской республикой, но наполеоновская дивизия оказалась расторопнее, напуганный город покорился почти без боя. По другой версии событий, Дубровник предпочел сдаться французам, чтобы не доставаться более жестоким единокровным захватчикам. Петербургская эскадра заняла несколько городков в Которском заливе, затем, умело маневрируя, выбила наполеоновские гарнизоны с трех или четырех далматинских островов. На этом боевые действия на Адриатике, по сути, и прекратились: разразилась очередная русско-турецкая война, и корабли Сенявина отправились топить османов.
В современной хорватской историографии Дубровнику отводятся место и роль прекрасного края вечного Возрождения. Именно этот край свободного творчества, как уточняется, удерживал хорватский народ на уровне самых высоких европейских стандартов. Это правда, но только с учетом того, что Далмация вращалась в круге итальянской культуры и никаких собственно хорватских политических или государственных структур на протяжении нескольких столетий здесь не существовало. В управленческий класс, в просвещенные слои общества и Рагузской, и городов Венецианской республики рекрутировались славяне — подобно тому, как римскими нобилями становились галлы, франки, германцы, фракийцы, армяне, как до титула паши мог дослужиться и албанец, и серб, и грузин, но все они в обязательном порядке получали латинское образование, росли в италийской среде, даже если творили и разговаривали в быту на родном языке. Правда и в том, что написанные этими незаурядными людьми произведения в XIX и XX веках способствовали формированию современной хорватской нации, да и сербской, видимо, отчасти тоже. Кстати, именно Рагуза/Дубровник австрийской поры — один из центров иллиризма: позиции панславянских интеллектуалов здесь оказались особенно устойчивыми.
Международное литературоведение держится регионального принципа, есть научный термин «далматинско-дубровницкое возрождение», связанный с традициями католического антиреформаторства, причем государственная и этническая принадлежность представителей этой культурной школы не педалируется. Часто, впрочем, случается так, что судьбу кумиров прошлого решают современные толкователи истории, и многое зависит от того, поддаются ли они лозунгам политического момента. За примером отправляю к фигуре Николая Гоголя и российско-украинскому спору о том, чьим именно писателем был автор «Ревизора» и «Миргорода».
Из Рагузы родом священник-драматург XVI века Марин Држич (Марино Дарса), его числят основоположником хорватской комедиографии. Земляк Држича — яркий поэт, переводчик и тоже драматург Джунье Палмотич (Юниус Пальмотта). В Рагузе вырос, творил и умер двоюродный дядя Палмотича — видный стихотворец эпохи барокко Иван Гундулич (Джованни Гондоло), автор пасторальной драмы «Дубравка» и эпической поэмы «Осман», отпрыск древней далматинской фамилии. В Белграде указывают, что Гундулич происходил из сербской семьи, а потому считают его своим литературным классиком. Но для хорватов этот поэт, пользовавшийся штокавшим наречием, — безраздельно родная, культовая, почти рок-н-ролльная фигура, вроде Моцарта для австрийцев. Гундулича в Хорватии знает любой, поскольку его портрет красуется на купюре номиналом 50 кун, а его именем называют не только улицы и площади, но иногда даже хипстерские кафе и ночные клубы. Признаюсь: еще до того, как освоить в штокавском оригинале эпос «Осман» о Хотинской битве между армией Речи Посполитой и войском султана, я дразнил Гундуличем своего сына-школьника — в те дни, когда мальчугана одолевала сопливая простуда.
От могучих вздохов ратей Колыхнулись облака; Рать на рать пошла; нагрянул Тут седок на седока. Блещут сабли, свищут стрелы, Кони ржут, трубит труба; Всюду ратное движенье, Кровь, удары и борьба[53]…В загребской Галерее современного искусства выставлено полотно главного хорватского символиста и импрессиониста Влахо Буковаца (он же Бьяджо Фаджони, забавная смена фамилии: итал. faggio — «буква»), пламенного проповедника национального духа в изобразительном искусстве, — «Грезы Гундулича». Второе название этого полотна — «Гундулич замышляет поэму „Осман“»: погруженный в творческие думы кудрявый красавец-пиит, как это и описано в девятой песне его исторического эпоса, полулежит на каменистом берегу реки, окруженный прелестницами, а из тумана уже проступают силуэты азиатских всадников. Буковац, родившийся в 1855 году в полуитальянской семье под Рагузой, прошел художественную и жизненную школу Монмартра, знал толк в женской красоте (не только по моему мнению, лучшее из написанного им — чувственное ню под названием «Цветок»), но на родине прославился не столько эротическими, сколько патриотическими работами. Его кисти принадлежат масштабная композиция «Развитие хорватской культуры» в читальном зале Хорватского государственного архива и многофигурная роспись парадного театрального занавеса «Хорватское возрождение». В столичном Национальном театре мне доводилось видеть, как опускается и поднимается эта пестро-торжественная, словно персидский ковер, одежда сцены, восславляющая объединение Загреба и Дубровника. Занятно, что в начале XX века художник Буковац увлекся пуантилизмом и уехал преподавать это направление живописи на другой конец великой австро-венгерской страны, в Прагу. Он пережил крушение империи, но на родину так и не вернулся.
Георг Ковальчук. «Рагуза. 1667». Литография
Республикой Рагуза, сословные перегородки в которой были прочнее крепостных стен, управляли немногие избранные — не только в прямом смысле слова, но и в переносном. В Большой и Малый советы регулярно попадали представители нескольких дюжин самых знатных, самых богатых семей, как правило считавших себя далматинскими итальянцами. Исследование их генеалогии — отдельная дисциплина. Однажды я провел прекрасный вечер за изучением родословных и гербов Басильевичей, Бобальевичей, Бундичей, Джурджевичей, Гетальдичей, Кабужичей, Соркочевичей, Златаричей. Все эти фамилии, понятное дело, дублировались на итальянский, или, наоборот, их славянский вариант был калькой с латыни. Князья (высшая представительская должность в Рагузе) менялись часто, каждый месяц, без права потом занимать этот пост в течение двух лет, так что какая-то антикоррупционная ротация существовала, но десятилетиями ротировались одни и те же, пусть и из широкого для того времени круга.
Гундуличи, например, впервые приняли участие в управлении городом в первые десятилетия XI века и завершили эту свою миссию только в 1800 году, когда с кончиной 87-летнего Сигизмондо Доменико, последнего прямого представителя славного рода, пресеклась его мужская линия. На отдельных этапах долгого политического забега Гундуличи поставили Рагузе десятки членов Большого совета. С 1440 по 1640 год таковых насчитывается 43 человека, или 1,95 % общего состава городского органа законодательной власти, более подробную статистику опускаю. Такие данные я почерпнул, изучая итальянские источники, ссылающиеся, в частности, на авторитетный справочник по генеалогии европейской аристократии, Готский альманах. Понятно, что в этих источниках фамилия семейства обозначена как Гондола. Поучительным в современном контексте выглядит то очевидное обстоятельство, что Республика Рагуза — отсутствием социальных лифтов и фактической несменяемостью власти — губила сама себя едва ли не основательнее, чем разрушали ее притязания чужих дожей и султанов, залпы канониров Сенявина или гренадеров Наполеона. К началу позапрошлого столетия такие устроенные по феодальному принципу государства отживали свое, а потому исчезли с политической карты мира.
Внутри двухкилометровой рамки крепостных стен Дубровника я насчитал 17 статуй его небесного покровителя, святого Власия; часто он изображен с макетом города в руках. Одна скульптура отличается от остальных — святой высоко поднял свой тяжелый груз, почти заслонив лицо. Легенда гласит: когда независимость Рагузы была упразднена, городской мудрец поглядел на Власия и воскликнул: «Святой закрылся от стыда, потому что больше ему нечего здесь защищать!» Это, конечно, сильное преувеличение, хотя горечь мудреца можно понять: крепостные ворота не открывались завоевателям с XIII века. К тому времени заболоченный канал, согласно популярной исторической версии, некогда разделявший Рагузиум и Дубраву, как раз засыпали, потому что взаимные скептицизм и недоверие латинян и славян уступили место общим интересам. Еще через 300 лет бывший канал, ставший центральной улицей Страдун, удосужились замостить. У дворца Спонца поставили скульптуру рыцаря Орландо (он же Роланд), твердая правая рука которого дала название местной мере длины, дубровницкому локтю, — 51,2 сантиметра. Нынешний облик городского центра сформировался после землетрясения 1667 года. Тогда большинство каменных зданий было разрушено, а потом восстановлено, как утверждают специалисты, в формате облегченного barocco. Барокко в переводе с итальянского — склонный к излишеству. Гуляя по Дубровнику, понимаешь: если излишество правильно устранить, получается совершенство.
Иван Гундулич. Рисунок, 1861 год
В 1950 году в Дубровнике состоялась 9-я Шахматная олимпиада. По наказу коммунистической партии победу одержала сборная Югославии, на первой доске отлично играл Светозар Глигорич, имя которого мне знакомо еще по занятиям в школьном шахматном кружке. Соревнования вызвали ажиотаж, а на матче югославов с американцами (окончился вничью) три зала Галереи искусств не смогли вместить всех пожелавших стать зрителями. Но советскому гроссмейстеру шах и мат Глигорич все-таки не поставил: турнир выпал на время политического конфликта между Тито и Сталиным, поэтому страны Восточного блока свои команды не прислали. В Дубровнике, понятное дело, сошли от шахматного счастья с ума и отыскали в летописях нужную информацию: первую партию в Республике Рагуза сыграли в далеком 1422 году.
По просьбе ФИДЕ сербский скульптор Петар Почек изготовил к домашней олимпиаде раритетный игровой сет: 50 клетчатых досок и 50 двойных наборов фигур повышенной устойчивости, без религиозной символики, легких, но не выскальзывающих из пальцев, верных пропорций и чистых линий, из клена и ореха естественных цветов, с подкладками изумрудного войлока. Любой из этих комплектов, которые теперь, по уверениям знатоков, невозможно отыскать, на аукционном рынке оценивался бы в миллионы долларов. Роберт Фишер, едва ли не лучший гроссмейстер минувшего века, считал «дубровницкие шахматы» залогом побед и прятал доску вместе с фигурами в специальном сейфе.
«Дубровник — Рагуза». Открытка. 1914 год
Деревянное творчество Почека положило начало целой линейке шахматного дизайна. Югославский мастер, как считают эксперты, грамотно использовал традиции стаунтона[54], вдохнув в произведения своего искусства, от пешки до короля, не только неведомые нам национальные мотивы, но и еще нечто неуловимое, вероятнее всего, то самое, что превращает безделушку в сокровище. Но мне кажется, что эта спортивно-политическая история не случайно связана с Дубровником, крепостные башни которого смахивают на шахматные фигуры, башня Минчета, например, неотличима от громадной ладьи. Юг Далмации вообще будто отелотворяет подробную романтическую вещественность в противовес тем незримым силам, которые только и приводят в движение маховик истории. Гениальный набоковский Лужин, напомню, с удовольствием играл шахматные партии вслепую, поскольку отсутствие зримых, осязаемых фигур позволяло ему лучше ощущать внутреннюю природу интеллектуальной борьбы: «…и над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу». Такого электричества заснувший во времени Дубровник, увы, лишен.
Просто предположить: скульптора Почека вдохновила на создание деревянного шедевра не стальная воля товарища Тито, а красота древних стен и, скажем, прозрачно-голубые волны Адриатики, но такое допущение отдает пошлостью. Как, впрочем, и любые потуги описать прелести Дубровника, о которых написано уже столько банального, что любые новые потуги развить тему обречены на провал. Подобных попыток в избытке: хорваты с выгодой используют достоинства своей малой Тосканы, цены там ничуть не ниже, чем во Флоренции или в Пизе, а сервис ничуть не лучше. Четверть века назад, когда я побывал в Дубровнике впервые, все подряд здесь жаловались не недостаток туристов, а теперь складывается стойкое ощущение, что туристов значительно больше, чем нужно.
Дубровник в разгар сезона выглядит как столица Семи королевств из саги Джорджа Р. Р. Мартина, только вместо статистов, нанятых для киносъемки средневекового фэнтези, улицы переполнены несметными полчищами отпускников. Древний город замкнут в поясе двухкилометровых крепостных стен, словно орех в скорлупе, и его ежедневно по нескольку раз берут безжалостным штурмом армии белых, желтых, темных ходоков. Куда больше, чем прошлое Рагузской республики, их интересуют топография Королевской гавани и хронология сериала «Игра престолов», фрагменты четырех или пяти сезонов которого снимались в Дубровнике, чем и обеспечили ему новую вечную популярность. Сувенирные лавки завалены майками с принтом «Зима близко», сумками из кожзама с надписью «Север помнит», куклами-барби с ликом Дейнерис Таргариен, у витрин несут дозор восковые фигуры Джона Сноу. Глобальная попса убивает город, и все усилия по его спасению, кажется, обречены на провал.
Благородный Дубровник, жемчужина Адриатики, сдался на милость обожателей «Песни льда и пламени». Туристическая саранча выгружается на причалы с многоэтажных круизных теплоходов, чтобы за шесть часов пребывания в городе слопать пасту с морепродуктами, выпить кружку пива и, главное, сфотографироваться на том самом месте, где обнаженную и опозоренную Серсею Ланнистер водили по площади на потребу черни. Праздник довершает прогулка по крепостным стенам под палящим солнцем, добровольная пытка стоимостью 20 евро.
Но вы-то не позволяйте себя одурачить, вы помните: к таким, как Дубровник, городам — если только не хочешь показаться глупым и смешным, — нужно относиться с некоторым холодным отчужденьем.
И мое отчужденье назовем наблюденье.
10 Slovenija Прохладные славяне
Сохрани словенок, боже, Пусть цветут они в любви! Не на розу ли похожи Наши сестры по крови? Пусть родят нам орлят, Тех, что недругов сразят![55] Франце Прешерн, «Здравица» (1844)За четверть века путешествий по Балканам я побывал в Словении не меньше десяти раз. Неизменно приезжал в Любляну, Марибор, Копер или Крань с удовольствием, но мне никогда не хотелось остаться в этой стране надолго. Очень ухоженный, весьма живописный край, идеальное место для того, чтобы встретить и провести старость: местами похоже на Австрию, местами на Италию, но не Австрия и не Италия, и уж точно, по внутреннему ощущению, не Балканы. Словенцы по своим языку и крови — южные славяне, но по характеру и сути самые что ни на есть западные европейцы; получается, самые западные южные славяне. Прохладные. Они увереннее всех других прорвались в Старую Европу; никто на европейском востоке не живет лучше Словении, и ни одна страна за бывшим железным занавесом быстрее Словении не развивается.
Дело, конечно, не только и не столько в экономических показателях. Помню одно из первых своих впечатлений от Словении, где все такое маленькое и такое аккуратненькое, — слегка наивное удивление, вызванное подробностями культуры небольшого народа. В люблянском книжном магазине обнаружился полный набор переводов произведений мировой классики на словенский — оказывается, у них есть все то же, что и в Москве, подумал я. При этом словенский, на котором говорят всего-то 2 миллиона человек, — один из самых неоднородных языков мира, чуть ли не четыре десятка диалектов. Даже такая малая культура, как словенская, может быть самодостаточной.
Самодостаточна и вся эта выглядящая вполне счастливой страна. Словения собрала джентльменский географический набор счастья: берег теплого моря, высокие скалистые горы, глубокие подземные пещеры, густые леса, чистые озера, привольные луга, уютные города, милые деревни, цивилизованное соседство с Австрией и Италией — и все это на территории вдвое меньшей, чем Московская область; от одной дальней границы до другой три или четыре часа автомобильной поездки. Мой остоумный польский коллега-путешественник назвал словенцев «предателями славянского бардака».
Но главное счастье Словении — в успешных поисках ответа на проклятый балканский вопрос: как немногочисленному народу, тысячу лет томившемуся под гнетом чужих властителей, а потом получившему в довесок еще и полвека коммунистической диктатуры, сохранить свои язык, самосознание, фольклор, обычаи, историческую память и, отвоевав в подходящий момент самостоятельность («Словения смогла хирургически точно отрезать себя от Югославии», — одобрительно сказал один западный историк), всего за пару десятилетий — ничтожный ведь срок! — развернуть полноформатное государство? При этом словенцы и их предки веками были крестьянской народностью, а словенская культура развивалась вопреки постоянному германизаторскому натиску.
Винценс Раймонд Грюнер. «Праздник свободы в Лайбахе». Литография. 1815 год. Британский музей
Характерно, что военно-морские силы вступившей в 2004 году в НАТО Республики Словения состоят из двух патрульных катеров. Командует этим флотом капитан третьего ранга. То есть вовсе не в силе в данном случае кроется историческая правда. А в чем же она? Причин словенского успеха множество, есть почти метафизические, вроде упований на бессмертную народную душу, но хватает и рациональных. Восточноальпийские славяне, оказавшиеся волей логики переселения народов ближе других племен своей языковой группы к Риму, приняли крещение уже в VII–VIII веках и с той поры не выходили из-под плотной опеки церквей западных христианских обрядов. Нашествия азиатов не затронули тихий край между рекой Дравой и северной Адриатикой, он остался в тылу и разрушившей Центральную Европу Тридцатилетней войны 1618–1648 годов. Орды хана Батыя в 1241-м не дошли до границ словенских земель, а набеги османских полчищ, ставшие во второй половине XV столетия почти ежегодными, причиняли населенным словенцами землям значительный вред, но не завершились оккупацией.
Влияние Реформации было здесь непродолжительным, потому что очень уж тяжело давил католический пресс набожных Габсбургов, но тем не менее оказалось значимым. В среде лютеранских священников во второй половине XVI столетия зародился словенский национальный порыв; как раз в ту пору проповедник Юрий Далматинец перевел на словенский язык Библию, а ученик Эразма Роттердамского богослов Примож Трубар впервые употребил вместо термина «восточноальпийские славяне» понятие «словенцы». Окончательно это самоназвание установилось в XIX веке скорее как политический фактор, для отсыла к славянской традиции[56].
Франц Курц. «Франце Прешерн». 1850 год
ДЕТИ БАЛКАН
ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН
солнце поэзии
Франце Ксаверий Прешерн (1800–1849) — вероятно, самое блестящее литературное имя юго-востока Европы XIX века, современник и достойный творческий соперник Байрона, Пушкина и Мицкевича. Вряд ли этот словенский поэт чувствовал себя даже в малой степени связанным с Балканами: он родился и провел всю жизнь в австрийских императорских провинциях и работал в русле общеевропейской литературной традиции, соотнося свои стихи с творчеством Петрарки, Шекспира и Гёте, с философией Гегеля и братьев Шлегель. Выходец из многодетной крестьянской семьи, Прешерн благодаря поддержке дяди-священника получил юридическое образование, а потом и докторскую степень. Карьера юриста, однако, не сложилась. Как полагают одни биографы, это случилось по вине властей, преследовавших Прешерна за неблагонадежность (он считал Габсбургов поработителями словенцев), другие ищут причины в сложном характере поэта и его алкоголизме. Литературное наследие Прешерна не слишком обширно, составляет один толстый том, главное в нем — циклы романтических стихотворений и поэма «Крещение при Савице». Вершиной творчества Прешерна считается «Венок сонетов», послуживший примером для русских стихотворцев (и Волошина, и Брюсова), поскольку в отечественной литературе такой поэтической формы до начала XX столетия не существовало. Четырнадцать силлаботонических итальянских сонетов созданного в 1834 году поэтического построения сплетаются друг с другом: каждый последующий начинается со строки, которой оканчивается предыдущий; последний, пятнадцатый, целиком состоит из этих повторяющихся строк. Патриотический стих Прешерна 1844 года «Здравица» (запрещенный австрийской цензурой) дал текст современному гимну Словении. Прешерн в равной степени мастерски сочинял на немецком и на словенском, переводя на оба эти языка поэтическую классику своей эпохи. Эксперты так характеризуют смысл деятельности Прешерна: он задал национальный литературный канон, доказав, что словенский — «язык поэзии самого высокого уровня, выразитель мыслей интеллектуально развитого человека, носитель и основа самых разнообразных жанров» (Майя Рыжова). Это правда: Прешерн в совершенстве владел различными литературными формами, виртуозно использовал традиции народной поэзии. Главные мотивы этой мрачной лирики (Прешерн дважды пытался наложить на себя руки) характерны для романтизма — несчастная любовь, страдающая родина, несовершенство мира, одиночество пиита. «В целом жизнь Прешерна была несчастливой», — подвел итог один из биографов. Музой и мукой поэта стала дочь богатого торговца Юлия Примиц, которой посвящены самые пылкие и самые горькие прешерновские строфы. Прешерн был на 15 лет старше своей любимой и не добился от нее взаимности: Юлия «даже отдаленно не способна была оценить поднесенный ей поэтом дар», предпочтя пьющему стихотворцу преуспевающего адвоката. Мечтавший о высоких отношениях поэт удовольствовался земной связью с горничной Аной Еловшек, ставшей матерью троих его внебрачных детей. Вместе с филологом Матией Чопом Прешерн стоял у истоков словенского романтического национализма, редактировал первый словенский литературный альманах Kranjska čbelica («Крайнская пчёлка»). Скончался поэт в 1849 году от цирроза печени. В последние, кризисные годы жизни рядом с Прешерном не оказалось друга, который, подобно пушкинскому Жуковскому, сохранил бы рукописи гения. Архив Прешерна сожгли. Настоящее признание к нему пришло через десятилетия после смерти, но ныне Прешерн — безусловное солнце словенской поэзии. Его имя носит площадь в Любляне (бывшая Девы Марии); на площади — памятник поэту, одна из фигур которого, полуобнаженная муза, в свое время вызвала ропот общественности; день смерти Прешерна, 8 февраля, отмечается как праздник словенской культуры. О нем, важном факторе национальной идентификации, написаны километры исследований. Но никто не сказал о подвиге Прешерна во имя народа лучше, чем в седьмом из составивших венок пятнадцати сонетов сказано им самим:
Гнетут громады замка крепостного, Как при Орфее, в давние те годы Пленившего фракийские народы В горах Родопских Гема снегового. Послало небо б нам певца такого! Опять Орфей повел бы хороводы, Согрел бы Крайну песнями свободы Словенцев всех из племени любого[57].Конечно, словенцы тоже боролись за самосохранение, и их борьба была совсем непростой. Но все же история этого народа выглядит, если уж сравнивать, далеко не самой сложной и уж совсем не такой жестокой, как у сербов или болгар. Словенский писатель Эдвард Коцбек в своих парижских заметках середины XX столетия самокритично писал: «В нашей истории напрочь отсутствуют всякие великие страсти, скудость ее не позволяет говорить о важной миссии. Мы не имеем возможности опираться ни на оригинальное вероисповедание, ни на особый темперамент. Специфика нашей страны — скорее выпуклость, нежели вогнутость, она лишена реального центра тяжести, который обозначал бы центр в смысле как географическом, так и этическом». Кровавая заря взошла над Словенией только век назад, когда мало кому в Европе недоставало беды. Может быть, поэтому изучение книг о словенском прошлом не самое захватывающее чтение: в этой седой древности мало парадоксов, нет ни надрыва, ни пафоса, ни страсти. Словенский путь на вершину самого высокого пика Юлийских Альп, Триглава, кажется выверенным, неторопливым и рациональным. По общеевропейским меркам в буквальном смысле слова еще и ранним: эта вершина была взята в 1778 году, за восемь лет до покорения Монблана и за полвека до покорения Эльбруса (греки, напомню, «официально» поднялись на Олимп только в XX столетии). Известно, что в волшебном саду на склоне Триглава в стародавние времена обитал белый горный козел, охранявший от злых людей несметные сокровища. Златорога застрелил жадный охотник, но из пролитой крови вырос чудесный цветок и вернул козлу жизнь. Негодяй жестоко поплатился за содеянное, а Златорог разрушил свой сад и исчез. Сокровищ тоже никто не видел.
Изображение козла стало фирменным стилем крупнейшей словенской пивоваренной компании Laško. Вершина Триглав тоже символ — она и в песнях, и на гербе республики, но символ поважнее: национального духа, словенской государственности, еще, пожалуй, и того, что словенцы идут в ногу с Европой. Считается, что каждый гражданин республики хотя бы раз в жизни должен подняться на Триглав. Я провел посильный опрос, чтобы выяснить: этот патриотический норматив выполнили пока еще не все.
Триглав. Открытка. 1909 год
Робкие признаки промышленной революции замечены на территории нынешней Словении уже в конце XV века, когда наемные рабочие (первые пролетарии, сказал бы Карл Маркс) приступили к добыче альпийских руд на копях Идрии. Ртутные прииски в этом находившемся под покровительством святого Акакия «городе живого серебра» оказались едва ли не крупнейшими в мире. Пока мужчины травились в шахтах ядовитыми парами, женщины Идрии плели на коклюшках белоснежные кружева тоскливых узоров. За 500 лет добычи здесь выкопали 700 километров штолен, из земли извлекли более 100 тысяч тонн жидкого тяжелого металла. Параллельно со ртутным, оловянным, железным производствами окрест развивались мануфактуры, постепенно превращавшиеся в бизнесы, пусть с немецким и итальянским капиталом. Торговля процветала; ее вели через недалекие порты Триест и Фиуме, да и вообще Крайна и Каринтия — австрийские провинции, вобравшие в себя ядро словенских земель, — расположились на оживленном коммерческом перекрестке.
В 1774 году императрица Мария Терезия ввела на габсбургских территориях школьное образование, обязательное для детей от шести до 13 лет, немецкоязычное, правда, но, согласитесь, это лучше, чем вообще никакого. Четверть века спустя педагог и грамматик Валентин Водник приступил к изданию газеты на словенском языке. Lublanske Novice выходили тиражом 70 экземпляров, что свидетельствовало об ограниченном круге читателей и сложности «словенского начала», но для других земель юго-востока и такой скромный проект оставался делом будущего. Водник, видный просветитель и первый словенский поэт, приветствовал наполеоновские реформы, откликнувшись на французский политический эпизод в истории своего края стихотворением «Иллирия возрожденная». Возрождения, впрочем, в ту пору еще не случилось.
Во многом боязнь раствориться в больших европейских мирах, в мире немецком или итальянском, — сильнее представлений о южнославянской взаимности — столетие назад привела словенский политический класс к необходимости участвовать в создании совместного с сербами и хорватами государства. Консервативный политик Антон Корошец охарактеризовал политический интерес своего народа так: «Даже в плохой Югославии нам лучше, чем без Югославии». Но вскоре, посидев в кресле министра югославского правительства, Корошец язвительно заявил: «В нашем совместном государстве сербы управляют, хорваты дискутируют, а словенцы платят». Многие исследователи балканского XX века полагают, что Югославия Словенией начиналась и Словенией закончилась: баланс интересов, прежде всего сербско-хорватских, мог выстроиться только при деятельном участии и посредничестве Любляны.
Позволю себе пространную цитату из исторической энциклопедии Денниса Хупчика: «Находившиеся под управлением немецких князей с IX века, поделенные между несколькими небольшими австрийскими провинциями, входившие в орбиту германского и итальянского культурного влияния, словенцы были самым малозаметным славянским балканским народом. Некоторые словенские интеллектуалы из среды католических священников, симпатизировавшие идеям иллиризма, во время революции 1848–1849 годов сформулировали первые скромные национальные запросы — создание автономной провинции в рамках империи Габсбургов, в котором языком управления и образования был бы словенский. Эти требования не нашли значительного отклика у широких слоев населения, и после поражения революционного движения словенцы остались в относительном спокойствии, отложив свои требования до начала XX века».
Тут многое сглажено, но в главном Хупчик прав. Под «скромными национальными запросами» он имеет в виду возникший в середине позапрошлого столетия проект Объединенной Словении, разработанный священником Матией Маяром в ту пору, когда за европейскими окнами расцвела «весна народов». Особенностью национальной эмансипации в Крайне и Каринтии было еще и то обстоятельство, что, в отличие от чехов или хорватов, словенцы не могли опереться на серьезный опыт «собственного» средневекового государства. Если сравнить карты Маяра с сегодняшним политическим атласом, выясняется, что в ходе своей миролюбивой борьбы за объединение нации словенцы недосчитались по крайней мере двух городов, которые при более благоприятном для них развитии исторических событий могли бы даже стать столичными. Клагенфурт, ныне — административный центр австрийской земли Каринтия, по-словенски зовется Целовец, и в его окрестностях (там, где в стародавние времена правили князья Карантании) до сих пор проживают 15 или 20 тысяч словенцев. Эта территория отошла к съежившемуся до осьмушки габсбургских владений австрийскому государству после проведенного волей победителей Первой мировой войны плебисцита, результаты которого оспаривают словенские радикальные националисты.
В историческом закоулке Клагенфурта, на пьяцетте у двубашенного здания земельного парламента, расположился памятник народного освобождения от «сербско-хорватско-словенских оккупантов»: черный крест, мемориальные доски, античного вида колонны, символизирующие долгожданную свободу и местное миролюбие. В суматохе распада габсбургской империи армия новорожденного южнославянского королевства без большого сопротивления заняла южные области Каринтии, но пробыла здесь на постое лишь несколько месяцев. О том, в каких борениях завоевано народное счастье, прямо в зале заседаний ландтага повествует многофигурная «Фреска каринтийского плебисцита», на которой, стоит поднять голову, остановятся глаза любого депутата. Потеря Целовеца и окрестностей, как считают мои люблянские друзья, в любом случае остается довольно чувствительной темой: речь идет об утрате территорий, которые исторический миф описывает как славянскую прародину.
Клагенфурт выглядит совершенно по-австрийски и питается австрийскими мифами. На просторной Новой площади, неподалеку от монумента Марии Терезии и средневековой аптеки с вычурными резными дверями, установился девятиметровый каменный дракон, вполне страшный, с разинутой пастью, в которую легко засунешь даже голову, с крыльями и мощным витым хвостом. Это особый тип сказочных рептилий — изрыгающий ядовитую слюну линдворм, но в Каринтии отраву заменили струей воды из фонтана. Каменному дракону почти 500 лет, и удивительно мастерство скульптора, вытесавшего такую фигурищу из целиковой глыбы. Прежде чем явиться на площади, линдворм, если верить легенде, мешал славянским и германским поселенцам основать Клагенфурт-Целовец, потому-то он вечно и находится под ударом палицы полуголого каменного мужчины с усами. «Чистый немец», — предположила моя жена, но более тщательное исследование выявило, что усач на самом деле является Геркулесом, то есть и не германцем, и не славянином.
На крайнем юге небольшого словенского мира, по другую сторону от Клагенфурта, постоянным центром национального притяжения столетиями оставался Триест, важнейший для Австро-Венгрии портовый и коммерческий центр. Этот город некогда более чем на треть был славянским. В начале XX века в Триесте проживало примерно столько же словенцев, сколько в Любляне, около 50 тысяч. Город окончательно присоединили к Италии в 1954 году после семилетнего переходного бытования под формальным мандатом ООН. Триест так и остался 200-тысячным, и примерно каждый десятый его житель имеет словенские корни. А в Словении насчитывается 67 городов, из которых 16, как уточняет справочник, с населением более 10 тысяч человек. Что ж, и это немало.
Клагенфурт. «Дракон». Фото Ольги Баженовой
Минус Триест, минус Клагенфурт — и вот в словенские города номер два выдвинулся Марибор, некогда один из скромных центров габсбургской провинции Штирия, южная часть которой, за рекой Мура, после распада Австро-Венгрии, в отличие от Каринтии, досталась южнославянскому королевству. Населенный в основном немцами город, веками известный как Марбург, в самые драматические дни крушения Дунайской монархии был перехвачен словенскими отрядами. Добровольцами командовал получивший за такой подвиг генеральский чин Рудольф Майстер, бывший офицер тыловых служб императорской армии. В свободное от службы время майор, а потом генерал Майстер сочинял стихи, которые публиковал под псевдонимом Вук Славич (это дословный перевод имени Рудольф — старонем. «славный волк»), и писал маслом речные и горные пейзажи. Этот солдат и поэт, один из немногих словенских военных героев, считается создателем первой в национальной истории армии. Международную репутацию Майстера ставят под сомнение трагические январские события 1919 года, когда при разгоне ответной демонстрации (за присоединение Марбурга к Австрии) были убиты полтора десятка человек и еще полсотни получили ранения. В словенских научных книгах о «мариборском кровавом воскресенье» рассказывают сдержанно, но статус Майстера у него на родине под сомнение не ставят. В центре Марибора усатому генералу поставили памятник. Конную фигуру Майстера я заметил и у автовокзала Любляны, но вот как раз над этой скульптурой местные историки посмеиваются, поскольку основатель национальной армии был пехотинцем.
Немцев из Южной Штирии после Второй мировой войны вытеснили и выселили. Современный Марибор — центральноевропейский город не хуже прочих: собор Иоанна Крестителя, какой-никакой замок, чумная колонна, средней евросилы футбольная команда. На меня, однако, Марибор (допускаю, что необоснованно) производит депрессивное впечатление — то ли из-за кажущихся бесчисленными промпредприятий на окраинах, то ли оттого, что я почему-то неизменно попадаю сюда в осенне-зимнюю непогоду. Много лет назад по совершенно необъяснимым причинам я совершил в Мариборе нехороший поступок, за который мне и теперь стыдно перед словенским народом: в томительном ожидании рейса на Загреб стянул в забегаловке на автовокзале грошовую пепельницу с логотипом пивного завода Laško и волшебным козлом Златорогом. Эта пепельница потом кочевала со мной по разным адресам, терзая совесть, и у меня почему-то долго не хватало сил ни выбросить ее, ни отправить почтой хозяевам. В конце концов я подарил эту чертову безделушку одному пражскому мусорщику, но душу себе не облегчил. Каюсь — грешен.
Зато в Мариборе я познакомился с Леоном Штукелем, а Штукель — это человек-вечность. Трехкратный чемпион Олимпийских игр по гимнастике, свои первые медали он получил из рук самого барона Пьера де Кубертена. Дело было в 1924 году в Париже, где словенский спортсмен выиграл для команды королевства многоборье и перекладину, и я своими глазами видел его наградные дипломы — под стеклом и в рамках на стенах венского стиля квартиры в центре Марибора. Из большого спорта Штукель ушел в 1936 году, напоследок съездив в гости к Гитлеру и завоевав на Олимпиаде в Берлине бронзу на кольцах. Жовиальный 96-летний старик, Штукель словоохотливо делился воспоминаниями о своих великих победах, ворчливо сожалея о тех временах, когда «в Марбурге подавали лучший в Европе кофе-капуцинер». Этот человек помнил государя императора Франца Иосифа, он знавал генерала Майстера, а в годы Второй мировой войны был британским агентом, за что потом попал в немилость к коммунистам. На прощание Штукель приподнялся в старомодном кресле, оперся о его деревянные подлокотники и, отжавшись, легко сделал «уголок». У входной двери под высоким потолком болтались гимнастические кольца, но у меня не повернулся язык спросить, может ли олимпийский чемпион вот прямо сейчас выполнить выкрут вперед.
Леон Штукель. Фото. 1958 год. Архив словенской газеты Večer
У Юрия Трифонова есть написанный в конце 1960-х короткий рассказ «Победитель» — о неудачливом участнике Олимпиады 1900 года (тоже, кстати, парижской), французском старике, пережившем свое время.
— Он говорит, что он победитель Олимпийских игр.
— В каком виде? — спрашивает Борька.
— Во всех, — говорит Базил, выслушав ответ старика. — Когда-то он занял последнее место в беге на четыреста метров, но теперь он победитель. Все умерли, а он жив.
Выступление группы Laibach. 12 августа 2009 года. Фото: © KtD / shutterstock.com
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК РОКЕРЫ СОЗДАЛИ СЛОВЕНСКОЕ ИСКУССТВО
В 1980 году в шахтерском городе Трбовле четверо студентов факультета политических наук собрали рок-группу, которую назвали немецким именем Любляны — Laibach. Молодые музыканты работали в жанре индастриал, концептуально сочетая шумовые эффекты и исполненные мрачных пророчеств тексты с парадоксальными отсылами к образам тоталитарной культуры. Власти запретили первый же проект Laibach, формально за использование выполненных в стилистике Казимира Малевича черных крестов. Группу фактически распустили: участников Laibach призвали в армию, отправив служить в разные республики Югославии. Однако через год музыканты собрались вновь, чтобы с триумфом сыграть полуподпольные концерты в Любляне, Загребе и Белграде. Laibach быстро превратилась в беспрецедентный для мира социализма идеологический феномен: во время концертов в милитаристском духе музыканты занимались осмыслением тоталитарного (часто нацистского) китча. В сценических костюмах они использовали элементы военной формы, зажигали в зрительных залах дымовые шашки; песни, среди которых немало ремейков хитов поп-музыки и произведений мировой классики, исполняли на немецком, английском и словенском языках. Участники Laibach проводили различные творческие эксперименты, в том числе, надо полагать, и по расширению границ сознания. В конце 1982 года, не выдержав депрессии, повесился фронтмен и вокалист Laibach Томаж Хостник. Как водится, самоубийца стал легендой, а его предсмертная записка дала текст программной композиции группы Apologija Laibach. За три десятилетия Laibach (в составе группы до сих пор выступают двое ее основателей, Милан Фрас и Иван Новак) записала 25 дисков, успешно пережила все политические перемены, не теряя культового статуса в глазах миллионов поклонников из разных стран — и склонных к вечной рефлексии интеллектуалов, и парней с городских окраин, и злобной праворадикальной молодежи. Laibach работает на широком культурном поле. Композиции альбома 2004 года Volk (нем. «народ», слов. «волк»), например, вдохновлены гимнами разных стран мира (от США и России до Югославии и Ватикана), а альбом 2008-го представляет собой переработку в стиле индастриал сочинения Иоганна Себастьяна Баха «Искусство фуги». В 1984 году при решающем участии Laibach возникло эстетическое движение Neue Slowenische Kunst («Новое словенское искусство»). К NSK присоединились и другие неформальные художественные коллективы, в частности «Студия нового коллективизма» и «Отделение чистой и прикладной философии». В 1991 году движение NSK преобразовало себя в виртуальное государство с паспортами, флагом и гимном. Принципами NSK объявлены коллективный абсолютизм, имманентно-трансцендентный дух и универсальное искусство. Художественные жесты NSK первых лет существования движения вызывали живой интерес и громкие скандалы. Так случилось, скажем, в 1987 году, когда плакат по мотивам работы гитлеровского художника Рихарда Кляйна (изображения флага нацистской Германии и арийского орла были заменены флагом СФРЮ и голубкой Пикассо) победил на конкурсе в честь Дня югославской молодежи. Провокационно — учитывая непростую связь германской и словенских культур и историю немецко-югославских отношений — звучали и немецкоязычные тексты Laibach. После распада социалистической системы границы возможного в искусстве расширились, представления о политкорректности изменились, но Фрас и Новак, а в последнее десятилетие еще и клавишница и вокалистка Мина Шпилер по-прежнему рекрутируют молодых поклонников в граждане своего государства. Меня в юности тоже очаровывали мистификации группы Laibach (в СССР она была известна немногим), потом я пару раз побывал на ее концертах в Москве и Загребе. Как-то мне довелось задать интересовавшие меня вопросы Ивану Новаку. Идеолог Laibach оказался приятным разговорчивым парнем, изъяснявшимся на языке философского плаката.
Это, конечно, не история словенского гимнаста, потому что Леон Штукель сначала выигрывал у всех соперников на гимнастическом помосте, а потом принялся побеждать собственный возраст. Через несколько месяцев после нашей встречи Штукель отправился в качестве почетного гостя Олимпийских игр в Атланту, чтобы под рев переполненных трибун бодро выйти на поле стадиона и поприветствовать восторженную публику.
Он скончался в 1999 году, за четыре дня до своего 101-летия. Я уверен, что Штукель умер, как умирают все счастливые люди, во сне.
Физическая география обязана Словении понятием «карст». Плато Карст (в справочниках его чаще обозначают как Крас) к югу от долины реки Випавы, в которой выращивают специальный кислый виноград сортов Зелен и Пинела и делают потом из него особо терпкое вино, сложено из карбонатных горных пород, а их легко растворяет вода. Поэтому здесь полно диковинных геоморфических явлений: карры и провалы, воронки и котловины, впадины и лунки, каналы и шахты, колодцы и полости. Поверхностный сток с плато практически отсутствует, зато имеется сложная система подземных течений: например, река с прекрасным словенским названием Река, пропадая внутри горы неподалеку от деревни Шкоцян, выныривает на поверхность через 35 километров итальянкой по имени Тимаво, чтобы вскоре излиться в Адриатическое море.
Вода намыла в каменном животе плато Карст многочисленные пещеры, целые системы пещер. Самая известная из них называется Постойнска-Яма, и это едва ли не главная, давно освоенная природная достопримечательность Словении. Одним из первых любознательных посетителей Постойны стал наследник австрийского престола и будущий император Фердинанд, побывавший в пещере вскоре после того, как весной 1818 года местный житель Лука Чеч обнаружил в глубине известнякового грота глубокий лаз, расчищенный потом для более или менее удобного доступа.
Постойнский лабиринт соединен с другими подземными каскадами, вымытыми за миллионы лет рекой Пивкой. Пивка никогда не прекращает медленное дело: мгновение за мгновением, век за веком каждой своей каплей точит, точит, точит камни внутри плато. Иногда эта река с жидким названием меняет русло, и на месте водного потока остаются пустоты, полости, пазухи. По одной из версий, когда-то Пивка впадала в праисторическое Паннонское море. Это мелкое море 600 тысяч лет назад исчезло, теперь «посередине суши» находят окаменевших морских гадов, а подземную толщу камня река использует для странных художеств. Спелеобиологи обнаружили в Постойнске-Яме 175 видов живых существ. Главная биологическая знаменитость и гордость словенского естествознания — крупнейшее подземное земноводное Proteus anguinus, человеческая рыбка. Европейский протей, 300 лет назад брезгливо окрещенный австрийским натуралистом безглазым ящером, — потомок древней саламандры; онтогенез, то есть развитие организма, по природному хотению прервался у этого зоологического типа на ранних стадиях. Человеческая рыбка, несмотря на свои очевидные беззащитность и бессмысленность, живет примерно столько же, сколько и человек (бывает, что и по 100 лет), зоологи еще и учат ее размножаться в условиях неволи.
Постойнская пещера. Рисунок, 1885 год. Газета Allgemaine Illustrierte Zeitung
Постойнска-Яма убедительно доказывает, что Словения не испытывает недостатка в доисторических раритетах. Туристы пока смогли освоить лишь 20 из 8 тысяч обнаруженных под альпийско-балканской страной карстовых пещер, ученые разных профилей старательно исследуют еще несколько сотен подобных объектов. В 1995 году в археологическом парке Дивье Бабе в северо-западной Словении палеонтолог Иван Турк обнаружил занятный первобытный артефакт. Изучив фрагмент бедренной кости молодого пещерного медведя с пробитыми в ней отверстиями и оценив возраст этого предмета в 43 100 лет, Турк сделал вывод: находка представляет собой древнейший из известных нам музыкальных инструментов. Обломанная желтоватая медвежья кость с двумя идеально круглыми дырочками (и признаками еще одного или двух таких же отверстий) получила название «неандертальская флейта», поскольку изготовление свистульки приписали неандертальцам. Научная дискуссия вокруг находки из Дивье Бабе, если вульгаризировать суть спора, сводится к вопросу, способен ли был неандерталец играть на флейте. Ответ дал народный музыкант Любен Димкароски, исполнивший на изготовленной с помощью копий праисторических костяных и каменных инструментов реплике дудочки несколько несложных мелодий; в их числе я различил средневековый гимн «О скоротечности жизни». В Словении, в Люблянских болотах, найдено еще и самое древнее в мире деревянное колесо — почти метрового диаметра; как установлено, изготовленное не менее 5 тысяч лет назад. Кроманьонцы к тому моменту развились в людей современного типа.
И это колесо, и «флейта», на которой, как предполагается, музицировали неандертальцы, и человеческая рыбка Proteus anguinus, и вечно бунтарское творчество рок-группы Laibach, и созданные около 1000 года так называемые Брижинские отрывки — пионерная исповедальная рукопись на словенском языке, и благородные липицианские лошади, гордость императорской выездки, и классическая поэзия Франце Прешерна, и княжеский камень из Карантании, и белоснежное плетение на коклюшках, и многое другое — все это бесконечное разнообразие фрагментов в совокупности составляет словенскую национальную идентичность. Крохотные частицы того, что — взятое воедино и как единое понятое — дает словенцам основание чувствовать себя словенцами, даже если кому-то из них не по нраву индустриальный рок или если они в детстве злились, когда учителя заставляли их зубрить наизусть строфы из «Венка сонетов».
К достоинствам словенцев я бы отнес то обстоятельство, что, препарируя собственное прошлое, они не посягают на чужие легенды и подвиги и не смешивают их со своими: ну не было у нас великого древнего царя — и шут с ним! Это вновь приводит к разговору о плотности и разреженности национальных исторического и культурного пространств, о деталях и зрелости «больших» и «малых» культур. Гений Шекспира или Моцарта в Любляне и Мариборе признают столь же безоговорочно и с такой же охотой, как в Лондоне и Зальцбурге, но вот как быть с домашними, словенскими талантами? Считается, к примеру, что в России на 140 миллионов населения с лишним около 100 тысяч писателей (кто бы определил, много это или мало?). А сколько писателей должно быть в двухмиллионной Словении, чтобы ее литературу признали качественной, достойной частого перевода на языки международного общения? Можно ли проверить алгеброй гармонию? Достаточно ли Объединенной Словении, чтобы войти, фигурально выражаясь, в Европу, одних только Прешерна, Ивана Цанкара, ну еще невероятного Бориса Пахора?[58] Либо в данном случае логичнее искать сравнения не с русской или английской литературами, а с ситуацией в сопоставимых со Словенией по площади и населению Удмуртии и Чувашии, в которых тоже ведь существуют национальные культуры и свои пусть скромные, но знаменитости?
Между культурой, в которой та или иная литература возникает, и тем, о чем эта литература рассказывает, существуют прочные связи. Есть мнение, согласно которому литература настолько национальна, что только изредка имеет шансы стать универсальной. Отсюда вывод, что умелый модернист Цанкар со своими «Видениями из сна» или плодовитый современный постмодернист Драго Янчар со своим «Безымянным деревом», сколько бы и на какие бы языки их ни переводили, навсегда останутся писателями, важными исключительно для словенцев, а в Швеции или Греции никто их читать все равно не будет. Это не значит, что Цанкар и Янчар — плохие писатели; это значит, что они исключительно национальные писатели.
Из этого ряда выбиваются знаменитости дигитальной эпохи, сблизившей высокую и массовую культуру. Философу Славою Жижеку принесла известность работа «Возвышенный объект идеологии». В качестве метода познания Жижек применил передовую для того времени (на дворе стоял конец 1980-х годов) методику исследований мультикультурализма, а мультикультурализм основан на этическом признании и уважении другого. Сложные вроде бы для восприятия работы Жижека, основателя довольно модной Люблянской школы философии, содержат массу эпатажных мыслей, которые, с одной стороны, работают на популярность их автора, а с другой — способствуют последовательной критике его идейной концепции со стороны многих ученых зануд. Один такой зануда прозвал Жижека Элвисом Пресли теории культуры, и этот остроумный человек близок к истине. Как и в случае с неандертальцами и их волшебной флейтой, на словенской почве сформулирован парадоксальный вопрос, на который нет однозначного ответа: возможно ли популяризовать серьезное знание, нивелируя его до уровня статей в журналах, которые вы листаете в парикмахерской?
Для одной Словении этих двух вопросов более чем достаточно, тем более что у маленьких стран собственный масштаб ощущения большого мира. Вот пример: красавица-модель Меланья Кнавс стала первой леди США Меланьей Трамп, и Словения по этой причине попала в заголовки международных новостей, что случается нечасто. Скажите, это достойный предмет для гордости нации, реальная тема пусть для мимолетного всесловенского торжества? В середине 1990-х первый президент Словении Милан Кучан в неформальной обстановке, под бокал вина, так ответил мне на вопрос, какую политическую задачу он считает для себя главной: «Независимость мы завоевали. Теперь нужно добиться, чтобы мою страну перестали путать со Словакией».
Самая знаменитая туристическая открытка Словении — панорама ледникового озера Блед с древним замком на скале над гладью воды и острошпильной церквушкой на крошечном острове. Здесь, в горном кольце с видами на Триглав, и самый, как говорят, длинный в Альпах хребет Караванке, человеку удалось не испортить созданное природой и почти никак не нарушить ее гармонию. Праздному времяпровождению на берегах Бледа придает осмысленность то обстоятельство, что вокруг озера проложена шестикилометровая дорожка, по которой можно прохаживаться, кататься на велосипеде или на скейте, а то и на запряженных вороным дрожках. Необременительный анабасис превращается в путешествие по разным историческим эпохам: замок на горе заложили в начале XI века по велению германского короля Генриха II Святого и его супруги Кунигунды, олимпийский центр гребного спорта устроили 30 или 40 лет назад, в пору самоуправляемого социализма, городской пляж реконструировали совсем недавно, а островной храм Успения Богоматери, до которого я перевозил свою любимую на весельной лодке, освятили в конце XVIII века.
Габсбурги превратили Блед из сонной деревни в популярный курорт, куда один за другим отправлялись члены императорской фамилии. В 1855 году здесь обосновался передовой швейцарский врач-натуралист Арнольд Рикили, лечивший мигрень и малокровие солнечными ваннами, купанием в холодной воде, а также продолжительными прогулками по горным тропам. По меркам времени методы «доктора Солнце» слыли экстравагантными, местные жители относились к чудаковатому Рикили, за полвека врачебной практики так и не выучившему их язык, с недоверием.
Бледская, извините, курортная жизнь, какой бы тишайшей она ни была, все равно вынужденно следовала за политическими переменами: в 1920-e годы габсбургских придворных сменила югославская знать, еще через четверть века здесь появилась коммунистическая номенклатура. В 1947 году на месте виллы Александра I Карагеоргиевича возвели белокаменный дом отдыха для Иосипа Броза Тито, куда нет-нет да и наезжали высокие международные гости. «Вилла Блед», одна из 18 резиденций коммунистического вождя, и теперь являет собой образчик аппаратно-партийного шика. Пример вроде бы и не мертвый, поскольку в здании функционирует отель, на погонах у которого больше звезд, чем было у маршала, но все равно безжизненный.
В последние соцдесятилетия на берегах Бледа понастроили профсоюзного типа здравниц, слом общественного строя и новые методы хозяйствования еще больше изменили местные нравы. Вот таким курортом, наверное, хотелось бы стать македонскому Охриду: респектабельная клиентура из Италии и Австрии, щедрые отпускники из России и Америки, любознательные дальневосточные гости, малая толика религиозной мистики. Колокола храма Святого Мартина, что в центре городка, добродушно перекликаются через воду со звонницей Девы Марии; к ней на островок спешит очередной деревянный баркас с дюжиной жизнерадостных японцев. А Блед, наверное, в свою очередь, мечтает о престиже и доходах озера Комо и озера Гарда. Но у разных курортов, как у людей, разные судьбы.
Якоб Канциани. «Блед». 1891 год
Центр Любляны спланировал и облагородил Йоже Плечник — едва ли не самая яркая звезда европейской архитектуры первых десятилетий прошлого века, градостроительный мастер безупречного художественного вкуса и безошибочного чувства пропорций. В Праге я живу в десяти минутах ходьбы от построенного по проекту Плечника в 1920–1930-е годы храма Пресвятого Сердца Господнего, на плоской башне которого красуются громадные сюрреалистические часы с прозрачным циферблатом. Выступающие камни на церковном фасаде, как знает каждый, пролиставший путеводитель по третьему району Праги или хотя бы раз прогулявшийся в моей компании по окрестным кварталам, символизируют монархическую мантию из горностая, поскольку храм стоит на площади, носящей имя гуситского короля Иржи из города Подебрады. Площадь, ставшую одним из самых живых пражских уголков, тоже обустраивал Плечник, и вот что не вызывает сомнений: этот архитектор, получивший надежную венскую выучку, не признавал главенствующего стиля, он был хозяином своей профессии и применял для решения градостроительных задач лишь те формы, которые считал не модными, а правильными.
Битва при Капоретто. Австро-венгерская армия занимает позицию итальянцев. Фото. 1917 год. Национальная и Университетская библиотека Словении
БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ
КАК СЛОВЕНЦЫ ГИБЛИ НА БЕРЕГАХ ИЗОНЦО
Волей исторических случайностей словенские земли веками, вплоть до XX столетия, оставались в тылу больших европейских войн. Однако злой рок все-таки взял свое: по долине реки Сочи (итал. Изонцо) в Юлийских Альпах прошла едва ли не самая кровавая фронтовая линия Первой мировой войны. В восточном секторе итальянского фронта, на котором каждый из противников развернул по 1,5-миллионной армии, с начала лета 1915 по конец осени 1917 года произошли 12 сражений. Бои здесь велись фактически без перерывов, поэтому историки до сих пор не могут прийти к согласию о точном числе военных кампаний. В историю эти битвы на небольшом, в 90 километров, участке вошли как пример жестокой бессмысленности войны — гибель по меньшей мере 500 тысяч человек не давала ни одной из сторон ощутимого преимущества. За 28 месяцев боевых действий итальянские войска предприняли десять наступлений, из которых только три оказались хотя бы частично успешными. В октябре 1917 года австро-венгерской армии при поддержке германских союзников удалось прорвать позиционный фронт (это наступление известно также как битва при Капоретто). Итальянцы понесли тяжелые потери, сменили главнокомандующего; фронт стабилизировался на реке Пьяве в 100 километрах западнее. Обстоятельства этой битвы и беспорядочного бегства итальянцев Эрнест Хемингуэй талантливо описал в романе «Прощай, оружие!». Через год, в октябре 1918-го, страны Антанты провели решающее наступление на итальянском фронте, и австро-венгерская армия перестала существовать. Условия боевых действий в горных речных долинах были невероятно сложными; так случилось, что 1914–1918 годы еще и оказались в Юлийских Альпах рекордными по интенсивности осадков. Войска перебрасывали на позиции с помощью канатных дорог и фуникулеров, в скалах долбили пещеры-укрепления. Воинские части снабжались отвратительно, солдаты шли в бой полуголодными. В долине Сочи погибли 30 тысяч словенцев, воевавших в составе габсбургской армии. Весной 1915 года австро-венгерские власти организовали у местечка Краньска-Гора лагерь для 10 тысяч русских военнопленных; их заставили прокладывать дорогу через перевал Вршич. В марте 1916-го при сходе лавины погибли несколько сотен подневольных строителей. В память об этой трагедии на перевале возведена русская православная часовня. Есть в ней и икона работы ученицы Репина Елены Киселевой. Долина Сочи — горный воздух, изумрудного цвета холодная река, лесные пейзажи — уверенно освоена альпинистами, дельтапланеристами и энтузиастами сельского туризма; сама мысль о войне здесь кажется дикой. О жертвах сражений при Изонцо напоминают траурный мемориал и итальянское кладбище у храма Святого Антония Падуанского в Кобариде, бывшем Капоретто. В 2008 году в долине Сочи снимали фильм голливудского цикла «Хроники Нарнии» про битвы принца Каспиана со злыми тельмаринами. Через речку перебросили мост, на котором разыгралось решающее сражение. Силы добра одержали победу, и никто не погиб.
То же самое относится и к Любляне — с той разницей, что в своем родном городе Йоже Плечник построил не по три, как в Праге или Вене, а ровно 33 гармоничных объекта и здания. Приступив к комплексному проектированию в начале 1920-х годов, Плечник перепланировал городское пространство, по-новому разметил центральные магистрали, задал параметры общественных парков, фактически определив нынешний облик центра Любляны, еще не до конца оправившейся к тому времени от последствий шестибалльного землетрясения 1895 года. Мановениями своего волшебного карандаша Плечник превратил речку Любляницу в главную улицу Любляны, сначала — административного центра Дравской бановины, затем — оккупированного нацистами города, еще позже — столицы социалистической Словении. Невзирая на обстоятельства, Плечник при всех режимах проектировал и храмы Божии, и кладбища человеческие, и мосты, и стадион, и памятники, и общественные, и офисные, как сказали бы ныне, центры, и рынок, и парки, и набережную, и променад, и фонтан. Последней его работой стало выполнение заказа для товарища Тито. В резиденции вождя на острове Вели-Бриюн по проекту Плечника в 1956 году построили белокаменный садовый павильон античных пропорций.
Если бы Петр Вайль вдруг включил в свою книгу о загадочной связи человека с местом его обитания главу о Любляне, то гением этого города он наверняка избрал бы Плечника, а не Прешерна — и был бы прав, потому что Плечник и есть Любляна в той же примерно степени, в которой Прешерн есть вся Словения. Но, сколько я Петра ни уговаривал, он так и не съездил ни в Любляну, ни в Загреб, ни в Сараево, ни в Белград: Балканы для Вайля ограничивались двумя городами с великим прошлым, Афинами и Стамбулом. В таком подходе не стоит искать высокомерия опытного путешественника, холодным умом отбирающего в культурном багаже человечества только важное и только главное, потому что всего с собой все равно не унести. Приходится признать: южнославянская вселенная — в основном для любителей пряного и перченого, и многие — пусть даже и с малыми на то основаниями — опасаются, что и вполне себе европейская Словения способна вызвать изжогу.
Вершинами творчества Йоже Плечника считаются Tromostоvje — соединяющий площадь Прешерна со средневековым кварталом на правом берегу реки комплекс из трех мостов — и здание Национальной и университетской библиотеки Словении, возведенное в стиле итальянских палаццо. Фасад этой библиотеки издалека напоминает узорчатый тканый ковер. Плечник намеревался создать кое-что помонументальнее, да не сложилось: после Второй мировой войны его идея возвести на холме над городом «словенский Акрополь» (для чего требовалось снести средневековый Люблянский замок), в котором разместился бы социалистический парламент, была — надо признать, к счастью, — отвергнута властями. Тогда архитектор предложил построить парламентский храм Свободы в виде гигантского островерхого конуса в другом квартале Любляны, но и эта концепция не получила поддержки. Тем не менее оба неслучившихся проекта считаются шедеврами, один изображен на реверсе словенской евромонетки, а другой дал название альбому рок-группы Laibach.
Принято думать, что архитектор Плечник в мечтах представлял себе Любляну как новые Афины, но с этим не все искусствоведы согласны. Одни специалисты отыскивают в спроектированных Плечником зданиях «эротические обертоны», другие вовсе их не замечают. Насчет сублимации в бетоне и мраморе любовной энергии я, может, и согласился бы: Плечник хотя и не был чужд интереса к женской красоте (в Праге ему приписывают роман с дочерью первого чехословацкого президента Элис Масарик), но так и не создал семьи, не завел детей или постоянной подруги и до самой смерти в возрасте 84 лет жил в построенном по собственному элегантному проекту доме почти в полном одиночестве. Биографы считают: больше всего на свете Плечник боялся потери творческой свободы, отсюда, вероятно, и сознательно избранный образ жизни домоседа.
Аскетичная обстановка дома Плечника не оставляет сомнений в том, что его хозяин мало чем интересовался, кроме вопросов профессионального самосовершенствования. Он экономил даже карандаши, которыми чертил и рисовал, пока держали пальцы; огрызки потом вставлял в специальный мундштук — и продолжал работать. Чтобы ограничить себя в неге, самодисциплинированный Плечник заказал неудобную малоформатную кровать: проснулся и сразу вскочил с постели. В труде он вел себя как и положено перфекционисту: использовал только натуральный камень, нумеровал каждый кирпич, лично контролировал, куда какую глыбу вмуровывает строитель. Этот выдающийся архитектор, скорее всего, в повседневном общении был скучным человеком, которого больше светских бесед интересовало эпистолярное общение. Гостиную в своем доме Плечник намеренно спроектировал как зимний сад, вечная сырость которого отпугивала посетителей. Здание на Каруновой улице регулярно навещал разве что настоятель расположенного по соседству храма Святого Иоанна Крестителя, с которым архитектор, ревностный католик (за что Плечника, как считается, недолюбливали коммунистические власти), вел душеспасительные разговоры. Быть может, и о добровольном целибате. Все мы, если настойчивы и хотим добиться заветной цели, вынуждены чем-то жертвовать, но только немногим дано умение принести в жертву даже малую частицу себя, когда того не требуют настойчиво внешние обстоятельства.
Словенский архитектор Йоже Плечник и его собака Сивко. Фото. Ок. 1933 года
Друг Плечника, настоятель католического храма Фран Салешки Финжгар, известен как автор одного из самых романтических произведений словенской литературы, исторической саги «Под солнцем свободы». Речь в этой книге идет о походе славян на Византию в VI веке, о кочевниках гуннах, о Константинополе времен Юстиниана и, главное, о невероятной любви Истока и Ирины, язычника-варвара и знатной придворной дамы. Из Любляны, понятно, Константинополь не увидать, да и Балканы в Словении, честно говоря, почти никак не просматриваются, но знания и сила воображения способны соединить несоединимое.
Любляна — наиболее стильная столица европейского юго-востока, если вкладывать в понятие «стиль» его венский и пражский смыслы. Без сомнения, Любляна — самый чинный и благопристойный из крупных городов Балканского полуострова, если за образцы живости и неформальности принять Белград или Салоники. Любляна в разы чопорнее Стамбула, она строже Софии, спокойнее Загреба, куда комфортнее Приштины, Скопье и Подгорицы, заметно холоднее (я не климат имею в виду) Бухареста или Сплита. За полторы тысячи лет истории словенские земли вобрали в себя немного балканского, но много центральноевропейского. Это тот самый случай, когда религия, культура, политика оказались сильнее крови и географии. В немалой степени и поэтому тоже цивилизационный разрыв Словении с Югославией вышел не критично болезненным. Но как раз в этом, замечу, кроется еще одна особенность спокойных маленьких народов: чужого они не требуют, но и своего никогда не отдадут.
Словения — такая, какая она есть, — дает близким и далеким юго-восточным соседям до берегов Черного и Эгейского морей пример разумных общественных трансформаций, и проявляется это даже в мелочах. В таких, например, как грамотно выстроенная линейка исторических личностей, портретами которых принято украшать купюры национальной валюты. Толар просуществовал полтора десятка лет, пока его не сменил евро. На аверсах словенских бумажных денег красовались портреты персонажей, о которых я вам только что рассказывал: два просветителя (оба почтенные), математик (составитель логарифмических таблиц), два художника (оба отличные), композитор (правда, мрачный, по духовной музыке), архитектор (несомненно, великолепный), писатель патриотического толка (достойный), поэт (по суждениям многих, выдающийся). Такими предками кто хочешь может гордиться: ни одной мифической фигуры, все подтверждены исторически, все гуманисты, ни сомнительного святого, ни завоевателя в шеломе и с мечом, ни короля в венце. Замечу, что майор-генерал Майстер — фельдмаршалов в словенских краях не было — в почетный перечень не попал.
Это не означает, впрочем, что словенцы не ведут исторических споров о прошлом, скажем, об относительно недавнем, связанном со Второй мировой войной и партизанским антифашистским движением. В титовской Югославии и для Словении сформировали свой пантеон героев: расстрелянный оккупантами подпольщик Тоне Томшич; его вдова Вида, народный герой и министр народных правительств; командир Франц «Стане» Розман (в честь столетия со дня его рождения в 2011 году Национальный банк выпустил памятную монету). Приход коммунистов к власти сопровождали репрессии и крутые расправы над политическими и военными противниками, часто по огульным обвинениям в коллаборационизме.
И все же в фигурах монументов героям на улицах словенских городов и в словенских кинофильмах нет горения Данко, нет отчаяния беспощадной борьбы, нет той ярости победы, обязательная цена которой — смерть десятков и сотен тысяч патриотов. Вглядитесь внимательно в портреты отцов словенской нации — это спокойные, а не светящиеся энергией борьбы и победы лица бюргеров, привыкших к размеренной жизни, даже несколько скучающих в своей уютной провинции людей.
Центр Вселенной
Край балканский родной, хмурый пращур, гайдук невеселый, Ты лежишь, леденеешь, туманом повитый вдали, Разметав свои руки, раскинув гранитные полы, Словно крест исполинский из дерева, камня, земли[59]. Асен Разцветников, «Край балканский родной…» (1924)Эта книга начиналась в моем воображении с наивного, но честного замысла отыскать центр балканской вселенной. Пусть не географический центр — сие вряд ли возможно, ведь границы полуострова никем точно не определены, — но какой-то, если хотите, цивилизационный. Ведь должно же, думал я, существовать чудесное место, в котором сконцентрированы если не все, то многие балканские особенности, собраны если не все, то главные балканские прелести, соединены если не все, то самые симпатичные и милые балканские сумасшедшинки?! Порядка ради начал я все же с географии, причем применил высокоумный принцип: засел над крупномасштабной картой с карандашом, линейкой, циркулем и транспортиром. По одной из систем расчета (пусть и произвольной, но она ничем не хуже других) пуп балканской земли находится на отрогах нагорья Чудинска-Планина, там, где сходятся под непрямыми углами границы Сербии, Болгарии и Македонии. Ну а почему бы и нет, в конце концов, ведь центр Европы попеременно находят то в Словакии, то в Литве, то в Германии?
Войны и политика в 1920 году поделили деревню Жеравино на две неравные части, болгарскую и сербскую. Края здесь диковатые и старинные, с античными и средневековыми городищами-раскопками. В летописях это поселение впервые упоминается в XIV веке, при Неманичах. В XVI столетии старательный мюлтезим (османский сборщик налогов) обнаружил в деревне 20 христианских и 15 мусульманских подворий. После антисултанского освобождения труднодоступная и малонаселенная область посередине балканской пустоты отошла Болгарии, но по окончании победной для сербов Первой мировой государственная граница сдвинулась к востоку. Столетие назад население деревни составляло несколько сотен человек, но теперь в болгарском Жеравине живут всего четверо (если кто-то из них не уехал или, не приведи Господь, не скончался за последнее время). Сербское Жеравино вчетверо многолюднее, но ни храма Божиего, ни врача в этой части деревни тоже нет. Молиться и лечиться граждане Сербии ездят в недалекий райцентр Босилеград, граждане Болгарии — в облцентр Кюстендил. Учиться и развлекаться они не ездят никуда, ведь в Жеравине остались одни старики, которые кормятся садом-огородом, пасекой, курами-козами, а летом балуют городских внуков крыжовником и дикой малиной.
Жеравино, вычисленное мною по-научному, — типичная несчастливая деревня, которая, скорее всего, через три или пять десятилетий и вовсе исчезнет с балканской карты. Да, есть в силуэтах облупленных жеравинских домов из темного камня и обветшавших амбаров из подгнившего дерева неизбывная печаль. Время в Жеравине остановилось, дигитальные технологии в Жеравине не победят. Уж если говорить о хорошем, то тут дополна нетронутой природы на все четыре стороны, здесь никем, петухами даже, не пуганная тишина, здесь ключевая колодезная вода и каждую без исключения безоблачную ночь бездонное небо в пушистых звездах.
Прямо через Жеравино проходит куда более основательный, чем болгарско-сербская граница, старый рубеж еще одного разлома цивилизаций, так называемая линия Иречека, обозначившая фронтир, севернее которого в эпоху поздней Римской империи господствовала балканская латынь и южнее которого доминировал древнегреческий язык. Эта кривая черта тянется от города Лач в теперешней северной Албании через Македонию и Болгарию к Софии и дальше к Варне. Профессор славянских древностей Константин Иречек, чешский ученый, в основном по-немецки писавший о балканской истории, провел концептуальную межу на склоне своей научной карьеры, в 1911 году. В обоснование лингвистических выводов он положил археологические изыскания: сравнивал, где находят древние надписи в основном на латыни, а где преимущественно на греческом. Линия Иречека важна для этногенеза балканских наций, но 20 последним жителям Жеравина она таковой не представляется. И от Жеравина, как от древних римлян и греков, останутся лишь подвалы подвалов и черепки черепков.
Адольф Розенберг и Эдуард Хейк. Балканские костюмы. Открытка. 1905 год. Библиотека Смитсоновского института США
Чем дольше и чем старательнее я путешествовал, чем многоцветнее раскрывались передо мной пестрые южнославянский, греческий, албанский, турецкий миры, тем яснее становилось понимание: нет, не найти мне того места, где о земную ось, чтобы вертеть планету, трутся балканские медведи! Я рассчитывал на Крушево, молчаливый, задремавший в горном плену македонский городок. В Крушеве, да, есть магия, Крушево великолепно своей флегматичностью, только и способной помочь в победе над треволнениями эпохи, но разве это все Балканы, целиком? Я надеялся на Призрен, вторую столицу Косова, в которой действительно теснейшим образом переплелись разные культуры, так, что, верю, не удастся в конечном историческом итоге разорвать их связь национальным противоречиям и войнам. Но почудилась мне в выскобленном дочиста для новых поколений туристов Призрене некоторая лубочная искусственность, не хватило здесь, простите, аутентики. По пути в этот город меня чуть не сбила с толку великолепная и величественная албанская панорама: там, где река Белый Дрин и река Черный Дрин соединяются в просто Дрин. Не позволю природным или рукотворным красотам увести меня в сторону от целей исследования, осадил я сам себя, нужно сохранять строгий подход, здравый разум и выдержку, — но обещать это пришлось потом не один раз, в каждой балканской стране. Посередине Боснии, в Яйце, где перепад Пливы и Врбаса образует 30-метровый хрустальный водопад. В Сплите, Трогире, Ровине, Дубровнике, от архитектурных чудес которых захватывает дух. На озере Блед в Словении, на озере Охрид в Македонии, на озере Шкодер в Черногории, в дунайской дельте, на стрелке Савы и Дуная, на острове Бриюн и на острове Млет, у скальной монашеской обители Аладжа в Болгарии, у черногорского монастыря Острог, у сербского монастыря Милешева, в стильных австро-венгерских кварталах Любляны, Загреба и Нови-Сада, в древних крепостях Смедерева и Скопье, в каньоне Тары и долине Сочи — где только от восторга и восхищения у меня не захватывало дух! Не-ет, никем и никогда не будет обнаружен центр балканской цивилизации, потому что его не существует в реальности.
Преувеличением было бы сказать, что юго-восточные еврокрая для меня совсем уж дом родной. Я прожил на Балканах несколько лет, многократно бывал во всех балканских столицах, объездил больше сотни балканских городов и городков, путешествовал с севера на юг и с запада на восток по самым дальним балканским уголкам, даже по тем, которые отказываются считать себя балканскими. На протяжении сразу нескольких современных эпох, на переломе столетий я наблюдал противоречивые общественно-политические и культурные перемены, которые переживают эти края. Книга, которую вы держите в руках, — результат семи новых путешествий по 12 странам европейского юго-востока, позволивших собрать материал для рассказа, анализа и сравнений. Я проехал почти 6 тысяч километров, нагулял пешком еще почти 600, по прямой это точно расстояние между Москвой и Владивостоком, основательно стоптал крепкие кожаные кроссовки фирмы Ecco. Почти все мои вояжи оказались трансграничными: Словения по ходу маршрута соединилась с частью Хорватии; глава о Македонии вместила рассказы о Салониках и Олимпе; Боснию я объехал по кругу, причем стартовал из Дубровника, а вернулся в этот город, чтобы отправиться домой, через Черногорию.
Неуместность границ в балканской жизни я чувствовал много раз, например когда без шансов опаздывал в дубровникский аэропорт Чилипи. Я намеревался поспеть на авиарейс утренним маршрутом из Тивата, чтобы по пути поглазеть на Которский залив с высокой палубы автобуса. Но чертов автобус застрял у пункта таможенного контроля, и тогда я почти в отчаянии пересек черногорско-хорватскую границу пешим маршем. Отвага была вознаграждена: меня бескорыстно подвез в аэропорт благородный соотечественик Валерий (дорогие очки, негромкий голос, интеллигентные манеры), управлявший белоснежным Porsche Cayenne с номерными знаками Республики Сан-Марино.
Так устроены балканская география и балканская жизнь: все в них перемешано и взаимосвязано; границы, из-за которых льется кровь и ведутся политические дебаты, в реальной жизни неизменно предстают бесполезной условностью — как в диких песнях греческой рок-группы United States of Balkans, к ней проникаешься симпатией за одно только название. Нет у Балкан ни цивилизационного центра, ни цивилизационных окраин, нет у Балкан ни дна, ни покрышки. Поэтому Балканы зачастую раздражают многих из тех, кто проживает на этом широком пространстве. Поэтому Балканы всегда будут манить тех, кому не по нраву определенность, упорядоченность и рациональное благоустройство жизни. Могу сказать: прекрасный в своей странности, разнообразный и невероятно цветной, часто загадочный и мистический, непонятно куда движущийся и подверженный непрестанной коррозии балканский мир, образовавшийся в результате сложных процессов и явлений на перекрестке всего, что только может существовать в Европе, не чужой для меня. Но, конечно, и не совсем свой. Видимо, вознамерившемуся изучить Балканы чужестранцу только и остается сожалеть о нереализованной возможности Балканы покорить и понять.
Крестьянская семья на Балканах. Фото. 1916 год. Коллекция Вольфганга Саубера
Первые километры собственно Балканской гряды, Стара-Планины, естественным образом продолжают Южные Карпаты, словно пережатые дунайским ущельем Железные ворота. А последний, самый восточный горный балканский километр, — черноморский мыс Эмине, сложенный, как уточняет справочник, из вулканических порфиров. На крутой порфирной скале в 60 метров высотой расположен маяк, спроектированный французскими инженерами еще при султанской власти. На болгарском языке слово «мыс» звучит точно и смешно — нос. Нос Эмине, кончик носа фирменных балканских гор, считается беспокойным местом: здесь часты морские бури, сильны свежие ветра, этот берег, у которого можно наблюдать дельфинов, баклановых и ластоногих (но мне как-то не посчастливилось), вообще опасен для судоходства.
На Эмине заканчивается Европейский туристический маршрут Е‐3, и его финишная прямая не для нервных. Машина продвигается к мысу по бывшей асфальтированной дороге ценой чрезвычайных стараний своего французско-румынского мотора, со смертельным риском для амортизаторов, но даже эти сверхусилия бессильны перед логикой разделения миров. Путь к маяку перекрыт проволочным забором, здесь, как и на подступах к Олимпу, царствуют правила военного объекта. Рискуя свалиться в пропасть, я подобрался к берегу, насколько позволяло благоразумие: сначала вдоль русла неглубокого ручья, потом по гребню холма. Гребень оказался предпоследней балканской горой: на последней, совсем неподалеку, стоял недостижимый в своих красоте и совершенстве белоснежный маяк, а скала под ним отвесно уходила в черноморские воды. Здесь и иссякли Балканы.
Каждую ночь уже полтора века маяк мыса Эмине посылает световые сигналы в вечность, но надо понимать: его безмятежное философское бытие совсем скоро изменится. Однажды и эти края тоже подчинятся не военному приказу, а силе глобального туризма: солдат демобилизуют, от шоссе Бургас — Варна отведут нормальную дорогу, на предпоследней балканской горе откроют ресторан и сувенирный магазин, а на последней оборудуют парковку и общественный туалет по пол-евро за вход. Туристический маршрут Е‐3 даже, может, осмелится претендовать на то, чтобы повысить свою спецификацию до Е‐1. И не караульные патрулей, а влюбленные пары будут наслаждаться романтическим пейзажем с главного черноморского обрыва. Скажете, ну и что такого, мало ли в мире подобных красот? Вы правы, Балканы — никакой не центр вселенной, это всего лишь часть нашего с вами общего европейского мира.
Ничуть не больше. Но и ничуть не меньше.
Балканы: хронология событий
Библиография
Книги и монографии на английском, итальянском и французском языках
Banac, Ivo. The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics. New York: Cornell University Press, 1993.
Bechev, Dimitar. Rival Power: Russia in Southeast Europe. New Haven & London: Yale University Press, 2017
Buxhovi, Jusuf. Kosova. Vol. 1–3. Houston: Jalifat Publishing, 2013.
Castellan, Georges. Histoire des Balkans XIVe-XXe. Paris, Fayard, 1991.
Castellan, Georges. Un pays inconnu: La Macédoine. Paris, Armeline, 2003.
Cessi, Roberto. La repubblica di Venezia e il problema Adriatica. Napoli, 1953.
Ciliga, Ante. La crisi di Stato di Jugoslavia di Tito. Roma, 1972.
Clogg, Richard. A Concise History of Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Crampton, Richard. Bulgaria. London: Oxford University Press, 2007.
Crowley, Roger. City of Fortune. How Venice Won and Lost a Naval Empire. London: Faber & Faber, 2011.
Dawson, Christopher. The Making of Europe. Washington: The Catholic University of America Press, 2002.
Di Lellio, Anna. The Battle of Kosovo 1389: An Albanian Epic. New York: I. B. Taurus & Co. Ltd, 2009.
Dimitrov, Bozhidar. Bulgarians: Civilizers of the Slavs. Sofia: Borina, 1993.
Dvornik, Francis. The Making of Central and Eastern Europe. London: Polish Research Center, 1949.
Dvornik, Francis. The Slavs. Their Early History and Civilization. Boston: American Academy of Arts and Sciences, 1956.
Garde, Paul. Vie et mort de la Yugoslavie. Paris: Fayard, 1992.
Gawrych, George W. The Crescent and the Eagle. Ottoman Rule, Islam and Albanians, 1874–1913. London: I. B. Taurus & Co Ltd., 2006.
Georgieff, Anthony, Trankova, Dimana and oth. The Turks of Bulgaria. History. Traditions, Culture. Sofia: Vagabond-media, 2012.
Glenny, Misha. The Balkans: Nationalism, War and the Great Powers, 1804–2011. New York: Penguin, 2013.
Goodwin, Jason. Lords of the Horizons: A History of the Ottoman Empire. New York: Picador, 1998.
Hall, Derek. Albania and the Albanians. London: Pinter, 1994.
Herrin, Judith. Byzantium. The Surprising Life of a Medieval Empire. London: Penguin Books, 2007.
Hodgkinson, Harry. The Adriatic Sea. London: Cape, 1955.
Hoolbrok, Richard. To End a War. New York: Random House, 1998.
Hupchick, Dennis P. Conflict and Chaos in Eastern Europe. New York: St. Martin’s Press, 1995.
Hupchick, Dennis P. The Balkans: From Constantinople to Communism. London — New York: Palgrave MacMillan, 2002.
Hupchick, Dennis P., Cox, Harold E. The Palgrave Concise Historical Atlas of the Balkans. New York: Palgrave, 2001.
Jelavich, Barbara. History of the Balkans. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
Judah, Tim. The Serbs. New Haven & London: Yale University press, 1997.
Ismajli, Rexhep, Kraja, Mehmet. Kosova: A Monographic Survey. Prishtina: Kosova Academy of Sciences and Arts, 2013.
Kadare, Ismail. Broken April. London: The Harvill Press, 1998.
Kafadar, Cemal. The Construction of the Ottoman State. Berkeley, 1995.
Koprulu, Fuad. Origins of the Ottoman Empire. New York, 1992.
Lalkov, Milcho. A History of Bulgaria in Outline. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 1998.
Lampe, John R. Balkans into Southeastern Europe, 1914–2014. A Century of War and Transition. London — New York: Palgrave Macmillan, 2014.
Lampe, John R. Yugoslavia As History. Twice There Was a Country. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
MacKenzie, David. The Serbs and Russian Pan-Slavism 1875–1878. New York: Ithaca, 1967.
Malcolm, Noel. Bosnia: A Short History. New York: New York University Press, 1994.
Malcolm, Noel. Kosovo: A Short History. New York: New York University Press, 1998.
Mantran, Robert. Histoire de l’Europe Ottoman. Paris, 1989.
Mazover, Mark. The Balkans. A Short History. New York: The Modern Library, 2000
Morrison, Kenneth. Montenegro. A Modern History. London — New York: I. B. Tauris, 2009.
Norris, Harry. Islam in the Balkans: Religion and Society between Europa and the Arab World. Columbia: University of South Carolina Press, 1993.
Norwich, John Julius. A Short History of Byzantium. New York: Vintage books, 1999.
Obolensky, Dimitry. Byzantium and the Slavs. New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 1994.
Pavlovski, Jovan, Pavlovski, Michel. Macedonia Today. Skopje: Mi-An Publishing, 1998.
Peroche, Grégory. Histoire de la Croatie et des nations slaves du Sud, 395–1992. Paris: Guibert Francois Xavier de, 1992.
Petrovitch, Nicolas-Jiv. Agonie Et Résurrection: Récits de la Prise de Belgrade, de la Retraite en Albanie Et d’un Séjour au Lazaret de Corfou. San Francisco: University of California Libraries, 1920 (Classic Reprint).
Pettifer, James. Vickers, Miranda. The Albanian Question. Reshaping the Balkans. London — New York: I. B. Taurus & Co., Ltd., 2007.
Phillips, John. Macedonia. Warlords & Rebels In The Balkans. New Haven & London: Yale University Press, 2004.
Poulton, Hugh. Balkans. Minorities and States in Conflict. London: Minority Rights Publications, 1991.
Poulton, Hugh. Who are the Macedonians? Bloomington: Indiana University Press, 2000.
Prekaz. Legacy of the Brave. Prishtinë: Lidhja e Shkrimtarëve e Kosovës, 2012.
Qosja, Rexhep. La Question albanaise. Paris: Fayard, 1995.
Robers, Elizabeth. Realm of the Black Mountain. A History of Montenegro. New York: Cornell University Press, 2007.
Sugar, Peter F. East Central Europe under Ottoman Rule. Seattle: Washington: University of Washington Press, 1977.
Taylor, A.P.J. The Habsburg Monarchy. 1809–1918. London: Penguin Books, 1990
Todorova, Maria. Imagining the Balkans. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Trotsky, Leon. The Balkan Wars 1912–1913. Sydney: Pathfinder Press, 1980.
Vickers, Miranda. Albania: A Modern History. London: I. B. Tauris, 1994.
West, Rebecca. Black Lamb and Grey Falcon: A Journey Through Yugoslavia. Edinburgh, 2006.
Книги и монографии на cербском, словенском, хорватском, чешском языках
Balašević, Đorđe. Dodir svile. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka, 1998.
Bekić, Darko. Jugoslavia u hladnom ratu. Odnosi s velikim silama. Zagreb: Globus, 1988.
Bilandžić, Dušan. Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Zagreb: Školska knjiga, 1979.
Čavoški, Kosta. Tito. Tehnologia vlasti. Beograd: Dosje, 1991.
Čolović, Ivan. Smrt na Kosovu polju. Beograd: Čigoja štampa, 2016.
Dvorniković, Vladimir. Karakterologija Jugoslavena. Beograd: Kosmos, 1939.
Girgle, Patrik. Kosovo. Praha: Libri, 2009.
Goldstein, Ivo. Hrvatska povijest. Zagreb: Novi Liber, 2013.
Horvat, Branko. Kosovsko pitanje. Zagreb: Globus, 1989.
Ilustrirana povjest hrvata. Zagreb: Stvarnost, 1990. Urednik Marijan Sinković.
Kapor, Momo. Magija Beograda. Beograd: Knjiga Komerc, 2008.
Kreiser, Klaus, Neumann, Christoph. Dějiny Turecka. Praha: Lidové noviny, 2010.
Macan, Trpimir. Povijest hrvatskoga naroda. Zagreb: Matica hrvatska, 1992.
Marković, Živko. Novi Sad i Petrovaradin. Novi Sad: Muzej grada Novog Sada, 1984.
Novačić, Dejan. SFRJ za ponavljaće. Beograd: Moć knjige, 2003.
Pavličić, Pavao. Dunav. Zagreb: Mozaik knjiga, 2016.
Pirievec, Jože. Jugoslavija, 1918–1992. Ljubljana: Založba Lipa, 1995.
Raukar, Tomislav. Hrvatska povijest srednjeg vijeka. Zagreb: Školska knjiga, 2006.
Rosůlek, Přemysl. Albánci a Makedonská republika (1991–2014). Praha: Libri, 2015.
Rychlík, Jan a kolektiv. Dějiny Bulharska. Praha: Lidové noviny, 2016.
Rychlík, Jan, Kouba, Miroslav. Dějiny Makedonie. Praha: Lidové noviny, 2003.
Skulptura i nagost. Tjelesnost i erotica u djelima Ivana Meštrovića. Zagreb: Gliptoteka HAZU, 2016.
Starčević, Ante. Izabrani politički spisi. Zagreb: Golden Marketing-Tehnička knjiga, 1999.
Šestak, Miroslav, Tejchman, Miroslav a dalši. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998.
Šístek, František. Dějiny Černé Hory. Praha: Lidové noviny, 2017.
U znaku Sarajeva. Kako su XIV zimske Olimpijske igre opisane u jugoslavenskoj štampi i JRT. Sarajevo, Organizacioni komitet XIV ZOI, 1984.
Книги и монографии на болгарском, македонском, русском и сербском языках
Андрич, Иво. Мост на Дрине. М.: Правда, 1985. Перевод Александра Романенко.
Андриjашевић, Живко. Историjа Црне Горе. Beograd: Vukotić medija, 2015.
Божилов, Иван. Българи в Византийската империя. София, 1995.
Болгарская поэзия. Антология в двух томах. М.: Художественная литература, 1970.
Григорович, Виктор. Очеркъ путешествія по Европейской Турціи. М.: Типографія М. Н. Лаврова и К°, 1877.
Диль, Шарль. По берегамъ Средиземнаго моря. М.: Издание Сабашниковых, 1915. Перевод Ольги Анненковой.
Димитров, Георгий. Лейпцигский процесс: Речи, письма и документы. М.: Госполитиздат, 1961.
Достян, Ирина. Русская общественная мысль и балканские народы. От Радищева до декабристов. М.: Наука, 1980.
Дюма, Александр. Али-паша. См. в: История знаменитых преступлений. Т. 3. С. 313–429. М.: МП «ВиМо», 1993. Перевод Галины Лихачевой.
Езерник, Божидар. Дикая Европа. Балканы глазами западных путешественников. М.: Лингвистика, 2017.
Иностранная литература. Сербия и сербы. М.: ИЛ, 2015, N 11. Составитель Любинка Милинчич.
Иречек, Константин. История на българите. София: Наука и изкуство, 1978.
Канитц, Феликс Филипп. Дунайская Болгария и Балканскiй полуостровъ. СПб.: Типографiя Министерства путей сообщенiя, 1876.
Кънчев, Иван, Колев, Ивомир, Мишев, Марио. Българската история в 100 личности. София: БГ Учебник Прес, 2014.
Кретова, Марина. Баронесса Вревская. М.: Армада, 1997.
Кристи, Агата. Тайна замка Чимниз. М.: Эксмо-пресс, 2011. Перевод А. И. Ганько.
Марковић-Селе, Селомир. Чегарски бол. Ниш: Народни музеj Ниш, 2003.
Матич, Ольга. Записки русской американки: Семейные хроники и случайные встречи. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
Мисирков, Крсте. За македонцките работи. София: Либералний клуб, 1903.
Негош, Петр. Горный венец. Самозванец Степан Малый. М.: Художественная литература, 1988. Перевод Владимира Корнилова и Юрия Кузнецова.
Недельковић, Миле. Топола, Опленац. Србиjа. Топола: Задужбина краљa Петра I, 2011.
Овидий, Публий Назон. Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии. М.: Художественная литература, 1983. Перевод Сергея Шервинского.
Оболенский, Димитрий. Византийское Содружество наций. Шесть византийских портретов. М.: Янус-К, 1998. Перевод под общей редакцией Сергея Иванова.
Петров, Тодор, Рачев Георги. Най-големите битки в българската история. София: Прозорец, 2014.
Плач старе Србиjе. Косово, 1982.
Полонский, Яков. Стихотворения. Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. Л.: Советский писатель, 1954.
Прешерн, Франце. Стихи (Prešeren, France. Pesmi). Клагенфурт — Любляна — Вена, Мохорева (Celovec — Ljubljana — Dunaj, Mohorjeva založba), 2001. Двуязычное издание.
Родине покинутой молюсь. Хрестоматия. Ростов-на-Дону, 1994.
Романенко, Сергей. Югославия: кризис, распад, война, образование независимых государств. М.: Московский общественный научный фонд, 2000.
Русская эмиграция в Югославии. М.: Индрик, 1996.
Салоники. Θεσσαλονίκη: Рекос, 1999.
Седов, Валентин. Славяне. Историко-археологическое исследование. М., Знак, 2005.
Селимович, Меша. Дервиш и смерть. М.: Радуга, 1987. Перевод Александра Романенко и Ольги Кутасовой.
Сидорченко, Лариса. Байрон и национально-освободительное движение на Балканах («Восточные повести».) Л.: Издательство ЛГУ, 1977.
Стасюк, Анджей. На пути в Бабадаг. М.: НЛО, 2009
Страшимиров, Антон. Нашият народ. Велико Търново: Ятрус, 2003.
Талалай, Михаил. Русский Афон. М.: Индрик, 2009.
Ташковски, Драган. Македонија низ вековите. Скопје: Наша книга, 1985.
Тодоровски, Томислав. Македонија. Настани. Личности. Дел. Скопје-Мелбурн: Матица македонска, 1999.
Трифонов, Юрий. Победитель. М.: Эксмо, 2008.
Тургенев, Иван. Накануне. М.: Азбука, 2008.
Улунян, Артем, Кулешов, Сергей. Фактор Косово. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2007.
Фрейденберг, Марэн. Дубровник и Османская империя. М.: Наука, 1989.
Фрейдзон, Владимир. История Хорватии. СПб.: Алетейя, 2001.
Хаджийски, Иван. Моралната карта на България. София: Захарий Стоянов, 2008.
Харузинъ, Алексей. Боснiя-Герцеговина. Очерки оккупацiонной провинцiи Австро-Венгрии. СПб., Государственная типография, 1901.
Хэммет, Дэшил. Суета вокруг короля. В: Детективы Дэшила Хэммета. Т. 3. Рига: Полярис, 1996. Перевод Станислава Никоненко и Николая Уманца
Челеби, Эвлия. Книга путешествия. Выпуск 1. Земли Молдавии и Украины. М.: Наука, 1961.
Ћирковић, Сима. Срби у средњем веку. Београд: Идеа, 1995.
Шарый, Андрей, Шимов, Ярослав. Австро-Венгрия: судьба империи. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2017.
Шарый, Андрей. Дунай: река империй. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2017.
Шарый, Андрей. Трибунал. Хроника неоконченной войны. М.: Права человека, 2003.
Шимов, Ярослав. Австро-Венгерская империя. М.: Алгоритм, 2014.
Кинофильмы
Atentat u Sarajevu. 1975. Veljko Bulajić (SFRJ — Československo) / «Покушение в Сараеве». Режиссер Велько Булайич (СФРЮ — ЧССР).
Боj на Косову. 1989. Здравко Шотра (СФРJ) / «Косовская битва». Режиссер Здравко Шотра (СФРЮ).
Banović Strahinja / The Falcone, 1981. Vatroslav Mimica (SFRJ — Zapadna Njemačka) / «Банович Страхинья» («Сокол»). Режиссер Ватрослав Мимица (СФРЮ — ФРГ).
Čovjek koga treba ubiti: Legenda o caru Šćepanu Malom. 1979. Veljko Bulajić (SFRJ) / «Человек, которого нужно убить: легенда о царе Степане Малом». Режиссер Велько Булайич (СФРЮ).
Derviš i smrt. 1974. Zdravko Velimirović (SFRJ) / «Дервиш и смерть». Режиссер Здравко Велимирович (СФРЮ).
Gospa. 1994. Jakov Sedlar (Hrvatska — USA) / «Богоматерь». Режиссер Яков Седлар (Хорватия — США).
Karaula. 2006. Rajko Grlić (Hrvatska — Makedonia — Srbjia — Slovenija) / «Погранзастава». Режиссер Райко Грлич (Хорватия — Македония — Сербия — Словения).
Okupacija u 26 slika. 1979. Lordan Zafranović (SFRJ) / «Оккупация в 26 картинках». Режиссер Лордан Зафранович (СФРЮ).
«В горах Югославии» / U planinama Jugoslavije. 1946. Режиссер Абрам Роом (СССР — ФНРЮ).
«Великий воин Албании Скандербег» / Skënderbeu. 1953. Режиссер Сергей Юткевич (СССР — НСРА).
Дякон Левски, 2015. Максим Генчев, Николай Генчев (България) / «Дьякон Левский». Режиссеры Максим Генчев, Николай Генчев (Болгария).
«Единственная дорога» / Okovani šoferi. 1974. Режиссер Владимир Павлович (СССР — СФРЮ).
Ивайло, 1963. Никола Вълчев (НРБ) / «Ивайло». Режиссер Никола Вылчев (НРБ).
Калоян, 1964. Дако Даковски, Юри Арнаудов (НРБ) / «Калоян». Режиссеры Дако Даковски, Юрий Арнаудов (НРБ).
Мис Стон. 1958. Живорад Митровиќ (ФНРJ) / «Мисс Стоун». Режиссер Живорад Митрович (ФНРЮ).
Наковалня или чук / Amboss oder Hammer sei. 1972 / «Наковальня или молот». Режиссер Христо Христов (НРБ — ГДР — СССР).
«Олеко Дундич» / Aleksa Dundić. 1958. Режиссер Леонид Луков (СССР — ФНРЮ).
Пред дождот. 1994. Милчо Манчевски (Македонија — Великобритания) / «Перед дождем». Режиссер Милчо Манчевский (Македония — Великобритания).
Републиката во пламен. 1969. Љубиша Георгиевски (СФРЈ) / «Республика в огне». Режиссер Любиша Георгиевский (СФРЮ).
«Юлия Вревская» / Юлия Вревска. 1977. Режиссер Никола Корабов (СССР — НРБ).
Заметки автора
Этой книге о Балканах — точнее, очеркам о прошлом и настоящем южнославянских народов — предшествовали очерки об Австро-Венгрии и очерки о Дунае. В 2010 году вместе с коллегой Ярославом Шимовым мы написали книгу «Корни и корона», историко-публицистическое исследование о государстве Габсбургов, переизданное затем под названием «Австро-Венгрия: судьба империи». Одновременно с этой книгой, в 2015 году, вышла еще одна моя большая работа «Дунай: река империй», с обобщением опыта многолетних путешествий по дунайским берегам. Только что прочитанная вами книга опирается на идеологию, концепцию и структуру этих двух важных для меня исследований. «Балканы», получается, закольцовывают мое творческое десятилетие, заполненное интереснейшими поездками по странам Центральной и Юго-Восточной Европы. Есть в этом своя жизненная и литературная логика: три книги дополняют друг друга, поскольку с разных географических, культурологических и исторических наблюдательных пунктов рассказывают иногда об одних и тех же процессах и событиях, что, надеюсь, помогает создать объемный, нелинейный эффект восприятия. Моя писательская и журналистская судьба тесно связана с Балканами: 10 из 14 написанных мною книг (пять из них в соавторстве) так или иначе, целиком или частично посвящены разным проблемам, городам, народам и странам европейского юго-востока. В освоении столь комплексной темы, конечно же, мне было не обойтись без помощи людей, которые по праву рождения, крови, профессии знают жгучие балканские края куда лучше, чем я. Спасибо вам всем большое, мои дорогие друзья, — Ирина и Коста Атанасовы, Татьяна Ваксберг и Арбана Видишичи, Елена Вукасович и Бранко Вукович, Владо Вурушич и Недим Дервишбегович, Амра Зейнели и Таня Канчева, Зоран Кука и Благоя Кузмановски, Александр Мандич и Павел Манусиадис, Сафет Мухович и Весела Лалош, Марина Петрова и Андрей Стопар, Валона Тела и Младен Ухлик, Драган Штавльянин и Йелка Цигленечки. Без вашего содействия и страноведческих консультаций эта книга наверняка не состоялась бы. Балканы для русских ума и знания во многом остаются территорией мифов, имеющих с реальностью мало общего. Надеюсь, что некоторые из этих мифов мне удалось если не развеять, то хотя бы поставить под сомнение. Очень хочу, чтобы читатели увидели удивительный, иногда трагический и всегда неоднозначный балканский мир таким, каким увидел, понял и полюбил его я, — разноцветным и разнообразным, словно чудесный узор в детском калейдоскопе.
Балканский компас
Europa Regina из «Космографии» Себастьяна Мюнстера. 1570 год. Среди немногих европейских городов на этом рисунке обозначены Константинополь и Белград. Области, которые мы называем балканскими, занимают нижнюю часть европейской «юбки», левее Московии и Скифии
Физическая карта Балканского полуострова
Австрийская карта Балкан (Европейской Турции) американского картографа Энтони Финли. 1827 год. Согласно обычаям того времени, юг Греции назван «Мореей», остров Крит — «Кандией»
Этнографическая карта Европейской Турции французского картографа Гийома Лежана. 1861 год
Австрийская империя, Османская империя, итальянские государства и Греция. Собрание американского издателя Самуэля Августуса Митчелла. 1864 год
Карта Балкан. Собрание британского картографа Эдварда Стенфорда. 1899 год
Королевство Югославия. Географический атлас Владимира Маринковича. Белград, 1929 год
Политическая карта Юго-Восточной Европы. © Peter Fitzgerald / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Лики Балкан
Томас Филлипс. «Лорд Байрон в албанской одежде. 1813». Ок. 1835 года. Национальная портретная галерея, Лондон
Владимир Боровиковский. «Карагеоргий, вождь сербских повстанцев». 1816 год. Национальный музей Сербии, Белград
Влахо Буковац. «Черногорка на свидании». Фрагмент. 1883 год. Современная галерея, Загреб
Теодор Валерио. «Мать воина». Не позже 1878 года
Иван Мрквичка. «Болгарка из Смилева». 1931 год
Влахо Буковац. «Александр I (Карагеоргиевич) Сербский и Югославский». 1921 или 1922 год. Национальный музей Сербии, Белград
Ярослав Чермак. Этюд головы дервиша к картине «На отдыхе с плененными черногорками». 1878 год. Национальная галерея, Прага
Николай Павлович. «Автопортрет», 1886 год
Картины Балкан
Ян Матейко. «Битва при Варне. 1444». 1879 год. Музей изобразительных искусств, Будапешт
Василий Верещагин. «Два ястреба (Башибузуки)». 1878 год. Национальная картинная галерея, Киев
Константин Маковский. «Болгарские мученицы». 1877 год. Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск
Ярослав Чермак. «Похищение герцеговской женщины». 1861 год
Амедео Прециози. «Албанские наемники в османской армии». 1850–1860-е годы
Ярослав Вешин. «Встреча у колодца». 1885 год
Алоис Шенн. «Рынок в Сараеве». 1897 год
Влахо Буковац. «Лежащая обнаженная». Ок. 1900 года
Легенды Балкан
Отон Ивекович. «Приход хорватов на Адриатическое море». 1905 год. В сочинении византийского императора Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» (ок. 950 года) повествуется о появлении в Далмации примерно в начале VII века «хорватского рода» во главе с пятью братьями — Клуком, Лобелом, Косенизом, Мухло и Хрватом и двумя сестрами, Тугой и Бугой
Николай Павлович. «Хан Аспарух с дружиной на пути к Дунаю». 1860-е годы
Альфонс Муха. «Царь Симеон Болгарский: рассвет славянской литературы». 1923 год. Национальная галерея, Прага
Отон Ивекович. «Коронация короля Томислава». 1907 год
Урош Предич. «Косовская девушка». 1919 год. Национальный музей Сербии, Белград
Влахо Буковац. «Грезы Гундулича». 1897 год. Современная галерея, Загреб
Влахо Буковац. «Хорватское возрождение». 1896 год. Занавес Хорватского национального театра, Загреб
Пая Йованович. «Переселение сербов». 1896 год. Национальный музей Сербии, Панчево
Балканский альбом
Босния и Герцеговина. Крепость Яйце. Фото автора
Греция. Панорама нагорья Олимп. Фото автора
Болгария. Мыс Эмине, восточная оконечность хребта Стара-Планина. Фото автора
Словения. Замок Блед. Фото Ольги Баженовой
Черногория. Которский залив. Фото автора
Босния и Герцеговина. Яйце. Впадение Пливы во Врбас. Фото автора
Сербия. Белград. Памятник «Победитель» работы Ивана Мештровича. Фото автора
Болгария. Пловдив. Памятник советскому воину-освободителю. Фото автора
Косово. Призрен. Мечеть Синана-паши. На заднем плане — соборный храм Святого Георгия. Фото автора
Босния и Герцеговина. Сараево. Здание Национальной и Университетской библиотеки. Фото автора
Хорватия. Загреб. Собор Вознесения Девы Марии и Святых Стефана и Владислава. Фото Ольги Баженовой
Хорватия. Дубровник. Фото автора
Словения. Долина реки Сочи. Фото Ольги Баженовой
Словения. Любляна. Фото Ольги Баженовой
Примечания
1
Перевод Алексея Суркова. — Здесь и далее примеч. авт.
(обратно)2
Парламент Косова объявил о независимости края в феврале 2008 года. К осени 2018-го о признании государственной самостоятельности Республики Косово заявили 113 из 193 стран — членов ООН (58,5 %); в этом списке нет Сербии, России, Китая, Индии, Бразилии, пяти стран Европейского союза, в их числе Испании. Рассказывая в этой книге о Косове, я исхожу из международно — правового определения «частично признанное государство».
(обратно)3
Внутренняя Македонская революционная организация (ВМРО) — сеть вооруженных подпольных комитетов и групп, первоначально добивавшихся политической автономии славян в Манастирском, Одринском, Ускопском и Селаникском вилайетах Османской империи. Основана группой болгароязычных интеллектуалов в 1893 году под названием «Македонская революционная организация». Для решения задач «революционной борьбы» использовала методы террора и экспроприации собственности. Неоднократно меняла название и структуру, пережила множество расколов и идейных кризисов из-за дискуссий о своей конечной цели (автономия в составе Османской империи; провозглашение независимого македонского государства; присоединение к Болгарии; образование Балканской федерации). После распада Османской империи сосредоточила деятельность на антисербской и антигреческой борьбе, а также на организации политических убийств болгарских «национал-предателей». В межвоенный период боевики ВМРО, сблизившиеся и с коммунистами, и с праворадикальными движениями, совершили десятки жестоких терактов, жертвами которых, в частности, стали премьер-министр Болгарии Александр Стамболийский (1923) и король Югославии Александр I Карагеоргиевич (1934). ВМРО формально распущена в 1934 году, фактически ликвидирована в конце 1940-х. Наследниками ВМРО считают себя полтора десятка политических партий и движений в Болгарии и Македонии, в основном националистической ориентации. В обеих странах история ВМРО сильно идеологизирована.
(обратно)4
Арумыны (влахи, цинцары) — южнобалканская этническая группа численностью, по разным данным, от 300 тысяч до 2 миллионов человек. Считаются потомками ассимилированных римлянами племен иллирийского происхождения, говорят на близком к румынскому языке романской группы. В 1917-м и 1941–1943 годах Италия, оккупировавшая северо-запад Греции, предпринимала попытки образования под своим протекторатом арумынского Пиндского княжества. Арумынское движение не едино: одни его представители, панэллины, предлагают кодифицировать исчезающий язык на основе греческого алфавита, а другие, суперромани, предпочитают латиницу.
(обратно)5
Первая Балканская война (осень 1912 — весна 1913) — вооруженный конфликт стран Балканского союза против Османской империи. Причиной войны послужило стремление Болгарии, Греции, Сербии и Черногории к расширению границ. Еще в ходе конфликта была провозглашена независимость Албании, по итогам войны территория нынешнего Косова и северо — восточные области исторической области Македония вошли в состав Сербии, Греция получила Салоники и прилегающие к городу земли, Болгария — выход к Эгейскому морю. Неразрешенные противоречия привели летом 1913 года к скоротечной Второй Балканской войне, во время которой Болгария выступала против своих прежних союзников, Османской империи, а также Румынии.
(обратно)6
Солун — южнославянское название Салоник. В греко-византийский период город назывался Фессалоники, в османский — Селаник.
(обратно)7
Малоазийская кампания (1919–1922) — вооруженный конфликт между Грецией и Османской империей, ставший продолжением Первой мировой войны. Действуя в рамках концепции восстановления Византийской империи, греческая армия взяла под контроль часть восточного побережья Малой Азии, однако в результате продолжавшихся более трех лет боевых действий ее вытеснили оттуда турецкие войска под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка. В 1923 году была провозглашена Турецкая Республика.
(обратно)8
Перевод Павла Антокольского.
(обратно)9
Перевод Николая Тихонова.
(обратно)10
Цитата — по телевизионному тексту, имя переводчика установить не удалось.
(обратно)11
Судьба обвиненных в поджоге рейхстага болгарских товарищей Димитрова сложилась трагически. Васила Танева назначили на партийную должность в Тувинскую Народную Республику. Осенью 1941 года в составе нелегальной группы он был послан на подпольную работу в Болгарию, но диверсантов по ошибке десантировали на территорию Греции, где Танев вскоре погиб в бою. Благоя Попова в 1937 году арестовали по обвинению в подготовке покушения на Димитрова, он 17 лет отсидел в сталинских лагерях. После реабилитации вернулся на родину и успел до своей кончины опубликовать горестные мемуары.
(обратно)12
Перевод Вильгельма Левика.
(обратно)13
Первое сербское восстание (1804–1813) под руководством Георгия Пе2тровича, известного как Карагеоргий, было подавлено османскими властями. Сербское княжество как частично автономная единица в составе Османской империи образовано в результате Второго восстания (1815) под руководством князя Милоша Обреновича. Независимость Сербии была признана в 1878 году.
(обратно)14
Лежская лига, подобие протогосударства, учреждена в 1444 году десятью албанскими и сербскими феодалами (семьи Кастриоти, Захария, Спани, Душмани, Дукаджини, Топиа, Черноевичи и др.) для борьбы против Османской империи и Венецианской республики. Имела свой денежный фонд и общую армию. Из-за внутренних противоречий почти сразу начала медленно распадаться, прекратив существование в 1450 году. Скандербег продолжал вооруженное сопротивление до своей кончины в 1468-м. В городе Лежа (теперь север Албании) расположены мавзолей и символическая могила князя.
(обратно)15
Самая многочисленная албанская община за пределами Албании и бывшей Югославии сформировалась к середине XX века в Турции (по разным оценкам, от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек). Албанцев-арберешей в Италии — 500 или 800 тысяч человек, албанцев-арнавитов в Греции — от 300 до 600 тысяч. 100-тысячные албанские общины образовались также в Германии и Швейцарии.
(обратно)16
В конце лета 1878 года султан командировал в Косово свое доверенное лицо, искусного переговорщика и решительного офицера Мехмеда Али-пашу, с задачей обеспечить выполнение условий мирного договора: передачу Черногории пограничных сел Плав и Гусинье, населенных албанцами. Этот военачальник, три десятилетия верой и правдой прослуживший Османской империи, был выходцем из семьи когда-то бежавших в Пруссию гугенотов. В 1843 году он, юнга торгового судна Людвиг Карл Дитрих Детроа, оказался в Стамбуле, где принял ислам и сумел получить военное образование. Участник Крымской войны, Мехмед Али поднимался по карьерной лестнице, в 1865 году став генералом (пашой), а в 1877-м маршалом. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов командовал крупными армейскими соединениями, затем в составе делегации Османской империи защищал ее позиции на Берлинском конгрессе. В Косове три сопровождавших Мехмеда Али-пашу пехотных батальона натолкнулись на сопротивление отрядов Призренской лиги. Маршал укрылся в доме-крепости губернатора Яковы (теперь — Джякова) и вместе с горсткой бойцов несколько дней выдерживал осаду. Когда нападавшие подожгли здание, маршал застрелил восьмерых, однако и сам был убит. Отрубленную голову Мехмеда Али-паши его жестокие враги водрузили на шест. Армия султана подавила мятеж, но Плав и Гусинье оставались в составе Османской империи до 1912 года. Вместо них Черногории в 1880 году передан приморский город Улцинь.
(обратно)17
Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) — Армия освобождения Косова (алб.).
(обратно)18
Метохия (от греч. μετοχή — «церковный надел», «монастырская земля») — в сербской традиции: обозначение западных районов Косова, занимающих около трети территории края. Албанцы называют эти земли rrafshi i Dukagjinit, «равнина Дукаджини», по имени знатного феодального рода. В послевоенных конституциях Сербии (кроме самой либеральной, действовавшей с 1974 по 1990 год) название области указано так: «Косово и Метохия». Албанские названия Косова — Republika e Kosovës; Kosova.
(обратно)19
О независимости Косова впервые объявлено в 1992-м, через два года после того, как власти в Белграде упразднили некоторые автономные полномочия области, введенные конституционной реформой 1974 года. Бойкотируя югославское государство, албанцы провели собственные выборы и создали свои органы управления, здравоохранения и образования, от начальных школ до университета. Деньги поступали в качестве «добровольных пожертвований» (каждому албанцу предлагалось отчислять 3 % доходов в пользу косовского квазигосударства) и из богатой диаспоры. Главной политической экспонентой этой системы стал Демократический союз Косова во главе с Руговой. В 1992 году он был избран президентом никем не признанной в то время республики и занимал этот пост до своей смерти в 2006-м.
(обратно)20
Османская империя в целях изменения этнического и религиозного состава населения проводила колонизацию Косова. Одним из эпизодов такой политики стало размещение на Балканах в 1860-е годы примерно 200 тысяч мухаджиров — выходцев с завоеванного Россией Северного Кавказа, которых тогда собирательно называли черкесами. В Косове поселились около 2 тысяч черкесских семей, сохранявших свои язык и традиции. Во второй половине XX века кавказскими считались села Донье-Становце и Милошево. В 1998 году 40 семей (примерно 200 человек) репатриировались в Адыгею. Теперь кавказское присутствие в Косове не ощущается.
(обратно)21
Мехмед-паша Соколович (Соколлу, 1505–1579) — государственный деятель Османской империи, серб из Боснии. В детстве обращен в ислам, много лет служил в корпусе янычар, участвовал в битве при Мохаче (1526) и неудачной для османов осаде Вены (1529). Начальник придворной стражи, адмирал имперского флота, наместник Румелии. С 1565 года занимал, при трех султанах, пост великого визиря. Заколот, по одной версии, неизвестным дервишем из чувства личной мести, по другой — мусульманами-сектантами.
(обратно)22
Боснийские мусульмане, бошняки — часть населения Боснии и Герцеговины; южнославянская этническая группа (теперь нация), принявшая в период османского владычества исламские культуру и образ жизни. Долгое время мусульман Боснии считали «потуреченными» сербами или хорватами, в начале 1970-х годов югославские власти признали их отдельной национальностью. Общая численность бошняков, которые составляют чуть более половины населения Боснии и Герцеговины (1,85 миллиона человек), — от трех до четырех миллионов человек. Говорят на боснийском языке, этнолекте сербского или хорватского, верующие практикуют ислам суннитского толка. Для обозначения всего населения многонациональной страны используется термин «боснийцы».
(обратно)23
Согласно принятой в 1995 году конституции страны, Босния и Герцеговина — парламентская республика, состоящая из имеющих значительную степень автономии Мусульманско-хорватской федерации (51 % территории и 62 % населения страны) и Республики Сербской. В 1999 году небольшой район Брчко со спорным статусом выделен в самоуправляемый округ под международным наблюдением. Общегосударственные органы власти формируются по принципу национального паритета. Многоступенчатое устройство Боснии и Герцеговины и сложная конфигурация ее внутренних границ отражают результаты военного конфликта 1992–1995 годов. Историческая область Герцеговина занимает 22 % территории, здесь проживает около 10 % населения страны.
(обратно)24
Международный трибунал по наказанию военных преступников в бывшей Югославии — учрежденный ООН в 1993-м и завершивший свою деятельность в 2017 году судебный орган, задачами которого являлись «восстановление справедливости в отношении жертв преступлений <…> совершенных во время войн в Югославии в 1991–2001 годах, и наказание виновных в этих преступлениях». Находился в Гааге. Обвинения в совершении военных преступлений были предъявлены 161 лицу. Самыми злодейскими преступлениями военного конфликта в Боснии и Герцеговине называют сербскую осаду Сараева и геноцид в Сребренице, убийство летом 1995 года сербскими военными семь или восемь тысяч боснийских мусульман. Учреждению и практике первых десяти лет работы Гаагского трибунала посвящена моя вышедшая в 2003 году книга «Трибунал. Хроника неоконченной войны».
(обратно)25
Никола Тесла (1856–1943) — выдающийся изобретатель в области электротехники и радиотехники, серб родом из хорватской исторической области Лика. Покинул родную Австро — Венгрию в возрасте 24 лет и свои многочисленные открытия сделал во Франции и США.
(обратно)26
Хорватский совет обороны — сформированная в 1992 году военная организация хорватов Боснии и Герцеговины, армия самопровозглашенной Хорватской республики Герцег-Босния, образованной под патронатом Загреба для «защиты интересов хорватов». До начала вооруженного конфликта хорваты составляли 18 % населения республики (сейчас около 15,5 %). Республика Герцег-Босния упразднена в конце 1995 года прекратившими войну в Боснии и Герцеговине Дейтонскими мирными соглашениями. Подразделения Хорватского совета обороны (в военное время насчитывавшие, по разным данным, от 38 до 50 тысяч бойцов) тогда же были включены в состав вооруженных сил Мусульманско-хорватской федерации Боснии и Герцеговины, а в 2005 году (как Первая пехотная бригада) стали частью вооруженных сил Боснии и Герцеговины.
(обратно)27
Перевод Елены Фанайловой.
(обратно)28
Барон Йозеф (Йосип) Филиппович фон Филиппсберг (1819–1889) — хорватский дворянин, австрийский и австро-венгерский военачальник, генерал от инфантерии. Поступил на армейскую службу в возрасте 17 лет, получил военно-инженерное образование. В чине майора Вараждинского пограничного полка принимал участие в подавлении революции 1848–1849 годов, в звании полковника отличился в проигранной австрийской армией французам и итальянцам битве при Сольферино (1859), в должности штабного генерал-майора — в неудачной для Габсбургов войне с Пруссией (1866). В 1874–1878 и 1882–1889 годах командовал военным округом в Богемии. В 1878–1880 годах — командующий австро-венгерскими войсками в Боснии и Герцеговине, оккупированной Австро-Венгрией по решению Берлинского конгресса.
(обратно)29
Северным пределом проникновения Османов в Европу стали нынешняя украинская область Подолье и территории южнее Киева (вторая половина XVII века), западным — завоеванное в конце XVI столетия адриатическое побережье теперешней хорватской области Лика.
(обратно)30
Боснийская Краина — исторический район на северо-западе Боснии в бассейнах рек Сава, Уна и Врбас с городами Баня-Лука, Бихач, Цазин, Приедор, Велика-Кладуша.
(обратно)31
«Исторической» датой возникновения «второй Югославии» принято считать 29 ноября 1943 года, когда решением 142 партизанских делегатов Антифашистское вече преобразовано во временное правительство будущего государства. Заседание прошло в городе Яйце, где некогда османы погубили последнего короля Боснии Степана Томашевича, в бывшем помещении спортивного общества «Сокол». Это двухэтажное здание существует и теперь, в нем с коммунистических времен открыт музей со скромной экспозицией, сильно пропахшей плесенью: скульптуры товарища Тито и его соратников, портреты товарища Тито и его марксистских предтеч, кресло, в котором сидел товарищ Тито. В число депутатов заседания попал крупный словенский художник Божидар Якац. Сражаясь с врагом и голосуя за Югославию, он сделал сотни зарисовок партизанской жизни и борьбы, в том числе серию карандашных портретов волевого маршала.
(обратно)32
Перевод Жанны Перковской.
(обратно)33
Бо2льшая, восточная часть области Банат («банские земли») принадлежит Румынии, меньшая западная — Сербии, а крошечная северная оконечность досталась Венгрии. Область Бачка («окрестности города Бач», сейчас в Сербии) поделена Сербией и Венгрией в пропорции примерно 6,5:1. Область Западный Срем входит в состав Хорватии, вдвое бо2льшая область Восточный Срем принадлежит Сербии.
(обратно)34
Результатом миграции с Военной Границы и османских территорий Балкан в Российскую империю в начале 1750-х годов стало образование на территории нынешней Кировоградской области Украины военно-административной единицы Новая Сербия с центром в Миргороде и области военно-земледельческих поселений Славяносербия на землях нынешних Луганской и Донецкой областей со столицей в Бахмуте. Автономии, куда перебрались несколько тысяч семей преимущественно православных славян, просуществовали до 1764 года, после чего вошли в состав Новороссийской губернии.
(обратно)35
Конавле — историческая область на крайнем юге современной Хорватии, гористый прибрежный пояс от Дубровника до приграничного черногорского города Герцег-Нови.
(обратно)36
Военная история Черногории предоставляет патриотам широкий выбор памятных дат. Свой главный армейский праздник, День национальных Вооруженных сил, черногорцы отмечают 7 октября. Как полагают, именно в этот день в 1042 году войско князя Дукли Стефана Воислава одержало у крепости Бар (греч. Αντιβάριον) внезапную ночную победу над превосходящими византийскими силами. Интересно, что в качестве символа доблести оружия выбран — как способ подчеркнуть историческую преемственность — не эпизод антиосманского сопротивления, а сражение почти тысячелетней давности, произошедшее за много веков до начала формирования современного черногорского самосознания.
(обратно)37
Истории Балкан известны и более сложные примеры определения национальной идентичности. Ведущий боснийско-мусульманский политик межвоенного периода, лидер партии «Югославская мусульманская организация» Мехмед Спахо называл себя югославом. В то же время его старший брат Фехим Спахо (в 1938–1942 годах — духовный лидер боснийских мусульман) самоопределялся как хорват, а младший брат, инженер Мустафа Спахо, — как серб.
(обратно)38
С 1946 по 1992 год Подгорица носила название Титоград. Имя Тито к концу существования СФРЮ было увековечено в названии городов каждой из югославских республик и автономных краев, хотя никто, кроме черногорцев, не решился переименовать столицу: Титово-Веленье в Словении, Титова-Кореница в Хорватии, Титов-Дрвар в Боснии и Герцеговине, Титово-Ужице в Сербии, Титова-Митровица в Косове, Титов-Врбас в Воеводине, Титов-Велес в Македонии. Теперь этим городам возвращены прежние имена.
(обратно)39
Перевод Михаила Зеньковича. Лингвисты отмечают, что система поэтических образов Петровича-Негоша исключительно сложна для передачи на другие языки. На русский «Горный венец» переведен четыре раза целиком и четыре раза в отрывках. Особенности этих переводов неизменно вызывают споры.
(обратно)40
Джефердар — длинноствольное ружье XVIII–XIX веков с ударно-кремневым замком, обычно с богатой инкрустацией из серебра и драгоценных камней, часто именное.
(обратно)41
Гусле — южнославянский струнный смычковый инструмент с овальным корпусом, выдолбленным из дерева, и кожаной мембраной. На одной или двух свитых из 50–60 нитей конского волоса струнах играют лукообразным смычком.
(обратно)42
Граф Йосип Елачич-Бужимский (1801–1859) — фельдмаршал-лейтенант австрийской армии, хорватский государственный деятель, консервативный политик. Активный участник подавления революции 1848–1849 годов, один из командующих императорскими войсками, отвоевавшими у венгерской армии Пешт и Буду. В 1848–1859 годах — императорский наместник в Хорватии, Славонии и Далмации. Оставаясь лояльным Габсбургам, проводил политику отделения хорватских земель от Венгерского королевства. Организовал выборы в парламент, ввел административное использование хорватского языка. Несмотря на это, по итогам деятельности не снискал популярности ни среди местной политической элиты, ни в широких слоях населения: экономический курс Елачича считали безжалостным, в вину ему ставили германофильство. Конная статуя бана работы Антона Доминика Фернкорна установлена на центральной площади Загреба в 1866 году, демонтирована коммунистами в 1947-м и возвращена на место в 1990-м. В современной Хорватии авторитет национального героя Елачича — объективно говоря, персонажа реакционного — сомнениям не подвергается.
(обратно)43
С 1102 года Хорватия была объединена с Венгерским королевством династической унией: две страны управлялись одним правителем как раздельные территории. Хорватские дворяне не платили налогов королю, имели собственный парламент, сохраняли другие привилегии. Уния просуществовала до 1526 года и была восстановлена в 1570-м под скипетром династии Габсбургов. До момента распада Австро-Венгерской империи хорватские земли составляли формально целостное Триединое королевство, однако административно одна их часть находилась под прямым попечением императора (Далмация), а другие, при сохранении некоторой степени самоуправления, подчинялись Венгрии (Королевство Хорватия и Славония). Возникшее в 1918 году южнославянское королевство было унитарным государством, народы которого не получили национальной автономии.
(обратно)44
Окончание жизненного пути Янко Бобетко оказалось трагическим. В 2002 году Гаагский трибунал выдвинул против него обвинения в совершении военных преступлений во время боевых действий в 1993 году в области Лика. По версии прокуратуры трибунала, генерал не предотвратил бесчинства подчинявшихся ему военных против мирного сербского населения. Бобетко отверг обвинения, заявив, что трибунал должен стыдиться возбуждать уголовное дело против «старейшего антифашиста Европы». Общественное мнение Хорватии разделилось. Принятию решения об экстрадиции Бобетко в Гаагу помешала его смерть в 2003 году.
(обратно)45
Единый сербскохорватский язык кодифицирован в первой половине XIX века сербским просветителем Вуком Караджичем на основе герцеговинского диалекта. В 1954 году в Югославии официально признано существование двух равноправных литературных языковых норм, сербской и хорватской. Нормы современных сербского, хорватского, боснийского и черногорского языков базируются на штокавском наречии, самом распространенном на территории сербскохорватского языкового континуума. Два других наречия, кайкавское и чакавское, используются в основном на территории Хорватии. Лексические различия между разными языками сербскохорватского языкового континуума постоянно возрастают.
(обратно)46
Антун Густав Матош (1873–1914) — хорватский писатель, поэт-модернист и политический публицист.
(обратно)47
Перевод Михаила Кострикина.
(обратно)48
Мирослав Крлежа (1893–1981) — крупнейший хорватский писатель XX века, романист, драматург и эссеист. Августин Уйевич (1891–1955) — хорватский поэт-модернист, переводчик, эссеист.
(обратно)49
Франьо Бучар (1866–1946) — популяризатор спорта и историк литературы, первый председатель Хорватского спортивного союза.
(обратно)50
По одной из версий, Дубровник возник вследствие объединения основанных в VII–VIII веках по соседству друг с другом романского поселения Рагузиум (искаженное лат. «стена») и славянского поселения Дубрава. В официальном делопроизводстве город на протяжении столетий именовался Рагузой. Название Дубровник, впервые упомянутое в документах конца XII века, вошло в официальное употребление после 1918 года.
(обратно)51
Гай Аврелий Валерий Диоклетиан (245–313) — император Римской империи с 284 по 305 год. Выходец из бедной семьи, внук раба, он сделал блестящую карьеру солдата и военачальника, а потом пришел к власти в результате междоусобной борьбы. Диоклетиан известен гонениями на христиан, он способствовал укреплению государства, одержав несколько важных военных побед, а также его децентрализации, установив режим тетрархии (коллективного управления) и разделив громадную страну на четыре префектуры. В 305 году император удалился от власти и остаток жизни провел в своем дворце в провинции Иллирия (том самом), занимаясь садоводством и огородничеством.
(обратно)52
Перевод Николая Остолопова.
(обратно)53
Перевод Николая Берга.
(обратно)54
Стаунтон — разработанный в середине XIX века дизайн комплекта шахматных фигур, считающийся сейчас стандартным и рекомендованный для соревнований под эгидой ФИДЕ. Получил имя в честь сильнейшего шахматиста 1840-х годов британца Говарда Стаунтона.
(обратно)55
Перевод Давида Самойлова.
(обратно)56
В немецкоязычном обиходе до середины XIX века за словенцами сохранялось название «венды» (Wenden), обычно использовавшееся в эпоху Средневековья для общего обозначения славянских племен, живших по соседству с германцами (прежде всего для полабских славян).
(обратно)57
Перевод Сергея Шервинского.
(обратно)58
Борис Пахор (р. 1913) — пишущий на словенском языке итальянский писатель, политический представитель словенского меньшинства в Триесте, где он родился и провел почти всю жизнь. В начале Второй мировой войны Пахора, получившего католическое образование, мобилизовали в армию Муссолини. Он воевал против британцев в Ливии; вернувшись домой, примкнул к партизанскому антифашистскому движению. В 1944–м был арестован, больше года провел в нацистских концлагерях. Придерживался антикоммунистических взглядов, после упразднения Свободной территории Триест сохранил гражданство Италии. В 1966–1990 годах редактировал интеллектуальный словеноязычный журнал Zaliv. Главные произведения Пахора — переведенный на многие языки роман «Некрополь» (1967), в котором обобщен экзистенциальный опыт узника концлагеря, а также объединяющая романы «Затемнение» (1975), «Трудная весна» (1978) и «В лабиринте» (1984) трилогия о Триесте. Пахор — автор литературоведческих работ, лауреат международных премий. Последнюю на данный момент книгу, посвященный своей покойной супруге сборник дневниковых записей «Книга о Раде», Пахор издал в возрасте 98 лет.
(обратно)59
Перевод Якова Хелемского.
(обратно)
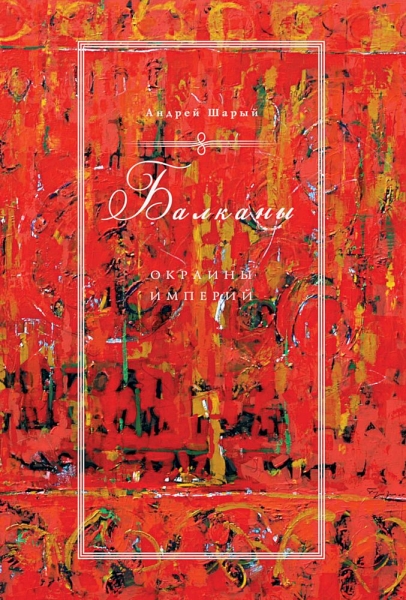



Комментарии к книге «Балканы: окраины империй», Андрей Васильевич Шарый
Всего 0 комментариев