Гомер и история Восточного Средиземноморья
Глава 1 История принадлежит поэту
1
Для античности Троянская война была несомненным фактом. Следы ее виделись повсюду. О ней напоминали родословные, идущие от ее героев, названия основанных ими городов, гавани, где были стоянки их кораблей, мысы и острова. Можно было оспаривать тот или иной источник, говоривший о ней, но объявить саму Великую Войну фикцией в античные времена было немыслимо.
Современный историк, пытаясь «подступиться» к Троянской войне, реконструировать ее смысл и причины, попадает в исключительно сложное положение. У него не оказывается в руках никаких «объективных» данных о ней (о раскопках Г. Шлимана мы еще поговорим). Да, про эту войну упорно твердит традиция — но и только. К тому же самые ранние образцы этой традиции, они же и самые авторитетные, исходные, бывшие в античности как бы недосягаемым образцом воплощения троянской темы, — поэмы, связывавшиеся с именем великого аэда Гомера, — отстоят от предполагаемого времени войны на 500–600 лет. Но хуже всего для историка-позитивиста то, что подавляющее большинство памятников, повествующих о Троянской войне, являются даже не записями народных преданий о былом, а прямо произведениями художественной словесности. И прежде всего это относится к поэмам Гомера. Как же на основе текста, созданного по законам поэтического творчества, судить об исторической реальности, которая — если только она вообще имела место — отделена от этого вымысла многими веками, да еще веками, когда в Греции не было письменности и, значит, не могло сохраниться никаких документов о столь далеком прошлом?
В такой ситуации у исследователя есть три выхода. Во-первых, он может сразу же заявить, что при современной источниковедческой базе о Троянской войне ничего определенного сказать нельзя и пока ее реальность не подтверждена дополнительными источниками — прямыми показаниями археологии или письменных документов, — историку, стоящему на почве фактов, не следует заниматься столь сомнительным делом. Во-вторых, он имеет возможность, не требуя доказательств, принять традицию за вполне достоверное свидетельство, почти что «хронику великих дел», сохраненную в коллективной памяти, и попросту перелагать ее в импонирующих ему исторических терминах, как часто и поступают. Если же он не захочет некритически выбрать ни один из этих малоплодотворных путей, у него остается одно решение: всерьез войти в филологическую, прежде всего гомероведческую, проблематику, чтобы понять, как реально возникал и воспринимался текст Гомера, и представить, может ли стоять за этим замечательным поэтическим вымыслом какой-то исторический прообраз, и какой именно. По этому последнему пути мы и пойдем в нашей книге, сознавая, что историческая истина сказаний о Троянской войне лежит в предыстории гомеровского эпоса.
Споры, бушевавшие в науке последние 200 лет вокруг поэм Гомера, принято объединять под общим названием «гомеровского вопроса». Рассмотрим эту дискуссию внимательнее, ибо, как будет показано ниже, каждой из споривших школ было присуще свое, особое понимание гомеровского историзма. В течение прошлого и в начале нынешнего века «гомеровский вопрос» был достоянием почти исключительно филологов-классиков, обсуждавших его в том плане, в каком его некогда поставил Ф.-А. Вольф, а именно как вопрос о едином или множественном авторстве гомеровских поэм, обеих вместе и каждой из них в отдельности. В эту пору в гомероведении господствовал в разных вариантах так называемый аналитический подход. Его целью было разъятие обеих поэм на предполагаемые малые, более ранние песни или же вскрытие в массивах эпоса разновременных напластований, возникавших по мере того, как поэмы в их эволюции переходили от одного певца к другому. Основным объектом этих опытов выступала «Илиада», а мотивировкой для них представлялось как бы самоочевидное противоречие между конкретной, четко обозначенной в зачине темой — гневом Ахилла и огромностью втянутого в рассказ материала, никак на внешний взгляд не объединяемого этой заявленной темой. Критерии расчленения «Илиады» выдвигались разные, но за основу неизменно брались две априорные, не подлежавшие критике аксиомы. Во-первых, история эпоса мыслилась исключительно как история жизни готовых текстов, после своего создания прочно закрепляемых в памяти певцов или на письме. Считалось, что эти тексты в сотни стихов способны были контаминироваться, приспосабливаться друг к другу при помощи разнообразных поправок и привнесений с тем, чтобы потом «склеенные» из них более крупные эпические образования могли передаваться далее все так же в точно фиксированном виде, если, конечно, не будет воли очередного певца на новые изменения и доработки. Во-вторых, предполагалось, что сюжет поэмы изначально должен был существовать в максимально простой, элементарной форме, типа «обида — примирение»; все же отклонения от нее, осложняющие рассказ, рассматривались как вторичные интерполяции, снимаемые анализом.
В 20—30-х годах нашего века в гомероведении произошли серьезные перемены. На первый план вышли две новые, конкурирующие между собой концепции, каждая из которых ревизовала и отвергала какую-то одну из указанных фундаментальных аксиом аналитизма. С одной стороны, выдвинулась школа М. Пэрри — А. Лорда и их последователей, доказывавшая типологическую близость между поэтикой Гомера и творчеством певцов-сказителей у тех народов, у которых до сих пор сохранился традиционный устный эпос. Эти ученые поспешили распространить на Гомера результаты, добытые ими при полевой фольклористической работе с югославскими певцами-импровизаторами, но широко подтверждающиеся и материалами иных культур. Важнейшее значение имел вывод о том, что жизнь устного эпоса в веках основывается на передаче от певца к певцу не готовых, сложившихся текстов, но запаса средств, используемых при порождении песни: традиционных сюжетов, канонических образов и ситуаций, а также стереотипных словесно-ритмических формул-словосочетаний. Певцы, способные из этих элементов каждый раз заново одномоментно импровизировать песню, в глазах слушателей выступают не как авторы устойчивых художественных текстов, но как умелые «сказители историй» (singers of tales, по определению Лорда). Каждая такая история представляет реализацию традиционного эпического канона, апробированного коллективом и составляющего важнейшую часть его духовной культуры, причем такие каноны у разных народов обнаруживают большую типологическую близость. В этом смысле о традиционном эпосе говорят как о форме коллективного творчества, хотя, как правило, в каждом отдельном случае песня импровизируется певцом-профессионалом. В Гомере ученые школы Пэрри — Лорда видели именно такой тип великого импровизатора, «сказителя историй».
Понятно, что при этом постулат о становлении «Илиады» в результате сращивания и взаимной подгонки готовых текстов был отвергнут. Для данной школы предыстория «Илиады» — это эволюция не текста, а «компетенции» певцов. Как отмечает П. А. Гринцер, «проблемы авторства, оригинала, интерполяции, точной датировки того или иного памятника или какого-то определенного слоя в нем — это проблемы письменной литературы. Устный эпос не знает ни автора в обычном понимании этого слова, ни твердо установленного текста, ни точной даты создания, ни отделенных непроницаемыми барьерами редакций» [Гринцер, 1974, с. 14]. Многие явления у Гомера, которые рассматривались аналитиками как «интерполяции» — например, повторы, ретардации, тормозящие действие, — нашли свое объяснение с привлечением параллелей из иных эпических традиций. Однако вторая аксиома аналитизма, которую можно назвать «редукционистской», т. е. непременно требующей сведения сложного к простому, в работах школы Пэрри — Лорда оказалась не столько отклонена, сколько переосмыслена, сохранена в новом виде. Если аналитики стремились свести «Илиаду» к совокупности элементарных пассажей с простыми сюжетами или к простому ядру, разбухшему в результате ряда добавлений, то сторонники теории устного эпоса столь же последовательно пытались разложить оригинальную целостную структуру «Илиады» на множество стереотипных сюжетных ситуаций, проходящих через разные традиционно эпические каноны. Приемы гомеровского сюжетосложения, явственно отклоняющиеся от эпических стандартов и соотносящие «Илиаду» и «Одиссею» скорее с индивидуально-авторскими произведениями более поздних эпох, при этом либо игнорировались, либо списывались на счет редактуры, проделанной при записи гомеровских песен и «сшивании» их в единый корпус. Последователи Пэрри, как и аналитики, в своей работе исходят из нижних ярусов организации текста — одни из формульных, образных и сюжетных клише, другие из относительно автономных структурных компонентов в сюжете. Генезис «Илиады» (и «Одиссеи») как целого, эстетическая специфика этого целого, его воздействие на сознание читателей и слушателей расцениваются как следствие более или менее случайных, вторичных процессов.
Именно редукционистские посылки старого аналитизма отклонила унитаристская традиция XX в., родоначальником которой по праву считается В. Шадевальдт. Впрочем, уже крупнейшие аналитики начала столетия, такие, как У. фон Виламовиц-Мёллендорф и Э. Бете, пришли к идее некоего конечного творческого синтеза, лежащего в основе большей части нынешнего текста «Илиады» и подчиняющего ее разнородный материал единому замыслу [Wilamowitz-Moellendorff, 1916; Bethe, 1914]. Но Шадевальдт шагнул гораздо дальше, заложив основы исследования каждого гомеровского эпизода с точки зрения его функций в составе поэмы как целого и показав, что распределение этих функций не позволяет изъять из наличного здания «Илиады» какой-либо компонент, не подорвав структуры и не нарушив ее связности [Schadewaldt, 1938]. Все эпизоды «Илиады», сколь бы далеко ни отстоял тот или иной из них внешне от темы гнева Ахилла, связаны принципом взаимной подготовки (Vorbereitung), с неукоснительной последовательностью нацеливающим их на тот миг, когда сюжет как бы сам собой должен вытолкнуть на поле битвы скрывающегося Ахилла. С Шадевальдта начинается перелом в гомероведении в пользу унитаризма, ознаменовавшийся выходом множества работ, демонстрирующих выверенность и эстетическую действенность композиции «Илиады» (К. Райнхардт, Дж. Какридис, А. Хойбек, Г. Эрбзе, С. Уитмен и др.). В отличие от гомероведческого унитаризма ΧΙΧ—ΧΧ вв., который даже в лице столь крупных своих представителей, как Э. Дреруп или Т. Аллен, занимал оборонительную позицию, выявляя произвольность тех или иных аналитических построений, новый унитаризм начиная с Шадевальдта обрел твердую методологическую основу. Такой основой стала уверенность в абсолютной необязательности восхождения разветвленной нетривиальной структуры «Илиады» в процессе ее создания к структурам простейшим. С точки зрения конкретного замысла поэта как раз сложное, рассчитанное на неожиданный эффект может быть первичным.
В прямую противоположность школе Пэрри — Лорда унитаристы последних пятидесяти лет, перешагнув через редукционизм аналитиков, сохранили филологический взгляд на генезис «Илиады» как авторского фиксированного текста. Их Гомер — не просто «сказитель историй», но создатель художественного текста, рассчитанного на воспроизведение с минимальными вариациями, отмеченного печатью личного авторства.
Разработки современных гомероведов ведутся в основном в рамках этих двух подходов, которые могут быть обозначены как «линия Шадевальдта» и «линия Пэрри — Лорда». Вопреки иногда высказывающимся суждениям спор этих течений не сводится к вопросу о письменном или устном характере поэм. Разумеется, взгляд на эти огромные памятники как на детально проработанные тексты часто соединяется с мыслью о возможности использования письма при их создании. Но ведь такой возможности не отрицают и некоторые сторонники фольклорного происхождения поэм. Так, А. Лорд думал, что великий «сказитель историй» мог их диктовать какому-то писцу (см. [Lord, 1953]), а С. Баура допускал, что сам гениальный импровизатор мог, овладев письмом, записывать свои поэмы [Bowra, 1955, с. 10 и сл.; Тройский, 1973, с. 149]. Некоторые ученые развивают концепцию «переходных» эпосов, создаваемых уже с применением письма, но формально мало отличающихся от записи произведений «коллективного творчества» [Гринцер, 1974, с. 95]. С другой стороны, не все исследователи, отмечающие оригинальные авторские черты гомеровских поэм, уверены, как, например, Р. В. Гордезиани, в их сугубо письменном характере [Гордезиани, 1978, с. 258 и сл.; Gordesiani, 1986]. Иные предпочитают думать, что эпос сперва исполнялся устно и был записан уже после смерти поэта [Kirk, 1962, с. 58 и сл.]. Главное расхождение не в том, создавались ли эти произведения тем или иным формально-техническим способом, а в интерпретации творческой личности, стоящей за ними: мыслится ли она по аналогии с акынами и манасчи или гораздо ближе к Эсхилу и Вергилию.
Именно по этому критерию и выделимы три основные исследовательские парадигмы в гомероведении. Для одной текст Гомера — реализация эпического канона. Для другой — выражение творческого сознания, во многом не укладывающегося в канон и активно переосмысляющего его, творя новые сюжетно-повествовательные формы для выражения своих установок. И наконец, для третьей, сейчас переживающей кризис, в этом тексте слышится столкновение и борьба многих творческих актов, разных традиций, независимых, суверенных сознаний различных поэтов.
Однако эти парадигмы вовсе не представляют окончательно размежеванных, непримиримых альтернатив, но скорее усредненные тенденции, оставляющие достаточно возможностей для переходных, промежуточных позиций. В пределах каждого из основных гомероведческих течений нынешнего времени — как «линии Шадевальдта», так и «линии Пэрри — Лорда» — в трансформированном виде на правах приглушенного, второстепенного расхождения может оживать старая дискуссия унитариев и аналитиков. Так, если говорить о теории устного эпоса, то А. Лорд постулировал существование одного «сказителя историй», Гомера, подобного знаменитым сказителям южных славян. Напротив, Д. Пейдж в аналитическом духе утверждает, что в «Илиаде» можно выделить следы различающихся эпических версий, сведенных воедино [Page, 1959, с. 297 и сл.]. Если перейти к унитариям — на одном фланге видим своеобразный «ультра-унитаризм» Г. Эрбзе, для которого органичности того или иного эпизода или мотива в нынешнем тексте «Илиады» достаточно, чтобы объявить их созданными поэтом «по вдохновению», без серьезной опоры на раннюю традицию [Erbse, 1961]. А на противоположном крыле оказывается «неоаналитизм» В. Кульманна или самого Шадевальдта, увлеченно выискивающих в «Илиаде» приметы возможных влияний со стороны более ранних песен Троянского цикла [Kullmann, 1960; Schadewaldt, 1965].
Наконец, связующим звеном между идеями Шадевальдта и Пэрри — Лорда может служить в том или ином виде разделяемая многими учеными концепция «перерастания» в гомеровском творчестве традиционного эпоса в эпос авторский. Это та общая почва, где и встречаются, и могут быть примирены взгляды последовательных унитариев (Эрбзе, Гордезиани) и ученых, в основном принадлежащих к фольклорно-эпосоведческому направлению, но вместе с тем признающих в Гомере такое развитие принципов устного эпоса, которое уже дает новое художественное качество (Баура, Керк). Подобное понимание Гомера, как увидим, близко и авторам данной книги.
2
Параллельно этим внутренним процессам в гомероведении с конца прошлого века «гомеровский вопрос» обрел совершенно новое измерение, делающее его актуальным не только для специалистов по классической филологии и теории фольклора, но и для множества людей, интересующихся историей древнего мира. Это проблема отношения гомеровского повествования и, шире, всего цикла сказаний о походе греков на Трою к реальной истории.
Можно выделить четыре основных фактора, способствовавших развитию исследований в данном направлении. Во-первых, это проведенные в 1870—90-х годах Г. Шлиманом и В. Дерпфельдом раскопки слоев Трои, относящихся к бронзовому веку, а также великих столиц Ахейской Греции — Микен, Пилоса и Тиринфа. Тем самым было доказано главное — героическая эпоха, о которой говорили предания, передаваемые сквозь века аэдами, — не поэтический вымысел, а совокупность действительных событий: были великие цари Микен, лидировавшие в этом мире, были вассальные царства, столицы которых во многом совпадали с дворцами гомеровских царей — сподвижников Агамемнона, существовал в это время тесно связанный с греческим миром могучий город с высокими стенами на Гиссарлыкском холме, где с конца VIII в. до н. э. выросло греко-эолийское поселение, называвшееся Илионом и претендовавшее на преемственность по отношению к гомеровской Трое-Илиону.
Во-вторых, дешифровка в 1910-х годах документов из архивов хеттских царей и многочисленные раскопки в Малой Азии выявили картину массового проникновения греков-ахейцев с XV в. до н. э. на побережье этого полуострова. В хеттских документах замелькало название великого царства Аххиявы и имена его правителей, в ряде случаев перекликающиеся с именами ахейских царей и героев. Начался ожесточенный спор о правомерности подобных отождествлений.
В-третьих, дешифровка древнейших памятников греческого языка, выполненных так называемым линейным письмом Б, пролила свет на многие стороны жизни греков в XIV–XIII вв. до н. э., о которых археология не давала достаточного представления. Связи этого мира с Малой Азией, в том числе и с районом Троады, стали нагляднее и отчетливее. Зазвучали греческие имена конца бронзового века, и оказалось, что из них многие идентичны именам героев эпоса.
Наконец, в-четвертых, позднейшие раскопки Трои, проведенные в 1930—1950-х годах экспедицией К. Блегена, и публикация результатов этой экспедиции [Blegen, 1950–1958; 1963] уточнили картину потрясений, пережитых этим великим городом в конце его существования. По датировке Блегена, принятой с поправками в пределах нескольких десятилетий большинством историков и археологов, важнейшие из этих бедствий приходились на конец XIV–XIII в. до н. э., т. е. на то время, которым античная традиция датировала в большинстве случаев походы Геракла и Агамемнона на Трою. Восстановленная Блегеном цепь событий — сперва сокрушение величественных стен Трои VI землетрясением, а спустя примерно через полвека война и пожар, испепеляющий ее преемницу Трою VIIa, — отчетливо вызывала в памяти читателей историю гибели Лаомедонтовой Трои, сокрушаемой гневом колебателя земли Посейдона, а вслед за тем долгое царствование Приама, обрывающееся Троянской войной гомеровских поэм.
В результате споры вокруг проблем «Гомер и история», «Гомер и Микены» буквально захлестнули гомероведение XX века. Причем если одни исследователи трактовали данную проблематику в общем эпосоведном, культурно-историческом плане, выявляя отложившиеся в «Илиаде» и «Одиссее» социальные и археологические реалии разных эпох [Nilsson, 1933; Webster, 1964; Kirk, 1962; Андреев, 1976], то других волновал главным образом вопрос об историзме отраженных в эпосе событий. Была или нет Троянская война и если была, то насколько можно верить Гомеру и другим античным авторам в ее изображении? Известно множество работ, оценивающих «Илиаду» как исторический или полуисторический эпос, вполне надежный с точки зрения историка [Burr, 1944; Page, 1959; Luce, 1975; Wood, 1985]. Такому подходу активно противостоят скептики, подчеркивающие в эпосе Гомера черты, которые роднят его с мифом и сказкой, будто бы всегда лежащими вне реальной истории [Carpenter, 1956; Hampl, 1962; Finley, 1964]. Эти авторы доказывают практически полное отсутствие у Гомера свидетельств, начиная с самого факта похода на Трою, которые находили бы однозначное подтверждение в исторических источниках. Пользоваться же показаниями эпоса или легенды для восполнения лакун, возникающих в ряду известных исторических событий, им представляется недопустимой вольностью.
Эти альтернативы — «Илиада» как историческое воспоминание или же «Илиада» как создание фантазии поэта, слабо соприкасающееся с историей, — пересекаются с собственно гомероведческой контроверзой: Гомер как традиционный аэд-сказитель или же Гомер как индивидуальный поэт-автор. Этим пересечением определяется множество подходов, реализуемых в работах отдельных ученых. Среди последователей Пэрри сам Лорд, усматривая в традиционном эпосе канонические схемы календарного мифа, считает этот вид творчества внеисторичным по природе [Lord, 1970]. Напротив, Д. Пейдж, также считая «Илиаду» продуктом «коллективного творчества», высоко ставит ее информативность в качестве священного предания малоазийских греков о делах их предков [Page, 1959]. Унитарист А. Хойбек резко выступает против попыток видеть в поэме хоть какие-то намеки на стихотворную хронику реального похода против Трои [Heubeck, 1949; 1960; 1961а]. А Р. В. Гордезиани, неизменно исходящий из образа Гомера — индивидуального автора, творившего в VIII в. до н. э., тем не менее настаивает на исторической достоверности картины Троянской войны в «Илиаде», полагая, что поэт мог основываться не только на стихотворном и прозаическом предании греков и легендах соседних народов, но и на переживших века письменных источниках (!), дошедших от микенского времени [Гордезиани, 1978, с. 324]. Надо сказать, что последняя возможность абсолютному большинству специалистов кажется нереальной.
Разноголосица мнений очень велика, при том что фактически каждая высказываемая точка зрения опирается на рациональные аргументы, а значит, способна содержать долю истины. Поэтому, обосновывая нашу собственную позицию, мы будем придерживаться следующего хода рассуждений. Сперва мы охарактеризуем те черты гомеровского эпоса, на которые опираются в своих доводах сторонники «линии Пэрри — Лорда». В рамках фольклорно-эпосоведческого подхода будут очерчены те потенции сохранения и образного претворения исторической памяти, поэтического проникновения в исторический процесс, которыми располагает традиционный эпос. Вслед за этим мы изложим аргументы приверженцев «линии Шадевальдта» и постараемся обосновать правомерность концепции «перерастания» в эпосе Гомера сказительства-импровизации в явление литературы. И наконец, эта концепция будет приложена и к проблеме историзма Гомера. Мы сделаем попытку показать, каким образом способы моделирования истории, присущие эпическому канону, в «Илиаде» и примыкающей к ней «Одиссее» подчиняются формам видения той же истории, более изощренным, непредсказуемо индивидуальным и в то же время понятным и увлекательным для гомеровских слушателей.
3
Основной тезис фольклористов-эпосоведов состоит в том, что устный эпос на разных уровнях его организации структурируется из ограниченного набора единиц, имеющих традиционный характер. Эти единицы и правила их сочетания представляют для певца тот язык, которым он с необходимостью должен пользоваться, чтобы его песня была приемлема для внимающего ей коллектива [Богатырев, Якобсон, 1971, с. 372 и сл.; Гринцер, 1974, с. 32]. Сопоставление этой системы средств выражения с языком позволяет проникнуть в самую суть проблематики. Мы пользуемся средствами, предоставляемыми нам языком для выражения своих идей, намерений, чувств. Но вообразим себе искусственный язык, обладающий крайне ограниченным, жестко фиксированным набором слов и очень строгими правилами их сочетания. Ясно, что число возможных высказываний на этом языке окажется далеко не беспредельно, многие мысли не смогут быть переданы. В известной степени этот язык будет детерминировать не только то, как придется говорить его носителям, но и то, о чем они смогут говорить между собой. Чем более лимитирован такой язык, тем менее точно и достоверно делаемые на нем высказывания способны отразить многообразие исторических явлений.
Простейшими единицами эпического языка выступают устойчивые словесно-ритмические образования-«формулы». Пэрри определял формулу как группу слов, регулярно употребляемую в одних и тех же метрических условиях для того, чтобы выразить некую существенную мысль [Parry, 1930, с. 80]. Уже из этого определения ясно, что изобилующий формулами текст — это такой текст, где одни и те же мысли и представления устойчиво повторяются в одних и тех же метрических позициях, в одинаковом словесном облике, текст, пронизанный повторами. Отсюда, согласно Пэрри, проистекают особенности гомеровских устойчивых эпитетов: употребление их в зависимости от метрической валентности, традиционность, орнаментальность, часто — отсутствие их прямой связи с ситуацией [Parry, 1928, с. 208]. Так, мать нищего Ира в «Одиссее» оказывается «владычицей» (πότνια) (Od. XVIII.5), грязные одежды, вывозимые к морю для стирки Навзикаей, — «сияющими» (σιγαλόεντα) (Od. VI,26), а корабли ахейцев, много лет в неподвижности пребывающие на троянском берегу, — «быстрыми» (ϑοαί) (Il. Х,306; XI,666; XVI,168). Формулы могут комбинироваться между собой, склеиваться, в составе уже существующих формульных сочетаний одни имена могут по аналогии заменяться другими [Hainsworth, 1968; Hoekstra, 1963; Russo, 1966]. Благодаря этому система повторов на поверхностном уровне выглядит изощренной и гибкой, отвечая основному принципу устного эпоса: нерасчленимому единству традиционности с постоянно открытой для певца возможностью импровизаций по заученным схемам. По данным некоторых авторов, в отдельных частях гомеровского эпоса формулы покрывают свыше 90 % текста [Notopoulos, 1962, с. 360; Тронский, 1973, с. 145]. Эти данные можно сравнить с аналогичными цифрами по древнеиндийскому эпосу: согласно подсчетам П. А. Гринцера, в «Махабхарате» имеются песни, где почти 80 % текста складываются из формул [Гринцер, 1974, с. 88]. Однако применительно к Гомеру некоторые ученые ставят под сомнение достоверность подобной статистики, как основанной на слишком ограниченном материале. По замечанию Тройского, «ни сам Парри, ни его ученики не проводили сколько-нибудь обширных исследований гомеровского словоупотребления для проверки степени пронизанности его формульными элементами», ограничиваясь выбранными контекстами, в основном из начальных песен «Илиады» и «Одиссеи» [Тройский, 1973, с. 145].
Гомеровский эпос был адресован аудитории, для которой повествование, выдержанное в формульном стиле, было знакомым и приемлемым, а традиционный устный эпос представлялся еще вполне живым культурным явлением. Делать на этом основании утверждения в духе А. Лорда, будто Гомер не просто «погружен в традицию», но «он сам — традиция», ибо «в нем нет никакой искусственности» тех, кто использует традиционный эпос для нетрадиционных целей [Lord, 1968, с. 147], — нам кажется слишком рискованным. Но то, что за Гомером стояла традиция «коллективного творчества», думается, неоспоримо.
Черты этой традиции обнаруживаются и на более высоких ярусах организации текста. В сюжетном развертывании, повествования большое место занимают так называемые темы, которые Лорд определяет как «повторяющийся элемент повествования или описания». Таковы, например, темы собраний, облачения героев перед выходом на битву, пиров, торжественных выездов, поединков между героями [Lord, 1968, с. 87 и сл., 146 и сл.; Bowra, 1952, с. 191 и сл., 210 и сл.]. По Лорду, тема в эпосе живет полусамостоятельной жизнью [Lord, 1968, с. 94]. Она вводится по требованию фабулы, но в то же время поэт для каждой темы располагает набором ее собственных «порождающих правил». Последние обеспечивают реализацию темы в тексте в различных, более или менее развернутых вариантах [Arend, 1933; Fenik, 1968; Krischer, 1971]. На том же ярусе текстовой организации, что и темы, лежат разные повествовательные повторы-ретардации, а также «каталоги» героев, народов, божественных имен и т. д. [Lord, 1968, с. 106; Гринцер, 1974, с. 113 и сл.]. Умение вводить в текст по мере надобности подобные компоненты составляет особый аспект компетенции певца — «сказителя историй».
К наиболее глубинному пласту порождения песни принадлежит запас традиционных образов и заполняемых ими фабульных схем. При выделении таких схем эпосоведы также широко используют критерий повторяемости. Но если формулы и темы распознаются благодаря их неоднократному использованию чаще всего в пределах одного текста, то традиционность фабульных структур открывается при сравнении нескольких фольклорных текстов, иногда принадлежащих к различным фольклорным традициям. При этом мировой эпос выступает как некий огромный макротекст, порождаемый на основе универсального эпического канона, конкретные же эпические традиции рассматриваются в качестве частных реализаций этого канона. Такова история великого похода героев в некую далекую страну; ссора сильнейшего из героев с царем или предводителем войска (вспомним распри Ильи Муромца с князем Владимиром); похищение жены героя как повод для войны («Рамаяна», угаритское сказание о Керете и др.); товарищ-побратим, умирающий взамен главного героя (история Гильгамеша и Энкиду); пленение героя в некой далекой стране, возвращение его домой из плена; хождение в потусторонний мир; муж на свадьбе жены; сын, ищущий ушедшего на чужбину героя-отца. Все эти фабульные структуры, вычленяемые в повествовании «Илиады» и «Одиссеи», представляют универсалии мирового фольклора, представленные в эпосах разных народов и регионов (см. [Bowra, 1952; Lord, 1968; Page, 1973; Толстой, 1966; Гринцер, 1974]).
Итак, если брать все три уровня, на которых конструируется гомеровское повествование, — фабульный, собственно сюжетный и словесно-ритмический, — то окажется, что на первом уровне «Илиада» и «Одиссея» по репертуару своих основных мотивов органично связаны с сюжетикой традиционного эпоса, а на двух нижних уровнях в изобилии сохраняют родовые черты этого вида словесного творчества.
Среди гомеровских формул, как достоверно доказано к настоящему времени, есть и такие, которые через длительную цепь традиции восходят к языку поэтов микенского времени. Так, К. Рёйх это установил по отношению к очень частой у Гомера формуле βίη Ἡρακληείη «сила Гераклова», встречающейся в «Илиаде» 5 раз (II,658,666; V,638; XI,690; XV,640), всегда в одной и той же позиции в исходе строки. Поскольку метрический рисунок этой формулы имеет вид — / — // — // —, последние три стопы гексаметра составляются сплошь из спондеев (сочетаний двух долгих слогов). Но для пятой, предпоследней стопы в гексаметре замена дактиля на спондей практически недопустима! Поскольку имя Ἡρακλῆς восходит к *Hērākleṷēs, видимо, данная формула вошла в поэтический язык и заняла свое место в гексаметре еще в ту пору, когда в позиции между гласными, не давая им слиться, сохранялись и звук -u̯- и придыхание h, происходящее из древнего -s-. Тогда формула звучала примерно как *gᵘ̯īa Hērākleu̯ēhei̯a и по метрическому рисунку четко ложилась в гексаметр (— // — / — ⌣ ⌣ / —). Данные фонетические черты прослеживаются более или менее достоверно для греческого языка микенской эпохи. Таким образом, в конце этого периода, в XIII–XII вв. до н. э., уже можно предполагать существование слагаемых гексаметром героических песен, и в частности песен о походах Геракла [Ruijgh, 1985; Казанский, 1989]. Для нас это очень важно, ибо, как мы увидим ниже, по другим основаниям для первой половины XIII в. до н. э. приходится реконструировать появление сказания о походе «Геракловой силы» на Трою.
Но и этого недостаточно для того, чтобы в полной мере оценить архаичность многих элементов гомеровской поэтической речи, обнаруживающих глубокую связь с традициями индоевропейской поэтики. За формулами, органично привязанными к метрике гексаметра, вскрывается более ранний слой еще догексаметрических стереотипных словосочетаний, находящих точные этимологические эквиваленты в языке самых ранних индоарийских и иранских памятников: в гимнах «Ригведы» и в меньшей степени в «Авесте». Эти языки в рамках индоевропейской семьи особенно близки к греческому, и по данным грамматики и словаря примерно для рубежа IV–III тысячелетия до н. э. предполагается состояние греко-индоиранской диалектной общности. По формульным схождениям восстанавливается немало поэтических клише, которыми могли пользоваться еще сказители и создатели гимнов богам и героям, творившие на диалектах этой общности (подробнее см. [Schmitt, 1967; Герценберг, 1972, с. 100 и сл.]).
Даже по этим соответствиям можно представить в общих чертах семантическую структуру и образный антураж тех песен, которые на грани IV–III тысячелетия до н. э. предки греков и индоиранцев слагали о своих героях. Последние представали воителями с «мощным духом», молящимися богам — «подателям благ» и в битве добывающими себе «славу мужей», славу «неумирающую» на «широкой земле». Читатель Гомера легко может увидеть, как много пережитков подобных греко-индоиранских эпических стереотипов сохранил поэтический строй «Илиады». За 2000 лет, разделяющих период этой общности и время создания гомеровских поэм, образ жизни греков и окружающая их среда по крайней мере два раза претерпевали серьезные изменения. Первый раз — с переселением их из степей, где они еще на праэтническом уровне имели контакты с праиндоиранцами, на покрытый лесистыми горами Балканский полуостров. Второй раз — когда с Балканской Греции в конце II — начале I тысячелетия до н. э. часть греков перебралась в Анатолию, утратив прямую связь с родными местами, с могилами обожествляемых предков. И однако же в культурном сознании малоазийских греков VIII в. до н. э. оставались живыми тысячелетние эстетические клише, связанные с традициями воинской героики, ее неизменными ценностями. Именно это важно: ценности, имевшие наибольшую этическую и художественную привлекательность для гомеровских слушателей, да и для самого поэта, не слишком разнились от тех, которые некогда культивировались верхушкой прагреков и праиндоиранцев, а языковые способы выражения таких ценностей, от неведомых поэтов раннебронзовой эпохи и до Гомера, находились в отношении прямой генетической преемственности. Таким образом, поэт работал временами с невероятно архаичным материалом.
4
Двигаясь дальше, зададимся вопросом, можно ли в каком-то смысле говорить об историзме традиционного устного эпоса? Какой облик приобретает реальная история, будучи претворена в подобных сюжетных, повествовательных структурах?
Некоторые исследователи, как упоминалось выше, делая акцент на мифопоэтических моментах в эпосе, считают его структуру в принципе не предназначенной для хранения памяти о прошлом народа. М. Финли, соглашаясь, что «Илиада» во многом верно воссоздает картину жизни микенской Греции — правда, с серьезными анахронизмами, относящимися как к более поздним, так и к более ранним временам, — полагает, что, опираясь только на гомеровский эпос, да и на всю греческую традицию, нельзя сказать ничего определенного ни о причинах, ни о ходе Троянской войны, ни вообще о том, кто разрушил город на Гиссарлыкском холме [Finley, 1964]. Какую историческую ценность может иметь сюжет, для развития которого фантастические сцены на Олимпе столь же необходимы, как и эпизоды, воспринимаемые многими чуть ли не в качестве документальных свидетельств? Где критерии для отделения памяти народа от домыслов певца?
Начнем с того, что сам вопрос о потенциальном историзме мифа и особенно мифологической легенды далеко не прост. Очень часто бывает необходимо проводить ясное различие между мифологемой, т. е. универсальной схемой, способной реализоваться во множестве мифов различных этносов и времен, и ее воплощением в конкретном мифе. Последний обыкновенно несет в себе приметы не только базисной мифологемы, из которой он возник, но также исторически неповторимого «здесь и сейчас», стимулировавшего это возникновение. М. Элиаде приводит следующий пример. Принцу де Гозону, великому магистру Ордена иоаннитов с Родоса, легенда приписывала победу над драконом. Змееборчество — мифологическая модель, чуть ли не во всей Евразии (да и за ее пределами, например в Египте) выступающая архетипом героического деяния. Следовательно, заключает Элиаде, почитания принца де Гозона как героя было достаточно для возведения его к архетипу змееборца [Элиаде, 1987, с. 59 и сл.]. История по-гегелевски «снимается в мифе», но «снимается» — одновременно «сохраняясь». Из мифа могут исчезнуть почти все реальные черты жизни принца де Гозона, но остается главное: фиксация того, что некогда жил де Гозон и что его считали героем.
Большинство ученых, занимающихся эпосом, настаивают на необходимости отличения его от мифа. А. Ф. Лосев писал, что «эпическое время есть все то же самое мифологическое время, но с показом всякого неустройства и пестроты жизни, без чего невозможны были бы и самые подвиги эпического героя» [Лосев, 1977, с. 44]. На место мифологических первопричинных времен, когда устраивался мир, обретая нынешние свои формы, эпос выдвигает героические, «ключевые» эпохи в истории коллектива (ср. [Мелетинский, 1963, с. 434] — о чисто функциональном подобии определяющих эпох в мифе и эпосе и о неправомерности отождествления этих представлений по существу). Для эпоса, складывающегося у народов, которые уже знакомы с государственным устройством, образ «века героев» часто представляет собой поэтическое воспоминание о ранних формах централизованной государственности с военно-дружинными традициями [Chadwick, 1967, с. 344 и сл.]. Таковы былинный Киев, держава Карла Великого в «Песни о Роланде», «золотые» Микены в «Илиаде», раннегерманские варварские государства в «Песни о Нибелунгах», Урук «Эпоса о Гильгамеше». Обыкновенная неустойчивость подобных государств, воспоминание об их закате создают ту атмосферу ностальгии, «исторической печали», которая порой присутствует в посвященных им сказаниях, иногда прямо стремящихся объяснить крушение их героики. В этой «эталонной» исторической ситуации эпоса и призван проявить себя эпический герой-воин, замечательный своими выдающимися личными качествами, которые позволяют связать с ним судьбу коллектива.
Поэтому, думается, прав П. А. Гринцер, указывая, что эпос представляет своего рода историю, которая «рассказывается по эпическому канону», и «по мере того, как от этого канона остается одна только сюжетная схема, четче обнаруживается истинное назначение эпической поэзии» [Гринцер, 1974, с. 290] (ср. [Гиндин, 1983, с. 36]). Иначе говоря, исследователь видит суть эпоса в том, что это особый способ представления истории. Нетрудно заметить здесь парадоксальную перекличку с мнением Лорда, считающего историзм поздним приобретением эпической традиции на последней стадии ее бытования [Lord, 1970, с. 14]. Только акценты у Гринцера оказываются переставлены. Где Лорду видится увядание эпоса, там Гринцеру представляется цель, к которой эпос стремится в своем саморазвитии. Аналогичным образом об эпосе как об образе истории в сознании переживающего ее народа пишут и другие авторы [Bowra, 1952, с. 508 и сл.; Путилов, 1975], иногда подчеркивая, что лишь в поздний свой период эпос от воссоздания типизированных героических ситуаций, обобщенно передающих смысл истории, переходит к осмыслению индивидуальных событий. Важно помнить, что даже при подходе к гомеровским поэмам только как к памятникам устного эпического творчества греков они определенно должны представлять последнюю, заключительную стадию в истории этого творчества. А значит, по логике всех упомянутых авторов в этих поэмах закономерно могла быть достигнута высшая форма эпического историзма у данного народа.
В свете изложенного становится понятной шаткость полемического утверждения М. Финли об антиисторизме эпоса в силу предполагаемой ученым невозможности исторического мышления до появления исторической литературы [Finley, 1964, с. 4]. При этом видный историк совершенно игнорирует вопрос о социальных функциях такой литературы. Если эту функцию видеть в осмыслении прошлого или в извлечении из прошедшего прообразов событий, возможных в будущем, то ясно, что эпос вполне мог служить и служил подобному назначению, выполняя роль, которая позднее досталась историографам. При этом, как и в случае с мифом, вопрос об отношении эпического памятника к истории по-настоящему встает лишь тогда, когда мы от структуры эпического «языка», взятой, по Ф. де Соссюру, «в себе и для себя», переходим к конкретным актам эпической речи — к текстам с конкретными именами, топонимами, распределением между носителями этих имен стереотипных эпических ролей и т. д.
Иначе говоря, от взгляда на памятник как на воплощение тех или иных эпических универсалий следует обратиться к факту субъективного усвоения данной темы конкретным коллективом, выражающим в ней часть своего неповторимого исторического опыта. Сколько бы параллелей к троянскому эпосу ни обнаружилось у других народов, сам по себе рассказ о борьбе за Трою есть часть представления греческих племен о своем прошлом, часть их исторического самосознания, их рефлексии над собственной судьбой. Если же рассуждать о специфике такого представления истории, которое вытекает из принципов развертывания эпоса, пожалуй, лучшее определение находим у М. Элиаде. Не противопоставляя мифа и эпоса, но характеризуя общие их особенности, он пишет, что «независимо от истоков фольклорных сюжетов и от более или менее крупного творца эпической поэзии память об исторических событиях и о подлинных персонажах меняется по истечении двух-трех столетий так, чтобы их можно было подвести под шаблон архаического способа мышления, неспособного к восприятию индивидуального и удерживающего в памяти лишь образцовое. Это сведение событий к категориям, а личностей — к архетипам… Можно было бы сказать, что народная память возвращает историческому персонажу… его значение имитатора архетипа и воспроизводителя архетипических действий… Становится понятным, почему в греческой традиции только герои сохраняют свою личность (свою память) после смерти: совершая в течение земной жизни лишь образцовые действия, герой сохраняет память о них, потому что эти действия с определенной точки зрения были безличными» [Элиаде, 1987, с. 63 и сл.]. К этому можно лишь добавить, что архетип, к которому возводится индивидуальный исторический факт в эпосе, не обязательно должен восходить к доисторическим глубинам: это может быть архетип эпохи формирования эпоса. Пример тому — переосмысление гибели Роланда в Испании в борьбе с басками в эпизод фундаментального для эпохи крестовых походов противоборства христианства с исламом.
Видение истории, основанное на ее сведении к архетипам, на понимании индивида в качестве своего рода вариации архетипа, является исходной, древнейшей формой исторического мышления и находится в прямом соответствии с последовательно проводимым на всех уровнях принципом организации эпического текста. Как текст строится из традиционных мотивов, тем, формульных клише, варьируемых в процессе импровизации, но сохраняющих свою узнаваемость, привычность, так и образ истории в этом тексте есть цепь архетипических ситуаций в формах, предопределенных перипетиями истории народа. Поэтому можно утверждать, что устный эпос — модель истории в самых своих основах.
Мало кто усомнится, что историческая литература вырастает из произведений анналистического, летописного типа. Между тем у народов древней Передней Азии, в областях, где рано утвердилась письменность и устный героический эпос (поэмы о Гильгамеше, о Керете) был закреплен на письме, царские анналы и надписи оказываются органично проникнуты мифо-эпическими чертами. Р. В. Гордезиани по праву видит признаки эпического сказания в надписи Рамсеса II, посвященной битве египтян с хеттами при Кадеше (начало XIII в. до н. э.), когда фараон является в облике героя-богатыря, единолично сокрушающего врагов и выручающего из беды свое гибнущее войско [Гордезиани, 1978, с. 165]. Случаи изложения истории в надписях и летописях по мифо-эпическому канону могут быть значительно умножены. Видимо, для определенного времени понимание истории как истории героев — воплощений архетипов было единственно допустимой ее интерпретацией [Гиндин, 1983, с. 36]. Можно думать, что в Передней Азии раннее введение письменности лишь привело к трансформации подобного канона из собственно эпических в квазилетописные, преисториографические формы.
С другой стороны, заслуживают внимания наблюдения Г. Штрасбургера, относящиеся к взаимодействию эпоса и историографии в Греции VII–V вв. до н. э. На протяжении почти двух столетий после появления «Илиады» и «Одиссеи» исключительная популярность эпоса тормозит становление исторической прозы. Но, возникнув, последняя в ее классических образцах, трудах Геродота и Фукидида, испытывает сильное воздействие концептуальных схем эпоса. К таковым относятся: принципиальная убежденность в исторической основе мифа, интерпретируемого в свете логики обычного человеческого поведения, представление о возможности двоякого выбора предмета для рассказа — это может быть либо эпическая «слава мужей», т. е. в исторической трактовке «дела, достойные рассказа, дела великие» (ἔργα μέγιστα, αξιόλογα), либо великие «бедствия» (ἄλγεα, παθήματα); трактовка механики исторических конфликтов в «героически-агональном» духе, сводящая борьбу к соревнованию, зависти, обидам и т. д. героев; наконец, объективное, непредвзятое отношение к борющимся сторонам, восприятие их, в отличие от восточных летописей, как равноправных протагонистов. Во всех этих аспектах античная историография оказывается законной наследницей гомеровского эпоса [Strassburger, 1972]. Разработки Штрасбургера могут быть соотнесены с суждениями многих видных исследователей, усматривавших в эпосе Гомера подлинное начало и исток исторической мысли в Греции [Snell, 1953; Лосев, 1960, с. 203 и сл.; Toynbee, 1950, с. V].
На сходство между античной историографией и эпосом в технике представления событий указывает М. Л. Гаспаров (см. его «Введение» к книге [Миллер, Кузнецова, 1984]). В частности, им отмечается, что поэт-эпик, выбирая между версиями мифа, обычно наряду с предпочитаемым им вариантом «должен был вставить намеки, объясняющие существование и других вариантов. По существу, так работал и историк». Там же обращается внимание на эпическую формульность «описаний битв, осад, народных собраний, судебных заседаний и т. д.», которые «составлялись из одних и тех же повторяющихся (иногда в очень сходных словах) элементов», в чем историки идут за эпосом. Точно так же эпические корни имеет, по Гаспарову, искусство историков обосновывать те или иные решения исторических персонажей в якобы принадлежащих им речах. Отсюда совершенно законное определение в указанной книге повествовательной манеры ряда античных историков как «эпической историографии».
Изоморфизм между формальными структурами эпоса и эпическим видением истории означает, что каждая реальная историческая деталь, входя в повествование, функционирует и может быть «прочитана» на трех уровнях: на уровне текста, на уровне истории мыслимой, идеальной, моделируемой в эпических повествовательных формах, и, наконец, на уровне истории реальной, из которой эта деталь почерпнута. Специалисты по «гомеровской археологии» давно объяснили мир «Илиады» и «Одиссеи» как своеобразную культурную амальгаму, сплав свободно комбинируемых примет разных эпох (см., например,[Chadwick, 1976, с. 185; Kirk, 1975, с. 849; Андреев, 1976, с. 6 и сл.]). Отсюда неудача попытки, в свое время предпринятой К. Робертом, выделить в «Илиаде» разновременные слои с учетом датировки материальных деталей [Robert, 1901]. Однако Д. Пейдж выявил в этой поэме серию формульных эпитетов, сочетаемость которых с именами строго определенных героев не выводится из общих норм эпической поэтики, но предполагает некую дополнительную мотивировку. Таковы относимые только к Гектору эпитеты κορυθαίολος «сияющий шлемом» и χαλκοκορυστής «несущий медный шлем», определение Аякса Теламонида φέρων σάκος ήύτε πύργον «несущий щит как башню» и т. д. Пейдж настаивает на диахронной, исторической обусловленности подобных избирательных сочетаний, видя в них пережитки неких реалий, ассоциируемых коллективной памятью с вошедшими в нее ценностно окрашенными образами. Так, шлем Гектора, по Пейджу, вероятно, воспоминание о незнакомых Ахейской Греции малоазийских бронзовых шлемах. Щит Аякса восходит к типу «башенных» щитов раннемикенского периода, позднее вытесненных небольшими круглыми щитами [Page, 1959, с. 232 и сл., 249 и сл., 288].
Последний пример хорошо иллюстрирует склонность предания, строя образ «ключевой эпохи», соединять в едином действии персонажей, чьи реальные или мифологические прообразы принадлежат к разным временным и этнокультурным слоям [Гринцер, 1974, с. 167 и сл.; Bowra, 1952, с. 516 и сл.]. Яркий случай в этом роде — включение в некоторых русских былинах библейского богатыря Самсона и покорителя Сибири Ермака в число сподвижников Ильи Муромца [Пропп, 1955, с. 315]. Генетическая связь с иными эпическими циклами и независимыми местными традициями устанавливается не только для Аякса, но и для таких героев, как Тлеполем, Одиссей, Диомед [Page, 1959, с. 147, 163, 176, 235; Erbse, 1961, с. 186 и сл.; Heubeck, с. 45 и сл.; Лосев, 1960, с. 250]. X. Хоммель привел убедительные свидетельства в пользу того, что гомеровский Ахилл, воитель, скорбящий о своей краткой жизни, а после смерти, согласно «Одиссее», царствующий в Аиде над душами мертвых, еще в VII в. до н. э. в некоторых эгейских и причерноморских областях почитался в своем, вероятно, изначальном качестве загробного божества [Хоммель, 1981]. Примеры Пейжда раскрывают свойство традиции, принимая в свой арсенал реальный или вымышленный образ, порой сохранять вместе с ним окказиональные его атрибуты, позволяющие последовательно расшифровать его эволюцию.
Из этого следует, что отношения между реальными фактами и образами в эпосе могут претерпевать серьезные изменения, и прежде всего не следует брать на веру мнимое сосуществование и взаимодействие героев в одной временной плоскости повествования. Синхронизм эпоса не обязательно должен соответствовать какому-то реальному временному срезу, чаще — это плоскость проекции, на которой сходятся образы разных времен, это смысловое соотношение, изображенное в виде событийной связи. Мы не можем быть уверены, что все народы, представленные сражающимися под Троей, действительно там воевали. Но кажется несомненным, что у традиции были какие-то основания вообразить Трою-Илион городом, в судьбе которого оказываются заинтересованы племена всей Западной Анатолии и северобалканского побережья, для интерпретации борьбы за этот город как «битвы народов», захватившей чуть ли не весь известный мир. А вот каковы именно эти основания, какие диахронные процессы лежат за картиной, рисуемой эпосом, это предстоит расшифровать.
5
Всего изложенного было бы вполне достаточно для определения принципов источниковедческой работы с нашим материалом, если бы перед нами был не Гомер и если бы мы могли себе позволить игнорировать огромные успехи унитаристского гомероведения с 1930-х годов. Традиционному эпосу, как мы видели, присуща глубокая аналогия между техникой развертывания текста и формами претворения в нем истории. Особенности гомеровских поэм, выводящие их за рамки «коллективного творчества», естественно, должны либо нарушать эту аналогию — и тогда мы получим эпос художественно новаторский, но концептуально традиционный, — либо восстанавливать ее на более высоком уровне, выражающемся в новом типе видения истории. Конечно же, говоря в подобном контексте об «истории», следует помнить, что прошлое в эпоху Гомера не могло восприниматься иначе, чем через легенду и в форме легенды. Новое видение истории в это время могло быть только новым способом рефлексии над легендой, новым пониманием традиции.
Проблема авторства неотделима от проблемы хронологии поэм. В определении последней мы присоединяемся к исследователям, говорящим о середине VIII в. до н. э. [Heubeck, 1974, с. 216; Kirk, 1962, с. 287; Schadewaldt, 1944; Lesky, 1967; Гордезиани, 1978, с. 227]. В пользу такой датировки свидетельствует, прежде всего, общая характеристика VIII столетия как «греческого Ренессанса». В эту пору повсеместно обостряется внимание к микенскому прошлому, выразившееся, в частности, в учреждении новых культов героев Троянского похода [Hiller, 1983, с. 13; Kirk, 1965, с. 199]. Тем же веком датируется первое известное произведение искусства на троянский сюжет: аттическая ойнохойя с изображением поединка Гектора и Аякса, события, описанного в VII песни «Илиады» [Friis Johansen, 1961]. Здесь мы имеем либо прямую отсылку к гомеровскому эпосу, либо реминисценцию эпической песни, использованной при создании «Илиады». Наконец, к третьей четверти VIII в. относится стихотворная надпись на знаменитом «кубке Нестора» из греческого поселения на острове Исхия (Питекуссы) в Неаполитанском заливе [Büchner, Russo, 1955; Metzger, 1965; Hansen, 1976; Watkins, 1976; Зайцев, 1987]. Она убедительно рассматривается как образец «раннегреческого юмора», пародийная отсылка к стихам «Илиады» (XI, 629 и сл.), где изображается роскошный кубок пилосского царя. Комический эффект, возникающий из-за сопоставления скромного сосуда с этим помпезным изделием, фигурирующим в эпосе, усиливается словами о «желании Афродиты», охватывающем пьющего. Ученые видят здесь подшучивание над гомеровской сценой, когда престарелому Нестору подносит его кубок «прекраснокудрая» рабыня-наложница Гекамеда [Rüter, Matthiesen, 1968, с. 249 и сл.; Heubeck, 1979, с. 113 и сл.; Зайцев, 1987, с. 62]. С полным правом в этом случае можно говорить о знакомстве автора надписи с «Илиадой». Последняя к тому времени должна была не просто существовать, но приобрести немалую славу в греческом мире, вплоть до западной его окраины, которую представляли Питекуссы.
В этом случае создание «Илиады» может быть синхронизировано с важнейшими культурными и политическими процессами «греческого Ренессанса», происходившими в первой половине — середине VIII в. до н. э., наряду с оживающим культом микенской героики. Во-первых, это крепнущее чувство общегреческого этнокультурного единства, выразившееся открыто в учреждении с 776 г. до н. э. Олимпийских игр [Hiller, 1983, с. 13]. Происходящее сплочение греков отразилось у Гомера настойчивым повторением термина «всеахейцы» (Παναχαιοί) для обозначения множества племен, охваченных преданием о Троянском походе. Интересно, что в «Илиаде» в отличие от «Одиссеи» этот термин употребляется 8 раз исключительно в сочетании ἀριστῆες Παναχαιῶν, т. е. «самые лучшие, самые доблестные из всеахейцев» (11,404; VII,73,139,327,383; Χ,1; XIX,193; XXIII,236). Создающийся образ собрания лучших и сильнейших со всей Греции начиная со второй четверти VIII в. до н. э. естественно перекликался с картиной недавно учрежденных олимпийских состязаний. Во-вторых, в это время под влиянием расширяющегося ввоза восточных товаров начинается становление ориентализирующего стиля в греческом искусстве, переход от геометризма к фигурным изображениям. Финикийские привозные сосуды упоминаются в «Илиаде» (XXIII,741 и сл.), а в таких деталях, как изображение Горгоны на щите Агамемнона (ΧΙ.37 и сл.) — мотив, находящий прямое отражение в искусстве VIII в. до н. э. (см. [Webster, 1964, с. 213]), — видно становление новых, «ориентализирующих» вкусов. И, в-третьих, что наиболее важно, в эту эпоху по всему греческому миру распространяется письменность. Самые ранние граффити около 770 г. до н. э. прослеживаются на Наксосе; к 730 г. до н. э. появляются надписи в Афинах, на Эвбее, на Питекуссах; к концу VIII — началу VII в. до н. э. они встречаются на Крите, Родосе, в Фивах, Коринфе, Смирне, Сиракузах и т. д. Некоторые из них имеют стихотворный характер [Heubeck, 1979, с. 109 и сл.; Johnston, 1983; Burkert, 1984, с. 30].
В принципе ничто не противоречит мысли, будто гомеровский эпос мог начать записываться или быть записанным в течение VIII столетия [Huxley, 1969, с. 189; Johnston, 1983, с. 67]. Более того, прослеживающееся в надписи на «кубке Нестора» четкое деление стихотворного текста на строки — довод в пользу того, что автор надписи мог знакомиться с гексаметрическим текстом Гомера по рукописи, а не со слуха [Heubeck, 1979, с. 115].
Как повлияло распространение грамотности на эволюцию поэтического искусства греков? Представленные в греческой традиции образы певцов — предшественников Гомера практически сплошь имеют мифический характер (Орфей, Фамирис-кифаред, Олен, Мусей), иногда это просто персонификации определенного вида песен. Так, Лин — воплощенная идея «лина» (λίνος), похоронного жалобного плача. Самому Гомеру хорошо знаком тип поющего на пирах аэда-импровизатора, вроде Фемия или Демодока (Od. I,320 и сл.; VIII,499 и сл.), исполнителей песен о богах или о Троянском походе. Традиционный устный эпос сказительство, импровизация — та концепция поэзии, из которой исходил Гомер, выступая перед своими слушателями. Но уже киклический эпос конца VIII — начала VII в. до н. э., развитие которого, несомненно, стимулировано успехом гомеровских поэм, — явление совершенно иное: это исключительно авторское творчество. Каждая киклическая поэма проходит через столетия в строго фиксированном виде, под именем определенного автора. Создателем «Киприй» считался Стасин, «Малой Илиады» — Лесх, «Разрушения Илиона» — Арктин и т. д. После Гомера безымянный эпос-импровизация у греков был немыслим. Живший в конце VIII или начале VII в. до н. э. Гесиод сообщает эпосу подчеркнуто личностное начало, насытив «Труды и дни» фактами из своей биографии. Можно сказать, что Гомер стоит на разделе: за его спиной — эпос-импровизация, перед ним — эпос-литература. Но можно выразиться и иначе: сам гомеровский эпос — это скачок от сказительства к литературе, а создание этих поэм стало актом Рождения Авторства.
Итак, Гомер — первый эпик-автор, творивший в годы, когда грамотность становится у греков обычным явлением и, следовательно, письмо в том или ином виде могло найти применение на различных ступенях формирования текста. Только с учетом всех этих обстоятельств поддаются объяснению многие особенности стиля «Илиады». На примере ее зачина (Il. I,1–7), которым часто оперировали сторонники школы устного эпоса, начиная с самих М. Пэрри и А. Лорда, И. М. Тройский хорошо показал, что к тезису о «формульности» гомеровского стиля следует подходить с большой осторожностью. На эти семь строк лишь две — 3-я и 7-я — имеют определенно формульный характер, применительно к другим формульность далеко не бесспорна. Наконец, начальные «ударные» строки 1–2 в целом очень оригинальны: необычно выдвижение на первую позицию в стихе сочетания μῆνιν ἀείδε «гнев воспой», притягивающего внимание слушателя к слову «гнев», ключевому для всей огромной поэмы; уникально усиливающее этот эффект словосочетание μῆνιν… οὐλομένην… «гнев… губительный…», разнесенное по началам двух смежных строк, как бы подхватывающим тему; наконец, энергичное обращение к Музе просто θεά «богиня» без дополнительных уточнений, согласно Тройскому, выглядит как «стремление избежать традиционных формул инвокации и привычных эпитетов Муз» [Тронский, 1973, с. 146]. Убедительно доказано, что от традиционного эпического стиля далеко отступает язык гомеровских сравнений, изощренных, иногда нанизываемых одно на другое, разветвляющихся, изобилующих поздними формами и неологизмами [Shipp, 1972, с. 208; Heubeck, 1974, с. 209; Гордезиани, 1978, с. 285 и сл.]. Нельзя свести к приемам устного эпоса, скажем, уподобление плачей и воплей в Илионе по убитому Гектору грохоту города, рассыпающегося в пламени (Il. XXII,408 и сл.), или место, когда затянувшийся бег Ахилла за Гектором сравнивается с ярко обрисованной призрачной погоней во сне (Il. XXII,199 и сл.).
Но дело не только в оригинальности или повторяемости тех или иных элементарных отрезков текста. Гораздо более важна специфика образуемых из них крупных сюжетно-повествовательных структур. В этом смысле трудно переоценить значение работ унитаристов (А. Перри и др.), показавших, что речь и поведение героев «Илиады» характеризуются собственным стилем, индивидуальным сочетанием языковых стереотипов и поведенческих клише, строго выдерживаемым на протяжении эпоса, — явление, невозможное без последовательно проводимой установки на создание фиксированного текста, допускающего минимальные вариации при исполнении [Parry, 1972; Lohmann, 1970; Гордезиани, 1978, с. 291 и сл.; Gordesiani, 1986, с. 68 и сл.]. Традиционное на нижних этажах структуры текста, комбинируясь, дает оригинальные, неповторимые сочетания на верхних этажах. «Цензура коллектива» апробировала текст Гомера, ибо в нем большие отрезки его словесной ткани были вполне традиционны, легендарные фигуры и общая канва их взаимоотношений узнаваемы. Но через этот текст в сознание коллектива входили и завладевали им новые, индивидуализированные героические характеры. Если сквозной принцип традиционного эпоса — «архетип во множестве вариаций», то определяющий принцип поэтики Гомера может быть сформулирован как «рождение уникального из традиционного». Особенно четко уникальное проявляется на самом верхнем ярусе композиции — на уровне организации сюжета как целого.
Давно уже отмечено [Webster, 1964, с. 259], что для этого уровня у Гомера характерно взаимоналожение двух различных структурных принципов: динамического и статического. Статический принцип проявляется вычленимостью в тексте композиционных блоков, связанных между собой отношениями смыслового и повествовательного параллелизма и симметрии. Таким образом, универсальный эпический прием повтора оказывается нацелен на создание симметричных «макроузоров» в движении сюжета, гармонизирующих действие и представляющих в сфере словесного творчества аналог к геометрическому стилю греческого искусства. В этом ключе проделан ряд очень значительных исследований [Myres, 1932; Stählin, 1923; Whitman, 1958, с. 249 и сл.; Лосев, 1960, с. 134 и сл.; Гордезиани, 1978, с. 38 и сл.; Gordesiani, 1986, с. 30 и сл.]. Некоторые моменты в этих работах могут представляться спорными, но есть примеры симметрии совершенно очевидные. Таково демонстрированное С. Уитменом распределение дней действия и бездействия по обе стороны от сцены посольства греков к Ахиллу, когда девять дней гнева Аполлона в начале соответствуют девяти дням оплакивания Гектора в конце, двенадцать дней между спором Ахилла с Агамемноном и встречей Фетиды с Зевсом — двенадцати дням между похоронами Патрокла и приходом Приама к Ахиллу и т. д. Точно так же аналогичны две большие панорамы ахейцев: «каталог кораблей» в начале, без Ахилла и Патрокла, скрывающихся в своем шатре, и поминальные игры героев в конце, устроенные Ахиллом по погибшему Патроклу. Вполне наглядна перекличка первой и последней песен, когда отвергнутому посольству Хриса контрастно отвечает прием Ахиллом Приама, а ссоре ахейских героев — примирение и соглашение троянского царя с самым грозным из врагов Трои. Как бы ни интерпретировать концептуальный смысл этой симметрии (очень заманчиво ее истолкование Уитменом в духе эволюции от наступления хаоса в мире героев к восстановлению должного порядка), ясно, что она означает завершенность композиции, исчерпание действия в рамках текста.
Напротив, с точки зрения динамической организации сюжета, где главным принципом выступает раскрытый Шадевальдтом прием сквозной подготовки одних событий другими, так что ни один шаг не оказывается без последствий, действие поэмы не завершено. Это хорошо почувствовал Виламовиц-Мёллендорф, отметивший, что поэме недостает финала, к которому она стремится, — смерти Ахилла [Wilamowitz-Moellendorff, 1916, с. 77 и сл.]. Слушатель расстается с героем в миг, когда тот стоит перед своей судьбой, от которой он так отчаянно пытался уклониться. Целостное впечатление от сюжета определяется этим странным сочетанием противоречащих друг другу эмоций — сознания незавершенности судьбы героя в его открытости трагическому будущему и чувства восстановленной гармонии, возрожденного миропорядка.
Сама динамическая структура обладает особенностями, не позволяющими свести ее к традиционному эпическому канону. Фабула «Илиады» на самом деле очень проста. Предводитель-царь ссорится с героем, тот уходит с поля боя, и царь надеется обойтись без него. Поднимается другой герой (Диомед), одерживает великие победы, и кажется, что война идет к концу. Но вмешиваются боги, враги пересиливают и прорываются к кораблям ахейцев. «Заместитель» главного героя — Диомед тяжело ранен. Изранены и остальные вожди. Скрывающийся герой посылает второго «заместителя» — своего лучшего друга и лишь после его гибели, раскаиваясь и обвиняя себя, вступает в войну. Вот, собственно, и все. Однако конкретный сюжет, в котором воплощена эта простая и стройная фабула, оказывается чрезвычайно напряжен и сложен. Действие на протяжении большей части рассказа движется так, как если бы и впрямь все в конечном счете могло обойтись без Ахилла — благодаря бегству греков домой или примирению с троянцами, или решиться мужеством Диомеда, либо, наконец, Патрокла. Увы, ничего не уладится без Ахилла, и рассказ, описав гигантскую петлю, неукоснительно идет к тому, чтобы пересечься с судьбой Ахилла, вытолкнув скрывающегося героя на сцену против его воли. Поразительно, насколько действие «Илиады» оказывается близко к формуле, некогда предложенной Л. С. Выготским для объяснения особенностей сюжетики шекспировского «Гамлета». По Выготскому, парадокс «Гамлета» — в борьбе сюжета с фабулой. Согласно фабуле, Гамлет убивает короля, но на уровне сюжета Гамлет отчаянно тормозит действие, не убивая Клавдия, пока внезапно в сцене дуэли сюжетная и фабульная линии не пересекутся [Выготский, 1986, с. 205 и сл.]. То же самое происходит и в «Илиаде». Герой, чья судьба — убить Гектора и умереть, выходит из войны и уклоняется от убийства Гектора, пока события не выносят его навстречу предреченному. Ему остается сделать лишь один, самый главный шаг — и Ахилл делает его, а затем успокоенно ждет часа своего ухода из жизни, оказавшись как бы по другую сторону своей, уже совершившейся, судьбы. «Илиада» оказывается по типу своего действия трагедией в аристотелевском смысле — трагедией перехода от незнания к знанию, от восстания на судьбу — к ее приятию и исполнению. Не случайно в «Поэтике» Аристотель постоянно апеллирует к Гомеру как образцу для поэтов-трагиков. Впрочем, в своей трагедийности Гомер еще не переходит границу традиционной эпики, которой хорошо знаком тип героя, против желания, но с честью встречающего лицом к лицу свою судьбу (вроде Кухулина ирландских саг). Однако пронизывающее «Илиаду» драматическое несоответствие между фабулой и сюжетом, между центральной ролью Ахилла и его затяжным бездействием — именно это является индивидуально-авторским открытием, недостижимым в форме импровизируемого устного сказания.
Но раздумья Аристотеля над «Илиадой» не потеряли своего значения и в другом аспекте. Отмечая, что эпические сказания «не должны походить на обычные истории, в которых приходится описывать не единое действие, а единое время и все в нем приключившееся с одним или с многими», по мере того как «в смене времени иногда случается одно за другим без всякой единой цели», мыслитель заключает: «Оттого-то Гомер… и здесь богоподобен по сравнению с остальными: он не взялся сочинять про всю войну, хотя она имела и начало, и конец (ибо слишком она была бы велика и неудобообозрима, а в умеренном объеме — [слишком] пестра и потому запутана), — нет, он взял одну [лишь] ее часть, а многими остальными воспользовался как вставками для перебивки произведения (например, перечнем кораблей, а также другими вставками). Остальные же [эпические поэты] сочиняют об одном герое, об одном времени, [а если] об одном действии, [то] о многосоставном, как, например, сочинитель “Киприй” и “Малой Илиады”» (Poet. 1459а; пер. М. Л. Гаспарова). Стало быть, по Аристотелю, величие Гомера в том, что, стремясь охватить картину Троянской войны, он не стал создавать огромную стихотворную хронику, но и не сбился на заурядный пересказ. Поэт пошел по иному пути — выделив из массы троянских событий один высоко драматичный сюжет «с началом и концом», он спроецировал внутрь его при помощи «вставок — перебивок действия» многие другие части Троянской войны. Тем самым поэма, не распыляясь на множество не связанных друг с другом эпизодов, оставаясь стройным драматическим действием, переросла рамки конкретного сюжета и представила образ Великой Войны в целом.
В «Илиаде» явственно сосуществуют две разномасштабные темы: явная — рассказ об Ахилле и настойчиво, подспудно проводимая тема трагической участи Ахейской Греции и Трои [Bowra, 1972, с. 98]. Подобная «нераздельность и неслиянность» двух тем в одном тексте — явление трудно представимое в традиционном устном эпосе. Разумеется, такой эпос, как, например, «Махабхарата», может разрастаться до гигантских размеров, с исключительной полнотой впитывая мифологию народа, его религиозные, нравственные, политические идеи. Но тем не менее заявленный сюжет эпоса неизменно тождествен самому себе. Сколько бы ни длились скитания братьев Пандавов и их подготовка к битве с Кауравами, никто не усомнится в том, что певец рассказывает именно о Пандавах и Кауравах. Когда же он желает по ходу дела рассказать о чем-то постороннем, то пользуется приемом вставного рассказа, и опять-таки ни у кого нет сомнений: коль скоро идет рассказ о Савитри или о Нале и Дамаянти, значит, временно повесть о Пандавах прервалась, чтобы по окончании вставки вернуться к месту обрыва. Но с Гомером совсем не так. Он обещал говорить об Ахилле, а вместо этого повествует о смотре Агамемноном войск, о выстреле Пандара, о подвигах Диомеда и о том, как тот встретился с семейным другом Главком. Повествует ли он тем самым об Ахилле? На первый взгляд — нет. И в то же время в каком-то смысле он говорит именно об Ахилле. Все происходящее на поле боя влияет на движение заявленного сюжета — на отношение ахейцев к сидящему в своем шатре гневному Ахиллу, на вероятность того, что судьба войны может решиться без него. Ахилл, ничего не делая, не выходя из шатра, включен в развитие событий: значение этого героя в час, когда Диомед разит союзных Трое богов, устремляясь к илионским стенам, совсем не то, что при отступлении Диомеда перед громами Зевса, и, уж конечно, не то, что в страшный миг прорыва троянцев к ахейским кораблям. Все повествование двусмысленно: совершенно не упоминая Ахилла, Гомер рассказывает о его судьбе. Но можно сказать и иначе: повествуя об этом герое, певец выходит далеко за пределы этой частной трагической и мифологической судьбы. Заявленный сюжет «Илиады» в отличие от сюжета традиционного эпоса оказывается нетождествен самому себе.
Способы, которыми это достигается, неоднократно обсуждались гомероведами и, пожалуй, наиболее четко суммированы в работах Уитмена [Whitman, 1958, с. 265 и сл.] и Гордезиани [Гордезиани, 1978, с. 32 и сл.]. Говоря о «желании поэта осмыслить в едином действии поэмы весь ход войны», ученые показывают, что это желание реализуется «посредством двоякого построения действия: описанные в поэме события наделены, с одной стороны, функцией развить связанную с темой гнева единую фабулу, а с другой — вызвать ассоциацию значительных событий всей войны». Мы можем это сформулировать иначе: повествование помимо прямых сюжетных связей организуется при помощи метонимических и метафорических соотношений.
Гордезиани показывает, как уже в зачине «Илиады» проявляется оригинальность задания поэмы [Гордезиани, 1978, с. 33 и сл]. Призывая Музу воспеть гнев героя, погубившего множество ахейцев, поэт завершает картину бед словами: «Совершалася Зевсова воля» (Διός δ’ ἐτελείετο βούλη). Но выражение «воля Зевса» применительно к потрясениям Троянской войны имело вполне прозрачный мифологический смысл, отраженный в зачине «Киприй», начальной поэме Троянского цикла (Schol. А, Il. I,5): люди обременяют землю, и Зевс, желая ее разгрузить, развязывает Великую Войну. «И под Троей умирали герои. Совершалася Зевсова воля». Конкретная тема — повествование о гневном Ахилле — стыкуется с фразой, суммирующей смысл всей войны — конец вообще века героев. Одна тема семантически «наплывает» на другую, частным проявлением которой она может служить. Между двумя темами устанавливаются метонимические отношения. Тот же прием использован далее, во II песни. После отказа Ахилла сражаться, охваченный сомнением в возможности продолжать войну, Агамемнон по совету Нестора устраивает смотр войск. Перед слушателем как бы разворачивается панорама всего греческого мира, с разных концов которого плывут заполненные воинами корабли. Специально подчеркивается, что Ахилла нет на этом смотре, но вскоре он воспрянет для битвы. Гнев и примирение Ахилла соотносятся с картиной Эгеиды, охваченной раздором, просматриваемой точно с высоты птичьего полета. Заявленная частная тема включается в мировую перспективу. Здесь опять-таки отношение метонимии.
Но далее, в песни IV, видя готовность греков и троянцев пойти на примирение (при этом тема гнева Ахилла естественно сходила бы на нет), боги решают спровоцировать на предательский выстрел в Менелая троянского союзника Пандара. Тем самым достигается двоякая цель — примирение срывается, а Троя оказывается обречена на гибель павшим на нее грехом клятвопреступления. Причем Зевс соглашается отступиться от любимого им Илиона лишь после того, как Гера обещает громовержцу не препятствовать в разрушении ахейских столиц — Микен, Спарты и Пилоса (Il. IV.50 и сл.). Ахейцы неизбежно победят, но чаемая победа заранее оплачена на Олимпе. Эта скрытая от них, но не от поэта и его слушателей плата — конец героического века. Между участью «обреченного победителя» Ахилла и судьбой всей Ахейской Греции, выступившей против Трои, устанавливается новое — метафорическое — отношение. Ахилл раздираем противоборствующими чувствами, то готовый предпочесть долгую и бесславную жизнь надвигающейся смерти, то, наоборот, устремляющийся навстречу «смерти-победе». И весь ахейский мир медлит под Троей в преддверии то ли победы, обесцененной гибелью, то ли гибели, возвеличенной через победу.
Углубляя смысловую емкость эпизодов и действия в целом, поэт широко пользуется приемом, который мы могли бы назвать «семантической анаграммой». Обычная анаграмма состоит в расщеплении слова, часто имени, на фонемы, сочетания которых настойчиво повторяются в тексте, вызывая в сознании читателя или слушателя закодированное слово. Семантическая анаграмма предполагает аналогичную операцию над планом содержания: ситуация или образ разбиваются на составные элементы и последние, нагнетаемые в тексте, постоянно отсылают к скрытому смыслу. Так, сцена смерти Ахилла скрыта от слушателя, возникая лишь в предсмертном пророчестве Гектора (Il. XXII,359 и сл.). Но повторяющийся ряд структурно близких сцен, когда Пандар с молитвой к Аполлону и ради угождения Парису вероломно пускает стрелу в Менелая (IV,90 и сл.), далее, когда он же, полагаясь на Аполлона, стреляет в Диомеда, заменяющего Ахилла в роли главного ахейского героя (V,95 и сл.); и, наконец, когда сам Парис из засады простреливает ногу того же Диомеда (XI,369 и сл.), — должны вызвать в сознании слушателя финал, к которому стремится действие «Илиады» в точке его обрыва: Парис с помощью Аполлона вероломно пробивает из засады стрелой ногу Ахилла (ср. [Erbse, 1961, с. 174]). Это и есть своего рода семантическая анаграмма.
Аналогичным образом следует расценивать и ряд эпизодов «Илиады», как бы исподволь воспроизводящих на последнем году войны самое его начало. Гигантский смотр кораблей Агамемноном воспроизводит сбор греков в Авлиде: сцена на стене Илиона, когда Елена называет Приаму поименно ахейских вождей, восходит к высадке ахейского войска в Троаде, как и попытка решить спор поединком претендующих на Елену Менелая и Париса; первые дни войны воспроизводит и собрание троянцев в VII песни, на котором друг ахейцев Антенор требует выдать Елену, а Парис отвергает его призыв. Суммировав эти факты, Гордезиани пишет: «Совершенно незаметно мы узнаем, как прибыли ахейцы в Троаду, что случилось после их вступления на троянскую землю, как завершилась война и т. д.» [Гордезиани, 1978, с. 36]. Но важно не то, что слушатель Гомера узнавал об этих вещах: он мог о них знать и из других песен и легенд. Существенно то, что через историю «обреченного победителя» Ахилла он переживал все важнейшие моменты Троянской войны не как хронику, а как неразрывные звенья трагедии, многомерной, многоплановой, по-разному реализующейся в легендарной биографии чуть ли не каждого из героев «Илиады». Разве не «обреченный победитель» сам Агамемнон с предстоящей ему смертью в собственном доме? Или Диомед, которого мятеж сограждан изгонит на чужбину? Не вторят ли этой теме воспоминания Нестора о героях его молодости — «времен Геракла»? Не звучит ли во всю мощь тема «бессилия героев», когда, израненные, сбившись в кучу, они глядят, как Гектор поджигает корабли?
Сюжетика «Илиады» несет в себе принцип аналитической работы с преданием, вычленения в нем и связывания в единый узел мотивов, которые находились бы в семантическом и эмоциональном соответствии с темой Ахилла, его движения навстречу неразделимым победе и смерти. История Ахилла становится для Гомера моделью всей троянской темы, в ее частных претворениях. На историю Троянской войны поэт переносит важнейшую черту модели: идею постоянного колебания между жизнью и смертью, поражением и победой, неустанную подготовку предреченных, но все никак не наступающих великих и страшных событий, черты которых «анаграмматически» различаются в контурах происходящего. Может быть, всего важнее в гомеровском авторском понимании Троянской войны — это включение каждого шага, совершаемого в противоборстве сторон, в причинно-следственные перспективы разной глубины, не совпадающие одна с другой. Не просто ликованию победителей вторит плач побежденных, но каждая из борющихся сил в любой момент может рассматриваться, при разной степени прозорливости, как движущаяся и к состоянию победы и торжества, и к противоположному полюсу плача и краха. Зевс помогает троянцам победно дойти до ахейских кораблей лишь затем, чтобы подвигнуть против них Ахилла; но, в свою очередь, триумф Ахилла — это утрата им последнего шанса на спасение. За дымящимися руинами Трои встает видение оставленных богами на разрушение ахейских столиц. Подобно самой поэме, окончательный итог борьбы остается открытым, лежащим, как говорили греки, «у богов на коленях».
Очевидно, сколь большое значение в смысловой структуре «Илиады» имеет традиционный эпический архетип погибшего и оплакиваемого воина-победителя. И тем не менее в том понимании истории, которое несет в себе эта поэма, есть важное отличие от фольклорно-эпического осмысления событийного потока через возведение к архетипам. Это отличие — в принципиальной неоднозначности совершающегося, нетождественности ни победы, ни поражения себе самим. Интересно, что, как и в традиционном эпосе, важнейший принцип осмысления поэтом истории находит параллели на разных уровнях развертывания текста. Все сюжетные звенья у Гомера амбивалентны: рассказ о Диомеде — он же и об Ахилле, песнь о последнем годе войны — она же и о первом. То же самое и на других уровнях. Самые «формульные» места у Гомера, как показал Тронский, вдруг оказываются неповторимо отклоняющимися от ритмико-словесных стереотипов. Несамотождественность традиционного — ключ к поэтике Гомера, но здесь же и ключ к «гомеровской историософии».
Наличие такой модели исторического события в культурном сознании греков, а позднее и римлян, не могло не наложить сильнейший отпечаток на отношение к движению истории в целом. Здесь уже берет начало представление о неоднозначности любого исторически значимого акта, стремление проследить множество взаимодополняющих связей, в которые он способен вступить, тянущихся и в будущее и в прошлое. Вспомним геродотовское разыскание о «причинах» греко-персидской вражды, которые видятся по-разному в зависимости от того, сколько звеньев в цепи реальных или мифических фактов принимаются во внимание; либо вставные речи у Геродота и Фукидида, когда герои приводят аргументы в пользу взаимоисключающих решений или неодинаково интерпретируют какие-либо явления и события. Много веков спустя гомеровская модель «победы-смерти» ожила у Вергилия в его идее грядущего в лице римлян троянского триумфа, реванша за погибший Илион, но реванша, в свою очередь, достигаемого на пути полного, без остатка, растворения троянцев в якобы побежденных ими латинянах. Сознание античного человека, воспитанное на «Илиаде», было вполне открыто пониманию неокончательности, относительности значения любого факта, его «многомысленности» в мировой истории. Яркий пример — слезы Сципиона Эмилиана над разрушаемым римлянами Карфагеном, вызванные предвосхищением подобного же удела и для Рима. Показательно, что это предвидение сопровождалось декламацией стихов Гомера о будущей гибели Илиона, неизбежно напоминающих о катастрофе ахейцев-победителей (Polyb. 39,6).
Не менее важно то искусство, с которым Гомер представляет картину Троянской войны через судьбу одного из ее героев, преобразует многообразные подвиги и беды прочих в фон, обрамление для выдвинутой на первый план линии Ахилла в его противостоянии сперва Агамемнону, а затем Гектору. О чем бы ни шла речь, на каких бы персонажах временно ни фокусировал поэт свое внимание, слушатель тем не менее постоянно помнит, что на самом-то деле в виду имеется Ахилл, что повествование непременно должно пересечься с историей Ахилла. В этом смысле технику Гомера должно сравнить с приемами переработки исторического материала у античных биографов (ср. недавнее исследование [Поляков, 1990], проводившееся по соответствующим приемам у Плутарха в сопоставлении с Фукидидом). Можно утверждать с оговорками, касающимися специфики материала, что «Илиада» — по существу, первый в античности пример переработки «объективной истории» в «биографию», типологически очень сходный с последующими опытами в этом роде.
В том же контексте следует оценивать и упоминавшиеся наблюдения Штрасбургера над воплощенными и в гомеровских поэмах, и в античной историографии концептуальными схемами, на деле восходящими к традиционному эпическому сознанию (какова установка поэта и историка на «повествование о великих делах», трактуемых в «героически-агональном ключе»). Перерастая рамки устного творчества — сказительства, «Илиада» все еще сохраняет за собой те функции хранилища исторической памяти, которые искони принадлежали народному эпосу, а в дальнейшем были переняты исторической литературой. — Промежуточная в этом процессе позиция «Илиады» проявляется в перекличках ее с историографией не только в чертах, объединяющих гомеровскую поэму с предыдущими фазами жизни эпоса, но и в тех, которые составляют открытие Гомера. Строя сюжет, поэт проводит свое понимание Троянской войны как «мирообъемлющего» события, в каком-то смысле приведшего Ахейскую Грецию в преддверие ее краха, «схождения в Аид». Этой сверхзадаче служат и элементы эпического канона, и мифологические реминисценции (черты Ахилла как загробного бога или полубога, по Хоммелю), но еще более — новая внутренняя форма эпоса, создаваемая самим Гомером, игра на соотношении между поверхностной темой («страсти Ахилла») и темой глубинной («воля Зевса, свершающаяся над Грецией и окрестным миром»). Тем самым понятие «гомеровского историзма» приобретает новый, сугубо унитарный смысл, связанный с историко-моделирующими функциями нетрадиционных, индивидуально-авторских средств гомеровской поэтики. Он требует для своего раскрытия уже не аналитического проникновения в предысторию текста, а герменевтики наличного повествования в его поэтической целостности.
6
Позволительно высказать здесь гипотезу о причинах феноменального успеха «Илиады», превратившейся в восприятии греков в своеобразный эталон воплощения троянской темы, не только затмившей более ранние песни аэдов, но и оказавшейся недостижимым образцом для более позднего киклического эпоса.
Этот успех, на наш взгляд, во многом может объясняться интуитивно схваченной слушателями-греками и глубоко ими пережитой близостью «внутренней формы» «Илиады», отличающейся сложным метонимико-метафорическим структурированием сюжета «вглубь», к изначальным особенностям самой троянской темы. Очевидно, что рассказ о великом походе греческих вождей за море и гибели тысячелетнего священного города, за которой последовали скитания, разбросавшие греков по всему Средиземноморью, ни в коей мере не представляет самоценного, замкнутого в прошлом героического сказания, вроде легенд о плавании аргонавтов или о походе Семерых против Фив. В сознании греков эта тема задолго до Гомера соединила единым драматическим смыслом многочисленные сюжеты, в которых отражались судьбы разных греческих племен в переломную эпоху после начала заката ахейских столиц (конец XIII — начало XII в. до н. э.). Массовое переселение греков с Балканского полуострова на восток — на Киклады, вторжения на Кипр, набеги на Египет и Левант, битвы с проникающими в Грецию северобалканскими народами, отток части населения Пелопоннеса в Италию, проложивший путь будущей Великой колонизации этого полуострова, мятежи и разрушения в еще сохранявшихся пелопоннесских цитаделях — все эти события, составившие содержание целой эпохи, предание объединило под названием Троянской войны и последующего «возвращения героев». Крупнейшие племенные герои, предки и полубоги и, видимо, даже некоторые локальные божества были объединены в грандиозной панораме этого похода, за которым на деле встает великий исход — прощание Греции со своим микенским, героическим веком. Не предрешая наперед вопрос об историчности нападения ахейцев на «Приамову Трою», подчеркнем одно: сколь бы значительным событием ни была подобная экспедиция, совершенно невероятно, чтобы она могла повлечь за собой столь гигантские последствия — по существу, финал археологического периода поздней бронзы в Греции и по всей Эгеиде.
Из этого естественно заключить, что конкретная эпическая тема похода на Трою по каким-то причинам очень рано в восприятии греков возвысилась до ранга «сверхтемы», подчиняющей себе самые разные конкретные сюжеты, которые объективно могли соответствовать событиям совершенно самостоятельным и, вероятно, не менее масштабным, чем такой поход. Почему так произошло — другой вопрос, на который мы надеемся ответить в нашей книге. Сейчас для нас важен сам факт: троянская тема приобрела черты мифа, через который воспринимались и объяснялись многообразные события интересующего нас времени. Таким образом, в сознании греков на мифологической основе формируется своеобразный аналог тому, что позднее стало обозначаться понятием «эпохи»: идея длительного отрезка исторического времени, проникнутого единым действием, когда различные, не сводимые друг к другу явления и процессы тем не менее рассматриваются как выражающие по-разному одно и то же глубинное содержание. Перед нами миф, но миф, обращенный к истории, в смещенной, метафорической форме выражающий ее движение. Единство эпохи конституируется единством условного «мирообъемлющего» действия, задаваемого одним из событий данного времени, почему-то особенно поразившим сознание коллектива. В терминах культурологов, вслед за К. Леви-Стросом противопоставляющих «холодные» («мифологичные») и «горячие» («историчные») общества [Charbonnier, 1961, с. 44 и сл.], рождение троянского мифа, сюжетно связывающего различные событийные потоки в рамках более широкой временной и пространственной, иерархически организованной панорамы, выражало резкий «разогрев», историзацию мышления греков на рубеже поздней бронзы и раннего железа. Этот миф рассказывал, как греки, движимые внезапным порывом, устремились за моря и разрушили отмеченный некой виной перед ними священный и древний город, после чего греческое сообщество не смогло вернуться к прежнему состоянию, будучи ввергнуто в скитания, междоусобия и мятежи. Каждая из троянских героических судеб оказывалась одной из частных версий этого мифа.
Понятно, почему традиционные формы устного эпоса, как и те приемы «сшивания» троянских эпизодов, к которым прибегали позднейшие киклики, оказывались не соответствующими внутренней форме данного сказания. Подобное «сшивание», когда, по замечанию Аристотеля, единство действия мыслилось попросту вытекающим из единства времени, не могло не переворачивать с ног на голову фундаментальный конструктивный принцип троянской темы. Не единство времени, эпохи в киклических поэмах определялось динамикой сквозного сюжета, а наоборот — изображаемые события механически сополагались в одну цепь, поскольку легенда приписывала им временное соседство. Можно сказать, что традиционный сказитель-аэд, исполняя отдельные песни или цикл песен на троянские сюжеты, хотя и удовлетворял пристрастие к последним своих слушателей, однако неизбежно оставался ниже этой темы, ниже выработавшего ее коллективного сознания. Такие песни, по сути, оказывались лишь иллюстрациями к этой теме, не будучи в состоянии воссоздать ее глубинное метонимико-метафорическое строение, которое рождалось чувством единства эпохи, воспринимаемой через один сюжет, принятый за «мирообъемлющий», ключевой.
Целостность этого сюжета становилась все более формальной, «горячий» миф «остывал» в традиционных формах эпоса. Для оживления «внутренней формы» мифа, чтобы слушатель смог пережить во всей его силе зрелище головокружительного разрастания троянской темы «вглубь и вширь», требовалась новая сюжетная структура.
Такую структуру и дала «Илиада». Сюжетика этой поэмы использует как бы заново стержневой принцип троянской темы — трактовку многих разнородных событий как ответвлений и преломлений одной ситуации. На роль таковой выдвигается ситуация «обреченного победителя» Ахилла с характерным для нее лейтмотивом «подготовки», «кануна» близящихся, но все никак не наступающих катастроф: гибели героя и падения города. Различные сюжеты, мотивы и образы троянского круга сказаний осмысляются через нее, через свое отношение к ней. Приняв в свое сознание структуру «Илиады» в целом, грек, присутствуя при рецитации любого отдельного ее эпизода — подвигов Диомеда, поединка Гектора с Аяксом или других, — отдавал себе отчет в том, что слушает фрагменты из поэмы о гневе и горе Ахилла. Все эти эпизоды представали перед ним как проявления одной и той же «сверхтемы». Он присутствовал при чуде превращения одного эпизода среди многих равных ему в ключевой, главенствующий над иными, определяющий их понимание. Каждый слушатель переживал чувство, эквивалентное картине рождения и утверждения в своих мифотворческих правах самой троянской темы. Гомер вырвался из традиционности фольклорного сказительства именно тем, что перестал иллюстрировать песней легенду, но овладел механизмом рождения легенды и на уровне единого текста совершил индивидуальный мифотворческий акт, принципиально равный тому, который несколькими веками раньше осуществил коллектив, создавая троянский миф. В сознание народа «Илиада» вошла как модель всего мифа о Троянском походе, но она отмечена знаком личного авторства. Право на индивидуальность Гомер обрел тем, что показал себя творчески равным коллективу.
Известно, что некоторые авторы, по отношению к «Илиаде» выступавшие как унитаристы, сомневались в возможности приписать «Одиссею» тому же поэту [Nilsson, 1933, с. 210; Chadwick, 1976, с. 184; Kirk, 1962, с. 300]. Даже В. Шадевальдт, выделяя в ней основную часть как вполне гомеровскую, связанную приемом сквозной «подготовки», многие песни считал вставными, неорганичными для развития действия. Сюда он относил рассказ о Телемахе, сцену в царстве мертвых и т. д. [Schadewaldt, 1965, с. 468 и сл.]. По его мнению, над «Одиссеей» последовательно трудились Гомер — автор «Илиады» и неведомый аэд — его ученик. Однако нетрудно видеть, что именно в целостном ее виде «Одиссею» сближает с «Илиадой» склонность их создателей (или создателя) к изощренным построениям, усложняющим отношение между фабулой и сюжетом, заявленной темой и способом ее представления в тексте. В «Одиссее» это достигается решением поэта ввести события, предшествующие пленению героя на острове Калипсо, в форме вставного рассказа об Одиссее у феаков, благодаря чему временное соотношение между ранними и более поздними по фабуле событиями для непосредственно воспринимающего поэму слушателя оказывается инвертировано. Так же и рассказ о Телемахе отделяет сообщение о пребывании Одиссея в плену от песни V, рисующей этот плен и избавление от него. Такая структура рассказа, как и в «Илиаде», невозможна для эпика-импровизатора.
Поэт причудливо распределяет отрезки событийной цепи по тексту в целях постоянного обострения интереса слушателя. Это делает правдоподобной мысль, что «Одиссея», подобно «Илиаде», сразу создавалась как фиксированное целое, возможно, с применением письма.
О том же говорит и тщательная «геометрическая» проработка ансамбля эпизодов «Одиссеи» в его статике. В работах ряда ученых [Myres, 1952; Bertman, 1966; 1968; Гордезиани, 1978, с. 102 и сл.; Gordesiani, 1986, с. 58 и сл.] вскрыто тяготение поэмы к композиционной симметрии. Очень явственна перекличка начала и финала: призыва Афины к Телемаху в I песни действовать и мстить и, с другой стороны, водворяемого ею же в XXIV песни мира на Итаке. В литературе отмечалось, что сцена схождения душ в Аид в XXIV песни находит аналоги в заключениях других классических эпосов [Гринцер, 1974, с. 234 и сл.], но только в «Одиссее» эпизод в Аиде присутствует в центре композиции поэмы (XI песнь), который тем самым практически совмещается с кульминационным моментом странствий Одиссея. Это надо целиком отнести за счет сознательной деятельности поэта, ставящего на этой сцене сюжетно-смысловой акцент, превращая ее в главный композиционный узел поэмы (подробнее см. [Гиндин, 1979, с. 198]). Такой изощренный «геометризм» — общая черта «Илиады» и «Одиссеи», выделяющая их среди всех известных эпосов древности.
Наконец, прием, используемый в «Одиссее», когда через рассказ о путешествии Телемаха в Пилос и Спарту в поэме раскрывается панорама судеб других ахейских героев, вернувшихся домой или погибших в пути, явно близок повествовательной технике «Илиады»: воссозданию картины всей Троянской войны при помощи вставных эпизодов. Благодаря этому «Одиссея», как и «Илиада», выходит за пределы своей непосредственной темы, превращаясь в широкую картину возвращения ушедших.
7
Очевидно, что все три известных подхода к гомеровскому эпосу — фольклорно-эпосоведческий, аналитический и унитарный — имеют право на существование и способны давать ценные результаты. Но из этого не следует, что с их помощью могут одинаково хорошо объясняться одни и те же явления. Скорее, каждая из этих методик в синхронном плане отвечает особому уровню строения текста, а в плане историческом — определенному аспекту его предыстории.
Унитаристы правы, когда они подчеркивают уникальность сюжетной формы «Илиады» среди эпосов древнего мира, подчинение поэмы единому замыслу и ее изощренную технику, преобразующую разнородный материал в стройное и высоко драматичное повествование. Законно настаивают они на том, что подобная структура предполагает единое авторство текста в его нынешнем виде, за вычетом допустимых небольших вставок исполнителей-рапсодов.
Доля истины, заключенная в аналитическом подходе, определяется использованием в гомеровском синтезе более ранних эпических сюжетов и, вероятно, отдельных строк, пассажей, даже целых сцен из созданий безымянных аэдов — предшественников Гомера. Все эти извлечения инкорпорировались в «Илиаду», обрабатываясь в соответствии с сюжетным замыслом ее автора. Не исключено, что гигантские поэмы могли создаваться на протяжении ряда, лет и даже десятилетий, отнюдь не в той последовательности, которую их эпизоды обрели после завершения. Гомер, как и любой автор, мог воплощать в словесном материале сперва те сюжетные звенья, которые ярче представлялись его воображению, лишь впоследствии заполняя лакуны между ними связующими сценами, сочиняемыми им или черпаемыми из арсенала уже существовавших троянских песен. Поэтому аналитическая методика, выявляющая некоторые различия в стиле отдельных частей гомеровского эпоса, небольшие противоречия в повествовании и т. п., позволяет высказывать гипотезы об этапах складывания существующего текста (еще Э. Бете показал ее перспективность в этом плане на таких индивидуально-авторских текстах, как «Медея» Еврипида).
Наконец, неоспоримо, что Гомер создавал свои изощренные поэтические структуры, своеобразно применяя существовавшую до него технику устного эпоса: традиционные формулы, клишированные приемы развертывания эпических сцен и т. п. Исследователь всегда должен иметь в виду внутренние характеристики этого материала, возможности, которые он открывал перед поэтом, и ограничения, которые он на него накладывал.
Думается, каждая из трех методик призвана решать свои собственные задачи. Однако, чтобы воссоздать целостную картину генезиса гомеровских поэм, полученные результаты должны интегрироваться под унитарным углом зрения как соотносящимся с уровнем художественных структур более высокого ранга, чем те, которыми оперируют и аналитики, и последователи Пэрри и Лорда. Для нас существенно то, что при каждом подходе понятие «историзма» гомеровского повествования обретает особый смысл.
«Историзм» Гомера для эпосоведа-фольклориста — это не только множество разновременных реалий, отложившихся в словаре Гомера, в археологической амальгаме гомеровского условно-поэтического мира. В этом же значении об исторических моментах у Гомера может говорить и унитарист, и аналитик. Но применительно к традиционному эпосу историзм означает и нечто иное, а именно — способы сохранения в нем исторических событий и образов, воспринятых в соответствии с каноном, сведенных к ограниченному числу архетипов, через посредство которых коллективное сознание реагирует на разнообразные исторические феномены. Очень важно сознавать специфику подобных мифопоэтических схем, чтобы избежать их перетолкования в виде квазиисторических фактов, когда за подлинное воспоминание народа принимаются моменты, продуцируемые внутренними механизмами канона (см. [Гиндин, Цымбурский, 1984]).
С точки зрения аналитика, историзм «Илиады» — это конкретные исторические импульсы, претворенные в тех или иных, как предполагается, изначально автономных сюжетных линиях поэмы. Поскольку Троянский цикл вобрал в себя массу героев более ранних мифов, немалый интерес представляют обстоятельства обретения этими героями их ролей в рассказах о Великой Войне, изменения, пережитые при этом их образами и кругом функций, рудименты более ранних, «дотроянских» их трактовок, проявляющиеся в новом контексте. Для аналитика процессы становления «Илиады» и циклических поэм суть своего рода производные от процессов более глубоких, этнокультурных (миграций, борьбы племен и т. д.), таящихся за условными героическими судьбами и подлежащих историко-филологической «дешифровке».
Для унитариста же историзм «Илиады» и «Одиссеи» — прежде всего претворение в их образном строе и сюжетосложении представлений певца о трагических потрясениях, изведанных греческими племенами в конце микенской эпохи и начале новых времен. Занимаясь «Илиадой», унитарист вскрывает метаморфозы, которым подвергались образы и мотивы троянских песен, когда, притягиваясь к судьбе Ахилла, они оказываются подчинены развитию и варьированию «мирообъемлющей» темы «обреченного победителя».
Эпосовед-фольклорист говорит о перекодировке истории в эпосе под давлением канона; аналитик — о возможных локально-племенных интересах и пристрастиях, скрывающихся за мутациями, взаимными притяжениями и отталкиваниями отдельных сюжетов; для унитариста главное — переработка Гомером всего эпико-легендарного материала, попавшего в сферу притяжения «Илиады», сообразно с представлением поэта о неких «роковых» происшествиях в истории народа. И все эти аспекты гомеровского историзма, вместе с идентификацией перемешанных в тексте примет различных культурных эпох, должен учитывать ученый, стремящийся, по мере сил, к комплексному выделению исторической информации, заключенной в «Илиаде» или по крайней мере в отдельных звеньях ее сюжета.
Для того чтобы названные методики обрели надлежащее место в гомероведении, они должны рассматриваться не как исчерпывающие, взаимоисключающие концепции гомеровского эпоса, а как три совокупности приемов, действенные на разных уровнях и полноценно дополняющие друг друга. Лишь в совокупности своей они открывают нам подступ к решению фундаментальнейшей и в то же время самой актуальной, насущной проблемы — проблемы многообразных форм явления и обнаружения Истории в Слове.
Является ли наша работа исторической или филологической по своему характеру? Думается, в ней мы пытаемся вернуться к изначальному образу филологии — комплексной дисциплины или совокупности дисциплин, сосредоточенных на разных уровнях анализа и толкования текста. Филологи начала века практически без исключения были, так сказать, «историко-филологами», т. е. и собственно историками, и литературоведами, и языковедами, и мифологами, и историками философии, а при необходимости вполне квалифицированными археологами и искусствоведами. Достаточно вспомнить Г. Узенера, У. фон Виламовица-Мёллендорфа, К. Роберта, Э. Бете, И. Кречмера, М. Нильсона (для более позднего времени некоторое представление о подобном типе ученого дают работы Ф. Шахермейра, Т. Вебстера, Д. Пейджа). Это многообразие инструментария старой филологии объяснялось не только широтой образования (которое в наше время, к сожалению, даже весьма даровитых авторов не охраняет ни от «эффектного» дилетантизма в конкретных областях, ни от начетнического «сопряжения литературных массивов» под знаком более или менее броских концепций). Добротность выводов, получаемых названными учеными, определялась прежде всего применением всех методик в едином ключе, связанном с задачей проникновения в жизнь текста.
Сейчас не столько филология как единая дисциплина утрачивает свой предмет (ибо тексты будут существовать, пока живет человеческий род), сколько, наоборот, предмет — целостный текст — лишается дисциплины, отвечающей его единству (см. [Гиндин, 1988, с. 185]). Он дробится между литературоведением с его бесчисленными подразделениями, лингвистикой, историей, искусствоведением и т. д. При этом возникает двоякая опасность. С одной стороны, специалисты в предметно смыкающихся областях перестают понимать друг друга и выводы каждого из них теряют применимость за пределами узкого сообщества ближайших коллег. Такие традиционные методы филологии, как этимология, синхронный и диахронный анализ семантики и т. д., объявляются прерогативами чистой лингвистики. Филологи-литературоведы перестают в них разбираться и пользоваться ими, возникает литературоведение, оторванное от реального текста, т. е. то, что Д. С. Лихачев удачно назвал «неконкретным литературоведением». В свою очередь, лингвисты, замыкаясь на слове как единице словаря, теряют чувство текста, умение работать с более или менее крупными его отрезками. На пути от лингвистического анализа к литературоведческим суждениям «высокого уровня», претендующим на характеристику произведения «в общем», разверзается пропасть методической беспомощности при анализе живого текста, в котором на каждом отрезке замысел автора взаимодействует с исторической памятью, ассоциативным потенциалом вовлекаемого в этот замысел слова во всей его семантической многомерности, нет даже и понимания необходимости такого анализа. С другой стороны, возникает иная опасность, обусловленная частой неспособностью узкого специалиста проверить результаты, заимствованные из «чужой» области. Пропадает важный в гуманитарных науках не менее, чем в естественных, критерий воспроизводимости результатов, начинается нагромождение гипотез на гипотезы: лингвистических на археологические и т. д.
Выход видится один: в обращении на новом этапе во всеоружии выработанных в XX в. методик к идее текста как единого предмета филологического знания. В этом ключе и писалась наша книга. Отметим в заключение, что при использовании археологических материалов авторы старались опираться на наиболее авторитетные и апробированные сообществом археологов разработки, способные играть роль достоверных экспертных оценок.
ЭГЕИДА И ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА
Глава 2 Хеттские свидетельства об ахейцах в Анатолии XV–XIII вв. до н. э
1
Как бы ни интерпретировать генезис легенд о Троянской войне, едва ли возможно отрицать связь этого круга греческих сказаний с историей утверждения греков в Малой Азии. День, когда греки впервые ступили на эту землю, положил начало тому культурно-историческому и одновременно политическому процессу, который к VIII в. до н. э. увенчался, с одной стороны, сплошной греческой колонизацией всей малоазийской части эгейского побережья, а с другой — гомеровскими поэмами, повествующими о великом походе ахейцев на неприступную столицу Троады. Эпическая предыстория Гомера начинается с истории первых греков в Анатолии.
Это превосходно понимал Э. Форрер, когда свою первооткрывательскую статью об упоминаниях ахейцев в хеттских клинописных текстах озаглавил: «Догомеровские греки в клинописных текстах из Богазкёя» [Forrer, 1924]. Такое заглавие сразу делало проблему отождествления царства Аххиява хеттских клинописных документов с Микенской Грецией, на чем настаивал Форрер, гомероведческой проблемой. До этого гомеровский рассказ об осаде малоазийского города ахейцами выступал как самое раннее письменное свидетельство встречи Греции с Анатолией. Признание достоверности выводов Форрера открывало бы еще более древнюю ступень их контактов. Гомеровский текст переставал быть хронологической точкой отсчета — теперь его показания о делах микенской эпохи, отстоящие от нее почти на 500 лет, могли поверяться документами того самого времени, на которое проецировалась картина, рисуемая поэтом.
Понятен огромный резонанс «спора об Аххияве», где в поддержку Форрера, правда, с определенными оговорками, выступил крупнейший филолог-классик и специалист по языковой истории древних Балкан П. Кречмер [Kretschmer, 1930; 1933; 1950; 1954], а с резкой критикой «микенской гипотезы» — столь авторитетные хеттологи, как Й. Фридрих, А. Гётце и особенно Ф. Зоммер, по ходу полемики осуществивший гигантский труд, подвергнув ревизии, а затем издав и прокомментировав все источники с упоминанием Аххиявы [Friedrich, 1927; Goetze, 1934; Sommer, 1932; 1934; 1937].
В центре дискуссии оказались приводимые Форрером контексты, указывающие на локализацию Аххиявы где-то в море, за пределами Анатолии (хотя Форрер отмечал, что царь этой страны владел какими-то территориями в Малой Азии), а также серия предложенных им сближений местных названий и личных имен в текстах об Аххияве с топонимами, представленными в греческих памятниках, и греческими именами, в том числе отраженными в легендарно-мифологической традиции, уходящей в микенскую эпоху [Forrer, 1924; 1924а; 1926–1929; 1929а; 1930]. Таковы соответствия: 1) хет. Aḫḫijawā = греч. Αχαιοί «ахейцы» из *Αχαιϝοί, лат. Achīvī — ср. форму линейного письма Б a-ka-wi-ja-de (Kn С 914) = Akhaiwiān-de «в Ахайю» [Chadwick, Baumbach, 1963, с. 178]; 2) хет. Lazpaš, обозначение некой страны, связанной с Аххиявой, = греч. Λέσβος, остров в Эгейском море вблизи берегов Анатолии; 3) хет. Milawanda / Milawata, город и территория в области Лукка, находящиеся под властью царя Аххиявы = греч. Μιλυάς, -αδος, древнее название Ликин, позднее сохранившееся лишь за небольшой областью на северо-востоке этой страны [Forrer, 1924, с. 5]. В ходе дискуссии по проблемам Аххиявы Ф. Грозный сблизил хет. Milawanda с названием древнейшего греческого города в Малой Азии Милета: греч. Μίλητος, Μίλλατος из *Milwatos [Hrozný, 1929, с. 329]. Большинством историков принято именно это отождествление, а не форреровское [Garstang, Gurney, 1959, с. 80 и сл.; Page, 1959, с. 18, 39; Дьяконов, 1968, с. 112]. Однако следует иметь в виду, что в XIII в. до н. э. владения Милава(н)ды тянулись далеко на юг, включая г. Utima хеттских клинописных текстов (историческая Idyma в Карни), также г. Pina (в этом хеттском топониме видят сокращенное обозначение ликийской Пинары). В середине этого века, по данным так называемого «Письма в Милаванду» от одного из хеттских царей, правитель этой области заявлял даже претензии на г. Arinna, отождествляемый с будущим Ксанфом (лик. Аrñnа), крупнейшим ликийским центром [Schachermeyr, 1986, с. 263 и сл.]. Сохранились мифы, прямо объединяющие Милет с древней Ликией — Милиадой: так, по одной версии, герой Сарпедон, придя с ликийцами с моря, покоряет Милиаду (Hdt. I,173), а по другой он, явившись в Анатолию, строит Милет (Ephor, FHG I, fr. 32).
Отождествления Милава(н)да-Милиада (в широком смысле) и Милава(н)да-Милет не обязательно исключают друг друга — в первом случае можно видеть туземное, с сохранением звука (w), а во втором — греческое, с обычным выпадением этого звука, отражение названия древней Милаванды, видимо, охватывавшей области на стыке северной Ликии и Карии, включая Милет, и в хеттское время находившейся в зависимости от царей Аххиявы.
Антропонимические соответствия, указанные Форрером и получившие особенно широкую известность среди ученых-античников, таковы: 1) хет. Tawagalawaš, возможное чтение Tawaklawas, вождь из Аххиявы, и, по выводам Форрера, брат ее царя = греч. Ἐτεοκλής, знаменитое легендарное имя, которое в ахейские времена звучало как Etewoklewes, ср. пилосскую форму PY An 654, Sn 64 e-te-wo-ke-re-we-jo- = Etewokleweios [Chadwick, Baumbach, 1963, c. 195]; 2) хет. Ant(a)rawaš, жрец, по-видимому, из Аххиявы = греч. Ἀνδρεύς; и наконец, может быть, самое нашумевшее из сближений Форрера 3) хет. Attarišijas, возможное чтение Atresias, имя правителя Аххиявы, ведшего захватнические войны на западе Анатолии и разорявшего соседние острова = греч. Ἀτρεύς, имя одного из прославленных царей микенской династии Пелопидов, по легендам — отца Агамемнона, ср. название местности вблизи ахейского Пилоса в ΡΥ Aa 779, An 830, Ma 335 A-te-re-wi-ja «Атреева местность» [Morpurgo, 1963, с. 41] (краткий обзор с литературой см. [Гиндин, 1967, с. 25 и сл.; Гиндин, 1981, с. 141 и сл.; Гиндин, 1991]).
Критики Форрера направили основной полемический огонь на его истолкования личных имен из Аххиявы. В основном признавая эти имена нехеттскими, они утверждали, что греческие их этимологии основаны на фонетических натяжках и очень приблизительных созвучиях. Особенно это относилось к сближению имен Атрисия и легендарного Атрея, в самом деле выглядящему чрезвычайно уязвимым из-за явного различия в исходах этих имен, которое невозможно объяснить никаким закономерным фонетическим развитием. Форреру бросался упрек в произвольном предпочтении удобных для его гипотезы и часто весьма искусственных интерпретаций ряда контекстов. Что же касается топонимических сопоставлений, то здесь оппоненты Форрера до известной степени разошлись между собой во мнениях: если Зоммеру и Фридриху все эти параллели казались нереальными с точки зрения законов фонетики (см., в частности, [Friedrich, 1927, с. 92 и сл.; Sommer, 1932, с. 354 и сл.] — о сомнительности передачи греческого звука χ [kh] хеттским -ḫḫ- и невозможности возвести хет. -ija в Aḫḫijawā к греч. -αι в имени ахейцев), то Гётце, одновременно с Форрером указавший на созвучие названия Аххиява с греческим этнонимом [Goetze, 1924, с. 26], по сути, возражал лишь против прямого отождествления этого царства с ахейской метрополией — Микенской Грецией [Goetze, 1928, с. 53 и сл.; Goetze, 1934, с. 177] (ср. [Goetze, 1957, с. 183]).
Постепенно в работах Кречмера, Гётце и Ф. Грозного [Hrozný, 1929, с.333] наметилась третья позиция в вопросе об Аххияве, промежуточная между взглядами последовательных сторонников Форрера [Szemerényi, 1957; Harmatta, 1968; Гордезиани, 1978; Luce, 1975] и подходом тех авторов, которые вслед за Зоммером видели в Аххияве одно из малоазийских государств, не имеющих ничего общего с миром греков [Steiner, 1964]. Согласно этой точке зрения, разделявшейся ранее одним из авторов данной книги (см. [Гиндин, 1967, с. 25 и сл.; Гиндин, 1981, с. 142 и сл.] — там же краткий обзор форм и литература по проблеме Аххиявы), Аххиява помещается либо где-то на крайней периферии Анатолии, на западе, северо-западе или на юге, либо на прилегающих к анатолийскому побережью и охваченных в позднебронзовую эпоху ахейским влиянием островах.
В ее жителях видят то греческих колонистов на западе Эгеиды, вперемешку с местным малоазийским и островным населением (в таком случае они оказываются своеобразными «полуахейцами», отграниченными от ахейцев Пелопоннеса и Средней Греции), то даже реликты греческих племен, сохранившиеся на их древнейшей северобалканской и североанатолийской прародине, где они могли обитать еще задолго до передвижения на юг Балканского полуострова и тем более возвышения Микен [Mellaart, 1968; Macqueen, 1968; Маккуин, 1983; Muhly, 1974; Иванов, 1977, с. б; Гамкрелидзе, Иванов, 1984, т. 2, с. 901 и сл.]. В результате возникла Аххиява Дж. Мелларта во Фракии на северном берегу Мраморного моря, Аххиява Дж. Маккуина и Дж. Мюли в Троаде, Аххиява Грозного и Д. Пейджа на Родосе, где находился город Ἀχαΐα, т. е. «Ахейский» [Hrozný, 1929, с. 333; Page, 1959, с. 15; Sacconi, 1969, с. 19] (ср. [Schachermeyr, 1958, с. 380 и сл.] — колебания между Микенами, Родосом и Кипром); наконец, Аххиява П. Кречмера на юге Киликии, которая в начале I тысячелетия до н. э. в ассирийских документах именовалась страной Qawe и обитатели которой еще во времена Геродота носили прозвище Ὑπαχαιοί, т. е. «пребывающие под властью ахейцев» или «полуахейцы» [Kretschmer, 1933; 1936].
Подобные отождествления становились все популярнее по мере того, как с успехами малоазийской археологии обнаруживались истинные, весьма впечатляющие масштабы ахейского присутствия в XV–XIII вв. до н. э. на всем западе полуострова (см. ниже). Но в то же время с уточнением политической карты Анатолии этих столетий становилось ясно, что для огромного царства Аххиявы, по мощи какое-то время сравнимого с Хеттской державой, практически не остается места на территории, контролировавшейся хеттами или сопредельной с их владениями. В 80-х годах, подводя итог этим построениям, Шахермейр остроумно назвал общим для них всех стимулом готовность «охотнее локализовать Аххияву хоть на луне, чем на греческом континенте» [Schachermeyr, 1986, с. 327]. Он с полным правом указывает, что особенно фантастичны попытки по принципу «все может быть» отыскать Аххияву на берегах Мраморного моря, влекущие за собой произвольные перемещения далеко на север целого ряда областей и населенных пунктов вроде Милаванды, страны Лукка, г. Иаланда и т. д., названия которых, пережив века, сохранились в I тысячелетии до н. э. в той же конфигурации на юго-западе Малой Азии [Schachermeyr, 1986, с. 327]. С другой стороны, более правдоподобную с историкогеографической точки зрения гипотезу об Аххияве как некоем обособленном от Балканской Греции ахейском царстве на островах Южной Эгеиды довольно сложно согласовать с хорошо прослеживаемым для второй половины XIV в. до н. э. (микенский период III В) фактом культурного сплочения всего греческого мира вокруг Микен, которое, по всей очевидности, должно было сопровождаться установлением, в той или иной форме, их политической гегемонии в этом мире [Desborough, 1964].
В рамках данной схемы, объединяющей исследователей с весьма различающимися взглядами по тем или иным частным вопросам — от последовательного «антимикенца» Маккуина до Шахермейра, в конечном счете ставшего горячим приверженцем концепции Форрера, — идея соотнесения Аххиявы с какой-то частью греко-эгейского мира стала практически общепризнанной. В наши дни возвращение к гиперкритическим позициям, занимаемым в 30-е годы Зоммером и Фридрихом, выглядело бы явным анахронизмом. Основной спор в последние 20–30 лет идет не вокруг альтернатив «связывать или нет Аххияву с греками», а о том, включало ли это понятие в себя с точки зрения хеттов Микены и другие центры материковой Греции или ограничивалось малоазийской и западно-эгейской периферией греческого ареала.
Решительный поворот в дискуссии об Аххияве связан с появлением в 80-х годах работ Г. Гютербока [Güterbock, 1983; 1984; 1986] и последней книги Шахермейра [Schachermeyr, 1986]. Гютербок, с его огромным хеттологическим авторитетом, проделав новую ревизию текстов об Аххияве, переадресовал Зоммеру и другим противникам микенской Аххиявы упрек в произвольных конъектурах и выборе предпочтительных для них чтений — тот самый, который они бросали Форреру. В результате скрупулезной работы Гютербока подавляющее большинство чтений и толкований Форрера было научно реабилитировано. Синтезировав встающую из текстов картину с данными археологии, Гютербок пришел к однозначному выводу: «Великий царь Аххиявы, равный по рангу царям других великих держав того времени, не мог быть правителем какой-то страны в Анатолии, где нет места ни для какой великой державы, кроме страны Хатти. Невозможно поместить его и на одном из островов. Я думаю, заключение может быть только то, что он управлял материковой Грецией, так же как и островами и колониями в Анатолии» [Güterbock, 1984, с. 117] (ср. [Герни, 1987, с. 51] — о том, что «аххиявцы» хеттских текстов явно должны были выступать, подобно микенцам, владыками Восточного Средиземноморья и об исторически устанавливаемой невероятности сосуществования двух разных талассократий в одном бассейне). Признав правдоподобие сближения имен Тавакалаваса и Этеокла и т. д., Гютербок заявил о невозможности требовать еще более точных передач греческих имен собственных от хеттской клинописи при значительном расхождении этих языков в области фонетики и морфологии и несовершенстве клинописной фиксации. С узколингвистического анализа ономастических тождеств центр тяжести исследований был перенесен на филологическую интерпретацию цельных отрезков текстов, принадлежащих к двум сопрягаемым традициям, на фоне исторических процессов, прослеживаемых для Эгеиды XV–XIII вв. до н. э.
Важнейшим исследованием, выполненным в этом ключе, стала упомянутая предсмертная монография Ф. Шахермейра, представляющая на сей день, без сомнения, самое масштабное и всестороннее исследование проблем Аххиявы, проделанное с широким соположением данных хеттских документов и греческих преданий, а также археологии всего огромного эгеоанатолийского пространства и отдельных его участков. Можно спорить с решением отдельных проблем, предлагаемым в этой книге, как и в предыдущих работах автора [Schachermeyr, 1982; 1984], но нельзя не видеть, что с появлением этих трудов история народов и государственных образований данного ареала в период поздней бронзы оказалась поднята на недосягаемую до тех пор высоту, — и это не только в силу исключительной эрудиции ученого, но и благодаря мастерскому применению им на необычном материале современного инструментария политической истории и истории цивилизаций. Значительным достижением Шахермейра стала показанная им закономерность периодического столкновения в древности в прибрежной полосе Восточной Эгеиды держав, воплощающих принципы морского и континентального владычества (Аххиява и Хеттское царство, Афинский, а затем Спартанский союз и империя Ахеменидов), при кратковременных эффектных возвышениях и быстрой гибели государств промежуточного типа, возникающих в самой этой полосе и пытающихся вырасти в империи, расширяясь в глубь континента (Арцава, Лидия Креза).
В свете такой концепции Шахермейр смог объяснить статус территорий, подобных Милаванде, по аналогии со статусом ионийских городов V–IV вв. до н. э., введя понятие «двойного подчинения», обозначающее одновременную признанную зависимость этих образований от их отделенной морем исторической метрополии и в то же время их официальную лояльность по отношению к континентальным империям, к которым они примыкают географически. Теория «двойного подчинения», разработанная Шахермейром на материале Запада Малой Азии II–I тысячелетий до н. э., обнаружила гораздо более широкую применимость, проливая свет на механизмы многих парадоксальных ситуаций древнего и нового времени (буферные государства Передней Азии между Римской империей и парфянами, Брабант в средние века между Англией и Бургундией, Босния и Герцеговина в XIX в. в подчинении Оттоманской империи и Австро-Венгрии (см. [Schachermeyr, 1986, с. 23] — с приведением откликов медиевистов и специалистов по международному праву относительно этого положения). Последняя книга Шахермейра (завершенная им в возрасте девяноста с лишним лет) стала научным подвигом исследователя, включившего в контекст долговременных закономерностей средиземноморской и мировой истории 200 лет контактов между хеттами и Микенской Грецией.
2
Осознав тему Аххиявы как тему культурно-историческую, начнем с археологии, с показаний истории материальной культуры. Карта микенских находок в Западной Анатолии XV–XIII вв. до н. э. совершенно однозначно говорит о широком присутствии греков в этом районе. Один из самых авторитетных специалистов по археологии Малой Азии, М. Меллинк, комментируя предпринятую Гютербоком ревизию хеттских свидетельств об Аххияве, уверенно утверждает: «Результаты раскопок в Милете и Иасосе находятся в полном соответствии с рабочей гипотезой о том, что Аххиява = ахейцы» [Mellink, 1983, с. 141].
В самом деле, если до середины XV в. до н. э. Милет, основанный выходцами с Крита и в своих внешних связях ориентированный на этот остров, представляет яркую картину минойской культуры на анатолийском побережье, то под 1450–1440 гг. до н. э., почти сразу после занятия критской столицы Кносса ахейцами и включения острова в сферу микенского влияния, в истории Милета наступает новая эпоха. Город перестраивается, воздвигается крепость, храм Афины, появляются характерные для Греции дома с большим центральным залом-мегароном, а также типично ахейское скальное захоронение в каменных камерах [Schachermeyr, 1986, с. 43 и сл.; Weickert, 1959, с. 181 и сл.]. Аналогичная картина прослеживается в Иасосе [Mellink, 1973, с. 177 и сл.]. Микенские захоронения обнаруживаются также к западу от Галикарнасса (совр. Мюзгеби), в Эфесе, в Колофоне, где открыта купольная гробница некоего знатного грека, а также к северу от р. Герма в Питане, будущей Эолии (см. [Schachermeyr, 1976, с. 194 и сл.; Schachermeyr, 1986, с. 44; Mellink, 1976, с. 270 и сл.; Mellink, 1983, с. 139 и сл.]).
На Родосе в середине XV в. до н. э. гибнет минойское поселение в Иасосе, и следом на этом острове, а также на Косе, Самосе и Хиосе и, вероятно, на соседних участках побережья, в Клазоменах, Эритрах и карийском Книде, утверждаются микенские пришельцы [Schachermeyr, 1986, с. 43]. Шахермейр здесь же с полным правом отмечает, что заселенная ими область должна была быть гораздо шире, чем о том прямо свидетельствуют археологические памятники: ибо, пишет он, ахейские населенные пункты, как правило, лежали у самого побережья, и при позднейшем повышении уровня моря их нижние слои оказываются разрушены и поглощены почвенными водами, что частично наблюдается и в Милете. По той же причине и микенские керамические изделия обнаруживаются в массовом количестве в прибрежной полосе Малой Азии лишь для относительно позднего микенского периода III В, примерно с 1360 г. до н. э. В то же время во внутренних районах Карии, а также в камерных захоронениях в Эфесе встречается посуда местного производства микенского стиля III A [Schachermeyr, 1976, с. 194 и сл.; Schachermeyr, 1986, с. 44] (ср. в последней работе с. 170 и сл. о появлении в Карии и на Кипре керамики этого стиля с 1400 г. до н. э. и о более редких находках изделий микенского периода II, т. е. XV в. до н. э.). Итак, с середины XV до середины XIV в. до н. э. наблюдается изменение этнокультурной ситуации во всем очерченном регионе. Захватив Крит, ахейцы сразу же распространили свою экспансию на связанные с «царством Миноса» восточноэгейские острова и прибрежные города, прежде всего Милет, а далее, в течение столетия, утвердились в ряде пунктов на протяжении от Лесбоса (поселения в Терми и в Антисе) и южной Эолии на севере до позднейшего карийско-ликийского пограничья на юге. К середине XIV в. до н. э. по обе стороны Эгеиды звучала греческая речь. В Анатолии укоренилась греческая культура, ахейский стиль жизни, включая местное производство микенской посуды.
Последняя вообще входит в моду, получает большую популярность даже в тех местах, где невозможно предполагать наличия сколько-нибудь значительных греческих контингентов. По карте, составленной К. Биттелем (см. [Güterbock, 1984, с. 115; Schachermeyr, 1986, с. 75]), прослеживаются случаи нахождения микенской керамики в глубине полуострова, на территории будущих южной Фригии, Писидии, даже Ликаонии (совр. Дирмил, Дерекёй, Годелесин). Сенсацией стало ее обнаружение под 1300 г. до н. э. в самом центре Анатолийского плато в Машат-Гююке, находящемся примерно в 300 км к югу от современной Анкары и немного далее от Хаттусаса [Özgüs, 1977]. Машат-гююкские открытия расширили представления историков о возможностях проникновения изделий микенской культуры, а может быть, и отдельных ее носителей во внутренние области Малой Азии, о масштабах эллинизации последней уже в хеттские времена.
Очень интересная ситуация наблюдается на северо-западе полуострова. Если в слоях Трои VI — Трои VIIб I начиная с XVI в. до н. э. прослеживается множество микенских сосудов, что определенно говорит о тесных связях Троады в течение почти 250 лет с ахейским миром [Blegen, 1963, с. 141 и сл.], то южнее на 200 км от Трои до ахейского поселения в Питане лежит пространство, на котором до настоящего времени не обнаружено никаких микенских изделий. С одной стороны, тому может быть виной недостаточность раскопок, проводившихся в этой части полуострова. Но в то же время существуют и объективные обстоятельства, сильно понижающие шансы на обнаружение ахейских поселений в этих местах. В работе одного из авторов данной книги этот резкий перепад между скученностью признаков микенской колонизации в южной и центральной части эгеоанатолийского побережья и отсутствием их на северо-западе был сопоставлен с хорошо прослеживаемой по данным топонимики этнической обособленностью данной оконечности Малой Азии от других ее областей [Гиндин, 1991, с. 38 и сл]. Есть основания думать, что в составе населения северо-западного района (Троада и позднейшая Мисия) с очень ранних времен доминировали племена, родственные племенам — обитателям Северных Балкан: фракийцам, фригийцам, пеонийцам и т. д. [Гиндин, 1981] (также см. главу 3 данной книги), тогда как более южные области были заселены хетто-лувийскими этносами. Последние в позднебронзовый период уже обладали высокоразвитой городской культурой при активных торговых и дипломатических связях с современными им государствами Передней Азии и Египтом. Между тем на северо-западе, по-видимому, вовсе не было крупных городов, помимо Трои-Илиона, да и то во II тысячелетии до н. э. резко обособленной от хеттского мира (см. [Blegen, 1963, с. 37]), как и от всего переднеазиатского культурного круга. Возможно, воинственные и не слишком цивилизованные племена от Герма до Троады, в отличие от хетто-лувийцев, легко вступавших, как увидим, в культурно-политический симбиоз с греками, оказали пришельцам решительный отпор, положив северные рубежи их анатолийской колонизации. Но, с другой стороны, вполне правдоподобно, что сами греки, активно осваивавшие хетто-лувийские области, приобщаясь к плодам роскошной древневосточной культуры, до поры до времени не испытывали большого интереса к северной, «дикой» окраине этого цветущего мира — конечно, за исключением Троады с ее мощной столицей, в окрестностях которой, однако, никакая вооруженная колонизация не могла иметь шансов на успех.
Так в сознании греков сложился образ Эгейской Анатолии XV–XIV вв. до н. э., с обжитым югом и плохо освоенным, малопривлекательным севером, среди которого возносила свои неприступные стены Троя VI, вошедшая в греческие сказания под именем построенной Посейдоном Лаомедонтовой Трои.
Полученную картину дополняют и конкретизируют свидетельства греческих архивных документов XIV–XIII вв. до н. э., выполненных линейным письмом Б. Этими документами подтверждаются широчайшие контакты Микенской Греции с Передней Азией и Египтом, проявляющиеся не только в многочисленных заимствованиях культурных терминов [Masson, 1967; Гиндин, 1967, с. 167 и сл.; Иванов, 1977, с. 19 и сл], но и в известных случаях проживания в греческих городах Пелопоннеса и Крита людей с переднеазиатскими и египетскими личными именами. Среди этих примеров, собранных Ландау и Лурье [Landau, 1958, с. 271 и сл.; Лурье, 1963, с. 172 и сл.], для нас особенно интересны прямые совпадения с именами, отраженными в хеттских текстах (значения хеттских имен даны по Ларошу), например: KN Dv 1272 a-ti-ro, греч. Ἄντιλος ~ хет. Ḫantili; PY Cn 40 389 ma-u-ti-jo ~ хет. Maḫuzzi, имя писца [Laroche, 1966, с. 109]; KN Y 159 wa-si-ro ~ хет. Wašili [Laroche, 1966, с. 206]; PY Aq 64, Cn 719 ka-do-wo ~ хет. Kadu, также Kaduwa, имя царя Кархемыша [Laroche, 1966, с. 91]; KN Ар 618 ti-wa-ti-ja, cp. анатолийские имена, образованные от лув. Tiwat «Солнце, бог Солнца», Tiwatawija, Tiwata-ziti «Человек бога Солнца», Tiwata-muwa «мощь бога Солнца» и т. д. [Laroche, 1966, с. 290]; KN As 1516 pi-ja-si-ro, PY Fn 324 pi-ja-ma-so, KN Ap 5748 pi-ja-mu-nu — по способу образования точно сопоставимы с хетто-лувийскими именами, содержащими глагольную основу pi-ja «давать», например, Pijaššili, Pijamu, Pija-tarhunda «Данный богом Тархунтом» и многие другие [Laroche, 1966, с. 68, 141, 177] (также см. [Гиндин, 1967, с. 138 и сл.]); наконец, некоторые авторы допускают родство PY Ер 212 mu-ti-ri, имя женщины, ср. греч. Μύρτιλος — имя мифического возницы Пелопса, с хеттским именем Muršili [Иванов, 1977, с. 11] (против с указанием на фонетические трудности — [Лурье, 1963, с. 174]). Сопоставление этих фактов с данными археологии позволяет говорить о двух сторонах единого процесса сближения Греции с хетто-лувийским миром: наряду с широким проникновением ахейцев в Анатолию мы видим появление анатолийских уроженцев в Пилосе и ахейском Кноссе. С XV в. до н. э. Эгейское море больше не разделяет, а связывает два мира, лежащие по его краям.
Уже в ходе дешифровки текстов линейного письма Б М. Вентрис и Дж. Чедвик выделили среди них серию табличек, содержащих прямые сведения о грабительских военных операциях ахейцев на востоке Эгеиды. Эти таблички упоминают о женщинах-рабынях (обычно в количестве одного-двух десятков вместе с множеством детей обоего пола), вывезенных в результате пиратских рейдов из различных малоазийских городов и соседствующих с побережьем островов. Среди них появляются «женщины из Милета» mi-ra-ti-ja, род. пад. mi-ra-ti-ja-o (PY Аа 798, Ad 380) = Milatiai, -āōn·, «женщины из Книда» в Карии ki-ni-di-ja, ki-ni-di-ja-o (PY Аа 792, Ab 189, Ad 683, An 292) = Knidiai, -āōn; «женщины с острова Лемноса» ra-mi-ni-ja (PY Ab 186) = Lamniai, также женщины из г. Зефирии, как в древности назывался Галикарнасе, Ze-pu2-ra3, род. пад. ze-pu2-ra-o (PY Аа 61, Ad 664) = Zephur(i)ai, -āōn. Об их статусе говорит несколько раз употребляющийся в аналогичных случаях обобщающий термин ra-wi-ja-ja, род. пад. ra-wi-ja-ja-o (PY Аа 807, Ab 586, Ad 686), читающийся lawijajai «плененные, захваченные в качестве военной добычи» и являющийся прилагательным от греч. ληία, дор. λαία «добыча» из *lāwja [Ventris, Chadwick, 1973, с. 124 и сл., 159 и сл., 410; Chadwick, Baumbach, 1963] (более подробно см. [Гиндин, 1991, с. 48 и сл.]). М. Вуд отмечает совпадение ареалов микенских находок в малоазийских городах, включая Милет, Книд, Мюзгеби (Галикарнасс) с пилосскими обозначениями мест, откуда в Грецию вывозились рабыни [Wood, 1985, с. 159]. Это соответствие позволяет рассматривать указанные города как своего рода опорные пункты-крепости для набегов на соседние районы и одновременно как торговые колонии и порты, через которые в Грецию отправлялись предметы импорта и военная добыча. Женщины обозначаются в качестве «милетянок», «книдянок» и т. д. не потому, что они были родом из этих городов (едва ли греки могли захватывать кого-то в рабство из обитателей своих собственных городов-крепостей, населенных ими в течение десятков и сотен лет), но скорее по названию тех торговых пунктов, через которые они были вывезены, возможно, рабских рынков, где они были проданы.
Всю эту историческую реконструкцию замечательно подтверждает одно место из «Илиады», а именно XX,191–194, где Ахилл, повествуя о своем походе на Лирнесс, город на юге Троады, замечает: «…я его разрушил… а женщин-пленниц (ληϊάδας δὲ γυναῖκας) угнал, лишив свободы». Фигурирующий здесь редкий поэтический термин ληϊάς < *lawiad-, образованный от того же ληία «добыча» и служащий специальным обозначением взятой в плен женщины, представляет точный синоним и словообразовательный вариант к пилосск. lawiaja. Включенный в описание опустошительного ахейского набега на анатолийский город, он, по-видимому, может рассматриваться в качестве весьма архаичного элемента гомеровской лексики, восходящего к словарю ахейских героических песен микенской эпохи.
Среди пилосских обозначений рабынь-чужестранок выделяются формы a-64-ja, род. пад. a-64-ja-o (PY Aa 701, Ab 515, Ad 315, Vn 1191), читающиеся, как доказал Дж. Чедвик, Aswiai, -āōn [Chadwick, 1968, с. 62 и сл.]. Это определения для женщин, вывезенных из региона, название которого позднее трансформировалось в греческое название для всей Малой Азии — Ἀσία. В антиковедении общепринято сопоставление этого топонима с хет. Aššuwa, наименованием огромной конфедерации западномалоазийских малых государств, выступивших против Хеттской империи в середине — второй половине XIII в. до н. э. (см. [Georgacas, 1969], а также в следующей главе). Касаясь судьбы пилосских рабынь из «Азии» в древнейшем значении этого слова, нельзя не вспомнить один греческий миф, имеющий прямое отношение к данной теме. Это рассказ о сестре Приама Гесионе (Ἡσιόνη), захваченной спутником Геракла Теламоном во время нападения на Лаомедонтову Трою и увезенной им в Грецию (Apd. 11,6,4). Имя этой героини как разлученной со своей родиной малоазийской пленницы прозрачно толкуется благодаря глоссе Гесихия, объясняющего Ἡσιονεῖς в смысле «(эллины), обитающие в Азии». «Гесиона» значит просто «асийка», «женщина из определенной части Анатолии». Это слово может быть возведено к местному лувийскому прообразу вроде *Aššuwa-wana «уроженка страны Aššuwa», построенному по той же модели, что и Aššura-wana «житель Ассура, ассириец» и др. (см. [Гиндин, 1967, с. 103]). Поэтому образ и имя мифической Гесионы прямо сопоставимы с документальными данными об «асийских» пленниках в ахейском Пилосе.
Образования от топонима *Aswia в ахейских текстах имеют особую ценность для анализа проблемы греко-малоазийских отношений в пору расцвета Микен. По-видимому, из этой области на Пелопоннес был перенесен культ малоазийской богини, именовавшейся в Пилосе po-ti-ni-ja a-si-wi-ja (Fr 1206), т. е. Potnia Aswia «Владычица Асийская», эпиклеза, которая, пережив века, в историческое время в форме Πότνια Ἀσία употреблялась как эпитет Афины и других богинь [Georgacas, 1969, с. 70]. Очень популярным во всем ахейском мире, судя по текстам линейного письма Б, было имя Aswios «Асиец», представленное в двух видах записи α-64-jo (KN Ce 261, PY Cn 1287, Fr 324) и a-si-wi-jo (KN Df 1469, PY Cn 285, MY Au 653). У Гомера тождественное имя Ἄσιος носят два героя, оба жителя Малой Азии, союзники троянцев (Il. XII,95; XVI,717 и др.). В специальной литературе часто высказывается мнение о первоначальном соотнесении названия Άσία с территорией Лидии, где у течения р. Каистр лежал хорошо известный Гомеру Ἄσιος λειμών «Асийский луг» (Il. II,461) [Georgacas, 1969, с. 48 и сл.] (ср. [Forrer, 1924, с. 6 и сл., 16; Гиндин, 1981, с. 140]). При этом мы сталкиваемся с любопытным парадоксом. Дело в том, что хетты, в общем-то неплохо представляя себе все более или менее значительные политические образования на западе Анатолии, на протяжении XV–XIII вв. до н. э. упоминают об Ассуве лишь в очень ограниченной группе текстов, отражающих факт выступления под этим названием против Хеттской державы сразу массы мелких прибрежных государств. Как увидим в главе 3, одни ученые относят это событие к позднему периоду существования империи хеттов — к середине или второй половине XIII в. до н. э., а другие — к самому ее началу, к последним десятилетиям XV в. до н. э. Но это значит, что в XIV и первой половине XIII в. до н. э. хетты как бы ничего не знают об Ассуве; между тем греки в это время везут из «Асии» рабынь, почитают «асийскую богиню», охотно дают сыновьям имя со значением «асиец». В той же главе мы рассмотрим документ, наводящий на мысль, что микенские цари издавна поддерживали дипломатические связи с некой малоазийской династией, именовавшей себя «царями Ассувы», причем эти связи должны уходить истоками в десятилетия, когда для хеттов Ассува как особое государство будто и не существовала.
Вникая в это удивительное сочетание фактов, мы можем предложить для него лишь одно объяснение. Вероятно, в западноанатолийской традиции издревле бытовало именование какого-то, более или менее обширного, региона словом Aššuwa. Для этого названия к настоящему времени существуют две этимологии: одна сближает его с хет. aššu «хороший» [Georgacas, 1969, с. 74; Heubeck, 1961, с. 72], другая, которая нам кажется более обоснованной, трактует его как адъектив от лув. иерогл. aśuwa «лошадь», в смысле «страна, прославленная коневодством», что полностью соответствует реалиям [Dumford, 1975, с. 53] (ср. [Иванов, 1977, с. 14] с тонким указанием на параллелизм пилосских обозначений великой богини po-ti-ni-ja a-si-wi-ja «Владычица Асийская» и po-ti-ni-ja i-qe-ja «Владычица Конная»).
Между прочим, уже в XV в. до н. э. фараон Тутмос III в своих текстах упоминает о чтущей его наряду с другими землями стране Asija, откуда ему в числе других даров посылались также и лошади [Helck, 1979, с. 28, 34 и сл]. Едва ли под «Асией» в этом случае разумелась лежавшая далеко на севере область будущей Лидии: скорее, это уже в эпоху Тутмоса III более широкое обозначение для прибрежной Анатолии. Можно думать, что представители какой-то династии с давних пор претендовали на титул «царей Ассувы», с чем, однако, не считались хетты, оперировавшие реальными наименованиями политических единиц, существовавших в их время. И лишь когда множество племен и городов выступило против Хеттской империи под девизом «Ассува», последняя для хеттов стала политической реальностью. Но в этом случае широкая популярность «асийских» имен в ахейском мире могла бы значить только одно: греки были издавна хорошо знакомы с такими традициями и такими тенденциями в жизни Западной Анатолии, которые до позднейшего времени ускользали от внимания исконных малоазиатов-хеттов или игнорировались ими.
Если мы вспомним, что традиция выводила династию Пелопидов, якобы правивших в Микенах в пору их расцвета, из Лидии, где лежал и «Асийский луг», то отношения греков и западных хетто-лувийцев предстанут в новом свете. Греки пришли в Анатолию не просто как пираты, завоеватели и охотники за рабами и рабынями. В этом отношении они не слишком отличались от прочих малоазийских правителей, ведших между собой постоянные грабительские войны и угонявших друг у друга подданных. Для традиции греков этот край с его высокой культурой был изначальной родиной их легендарных великих царей, отсюда на Пелопоннес ввозили не только рабынь, но и богов. Утверждение греков в XV в. до н. э. в Милете и в других прибрежных городах на востоке Эгеиды стало актом прорыва их в новый, притягивавший их мир.
В таком контексте интерес вызывают их постоянные контакты с лежащей, казалось бы, в стороне от центров этого мира Троей-Илионом, которым мы находим не только археологические, но и языковые, ономастические подтверждения. В ахейской ономастике представлены имена, отражающие троянские реалии. Таковы в Пилосе мужские имена pi-ri-ja-me-ja- (PY An 39), т. е. Prijamejas [Chadwick, Baumbach, 1963, с. 240], адъектив от известного троянского царского имени Πρίαμος, за которым, как будет показано, скрывается титул правителей Илиона, а также ki-ri-ja-i-jo (PY An 519) = Killaios [Ventris, Chadwick, 1973, с. 554], идентичное названию троянской реки Κιλλαῖος и тождественной эпиклезе троянского Аполлона (см. главу «Лувийцы в Трое»; а также [Гиндин, 1990, с. 50]). В Кноссе отметим имя si-mi-te-u (KN Am 827, Y 1583), соответствующее другой эпиклезе Аполлона в Трое как Сминфея (Σμινθεύς), или «Мышиного», от догреч. σμίνθος «мышь»; кроме того, ru-na-so (KN Dv 1439) — за ним может скрываться Lyrnassos, равное названию троянского города Лирнесса, разрушением которого похвалялся гомеровский Ахилл. Последнему случаю абсолютно аналогично в Пилосе имя ra-pa-sa-ko, род. пад. ra-pa-sa-ko-jo (PY Cn 131, Cn 655; см. [Ventris, Chadwick, 1973, c. 578]), определенно отразившее название города на севере Троады Λάμψακος. Такого же типа греческое имя мужчины i-wa-so, равное названию г. Иасоса в Малой Азии (PY Cn 655). И в Пилосе, и в Кноссе известно имя i-mi-ri-jo (PY In 927, KN Db 1186) = Imrios, соответствующее гомеровскому троянскому имени Ἴμβριος (Il. XIII,171,197), восходящему к названию острова вблизи Троады Ἴμβρος. Все эти ахейские имена указывают на то, что в середине XIII в. до н. э. у микенских греков были буквально на слуху троянские теонимы, царские титулы, названия речек и островов в окрестностях Илиона и т. д. Нельзя исключить того, что первые эпические песни о битвах за Троаду могли появиться задолго до походов, ставших прообразом Троянской войны Агамемнона (вспомним рассказ о более древнем походе Геракла). Ахейская ономастика, взятая на синхронном срезе десятилетий, непосредственно предшествовавших гибели Трои VIIa, отражает большую актуальность троянских мотивов для этого времени. Хотя имена Wi-ro (KN As 1516) и To-ro (KN Dc 5687, PY An 519), тождественные именам мифических троянских царей Ила и Троса [Ventris, Chadwick, 1973, с. 587, 592], могли бытовать с гораздо более ранних времен, их употребление в XIII в. до н. э., без сомнения, также должно было вызывать ассоциации, относящиеся к тысячелетнему городу над Геллеспонтом. Троянские мотивы составляли особую, но очень важную часть малоазийских мотивов в жизни Микенской Греции (подробнее см. [Гиндин, 1991]).
3
Учитывая постоянную, глубокую заинтересованность хеттов начиная с эпохи Древнего Царства (XVII–XV вв. до н. э.) в делах Западной Анатолии (см. подробнее [Heinhold-Krahmer, 1977]), легко заключить, что к XV–XIV вв. до н. э. сложились все политические и историко-географические предпосылки для встречи двух народов и их культур, более того, было бы труднообъяснимым, если бы встреча хеттов и ахейцев вовсе не состоялась. Но здесь возникает вопрос: какой характер могла носить эта встреча, что каждый народ мог вынести из нее? Пытаясь ответить на него, мы, пожалуй, поймем, почему представления хеттов о крупнейшем эгейском государстве предстают в документах в таком одностороннем фрагментарном виде, вводившем в заблуждение столь многих авторов, начиная с Зоммера, Фридриха, Гётце, а с другой стороны, почему образ великого анатолийского царства почти (именно почти) бесследно изгладился из воспоминаний греков (см. ниже, в гл. 7 о кетейцах).
Шахермейр в своей последней, вершинной работе с глубочайшей исторической проницательностью обратил внимание на принципиальную несхожесть хеттской и ахейской политических культур, которая неизбежно должна была обернуться взаимным непониманием и в конечном счете глубоким конфликтом, даже в том случае, если бы между сторонами была достигнута идеальная гармония в разграничении сфер влияния и интересов. Этот конфликт коренился в различии ценностей, на которые ориентировалась каждая из культур, в разном понимании самого принципа политического главенства.
Не подлежит сомнению, что в эпоху поздней бронзы правители Микен обладали высочайшим влиянием в греческом мире. Микены и прилегающий к ним Тиринф как города-столицы были обнесены мощными стенами, с которыми не могли сравниться укрепления вокруг прочих ахейских городов (Фивы, Афины, Пилос), иногда вовсе остававшихся неогражденными. В керамике, в глиптике, в металлургии отмечается единообразие стиля, оформившегося в Микенах и господствующего во всех греческих поселениях. Сказания приписывают царю Микен авторитет, достаточный для того, чтобы поднять всю Грецию в великий заморский поход против Трои. Но во всех этих аспектах, замечает Шахермейр, главенство Микен оформляется исключительно как первенство, а не как отношение подчинения и господства. Микенский царь всеми признан первым среди ахейской знати, но он не обладает прямой властью хозяина нигде, кроме своего собственного владения. Ему никто не обязан повиновением во внутренних делах той или иной области, во внутренних династических распрях. Соответственно у Гомера Агамемнон может заставить Ахилла отдать ему свою пленницу, но он не властен приказать Ахиллу выйти на поле битвы. Эти наблюдения подтверждаются и документами из пилосского архива — хозяйственно Пилос совершенно автономен и его бюрократия не обязана никаким отчетом бюрократии Микен. В этом мире как бы сосуществуют две культуры: письменная, бюрократическая культура, охватившая сферу хозяйства и закрепляющая обособленность, автаркию отдельных владений, и военно-рыцарская, по-видимому, бесписьменная культура, проникнутая духом взаимоуважения и авторитета, но в равной мере чуждая централизаторских тенденций. Высшим духовным выражением последней должны были быть героические песни о делах предков, о подвигах полубогов вроде Геракла и т. п.
С другой стороны, в хеттском мире главенство, в согласии с восточными традициями, осмысляется как доминат, как отношение господства — повиновения, приказа — исполнения. Здесь проводится четкое различие между статусом небольшого числа великих царей, видящих друг в друге равных, «братьев», и подчиненных каждому из них династов низшего ранга — «детей», обязанных своему «отцу» покорностью, приношением подарков-дани, участием в его походах, незамедлительной выдачей беглецов, переметнувшихся из владений великого царя на земли его вассала, доносами о всех попытках посягнуть на власть «отца» или иным способом затронуть его интересы, твердым следованием за «своим» великим царем в его дружественных или враждебных отношениях с тем или иным из его «братьев», воздержанием по его приказу от распрей с царьками-соседями и даже проведением по его приказу определенной торговой политики, каков, например, предписанный Тудхалиясом IV правителю Амурру Шаушкамувасу полный отказ от любых торговых связей с Ассуром [Sommer, 1932, с. 320 и сл.]. Здесь главенство и авторитет неизбежно воспринимаются сквозь призму отношений сюзерена и вассала. Протест Ахилла против злоупотреблений авторитетом со стороны Агамемнона был бы приравнен к прямому мятежу, требующему подавления силой.
Концепция Шахермейра позволяет представить неизбежные ценностные конфликты, которые должны были возникать между носителями этих двух столь различных традиций — главенства-первенства и главенства-домината. В соответствии с системой «двойного подчинения» города на побережье, вроде Милета, населенные ахейцами, признавали над собой главенство царя Аххиявы и в то же время были обязаны лояльностью хеттскому Царю-Солнцу. Но что же получалось, если милетяне нарушали свои обязательства и, скажем, оказывали гостеприимство врагам хеттского царя? Последний немедленно обращался к царю Аххиявы, рассчитывая, что тот призовет своих «вассалов» к порядку. Но царь Микен, как «первый среди равных», должен был гораздо больше считаться с самолюбием и желаниями милетских правителей, чем это способен был понять владыка Хаттусаса. В принципе они могли и не спешить с исполнением пожелания, исходящего из Микен. Такое положение вещей хетты, в соответствии со своим мировосприятием, должны были однозначно оценивать как признак индивидуальной «слабости» ахейского царя, его неспособности совладать со строптивыми и мятежными «подданными», впавшими в анархию.
Ответом мог стать переход в наступление на этих «мятежников» в попытке покончить с «фиктивным» двойным подчинением и установить надлежащую твердую власть Царя-Солнца. Но на это уже владыка Микен, защищая интересы греков и подражая героям-предкам, мог ответить применением силы, двинув греческие дружины в Анатолию. Удивительно яркое проявление трудности сосуществования держав с принципиально разными ценностями, даже при самых благих намерениях с обеих сторон!
Понятно, как своеобразно оба народа должны были воспринимать друг друга. В охватывающей своим повествованием сотни лет летописной традиции хеттов времен империи господствует мифологизирующий взгляд на судьбу окружающего мира как на цепь локальных мятежей, нарушающих правильный миропорядок, который утверждается руководимым богами хеттским царем. В ответ на каждое такое восстание хаоса царь выступает в поход, и его боги идут перед ним, одерживая для него победы и восстанавливая в мире должный строй (частью которого является господство великих царей над их «детьми»). Отношение к Аххияве с ее своеобразным устройством целиком определялось той ролью, которую ахейские города в данный момент играли в делах Анатолии. Если они не являются источником беспокойства, летописи о них как бы забывают; когда же дело доходит до прямых столкновений с Аххиявой, она выглядит одной из мятежных сил, однако настолько могущественной, что с ней приходится считаться как с неизбежным злом. Отсюда и то изображение Аххиявы, которое находим в анналах и договорах и которое так долго питало мнение о ней как о некоем малоазийском государстве: в самом деле, эта сила интересует хеттов лишь постольку, поскольку проявляет себя в их мире — в Анатолии, все прочее лежит за пределами их любопытства.
Не случайно отсутствие в хеттском греческих апеллативных заимствований при наличии целого ряда хетто-лувийских вкраплений в греческом [Neumann, 1961; Heubeck, 1961] (см. также [Гиндин, 1967]), если отвлечься от гипотезы о пеласгском посредничестве). Правда, Форрер, обратив внимание на хет. kuri(е)u̯aneš — обозначение независимых правителей небольших государств, сопредельных с Хеттской империей, в том числе лежащих в прибрежной части Западной Анатолии, предполагал в этом слове заимствование греч. κοίρανος «вождь, предводитель» [Forrer, 1924, с. 19]. Но Фридрих и Зоммер показали, что κοίρανος происходит из *kori̯anos, ср. гот. harjis, лит. karjas «войско» [Friedrich, 1927, с. 106 и сл.; Sommer, 1932, с. 346 и сл.]; по-видимому, оно точно соответствует др. -исл. herjann, эпитету бога Одина как предводителя войска [Chantraine, т. 2, с. 247; Pokorny, 1959, с. 615 и сл.]. Хеттское kuri(е)u̯aneš с типично анатолийским суффиксом -u̯ana- не может быть возводимо к раннегреч. kori̯anos и должно быть другого происхождения, возможно, оно родственно греч. κύριος «господин, хозяин» и др.-инд. çurah «воин-герой».
Позднее возможность проникновения из греческого предполагалась для трех хеттских лексем, две из которых имеют лувийские параллели: хет., (из лув.) dammara, вид культовых служителей (-ниц) — греч. δάμαρ «супруга», мик. da-ma-te «служители божеств»; хет. — лув. tarpanalli «заместитель» — греч. гом. θεράπων «служитель, товарищ», у Гомера так назван Патрокл как заместитель Ахилла в битве; хет. dammana-ššara «женщина-демон, богиня» — греч. δαίμων «божество, демон», микен. e-u-da-mo, возможно, Εὐδαίμων [Иванов, 1977, с. 8 и сл.; Иванов, Гамкрелидзе, 1984, т. 2, с. 903].
Но другие ученые видят в приведенных греческих словах, достаточно обособленных в греческом словаре, наоборот, заимствования из анатолийских языков (ср. [Gusmani, 1968, с. 86 и сл.; Гиндин, 1981, с. 143]). Можно считать это достоверным для соотношения греч. ϑεράπων ~ хет. — лув. tarpanalli из-за глубоких связей последнего в хетто-лувийских языках, где tarpanalli букв, «заступивший на место кого-либо» (ср. tarpalli «изображение, портрет») соотносится с лув. иер. tarpa(i)· «ступать, топтать», лув. клин, tarpa/i- «пятка» (впервые догадка об анатолийской внутренней форме обозначения Патрокла как «терапонта» — заместителя Ахилла высказана Ван Брок [Van Brock, 1959, с. 125 и сл.]).
Наконец, для хет. dammara вместе с греч. δάμαρ интересную этимологию предложила А. Морпурго, трактуя их как исконно родственные лексемы, связанные также с др. — инд. dāraḥ «супруга» и вместе с ним отражающие индоевропейский композит *dṃ-ar(t)-«устроитель(-ница) дома» (см. ко второй части — ar(t) греч. άρτύνω, άραρίσκω «устраивать» [Morpurgo, 1958, с. 322 и сл.]). Непохоже, чтобы появление греков на окраине полуострова внесло в имперский мир хеттов какие-то новые значительные реалии.
Возможно, греческие заимствования обнаружились бы, будь мы знакомы с живыми диалектами прибрежной Анатолии XV–XIII вв. до н. э., но, к сожалению, письменных памятников на этих диалектах нет и, видимо, не было.
Однако если хетты с их теократической картиной мира не поняли, да и не имели надобности по-настоящему понять феномен Аххиявы, выпадавшей из представлений о должном государственном устройстве, то с греками дело обстоит еще хуже. Летописей в Микенской Греции, похоже, не велось, а письменность, ориентированная на бюрократическую повседневность (не исключая и письма, иногда по разным поводам отправлявшиеся в Хаттусас на хеттском языке и цитируемые хеттским царем в ответных письмах, что говорит о существовании в Микенах писцов-полиглотов), не служила выстраиванию многовековой детальной ретроспективы, подобной хотя бы той, которой обладали хетты. Формой сохранения памяти о прошлом для ахейских вождей, скорее всего, были родовые предания и оформленный по канонам устного народного творчества эпос. В этом отношении между эпохой «золотых» Микен и последующими «темными» веками едва ли имел место какой-то особенный разрыв. Царство, некогда существовавшее в глубине Малой Азии, отразилось в греческой традиции лишь постольку, поскольку реминисценции его, иногда до неузнаваемости измененные по сказочно-эпическим стереотипам, осели в героических легендах, из которых отдельные, вроде мифической истории битвы Геракла в Троаде с чудищем по прозванию κῆτος «кит», вполне могут восходить к ахейским временам (см. гл. 3). Какой благодарный материал для историка, изучающего формы отражения соприкосновений двух непроницаемых друг для друга политических и культурных систем!
4
Приступая к обзору в хронологическом порядке всех сколько-нибудь удовлетворительно сохранившихся источников об Аххияве, начать следует с «текста о преступлениях Маддуваттаса», так называемого Madduwatta-Text (KUB XIV, 1) [Götze, 1928] (воспроизведено в извлечениях Зомерром [Sommer, 1932, с. 329 и сл.]).
За последние 20 лет отношение в хеттологии к этому тексту резко изменилось, прежде всего благодаря его передатировке, обоснованной Г. Оттеном [Otten, 1969]. Если А. Гетце, подготовивший в 20-х годах образцовое издание памятника, на основании усматривавшихся ученым содержательных параллелей в анналах поздних хеттских царей Тудхалияса IV и Арнувандаса III отнес отраженные в нем события к последним десятилетиям XIII в. до н. э. [Götze, 1928, с. 158] (ср. [Page, 1959, с. 97, 113; Герни, 1987, с. 48]), то Оттен по лингвистическим и эпиграфическим критериям указал на необходимость датировать текст значительно более ранним временем — начальным периодом Хеттской империи до воцарения Суппилулиумаса I, т. е. ранее 1380 г. до н. э. (здесь и ниже датировки по Герни [Герни, 1987, с. 190]). Вспыхнувшая полемика осложнилась тем обстоятельством, что одновременно сам Г. Оттен, О. Карруба и Ф. Хоувинк тен Кате, по-прежнему синхронизируя текст о Маддуваттасе с анналами царей Тудхалияса и Арнувандаса, предложили отождествлять их авторов не с Тудхалиясом IV и Арнувандасом III, а с правившими в середине XV в. до н. э. Тудхалиясом II и Арнувандасом I [Otten, 1968; Carruba, 1969; 1971; 1977; Houwink ten Cate, 1970; Güterbock, 1984, c. 116]. До сих пор о западноанатолийской политике этих царей было мало что известно. И вот теперь этим царям приписывались грандиозные войны на западе, включая разгром конфедерации Ассува! Напротив, А. Камменхубер и ее ученица С. Хайнхольд-Крамер отрицательно отнеслись ко всем этим хронологическим новациям, продолжая настаивать на прежней датировке как анналов, так и истории Маддуваттаса [Kammenhuber, 1969; 1969а; 1970; 1971; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 31 и сл., 262 и сл.].
Важным аргументом в полемике оказались результаты работы в 70-х годах коллектива во главе с Камменхубер, детально обследовавшего эволюцию хеттского письменного языка и графики на протяжении нескольких сотен лет по текстам, датировка которых не вызывала сомнений. Когда полученные результаты были соотнесены с соответствующими характеристиками спорных текстов [Kammenhuber, 1979, с. 246 и сл., 292], картина оказалась неожиданной. Анналы Тудхалияса и Арнувандаса, по всей очевидности, должны быть отнесены к XIII в. до н. э., скорее ко второй его половине, и, следовательно, их авторами, вопреки Каррубе и Хоувику тен Кате, по-прежнему следует считать Тудхалияса IV и Арнувандаса III. Зато текст о Маддуваттасе, в подтверждение полной правоты Оттена, вписывался во временной промежуток от правления Арнувандаса I до Суппилулиумаса I, т. е. приблизительно от 1440 до 1380 г. (о сложностях, связанных с династической историей этого во многом «темного» времени, см. [Otten, 1968; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 388 и сл.; Schachermeyr, 1986, с. 97 и сл.])Данная табличка на самом деле оказалась наиболее ранним источником по истории отношений хеттов с Аххиявой, составленным через 20–30 лет после утверждения ахейцев в Милете, еще до массового распространения ахейской керамики по территории Карии и на север, включая Лидию и Лесбос. Выяснилось, что такая содержательная параллель, на которой базировался в своей датировке Гётце, как появление и в тексте о Маддуваттасе, и в анналах Тудхалияса и Арнувандаса западноанатолийского царя по имени Купанта-Инарас, врага хеттов, ничего не доказывает: в них говорится о двух разных людях, разделенных двумя веками (см. [Schachermeyr, 1986, с. 150 и сл.]). Вообще это теофорное имя, указывающее на отношение его обладателя к божеству Инара, в Западной Анатолии хеттской эпохи было довольно частым: так, между указанными двумя его носителями вклинивается еще и третий — правивший в конце XIV — начале XIII в. до н. э. царь страны Мира, так что удобнее говорить о Купанта-Инарасе I, II, III. Зато новая датировка прекрасно объяснила появляющуюся в тексте о Маддуваттасе необычную форму названия Аххиявы A-ah-ḫi-i̯a-a, тогда как в XIV–XIII вв. до н. э. пишется Aḫ-ḫi-i̯a-u̯a или Aḫ-ḫi-i̯a-u-u̯a, также Ah-ḫi-ú-u̯a-a (в анналах Мурсилиса II).
Если же попробовать более точно обозначить время, к которому должен относиться этот источник, то следует учитывать, что в нем еще не отражена картина бедствий, обрушившихся на Хеттское царство в последние 25–30 лет перед воцарением Суппилулиумаса, хотя рисуемая ситуация вполне может рассматриваться как преддверие этих потрясений [Otten, 1969, с. 31 и сл.]. Поэтому мы едва ли сильно ошибемся, если отнесем описываемые события к концу 20-х – 10-м годам XV в. до н. э.
В тексте о Маддуваттасе впервые встречаем упоминания о государстве Arzawa или Arzawija, бывшем в первой половине XIV в. до н. э. могущественным соседом и непримиримым противником Хеттского царства. На местонахождении Арцавы нам следует остановиться подробнее, поскольку оно дает нам точку опоры для локализации анатолийских владений Аххиявы и Вилусы-Илиона. По этому весьма важному для нашего изложения вопросу существуют две принципиально расходящиеся точки зрения. Согласно одной из них, это государство находилось на крайнем юге Малой Азии, у моря, где-то в территориальной полосе, протянувшейся от южной Карии и Ликии на западе до Киликии на востоке, охватывая Памфилию и Писидию [Forrer, 1928а, с. 162; Bossert, 1946, с. 29; Goetze, 1957 — карта; Goetze, 1975; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 334; Гиоргадзе, 1960]. При этом те из сторонников гипотезы «южной» Арцавы, которые включают Ликию в ее границы, склонны отождествлять столицу Арцавы в XIV в. до н. э. — г. Апасу (хет. Apašaš) с населенным пунктом Habesus на крайнем юге Ликии, греческим Антифеллом (см., например, [Garstang, 1943, табл. 17]). Важнейшим аргументом в пользу помещения Арцавы в этой области считают то обстоятельство, что, судя по хеттским источникам, Арцава граничила с лежащей к югу от страны Хатти так называемой Нижней Страной, которая, по общему признанию, охватывала часть Центральной Анатолии с долинами Коньи, доходя на востоке до Тианы (хет. Tuwanuwa). Более того, в пору своего максимального расширения в начале XIV в. до н. э. (см. ниже) Арцава полностью включала в себя Нижнюю Страну [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 334].
Критики этой гипотезы считают ее малообоснованной, указывая, что Арцава точно так же могла граничить с Нижней Страной, например, с запада, а судить о местоположении государства по крайним пределам его завоеваний очень рискованно: например, хетты доходили до Вавилона [Schachermeyr, 1986, с. 316]. К тому же в тех местах, где предполагается существование «южной» Арцавы, пока еще вовсе не обнаружено никаких крупных городов и поселений позднего бронзового века, которые могли бы указывать на наличие в то время в этом регионе какого-то значительного государственного образования [Garstang, Gurney, 1959, с. 84; Mellaart, 1968, с. 187 и сл.; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 334]. Археологически эта гипотеза до сих пор остается неподтвержденной.
Альтернативная точка зрения предполагает нахождение Арцавы гораздо севернее, на западном малоазийском побережье в области позднейшей Лидии, причем Апаса часто отождествляется с греческим Эфесом [Garstang, Gurney, 1959, с. 84 и сл.; Cornelius, 1958, с. 395; Cornelius, 1973, с. 20; Macqueen, 1968, с. 176; Houwink ten Cate, 1961, с. 47, 192; Schachermeyr, 1986, с. 333]. В археологическом плане эта версия в настоящее время гораздо лучше обоснована, так как наличие здесь в хеттскую эпоху крупных городов, способных служить политическими центрами, является неоспоримым фактом. Кроме того, на Бейджесултанском холме, вблизи верховьев р. Меандр раскопан роскошный царский дворец, воздвигнутый, как обнаруживают критские параллели, в среднеминойском III или позднеминойском I периоде (XVI — первая половина XV в. до н. э.), прямо указывающий на существование в эпоху поздней бронзы самостоятельного царства на лидийской территории [Schachermeyr, 1986, с. 176 и сл.] (ср. [Garstang, Gurney, 1959, с. 93]). Кроме археологических идея «западной» Арцавы находит также ряд других серьезных подтверждений.
Дело в том, что к Арцаве с разных сторон примыкали несколько мелких государств, из которых три — Мира, Хапалла и Страна реки Сеха — с конца XIV в. до н. э. включались в хеттских текстах в собирательное понятие «стран Арцавы» во множественном числе (KUR KUR Ar-za-wa). Реконструируя взаимное расположение этих государств по хеттским источникам, С. Хайнхольд-Крамер получила следующую картину. Арцава (в узком смысле) на западе и юго-западе была ограничена морем. С севера к ней примыкали Страна реки Сеха и Мира, причем первая локализовалась западнее и, видимо, ближе к морю, а вторая — восточнее, в глубине материка. Восточнее Арцавы лежала область Валма, через которую в Арцаву вторгались войска хеттских царей. Наконец, Хапалла находилась где-то на рубеже с Нижней Страной, т. е. так же, как и Мира, в отдалении от моря [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 112, 347 и сл.].
Реконструкция Хайнхольд-Крамер полностью подтверждается, если сопоставить ее с картой Лидии и смежных районов. Так, уже Ф. Корнелиус соотнес название области Walma (по Хайнхольд-Крамер, к западу от Арцавы) с греч. Ὄλμοι, названием города вблизи верховьев Меандра [Cornelius, 1958, с. 394] (ср. замечание Шахермейра, будто бы именно опасность хеттских вторжений, осуществлявшихся через Валму (!), побудила обитателей Бейджесултанского дворца в XIV в. до н. э. покинуть его [Schachermeyr, 1986, с. 178], при том, что Бейджесултан находится действительно в непосредственной близости к Голмам). Название страны Mira или Mera точно сопоставимо, по наблюдению Л. Згусты, с названием г. Μῖρος или Μεῖρος на одноименной реке на северо-западе Фригии [Zgusta, 1984, с. 376 и сл.], т. е. и впрямь непосредственно к северо-востоку от Лидии-Арцавы, как и следует по реконструкции Хайнхольд-Крамер.
Что касается страны Ḫapalla, то на ее местонахождение проливает свет одно счастливое обстоятельство. Во второй половине XIV в. до н. э. в этой стране правил, как известно из хеттских источников, царь с довольно редким именем Targašnališ. В то же время на горе Карабель между Смирной и Сардами обнаружена лувийская иероглифическая надпись, из которой с некоторым правдоподобием вычитывается царское имя Targašna-ili [Güterbock, 1967а, с. 63 и сл.] (см. сомнения по этому поводу [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 6]). Если это тот самый царь, о котором говорится в тексте, а гора Карабель находилась в области Хапалла, то тогда появляется основание для сближения топонима Ḫapalla с местным названием Κάβαλλα в юго-восточной Лидии [Zgusta, 1984, с. 207]. Таким образом, страну Хапалла можно было бы поместить к северу от верховьев р. Каистр, вплоть до хребта Тмол и даже еще севернее, захватывая Сарды, а также на восток до южных границ западной Фригии, вполне могущей входить в Нижнюю Страну хеттов, вместе с лежащей еще восточнее Ликаонией (о несомненном отнесении последней к Нижней Стране см. [Garstang, Gurney, 1959, с. 64 и сл.; Macqueen, 1968, с. 176; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 375] и др.).
После этого не остается никаких препятствий для того, чтобы локализовать Страну реки Сеха частично в северной Лидии, частично, вслед за Гарстангом и Гарни [Garstang, Gurney, 1959, с. 97], Макквином [Macqueen, 1968, с. 170] и Корнелиусом [Cornelius, 1973, с. 20], в Тевтрании, т. е. прилегающей к морю части будущей Мисии. Это подтверждается и тем, что Страна реки Сеха соседствовала со страной Lazpa [Heinhold-Krahmer, 1983, с. 93], в которой, как мы уже говорили, со времени первых публикаций Форрера обычно видят лежавший вблизи берегов Мисии о-в Лесбос. Как видим, реконструируемое Хайнхольд-Крамер положение Страны реки Сеха между Арцавой с юга и страной Вилуса с севера полностью отвечает нахождению Тевтрании между Лидией и областями, тяготеющими к Трое-Илиону. В отличие от идеи «южной» Арцавы концепция «лидийской» Арцавы подтверждается согласными показаниями археологии, топонимики этого района и карабельской надписью Таргасналиса и, наконец, точным совпадением конфигурации возникающих отождествлений на карте с той, которая получается у Хайнхольд-Крамер, основывающейся на показаниях хеттских текстов. Поэтому в дальнейшем, в том числе анализируя историю Маддуваттаса, мы будем опираться, как на доказанное, на тождество Арцавы в узком смысле с бассейном Меандра, т. е. с большей частью южной Лидии и, возможно, севером Карии, — вывод, чрезвычайно важный для всего последующего изложения.
В этой связи уместно вспомнить, что еще А. Гётце указал на параллели к имени Маддуваттаса в позднейшей Лидии. Это имя, по происхождению несомненно хетто-лувийское (ср. топонимы Midduwa, Madduwašša я т. д., в которых в качестве основы выделяются хеттский и лувийский рефлексы и.-е. *medhu «мед» [Dumford, 1975, с. 49]), структурно перекликается с именами лидийских царей VII в. до н. э. Ἀλυάττης и Σαδδυάττης [Goetze, 1928, с. 40]. Вся серия имен на -attaš, разделенных семью веками, допускает идентификацию этого элемента с хет.-лув. attaš «отец» и толкования в смысле Sa(n)du-attaš «Имеющий отцом (бога) Санду», соответственно Maddu-attaš «Имеющий отцом божество Меда» (?), ср. лув. Šaddwa-ziti «Человек (бога) Санду», Maddu-nani «Имеющий божество Меда братом», по [Dumford, 1975, с. 49]. Если учесть, что древний Маддуваттас какое-то время правил Арцавой (KUB XIV, 1, Rs. 19 и сл.), т. е. выступал дальним предшественником царей Лидии, возникает впечатление особой популярности данного типа имен в арцавском ареале. Поэтому примечательно то продолжение, которое в равной степени находит в лидийской письменной традиции имя боровшегося с Маддуваттасом вождя из страны Aḫḫija — Attariššija, в хеттской клинописной передаче at-ta-ri-iš-ši-ia-aš (7 раз), или at-tar-si-i̯a-as (5 раз), ср. привлеченный Гётце лидийский поссесив Atraśalid, т. е. «принадлежащее сыну человека по имени Atraśas» [Goetze, 1928, с. 49 и сл.; Gusmani, 1964, с. 70; Гиндин, 1981, с. 141]. Но следует ли, как думал Гётце, из тяготения имени Аттариссия к раннелидийской области, что для него исключается соотнесение с именем Атрея? Думается, дело обстоит не так просто.
Обратимся к тексту. Он составлен в форме послания к Маддуваттасу, которому напоминают о благодеяниях, оказанных ему отцом правящего царя. Уцелевшая часть начинается со слов (переводы и тексты из табличек о Маддуваттасе даны по [Sommer, 1932, с. 329 и сл.], проверены по [Goetze, 1928]): (1)… Ima-ạd-du-u̯a-at-ta-an t[u-e̤]l KUR-i̯a-ạz Iạt-tạ-ṛi-ịš-ṣ̌i-i̯a-aš LUÚRỤa-a[ḫ-ḫi-i̯]ạ-a ar-ḫạ pár-aḫ-tạ (2)…-aš-ták-kăn EGIR-an-pít[…] nu-ut-ta [pá̤]r? -ḫi-iš-ki-it nu t[ṳ-]ẹ-el ŠA Imạ[-ad-du-u̯a-]at-ta…ḫi-in-kán šạ-ạn-ḫi-iš-ḳi-it (3) [ma-an-t]ạ́k-kán ku-en-ta Δnu-uš-[sa-]an zi-ig Ima-ad-dṳ-u̯a-ạt-ta̤-aš an-da A.NA A.BIDUTUŠIpí]d!?-dạ-i̤š nu-ut-tạ́k-kạ́n A.BI DUTUŠI (4) [ḫ]i-i̤n-[ga-]na-az ḫu-iš-nu-ut nu-ut-tá̤k-ká̤n Iat-ta-ri-[iš-]ṣ̌i-i̯a-an EGIR-ạn a̤r-ḫa k[ar?-aš-ta m]a-a-an Ú.UL-ma ma̤-ạn-ta Iat-tar-ši-i̯a-aš (5)[Ú.]ỤL!? da-li-eš-ta [m]a-an-tá̤k-ká̤n ku-e̤[n-ta]. — (1) «… [тебя], Маддуваттаса, из страны твоей изгнал Аттариссий, человек из страны Аххия (2) […], он и далее вслед за тобой […], он постоянно преследовал тебя, он стремился к твоей, Маддуваттаса, погибели, (3) и тебя бы он убил. Но бежал ты, Маддуваттас, к от[цу Солнца Моего]. И отец Солнца Моего (4) отклонил тебя от погибели и Аттариссия назад отстранил. А если бы не это, то Аттариссий бы тебя (5) не оставил в покое; он [у]бил бы тебя». В этом месте Аттариссий предстает как грозный враг, захватывающий страну Маддуваттаса и готовый, преследуя его, вторгнуться в само Хеттское царство, но отступающий перед силой хеттов. Исследователи немало спорили о том, следует ли выражение LÚURU Aḫḫija толковать как обозначение царя этой страны [Friedrich, 1927, с. 103; Forrer, 1929а, с. 263; Goetze, 1928, с. 53; Sommer, 1932, с. 330 и сл.]. Зоммер тонко замечает, что даже в тех случаях, когда подобное обозначение применяется к подлинным царям, в нем очень часто слышится оттенок враждебности, например по отношению к царю Ассура, или уничижения, когда, например, в KBo III,4 рассказывается о некоем Пихунии, «человеке из Типии», который осуществлял «власть, вроде царской» — ŠА LUGALUT.TUM i-u̯a-ar-ta-pa-ar-ta. По Зоммеру, Аттариссий трактуется, самое большее, как тиран в греческом смысле слова, вождь, правящий силой оружия [Sommer, 1932, с. 331].
Далее (Vs. 6–21) мы узнаем, что Маддуваттас получил от хеттского царя защиту. Ему была предоставлена в вассальное владение некая горная область Ципасла, вероятно, вблизи Арцавы, потому что, как указывается ниже (Vs. 22–27), отправляясь в Ципаслу, он дал клятву защищать страну Хатти от врагов, а особенно от правителя из Арцавы по имени Kupanta-DKAL, что следует читать Купанта-Инарас. В этом царе Маддуваттас обязывался всегда видеть врага. Маддуваттасу специально указывалось: (39)… [A.N]Ạ Iat-tar-ši-i̯a-i̯ạ[-u̯а ḫa-lu-k]i ḷi-e p[í-i-]e̤-[š]i ma̤-a̤-ạn-u̯a-at-tạ Iạt-tar-ši-i̯a-ša̤ ḫa-lu-ki u-i[i̯a-zi] (40) ẓi-g[a̤]-u̯a̤? LỤ́TE.MI e̤-ịp nu[-u̯a-ra-]ạn A.NA A.BI DỤTỤ Š]̤I [up-pí me-mi-]i̯ạ-an-na-u̯a-ạ[t-ták-kán k]ṳ-ịn ḫa-at-ra-a̤?-ịz?-zi̤ nu-u̯a-ra-an li-e ša[-an-na-at-ti] (41) nụ-u̯a-ra-an A.NA A.BI DUTUŠI ša-kṳ-u̯a-aš-sar ḫa-ạt-ra̤-a[-i] L[U]?TE?.MỊ?-mạ-u̯ạ-kán a-ap[-pa] A̤.[NA] MA̤.ḪAR I[at-tar-ši-i̯a] ZI-it li-e nạ-i̤[t-ti] — «(39)… и к Аттариссию [посольства] ты не посылай. А если Аттариссий посольство к тебе пошлет, (40) ты, мол, посла возьми и к отцу Солнца Моего пошли, и слово, которое тот [Аттариссий] тебе написал, ты не утаи, (41) напиши его, мол, полностью к отцу Солнца Моего; и по своей воле ты не должен посылать посла к [Аттариссию]». Выявляются интересные вещи: хеттский царь, не признавая за Аттариссием царского достоинства, не считает его однозначно и своим врагом, подобным, например, царю Арцавы. Аттариссий — это какая-то непонятная, но весьма значительная, потенциально опасная сила; не исключено, что вчера преследуемый им Маддуваттас может завтра превратиться в его союзника. Прежний царь Хаттусаса был явно заинтересован в том, чтобы выяснить намерения этого человека, и в то же время опасался установления каких бы то ни было отношений между Аттариссием и хеттскими вассалами с периферии Анатолии. Недоброжелательно и настороженно присматривался Царь-Солнце к явно новой фигуре, возникшей на его горизонте.
Из Vs. 42–59 выясняется, что между Маддуваттасом и Арцавой почти сразу же разгорелась война, в которой новоиспеченный правитель Ципаслы был разбит. «Отец Солнца» посылает войска, которые отражают наступление Купанта-Инараса, берут в плен его жен и детей и передают их Маддуваттасу в заложники. Неожиданно вновь появляется Аттариссий, желая расправиться с Маддуваттасом. Тот бежит в страхе перед старым врагом, но «отец Солнца», узнав о происходящем, отправляет на запад еще одно войско во главе с полководцем Киснапили (Vs. 60–63). Из этого места видно, что войско Аттариссия базировалось достаточно близко к рубежам Арцавы. Хотя Милаванда-Милет в этом тексте еще ни разу не упоминается, по историко-географическим соображениям нельзя исключать, что именно оттуда Аттариссий мог легко вторгаться в области Анатолии, соседствующие с долиной Меандра.
В Vs. 63–65 описывается столкновение Киснапили с Аттариссием:… Iki-ịš-na̤-pí-li-šạ A̤.NA̤ Iat-ta-ri-iš-ši-i̯a me-na-aḫ-ḫa-an-ta za-aḫ-ḫi-i̯a pa-it n[u] ŠẠ Iat-ta-ri-iš-ši-i̯a C GIŠG[IGIR…]-ir nu za-aḫ-ḫi-ir (64) na-aš-ta̤ ŠA Iạt-tạ[-ri-iš-š]i-i̯a-i̯a ILÚ ṢIG5 (-in?) ku-ẹ-ni̤r an-zi-el-la-kán I LÚ SIG5 Izi-da-a-an-za-an ku-e-nịr nụ-z[a̤]? Iạt-tạ-ri-iš-ši-i̯a-aš (65) Ạ.NẠ [Ima-a]d-du-u̯a-at-ta [.?.]-ne-e-a-at na-aš-za a̤r-ḫa Ị.NA KUR.ŠU pa-it — «(63) Киснапили вышел против Аттариссия для битвы; и 100 колесниц Аттариссия […] и сразились; (64) и у Аттариссия убили одного LÚ SIG5; и у нас убили одного LÚ SIG5 — Циданцу; и Аттариссий (65) от Маддуваттаса [отступился], и вернулся он в свою страну». Г. Гютербок отмечает, что огромное войско Аттариссия в 100 колесниц весьма напоминает колесничные войска гомеровских царей [Güterbock, 1983, с. 134]. По нашему мнению, параллель между данным контекстом и «Илиадой» может простираться еще дальше, если мы обратим внимание на загадочный эпизод битвы, когда оказались сражены всего по одному LÚ SIG5 с каждой стороны (идеограмма означает буквально «хороший муж»). Действительно, здесь явно идет речь о единоборстве выдающихся представителей войск хеттов и Аххиявы, которое заманчиво сопоставить со знаменитым эпизодом вызова Гектором ахейских героев на единоборство и последующего поединка между ним и Аяксом. Обращаясь с вызовом, Гектор заявляет (VII, 33): «Ведь среди вас лучшие из всех ахейцев» (ἀριστῆεϛ Παναχαιῶν). Ниже ту же формулу повторяет Нестор (VII, 159), призывая кого-либо из молодых вождей откликнуться на вызов. Сам Гектор указывает, что, глядя на памятник убитого им ахейца, люди станут говорить: «Это памятник мужа (ἀνδρός)… которого некогда, когда он являл свою доблесть (ἀριστεύοντα, букв, «показывающего себя в качестве лучшего»), сразил блистательный Гектор». Наконец, выйдя на борьбу с Гектором, Аякс заявляет (VII, 226): «Гектор, ныне ты увидишь… каковы у данайцев лучшие (ἀριστῆεϛ)». Гомеровское употребление существительного ἀριστεύς или оборота ἀνήρ ἀριστβύων для обозначения воина или вождя, показывающего свои достоинства в поединке с представителем другой стороны (ср. гомероведческий термин «аристия» применительно к частям поэмы, где тот или иной герой выходит на первый план в битве и раскрывает себя во всем блеске), может быть точно сопоставлено с хеттским LÚ SIG5 «хороший муж» как наименованием воинов или предводителей, павших, представляя каждую из сторон, при встрече хеттского войска с войском Аххиявы.
Утвердившись в своем владении, Маддуваттас заплатил хеттскому царю черной неблагодарностью. Для начала он принял под свою власть враждебных хеттам жителей области Dalawa, отождествляемой с ликийским городом Τλωϛ, лик. Tlawa [Güterbock, 1983, с. 134] (см. о данном топониме [Гиндин, 1981, с. 34, 38; Гиндин, 1991, с. 45]). Отсюда видно, что отведенная Маддуваттасу область Ципасла находилась недалеко от северных окраин Ликии. Получив на правах вассала еще область р. Сиянта на границе со страной Мира (Rs. 11–14), Маддуваттас вступил в соглашение с Купанта-Инарасом из Арцавы, отдав ему свою дочь в жены (Vs. 75–83), и в конечном счете, благодаря удачному стечению обстоятельств, овладел всей Арцавой (Rs. 20 — KUR URUar-za-u-u̯a ḫu-u-man-na) и Хапаллой (Rs. 19–28), т. е. практически Лидией от Меандра до Герма. После этого он начал наступление на юг и захватил ряд мелких городов (Rs. 29–54), из них два, Ialanda и Wallarima, отождествляются с находящимися неподалеку друг от друга карийскими городами, в греческой передаче Ἀλίνδα и Ὑλλαρίμα [Garstang, Gurney, 1959, с. 78 и сл.], а область Huršanaša может совпадать с полуостровом, позднее по созвучию именовавшимся Книдским Херсонесом [Hrozný, 1929, с. 327; Sommer, 1932, с. 360]. Особенно примечательно, что среди захваченных Маддуваттасом областей упоминается страна Attarimma, или Atrima. Дело в том, что ряд ученых, исходя из того, что в позднейшем ликийском языке легко отпадают начальные гласные — как в имени Pulenjda из греческого Απολλωνίδηϛ и т. д., — полагают, будто от названия древней страны Атриммы образовано имя Trm̃mile, греч. Τερμίλοι, которым называли себя ликийцы (Carruba, 1964, с. 287; Eichner, 1983, с. 64 и сл.]. Как видим, в будущей Ликии Маддуваттас не ограничился Далавой-Тлосом, но присоединил к создаваемой им державе и другие части этого региона. Подстрекая к мятежу против хеттов лежавшую между Арцавой и Хеттским царством область Педасса, он в то же время в посланиях в Хаттусас не отказывался уступить Хапаллу царю — автору письма, однако захваченные города в Карин решительно объявлял своими собственными (Rs. 55–58). На глазах хеттских царей под эгидой бывшего изгнанника, когда-то искавшего спасения в их стране, возникла своего рода «Великая Арцава», включавшая (в позднейших географических терминах) почти всю Лидию, значительную часть Карии, какие-то территории в Ликии и, видимо, простиравшая свое влияние на западную Фригию. Любопытно, что ахейской Милаванды победное наступление Маддуваттаса явно не коснулось.
В сильно испорченных строках (Rs. 84–90) содержатся обвинения, обращенные царем к Маддуваттасу в связи с событиями вокруг о-ва Аласия (Кипр), с которым хетты уже в XV в. до н. э. поддерживали тесные связи. Царь решается даже заявить (Rs. 85): [KU]R[UR]Ụ a-la-ši-i̯a-u̯a Ša DỤTỤŠI — «страна Аласия принадлежит Солнцу Моему».
В ответ Маддуваттас дипломатично замечает (Rs. 88–89), что хотя он до сих пор никогда не слышал таких претензий ни от отца правящего царя, ни от него самого, однако готов по требованию царя Хатти помочь вернуть домой каких-то пленных, кем-то захваченных на Аласии (место, определенно говорящее против датировки текста концом XIII в. до н. э.: в то время, при Тудхалиясе IV и его сыновьях, хеттские войска уже вторгались на Кипр, остров был насильственно обложен данью в пользу империи и никто не мог бы отрицать наличия у хеттских царей если не прав, то по крайней мере притязаний на него). Обстоятельства, при которых эти пленники были вывезены с острова, видимо, освещались в плохо сохранившихся строках Rs. 86–87, реконструируемых Гётце и Зоммером в следующем виде (ср. [Goetze, 1928, с. 38 и сл.; Sommer, 1932, с. 337]): (86)… URUa-laši-i̯ạ-u̯ạ [m]ạ?-a̤[ḫ]?-[ḫa-an Iạ]t??-[ta-r]i̤?-[i̤]š??-si? i̯a-!?-aš LỤ́[U]RU?p[i̤!?-ig-ga-i̯a-i̯]a̤? [u̯a-a̤]l??-ḫạ-ạn!-ni-iš-kir (стерто ú-ug-ga-u̯a-ra-[a̤]t (87) [u̯a]-ạl-ḫa-an-ni-iš-ki̤-nṳ-u)n — «(86)… [когда] [на] страну Аласия, мол, Аттариссий (?) и человек город Пигая (?) [нап]али (далее в стертом месте по восстановленному), (87) я тоже напал потом». Данная конъектура, ибо о чтении из-за объема повреждений говорить довольно трудно, определенно основывается на следующих хорошо сохранившихся строках (Rs. 89–90), где после предложения Маддуваттаса обеспечить возвращение пленников царь хеттов разражается новыми попреками: (89)… nu Iat-tar-ši-i̯a-aš LÚ URUpí-ig-ga-i̯ǎ-i̯a A.NA DUTUŠI LÚMẸS ku-ri-e-u̯a-ni-eš ku-it Ima-ad-du-u̯a-at-ta-aš-ma ÌR ḌỤTỤŠI (90) a-p[ị?-e-d]ạ?-aš-za […]an-da [k]ụ-u̯a-at ḫa-an-da-a-it-ta-at — «(89)… Аттариссий и человек из города Пигая по отношению к Солнцу Моему — правители независимые [kuriewaneš], тогда как [ты], Маддуваттас, — вассал Солнца Моего, (90) почему же ты к ним примкнул?». Из этих строк ситуация становится вполне ясной. В расцвете своего могущества Маддуваттас вступил в соглашение с бывшим своим гонителем Аттариссием. Можно думать, что основой для этого соглашения стало распределение сфер влияния в Карии и Ликии, где Маддуваттас воздержался от попыток подступиться к Милаванде. В то же время Аттариссий, найдя себе союзника среди местных царьков в лице правителя области Пигая, при явной или скрытой поддержке Маддуваттаса, действительно осуществил удачный морской поход на Кипр. Хеттский царь, подобно своему отцу, возмущен операциями Аттариссия, в то же время вынужден признать за ним статус независимого малоазийского правителя, которые называются в хеттских документах словом kuriewaneš. Но он не хочет видеть, что и Маддуваттас с его мощью уже перестал на деле быть хеттским вассалом, что он превратился в повелителя самостоятельного государства, охватившего обширные пространства Западной Анатолии и начинающего угрожать еще молодой Хеттской империи.
С учетом этих данных мы можем вернуться к выдвинутой Форрером гипотезе о сопоставимости имен и образов «аххиявца» Аттариссия (Атресия) и ахейского Атрея [Forrer, 1924, с. 21]. Впрочем, Гютербок, защищающий многие из прозорливых догадок Форрера по поводу Аттариссия, осторожно заметил, что данное «имя звучит по-гречески, однако едва ли это Атрей!» [Güterbock, 1984, с. 119].
Еще П. Кречмер указал на то, что о генетическом тождестве этих имен можно было бы говорить лишь в одном случае: если видеть в греч. Ἁτρεύς сокращенную форму от *Atresias, подобные которой широко представлены в греческой ономастике. Он же настаивал на сближении данных имен с эпитетом άτρεστος «бесстрашный» [Kretschmer, 1927, с. 167 и сл.]. За Кречмером и Форрер принял сходное толкование, указав также в качестве более точного соответствия к имени Аттариссия позднейшую форму имени Ἁτρέας на одной из лидийских монет, которую словарь Папе-Бензелера трактует как вариант к имени Атрея [Forrer, 1929а, с. 263] (ср. [Раре, Benseler, 1959, с. 170]). При этом не было, пожалуй, уделено должного внимания тому обстоятельству, что варианты хеттской фиксации имени Аттариссия — at-ta-ri-ši-i̯a-aš и at-tar-ši-i̯a-aš очень плохо сводятся к одному звуковому прообразу: для первого возможно чтение Atresias, тогда как второе естественно читать Atarsias. К тому же, когда Кречмер и Форрер разрабатывали эту гипотезу, еще неизвестна была хронология перехода -s- в -h- и последующего выпадения этого звука между гласными в греческом. Сейчас, с дешифровкой текстов линейного письма Б, мы знаем, что, будь этот звук представлен в этимологической основе рассматриваемого имени, он должен был бы выпасть еще в домикенскую эпоху.
Поэтому представляет особый интерес та модификация идеи Кречмера и Форрера, которую предложил О. Семереньи. Принимая вслед за этими авторами этимологию Ἁτρεύς из *ṇ-tres-u-s «тот, кто не знает страха», ср. греч. τρέω «быть в страхе», лат. terrere «пугать» из и.-е. *ters-/*tres- «пугать, страшить(ся)», он подкрепил ее ссылками на «Большой Этимологикон», прямо трактующий это имя как ἄφορβος, т. е. «бесстрашный». Точно так же, по Семереньи, хеттское Attarišiaš является вовсе не точной звуковой передачей греческой формы, но анатолийским именем, происходящим из *ṇ-tres-i̯o- или *ṇ-tṛs-i̯o- «бесстрашный», идентичным по смыслу, а в общем и по структуре имени Атрея [Szemerényi, 1957, с. 178 и сл.] (обсуждение этой аргументации см. [Гиндин, 1991, с. 46 и сл.]). Аналогично и лид. Atrasas мы можем объяснить из *ṇ-treso- или *n-tṛso- с тем же значением.
Семереньи приходит к выводу о том, что анатолийское имя с прозрачной для хеттов структурой могло быть использовано в Хаттусасе как калька греческого имени Ἁτρεύς, передающая, приспосабливая к знакомой модели, созвучное и близкое по смыслу имя грозного «человека из страны Аххия».
Кстати, такое титулование Аттариссия в хеттских документах (LÚ KUR Aḫḫija(wa) находит интересную аналогию в одном контексте «Илиады», в котором, с известной осторожностью, можно усмотреть влияние хеттской фразеологии. Оказывается, на фоне бесчисленных случаев употребления этникона Ἀχαιοί «ахейцы» во множественном числе выражение Ἀχαιός ἀνήρ «муж ахейский» появляется только дважды в одном и том же эпизоде из III песни, где Елена перечисляет сидящему на троянской стене Приаму виднейших ахейских вождей. Два раза вопрос Приама формулируется в виде: «кто вот этот ахейский муж, прекрасный и могучий?» (III,167) или с небольшой вариацией: «а кто вот этот другой ахейский муж…?» (III,226). Причем в первый раз этот вопрос поставлен применительно к микенскому царю, и ответ звучит «Атрид Агамемнон» (III,178 — Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων), а во второй раз вопрос относится к величайшему ахейскому герою Аяксу. Такое использование этого оборота, когда «ахейский муж» означает предводителя, вождя ахейцев, особенно царя Микен, отпрыска Атрея, живо напоминает хеттское применение идеограммы LÚ «мужчина» в значении «вождь», в частности в сочетании с именем Аттариссия из страны Aḫḫija (см. (Гиндин, 1991, с. 47]).
Сопоставляя свидетельства рассказа о Маддуваттасе с показаниями археологии, Шахермейр отмечает совпадение по времени победных походов Аттариссия в Юго-Западную Анатолию и на Кипр с началом массового появления на этом острове и одновременно в Карии керамики микенского стиля III А, датируемой временем с 1400 г. до н. э. и позднее. Резкое увеличение именно в это время числа ахейских изделий в данном регионе позволяет думать о широком проникновении выходцев из Греции, имевшем место на рубеже XV–XIV вв. до н. э. или немного ранее. Утверждение здесь ахейцев сопровождалось в первой половине XIV в. до н. э. повышением престижа и власти Микен — вероятного лидера колонизации в самом греческом мире, вплоть до того, что около 1345–1340 гг. до н. э. на Крит, где господствовал смешанный культурный стиль, сочетавший континентально-греческие черты с продолжением минойских традиций, вторгается новая группа греков, вводящая здесь микенскую культуру [Schachermeyr, 1986, с. 170 и сл.]. Самая величественная из микенских купольных гробниц, связывавшаяся в античности с именем Атрея (Paus. II,16,6) и раскопанная Шлиманом, была на самом деле воздвигнута, судя по осколкам керамики под ее порогом, не раньше 1360 г. до н,э. [Schachermeyr, 1986, с. 168], т. е. минимум полвека, а то и больше спустя после анатолийских побед Аттариссия.
Если с буквальным отождествлением Аттариссия с гомеровским Атреем трудно согласиться, то диахроническая связь этих имен отнюдь не исключена, поскольку образ завоевателя Аттариссия, значительно расширившего масштабы малоазийской экспансии греков, вполне мог отразиться в преданиях о прародителе Атридов, хотя совсем не обязательно, чтобы и в реальной истории этот герой был отцом Агамемнона — разрушителя Трои. С другой стороны, сохранение анатолийского варианта данного имени на территории Лидии (Atrasas), входившей в область древней Арцавы, имеет смысл сопоставить с преданием о лидийском происхождении мифического отца Атрея — Пелопса.
Не исключено, что мотив лидийских истоков микенского царского рода использовался в обосновании военных предприятий этих царей в Анатолии. Аххиява, не будучи только малоазийским государством, в то же время претендовала на то, чтобы включать в себя часть Малоазийского полуострова и играть приличествующую ей роль в его истории, для чего могли пускаться в ход мифологические, генеалогические и подобные доводы в стиле господствующей идеологии эпохи. Поэтому в отличие от Семереньи, видящего в имени At(ta)riššijaš только хеттскую кальку с греческого имени Ἀτρεύς, мы допускаем, что представитель греческой династии, выводившей себя из западной Малой Азии, мог в самом деле носить имя Ат(та)риссий-Атрей, состоящее из двух, исконно анатолийской и греческой, парономасиологически близких форм с одним и тем же героическим значением «Бесстрашный», «Бестрепетный». С известной долей смелости допустимо предположить, что исконный анатолийский вариант отразился в форме at-tar-ši-i̯a-aš, т. е. Ataršijaš, тогда как вариант at-ta-ri-iš-ši-i̯a-aš или Atrešijaš является контаминированной формой, огласовка которой отражает влияние греческого эквивалента. Обратим внимание и на то, что выделенный Форрером по своей особой этимологической близости к хеттской форме греческий вариант Ἀτρέας < *ṇ-tresās представлен также на исторической территории Арцавы, в Эфесе (древней Апасе). Сосуществование в этих местах в позднеанатолийскую эпоху имен-дублетов Ἀτρέας и Atrasas дополнительно укрепляет в мысли о возможности видеть греческий аналог Ἀτρεύς за анатолийскими формами Atresias/Atarsias как прозваниями воевавшего в районе Арцавы в конце XV в. до н. э. вождя из Аххии/Аххиявы.
5
Между временем, отраженным в рассказе о Маддуваттасе, и приходом к власти хеттского царя Суппилулиумаса I (1380–1345/40 гг. до н. э.), с которого начинается расцвет Хеттской империи, прошло 20–30 лет, чрезвычайно важных в истории этого государства. В конце XV в. до н. э. племена касков с севера и северо-востока и крепнущая Арцава с запада и юго-запада, возвышение которой началось уже при Купанта-Инарасе и Маддуваттасе, вероятно, объединив свои усилия, предприняли сокрушительный натиск на контролировавшиеся хеттами внутренние районы Анатолии. Как позднее вспоминал внук Суппилулиумаса Хаттусилис III в своих анналах (KBo VI,28, 6 и сл.), накануне воцарения его деда «страны Хатти» (KUR KUR MEŠ Ḫaiti) были буквально «уничтожены врагами» (IŠTU LÚKỤR ar-ḫa ḫar-ga-nu-u̯a-ạn), причем «враг из стран Арцава», владея всей Нижней Страной, распространил свое могущество вплоть до городов Туванува и Уда (под Туванувой следует понимать Тиану в Каппадокии). К этим врагам присоединились и другие, и в конечном счете сам Хаттусас был сожжен (см. [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 40 и сл.; Герни, 1987, с. 28]).
О том, что в словах Хаттусилиса об «уничтожении» стран Хатти содержится лишь очень небольшая доля преувеличения, свидетельствует сохранившаяся в архиве Эль-Амарны переписка фараона Аменхотепа III на 20-м году его царствования с царем Арцавы Тархунарадусом (воцарение этого фараона большинством египтологов датируется последними годами XV в. до н. э. (см. [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 51; Schachermeyr, 1986, с. 175]). Поводом для переписки послужило поступившее от фараона предложение дать ему в жены дочь царя Арцавы, переданное последнему в устной форме послом фараона. В ответ на просьбу Тархунарадуса подтвердить это предложение письмом, составленным по-хеттски (nešumnili), Аменхотеп отправляет соответствующее письмо (ЕА 31–32). При этом в послании фараона констатируется полное крушение Хеттского царства (ЕА 31,27): nu ḫa-ad-du-ša-aš-ša KUR-e i-ga-it «ныне страна Хаттусаса погибла», букв, «рассыпалась, раскололась» — и выражается пожелание (ЕА 31,25) вступить в личный контакт также с представителями страны касков. Он просит Тархунарадуса направить кого-нибудь из них в Египет [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 53].
Женитьба Аменхотепа на дочери царя Арцавы означала прямое признание этой страны на рубеже XV–XIV вв. до н. э. главенствующей силой в Анатолии, заступившей место «погибшего» Хеттского царства. Второй по значению силой оказываются каски. Можно предполагать, что в восточных районах Малоазийского полуострова эти племена прямо граничили с простершейся до Каппадокии Арцавой. Тем самым остатки «стран Хатти» оказались плотно замкнуты в кольце враждебных сил и перестали, как могло казаться фараону, играть сколько-нибудь значительную роль в «большой политике» Передней Азии [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 50 и сл.].
Но Аменхотеп ошибся. Через несколько лет даровитый полководец Суппилулиумас, пришедший к власти через свержение и убийство законного царя — молодого Тудхалияса, напрягая силы своего государства, разорвал сплошной фронт врагов и, отбросив касков к северу, а войска Арцавы на запад, совершив вслед за тем удачные походы в Сирию, вновь добился возвышения Хеттской империи до ранга одной из великих держав Востока. Аменхотеп III еще застал это время. В поздравлении его сыну Аменхотепу IV (будущий знаменитый Эхнатон) по случаю воцарения Суппилулиумас вспоминал о добрых отношениях между Египтом и воспрянувшей хеттской державой в последние годы жизни его отца [Schachermeyr, 1986, с. 179 и сл.; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 56 и сл.; Герни, 1987, с. 28 и сл.].
Об установлении в это время новых связей с Аххиявой может говорить один фрагмент, а именно KUB XIV,2 [Sommer, 1932, с. 298 и сл.], обычно относимый ко времени преемника Суппилулиумаса — Мурсилиса II (1340–1315; к датировке начала царствования ср. [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 390; Schachermeyr, 1986, с. 190]). Дело в том, что семейная жизнь Суппилулиумаса с его супругой, вавилонской принцессой, сложилась весьма несчастливо. Мурсилис, отличавшийся большой богобоязненностью, усиленно стараясь замолить грехи свои и своих предков под впечатлением эпидемии, постигшей хеттов в последние годы его правления, вспоминает, как его мать была обвинена в различных проступках и куда-то отправлена в ссылку (см. [Sommer, 1932, с. 300 и сл.]). Во фрагменте же KUB XIV,2 некий царь хеттов говорит: Rs. (3) ku-it-ma-an-na A.BI.I̯A TỊ-an-z [ạ e-eš-ta…] (4) nạ-as IT.ΤΙ ΑΜΑ.I̯Α ku-it-[…] (5) (n)ạ-an I.NA KUR URUaḫ-ḫị-i̯ạ-u̯a̤[…] (6) [t]ạ-pụ-šạ KẠS-ši-iḫ-ta[…] — «(3) когда отец мой в живых [был…] (4) тогда он что-то с моей матерью […] (5) и ее [?] в страну Аххиява […] (6) он на ту сторону отправил […]». Если приписать этот текст Мурсилису и связать описываемые в нем события с семейной драмой Суппилулиумаса I [Forrer, 1928, с. 54; Sommer, 1932, с. 301 и сл.; Schachermeyr, 1986, с. 192], тогда местом ссылки опальной царицы оказывается Аххиява.
В чисто прагматическом аспекте выбор лежащей далеко на западе за морем страны в качестве места ссылки для опальной вавилонянки вполне оправдан, хотя бы в силу удаленности этого региона от ее родины. Кстати, и Форрер и Зоммер допускали, что tapuša «по ту сторону» в данном случае реально означает ссылку именно за море, хотя последний отказывался выводить из этого что-либо, кроме нахождения Аххиявы в прибрежной области Малой Азии [Forrer, 1928, с. 54; Sommer, 1932, с. 305 и сл.]. Однако для того, чтобы подобное решение стало реальностью, надо предполагать наличие двух условий: во-первых, между Хеттским царством и Аххиявой должны были существовать устойчивые контакты, а во-вторых, они должны были основываться на определенном взаимопонимании сторон, побуждающем правителей Аххиявы пойти Суппилулиумасу навстречу в достаточно щекотливом вопросе.
Как мы помним, в годы походов Аттариссия отношения хеттов к Аххияве характеризовались глухой враждебностью. Затем в конце XV в. до н. э., в период восточной экспансии Арцавы в глубь континента, когда Хеттское царство оказалось на грани катастрофы, полностью лишившись выхода к Эгеиде, всякое соприкосновение между ним и Аххиявой должно было быть утеряно. В первые, героические годы своего царствования Суппилулиумас не только очистил области «стран Хатти» от войск Арцавы, но, идя по пятам последних, вторгся во внутренние районы этой страны, разгромив пять арцавских полководцев: Анцапахаду, Алантали, Запали, Маммали и Анцуния [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 69]. Шахермейр допускает, что в это время, около 1380 г. до н. э., царь Арцавы покидает свой дворец в Бейджесултане и переносит резиденцию ближе к морю, в Апасу-Эфес, среди жителей которого значительную часть составляли ахейские греки [Schachermeyr, 1986, с. 178]. Аххиява, на протяжении десятков лет вынужденная мириться с гегемонией Арцавы в западноанатолийском регионе, теперь, в обстановке борьбы двух царств, из которых ни одно до поры до времени не могло одержать верх, должна была значительно укрепить свои позиции в качестве третьей силы. В привлечении ее на свою сторону должны были быть заинтересованы оба противника, сама же она охотно оказывала им повышающие ее авторитет услуги, вроде принятия ссыльной хеттской царицы в своих владениях.
Справедливости ради нужно отметить, что существует и другой вариант интерпретации указанного фрагмента. Поскольку от позднейшего времени сохранились упоминания о тяжелых конфликтах самого Мурсилиса II с его матерью, видимо, в его правление находившейся в Хаттусасе при дворе, предполагается, что ее изгнание должно было произойти лишь в годы ее вдовства при Мурсилисе, а не при жизни Суппилулиумаса [Sommer, 1932, с. 301] (ср. [Герни, 1987, с. 62]). А в этом случае, как думал Зоммер, текст KUB XIV,2 мог повествовать о высылке при Суппилулиумасе в Аххияву не самой царицы, а кого-то из близких царю людей, вошедших с нею в конфликт. Разумеется, и при этом остается в силе все сказанное о необходимости для подобного акта взаимопонимания между Аххиявой и Хаттусасом.
С воцарения Мурсилиса отношения между хеттами и Арцавой предельно накалились. По словам Мурсилиса, царь Арцавы Уххацитис откровенно насмехался над юностью нового хеттского властителя и отказывался выдавать ему хеттских подданных, бежавших в Арцаву. Эта дерзость и была поставлена в вину Уххацитису как предлог для войны [Goetze, 1933, с. 46 и сл.; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 96]. В то же время в анналах Мурсилиса находим несколько поврежденных строк, относящихся к началу войны и указывающих на особую роль Аххиявы и Милаванды в возникновении губительного для Арцавы конфликта (KUB XIV,15,I; [Goetze, 1933, с. 36 и сл; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 97]): (23) ma-aḫ-ḫa-an-ma ḫa-me-eš-ḫa-an-za ki-ša-at nu u-uḫ[ḫa-LÚ-iš…] (24) nu-kán KUR URUmi-il-la-u̯a-an-da ANA LUGAL KUR a-aḫ-ḫi-u-[u̯a-a…] — «(23) когда была весна, тогда Ухха[цитис…] (24) и страна (или «страну») города Милаванда царю Аххиявы […]». После чего идут слова о походе двух хеттских или арцавских полководцев, Гуласа и Малацитиса, захвативших большое количество подробно перечисляемой добычи.
Итак, войну открыли некие действия Уххацитиса, затрагивающие Милаванду-Милет и Аххияву. Это место формально допускает две различные интерпретации. Форрер и Зоммер считали царя Аххиявы в этой войне союзником хеттов. По их мнению, война началась с того, что Уххацитис взбунтовал жителей Милаванды против их господина — царя Аххиявы или прямо захватил этот город [Forrer, 1926, с. 45, 98; Sommer, 1932, с. 306]. Гётце обосновал иную трактовку этих строк, полагая, что Уххацитис, начиная войну, обещал царю Аххиявы полное господство над Милавандой, до тех пор признававшей власть хеттского царя. Тем самым мятежник попытался привлечь Аххияву на свою сторону [Goetze, 1933, с. 36 и сл., 234 и сл.]. Хайнхольд-Крамер отмечает серьезное преимущество трактовки Гётце: ниже, перечисляя вины Уххацитиса к началу войны, Мурсилис указывает, что тот […]-ụ́-u̯a-a EGIR-an ti-i̯a-at «примкнул к [стране]» […]-ụ́-u̯a-а — лакуну же в названии страны (?) Гётце заполнил едва ли не единственным возможным способом, вставив [aḫ-ḫi]-ụ́-u̯a-a, т. е. Aḫḫiuwā [Goetze, 1933, с. 58; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 99].
Объяснение Гётце полностью отвечает дальнейшему развитию событий, когда Уххацитис после нанесенных ему поражений при подходе хеттского войска к Апасе покинул город и бежал вместе с женой и двумя сыновьями «в море» [Goetze, 1933, с. 50 и сл.]. Пребывание его «среди моря» (aruni anda) вплоть до самой смерти в следующем году означает, что ввиду неминуемой расплаты он нашел себе пристанище на одном из недосягаемых для хеттов островов вблизи побережья, контролировавшихся ахейцами [Schachermeyr, 1986, с. 189] (ср. [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 111 и сл.]). Мурсилис и не пробовал его преследовать. Разгромив одного из его сыновей, по имени Табалацунавлис, пытавшегося продолжать войну на суше, Царь-Солнце завоевал все области Арцавы, милостиво принял капитуляцию бывшего союзника Уххацитиса — царя Страны реки Сеха Манападаттаса и, убедившись в полном своем торжестве, окончательно уничтожил Арцаву как отдельное государство. Часть ее жителей была переселена на территорию Хеттского царства, а земли разделены между известными нам тремя соседними государствами: Хапаллой, Страной реки Сеха и Мирой, правитель которой Масхуилувас, родственник царя Арцавы, сражался в этой войне на стороне Мурсилиса [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 123 и сл.]. Можно думать, что относительное расположение территорий, входивших в состав этих государств, осталось прежним: Мира (к ней была присоединена область Купания) включала континентальные части бывшей Арцавы, Хапалла сохранила за собой север Лидии, а Страна реки Сеха, получив новую область Абавию, охватила прибрежные районы Арцавы, простершись на неопределенно длительном пространстве между устьями Каика и Меандра. Следы этих событий сохранились в Милете-Милаванде; в 1330-х годах до н. э. город, оказывается, был опустошен страшным пожаром (см. [Schachermeyr, 1986, с. 191] с обширной археологической литературой).
Достойно внимания, что Аххиява, возможно, дав приют Уххацитису и его семейству, избежала прямого вмешательства в войну и, судя по анналам Мурсилиса, никак не проявляла своего отношения к разыгравшимся событиям, к началу которых она была с очевидностью причастна. Похоже, ее царь счел за благо занять в этой войне позицию «третьего радующегося»: несмотря на пожар Милета, едва ли он имел основания быть слишком недовольным исходом борьбы, уничтожившей единственное мощное государство в осваиваемой ахейцами части Малой Азии. На те действия, которые он предпринял, убедившись в полном крахе Арцавы, проливает свет фрагмент KBo III,4,III [Goetze, 1933, с. 66 и сл.; Sommer, 1932, с. 310 и сл.; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 118], где в начальных строчках уцелели слова: (lc) […]a-ru-ni?] an?-da?[ẹ-ẹ]š-ta (1) […D]UMU Iu-ụḫ-ḫa-LÚ (2) […n]a-aš-k[án a-r]u-na-az (3) […Ị]T.TI LÚ (GAL K]UR ạḫ-ḫi-i̯a-u̯a-a (4) […] ỊŠ.TU GIŠ[M]Á u-i-i̯a-nu-ụn (5) […]ta-na-an-kán [a]r-ḫa ú-u̯a-te-ir. — «(lc)… [среди] моря? [был] (1) […] сын Уххацитиса (2) […] и он с моря (3) […] к царю Аххиявы (4) […] я снарядил с кораблем (5) […] и они его увезли прочь». Следом говорится об отсылке куда-то неких пленников. Зоммер, ошибочно считавший в этой войне царя Аххиявы другом хеттов, усматривал здесь рассказ о взятии в плен вторгшегося с моря второго сына Уххацитиса (по имени SUM-ma DKAL, что, вероятно, читается Pijama-Inaras) и его отправке в изгнание в Аххияву [Sommer, 1932, с. 313]. Но непонятно, зачем бы Мурсилису понадобилось так деликатно поступать по отношению к врагу, захваченному на поле боя, если несколько лет спустя, уличив в интригах своего бывшего союзника Масхуилуваса из Миры, этот благочестивый царь мог вывезти оказавшего ему немало услуг вассала в Хаттусас и там предать смерти [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 184 и сл., 197 и сл.]. Объяснение Гётце правдоподобнее: бывший на острове с отцом сын покойного царя Арцавы бежал через море к царю Аххиявы, надеясь на его поддержку, но Мурсилис отправил вслед за ним на корабле своих людей, и царь Аххиявы выдал им злополучного царевича. Во всяком случае, согласие между Аххиявой и победителем Мурсилисом было достигнуто быстро и в последующие годы правления этого царя, по-видимому, до 1315 г. до н. э., не нарушалось. Сожженный Милет был почти сразу же беспрепятственно отстроен, обнесен крепкими стенами, по Шахермейру — едва ли не руками самих хеттов [Schachermeyr, 1986, с. 191], и вновь заселен, в том числе и ахейцами.
Отношения, которые установились между двумя державами в десятилетия после уничтожения Арцавы, видны из текста KUB V,6, того самого, где во второй колонке упоминается жрец Ант(а)равас (сохраняем такое чтение, так как попытка Зоммера отождествить это имя с именем малоазийского бога DTarawa и прочитать начальный знак an как детерминатив божества остается чистым предположением [Sommer, 1932, с. 294]). Зоммер отнес данный текст ко времени самого Мурсилиса, А. Камменхубер попыталась его датировать правлением одного из сыновей этого царя, а именно Хаттусилиса III [Kammenhuber, 1976, с. 27; Schachermeyr, 1986, с. 272). В тексте вместе с заболевшим царем и Антаравасом, о котором сказано, что он откуда-то приехал (pi-en-ni-iš-ta) к царю (II, 33), участвует женщина по имени SALDINGIRMEŠ-IR «Служанка Богов» (II, 12), известная в истории как дочь Мурсилиса и сестра царей Муватталиса и Хаттусилиса III (II, 12) (к хеттскому чтению этого имени как Maššanuzzi см. [Otten, 1975, с. 9 и сл.]). Кроме того, предполагается, что одной из причин беды, постигшей царя, был гнев духа умерщвленного Мурсилисом Масхуилуваса, обвиняющего царя перед богами (III, 12–16). Разумеется, это еще не основание для того, чтобы однозначно приписать текст Мурсилису, а не его сыну: вспомним, как сам Мурсилис в пору бедствий обращался памятью к прегрешениям своего отца Суппилулиумаса.
В тексте перечисляются различные ритуалы и вопросы, обращаемые царем к богам. В описываемых сакральных процедурах особое внимание уделяется приезжему Антаравасу, чье имя постоянно ставится рядом с титулом самого Царя-Солнца в сочетаниях типа: (II, 14–15)… ŠА DUTUŠI za-an-ki-la-tar [ŠА Ian-ta-ra-u̯a]-i̯a za-an-ki-la̤-tar «приношение Солнца Моего и приношение Антараваса»; (II, 48) za-an-ki-la-tarḪI. A-i̯a ku-e ŠА DUTUŠI ŠА Iạn-tạ-ra-u̯a-i̯a̤ «приношения те, что Солнца Моего и Антараваса». Самым разительным местом оказываются строки (II, 57 и сл.), где указывается, что перед царем «для отпущения» (tar-nu-mạ-an-zi) установлены «бог страны Аххиява и бог страны Лацпа и бог Собственной Персоны» (т. е. царя) (DINGIRLUM URUaḫ-ḫi-i̯a-u̯a-kán ku-iš DINGIRLUM URUla-az-pa-i̯a DINGIRLUM NI. TENI-i̯a) и царь запрашивает оракул, угодно ли пришлым богам Аххиявы и Лацпы, чтобы для них совершались те же обряды, что и для собственных богов царя! Думается, Форрер имел серьезные основания соотнести два факта: водворение в Хаттусасе новых божеств, которым предстоит быть почитаемыми наравне с божествами хеттского царя, и приезд сюда для участия в обрядах почетного гостя Антараваса, фигурирующего в священнодействиях вместе с царем. Естественно предположить, что именно Антаравас доставил сюда с далекого запада заболевшему царю изображение богов Аххиявы и находящейся в сфере ее влияния Лацпы-Лесбоса. И если с формальной стороны нет возражений против сближения имени Ant(a)ravas с греческим Ἀνδρεύς [Friedrich, 1927, с. 105], то и по характеру описываемых событий появление греческого имени здесь естественно и уместно. Этот текст дает наглядное свидетельство близости и взаимопонимания, наметившихся между двумя государствами при Мурсилисе или его сыновьях. Однако идиллия сразу развеивается, когда мы приступаем к интерпретации знаменитого «Письма о Тавакалавасе» (KUB XIII, 3) — самого пространного и информативного и поэтому важнейшего документа среди всех текстов, содержащих свидетельства об Аххияве.
6
Сейчас для нас не так важна датировка «Письма о Тавакалавасе» конкретным периодом того или иного царствования (об этом см. следующую главу). Пока достаточно сказать, что сопоставление этого письма с другими документами, в которых фигурируют некоторые из указанных в нем лиц, позволяет отнести его к концу XIV — первой четверти XIII в. до н. э., когда престол по очереди занимали сын Мурсилиса Муватталис 1 (1315–1296 гг. до н. э.), сын Муватталиса Урхи-Тешуп, или Мурсилис III (1296–1289 гг. до н. э.), и брат Муватталиса Хаттусилис III (1289–1265 гг. до н. э.), пришедший к власти, низложив племянника и отправив его в отдаленную ссылку.
В центре внимания автора письма находятся трения, не прекращающиеся между ним и адресатом, царем Аххиявы, главным образом по двум причинам. Во-первых, бывший хеттский вассал по имени Пиямарадус некогда, взбунтовавшись, отбыл в Милаванду и, оказавшись под покровительством Аххиявы, начал враждебные действия против Хеттского царства, нападая на его земли, переманивая и насильственно угоняя его подданных. В этом ему, с ведома царя Аххиявы, оказали поддержку правитель Милаванды Атпас (имя явно негреческое) и другое знатное лицо этого города, Аваянас, вступившие в брак с дочерьми Пиямарадуса. Вторая причина была еще более серьезной: во время смуты, возникшей на юго-западе Анатолии в стране Лукка, брат царя Аххиявы Тавакалавас по приглашению части жителей этой страны вторгся на ее территорию и пытался создать свое собственное царство на землях, которые хеттский царь причислял к своим владениям. Поскольку резиденция Тавакалаваса также, судя по всему, находилась вблизи Милаванды, возникала опасность прямого союза покровительствуемого царем Аххиявы мятежника Пиямарадуса с преследующим свои цели братом этого заморского властителя.
Вмешательство Тавакалаваса в анатолийские дела не было случайностью: как видно из стк. II, 60–62, этот царевич из Аххиявы с юных лет поддерживал тесные связи с хеттской знатью и какое-то время мог пребывать в Хаттусасе при царском дворе. В указанных строках автор письма, отправляя на время своего выяснения отношений с Пиямарадусом к царю Аххиявы заложником некоего придворного Дабалатархунтаса, указывает на высокий ранг этого человека: (60)… TUR-ạn-na-aš-mu LÚ KAR. TAR. PU A. NA GIŠGIGIR (61) GAM-an ti-iš-ki-iz-zi A. NA ŠEŠ. KA-i̯a-aš-kán A. NA Ita-u̯a-ka-la-u̯a-i̯ [a̤(A. NA GIŠGIGIR?)] (62) GAM-an ti-iš-ki-it… — «(60) С юности со мной как начальник дворцовой конюшни он на колесницу (61) вместе постоянно ступает, и с братом твоим, с Тавакалавасом, он [на колесницу] (62) вместе постоянно ступал». Стремясь опровергнуть вывод Форрера о Тавакалавасе как о брате царя Аххиявы, Зоммер обнаруживал сразу вслед за именем этого деятеля остатки частицы i[a̤] «и» и читал: «с братом твоим и с Тавакалавасом [на колесницу] часто восходил», тем самым отделяя Тавакалаваса от рода царей Аххиявы [Sommer, 1932, с. 131]. Ревизия текста (de visu), проделанная Гютербоком, со всей определенностью показала отсутствие в указанном тексте этой частицы, что, кстати, хорошо видно на фотокопии (см. [Sommer, 1932, табл. 1]), и правильность чтения Форрера «с братом твоим, с Тавакалавасом» [Güterbock, 1983, с. 136]. Тот факт, что начальник хеттской придворной конюшни, ездивший с юных лет вместе с хеттским царем, тогда еще наследником, какое-то время постоянно восходил на колесницу вместе с братом царя Аххиявы, толкуется весьма правдоподобно как воспоминание о пребывании Тавакалаваса в Анатолии, где он мог обучаться искусству управления колесницей у лучших хеттских специалистов. Шахермейр указывает, что весь контекст противоречит альтернативной гипотезе о поездке самого Дабалатархунтаса в Аххияву. Царь Аххиявы с этим человеком явно не знаком, а потому приходится думать, что царский брат Тавакалавас обучался с хеттским царем управлению колесницей вдалеке от своей родины (см. [Schachermeyr, 1986, с. 204]). Возможно, именно вращаясь в кругу высшей хеттской знати, он пришел к мысли утвердиться на этой земле в качестве более или менее самостоятельного правителя.
Этому тексту посвящена обширная литература [Forrer, 1929, с. 95 и сл.; Sommer, 1932, с. 2 и сл; Cavaignac, 1933; Schachermeyr, 1935, с. 30 и сл.; Page, 1959, с. 10 и сл.; Huxley, 1960, с. 1 и сл.; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 175 и сл.; Heinhold-Krahmer, 1983, с. 82 и сл.; Singer, 1983, с. 210 и сл.; Гордезиани, 1978; Güterbock, 1983, с. 135 и сл.; Борухович, 1964, с. 98 и сл.; Герни, 1987, с. 45 и сл.; Schachermeyr, 1986, с. 214 и сл.]. Мы рассмотрим «Письмо о Тавакалавасе», следуя разбивке его на параграфы в издании Зоммера, в строго определенном ключе: как памятник совершенно особого периода в истории контактов хеттов с Аххиявой, обладающего такими признаками, которых мы не находим ни до, ни после этого времени. Проявляется эта уникальность прежде всего в прагматике текста, в том, как изображается в этом письме статус хеттского Царя-Солнца по отношению к царю Аххиявы. Это особенно важно потому, что именно прагматика письма при беглых его пересказах часто трактуется неверно (ср. рассуждения О. Герни, будто царь Аххиявы выглядит личностью довольно слабой и пр. [Герни, 1987, с. 46]).
В § 1 (I, 1-14) хеттский царь рассказывает адресату, каким образом он, собственно, столкнулся с Тавакалавасом. Оказывается, жители страны Лукка во время нападения некоего врага призвали их обоих на помощь. Когда же хеттский царь вступил на землю этой страны, сам Тавакалавас отправил к нему человека с просьбой: принять его, Тавакалаваса, в подданство и послать к нему кого-либо из царского рода (tuḫkanti «принц крови»), дабы тот его доставил к царю. Царь-Солнце тут же согласился с этой просьбой и направил к нему некоего полководца (LUTAR. TE. NU), которого он зовет своим «сыном» (II, 4) и превозносит как «держащего руку царя». Но тут возник конфликт. Тавакалавас счел этого посланца недостаточно достойным представителем царской персоны, а главное, отказался идти на встречу с хеттским царем, прежде чем тот его предварительно не утвердит в статусе правителя, не даст ему царства. Шахермейр прекрасно объясняет смысл этого места (II, 14–15): явившись за царством пред лицо верховного властителя, Тавакалавас должен был принять те условия, которые тот ему мог продиктовать; получив царство предварительно, он мог с царем страны Хатти говорить в качестве признанного суверена — гораздо более уверенно, чуть ли не на равных [Schachermeyr, 1986, с. 226].
В § 2 (I, 16–31) хеттский царь, выступая к захваченному врагом городу Иаланда (позднейшая Алинда в Карии), предупреждает Тавакалаваса, чтобы никто из его людей во избежание зла не появлялся в тех местах во время борьбы царя с мятежниками («я о своих подданных позабочусь сам!»). И действительно, враги были успешно разбиты, брат Тавакалаваса Laḫurzis или Laḫarzis (А. Хаксли и Ф. Шахермейр видят в этом имени передачу греч. Λαϝέρτης «Лаэрт», известного как имя легендарного отца Одиссея [Huxley, 1960, с. 25; Schachermeyr, 1986, с. 228]) вовсе не участвовал в этой битве, а в соответствии с пожеланиями царя из окрестностей Иаланды ушел, потом же прислал царю письмо, где заверял, что никогда больше в Иаланду не пойдет. Пусть брат царя хеттов — царь Аххиявы сам спросит, так это или не так! Очевидна установка этого параграфа: внушить царю Аххиявы, что пишущий не применял и не думал применять оружия против братьев адресата, что все вопросы улаживались на началах полной взаимной лояльности, если не считать странной строптивости Тавакалаваса, которому, впрочем, Царь-Солнце охотно готов дать все, что тот просил.
В § 3 (I, 32–34) хеттский царь клянется, будто все обстояло именно так, как он пишет (т. е. складывалось к общему благу), и зовет всех богов в свидетели.
В § 4 (I, 35–52) он заверяет, что, сражаясь в Иаланде, он был верен договору с Милавандой и владений ее не тронул. В дальнейшем из-за нехватки воды он вообще отошел в область Абавию (часть Страны реки Сеха) и, по его словам, ничего бы не имел даже против Пиямарадуса, но тот причинил ему зло, и хеттский царь позвал его к себе. Об этом он, находясь у границ Милаванды, написал своему брату — царю Аххиявы: знает или не знает его брат, что Пиямарадус постоянно нападает на соседнюю страну, в чем этого человека упрекает хеттский царь? Задача параграфа — продемонстрировать полную лояльность пишущего, его глубочайшее уважение к неприкосновенности границ Милаванды, готовность в спорных вопросах, связанных с этой страной и принятым ею под защиту Пиямарадусом, всецело положиться на справедливость господина Милаванды — царя Аххиявы.
Из § 5 (I, 53–74; II, 1–8) узнаем, что прибывший наконец из Аххиявы посол высокомерно, не вручив подарка — знака вежливости, тем не менее сообщил, что Атпас уже получил в Милаванде инструкции предоставить Пиямарадуса в распоряжение царя Хатти. Потому-то последний сразу пошел в Милаванду, чтобы поговорить с Пиямарадусом в присутствии подданных брата своего — царя Аххиявы. Но Пиямарадус взял и бежал на корабле. Однако его зятья Атпас и Аваянас знают все, что хеттский царь ему хотел сказать. Почему же они не передадут это царю Аххиявы? Следует попытка изобразить приход в Милаванду еще и как величайшее смирение перед высокомерием Тавакалаваса: тот не хотел к нему явиться, а вот теперь великий царь сам к нему пришел. Тем самым лукавый Царь-Солнце решает риторическую задачу неимоверной сложности и вторжение на землю Милаванды изображает как жест дружелюбия и покорности перед царем Аххиявы и его братом [Schachermeyr, 1986, с. 237]. Но вот беда: Тавакалавас тоже в панике бежал, заявляя, что боится быть убитым (II, 3). И хеттский царь, столкнувшись с таким «недоразумением», патетически вопрошает (II, 8): «Разве кровавые дела дозволены в стране Хатти? — Нет!» (… e-eš-ḫar I. NA KUR URUKỤBẠBBẠR??-ṭị ạ-a-rạ na̤? -a̤t!?? Ṳ́?. UL).
Длинный § 6 (II, 9-50) начинается с жалоб на то, что воля царя Аххиявы, позволившего хеттскому царю поставить перед собой Пиямарадуса и говорить с ним (но только не забирать его с собой), не исполнена. Строки II, 13–15 содержат описание радости хеттского царя, когда он получил из Аххиявы послание: (13)… ki! -nu-na-u̯a-mu ŠEŠ. I̭A LỤGẠL? GAL? am-me-ẹl (14) an-na-ú-li-iš IŠ. PUR nu-u̯a am-me-ẹ[l] ạn? -na̤? -ṳ́-lị?? -i̯a?? [-aš] (15) me-mi-an l). Ú. UL iš-ta-ma-aš-mi — «(13) ныне брат мой, великий царь, (14) равный мне, написал. Равного мне (15) слово не слышу ли я?» [Güterbock, 1983, с. 135 и сл.; Schachermeyr, 1986, с. 239] (толкование Зоммера, видящего здесь обидное замечание «я не слышу слова равного мне» [Sommer, 1932, с. 7], противоречит контексту). Обрадованный царь Хатти пошел в Милаванду, но тщетно. Если теперь его брат, царь Аххиявы, упрекнет его в том, что он не выполняет какое-то пожелание брата, то можно спросить: а разве тот сам выполнил его пожелание? Царь-Солнце явно стремится предупредить какие-то обвинения, связанные с конфликтом между ним и братьями царя Аххиявы, а возможно, и с вторжением в Милаванду. Следует рассказ об исключительных милостях, оказанных автором письма Атпасу из Милаванды, благополучию которого он всячески хочет способствовать, — здесь опять чувствуется боязнь упрека в посягательстве на особый статус этого города.
В испорченном § 7 (II, 51–55) вновь поднимается тема Пиямарадуса как клятвопреступника, на которого должны гневаться боги.
С § 8 (II, 56–77; III, 1–6) начинается удивительная картина заискивания царя Хатти перед адресатом. Этот параграф открывает заявление (II, 56): nu nam-ma-pít Α. NΑ ŠEŠ. I̭A ha̮-an-da-aš Ú. UL ma-a[n-qa i-i̯a-nu-un… — «ныне, как и прежде, я верен брату моему, а не только о своих интересах забочусь».
Царь Хатти заверяет, что готов вступить в переговоры с Пиямарадусом, дав тому, по хеттскому обычаю, высшую ритуальную гарантию — послав ему хлеб и вино, каковым актом исключается причинение получившему их любого зла. Более того, все время, пока будут длиться переговоры, при дворе царя Аххиявы в качестве заложника будет пребывать благородный начальник царской конюшни Дабалатархунтас, лично известный Тавакалавасу и происходящий из высокочтимой в стране Хатти семьи правящей царицы. Когда Пиямарадус придет к хеттскому царю, тот готов всячески заботиться о его благополучии, а в случае, если Пиямарадусу и это будет не по душе, один из людей царя доставит его «назад… в страну Аххиява» (II, 69–70). Царь-Солнце готов ублаготворять своего бывшего вассала и злейшего врага, вместо того чтобы конфисковать его владения и передать их кому-нибудь из знати (как он грозится выше, II, 26–28), лишь потому, что тот пребывает под покровительством великого царя Аххиявы.
В § 9 (III, 7 -21) автор письма просит, в случае если Пиямарадус отклонит его обращение, царя Аххиявы решить судьбу 7000 пленных, которых Пиямарадус угнал из страны Хатти, по-видимому, на территорию Милаванды. Представители обоих великих царей должны допросить вождей этих пленников, вероятно, переселявшихся целыми племенами. Царь страны Хатти не просит выдачи бежавших, не настаивает на своих правах сюзерена: если кто-нибудь из этих вождей скажет, что перешел границы добровольно, его и подвластных ему оставят в покое. Царя Аххиявы просят помочь в возвращении лишь тех, кто сам объявит себя угнанным насильно.
В § 10 (III, 22–51) содержатся рассуждения об обязанностях великих царей выдавать друг другу тех подданных (ÌR), которые, прогневав своего господина, перебегут от одного царя к другому, при этом автор письма ссылается на прецедент в отношениях между хеттским царем и неким Сахурунувой, вероятно, царем Кархемыша [Sommer, 1932, с. 34]. Также и царю Аххиявы следовало бы задержать Пиямарадуса. Иначе за ним охотно побегут и другие подданные хеттского царя (!).
Следующий § 11 (111, 52–62) преисполнен опасения, что Пиямарадус переберется в страну Маса (возможно, часть Мисии) или Каркию (вероятно, часть исторической Карии), оставив жену, детей и все добро под защитой Аххиявы, и, уверенный в их безопасности, начнет вновь нападать на земли хеттов. Звучит тревожный возглас: «Брат мой, неужели ты теперь с этим согласен?» (III, 62… ŠEŠ. I̭A — za ma-la-a-šị ki-nụ? -ṳn??).
B § 12 (III, 63–69; IV, 1-15) царя Аххиявы просят поставить Пиямарадуса перед выбором: или вернуться в страну Хатти, или мирно осесть в той области Аххиявы, которая ему будет указана, или, наконец, с семьей и со всем достоянием уйти в какую-нибудь другую страну и чинить оттуда хеттскому царю зло, не используя для этого территории Аххиявы. Великий царь этой страны должен напомнить Пиямарадусу, что война между Аххиявой и страной Хатти, шедшая из-за города Вилуса, окончилась (подробно об этом важнейшем эпизоде см. гл. 3), царь хеттов умиротворил (IV, 9 — la-ak-nu-ut) противника по спорным вопросам. Вновь возникает страх, что адресат в ответ напомнит Царю-Солнцу только что происшедшее вторжение в Милаванду, и приводятся какие-то оправдания этому поступку (по Зоммеру — уже известные нам ссылки на якобы самые дружественные намерения, которыми он был продиктован).
Из § 13 (IV, 16–26) узнаем, что за «согласие» между двумя царями имелось в виду в предыдущих строках. Ссылаясь на заключенный мир, пишущий вопрошает: «Чего же еще?» (IV, 20). И откровенно говорит о том, что, когда один человек перед другим признает свою вину, тот, перед кем эту вину признали, не должен отвергать повинившегося (IV, 21–23). Он, хеттский царь, полностью признал свой грех (u̯aštul) перед своим братом (царем Аххиявы), и этот грех не повторится (IV, 24–26). «Согласие» на деле оказывается унижением и покаянием Царя-Солнца перед его более могучим собратом.
И наконец, после нескольких испорченных строк (§ 14, IV, 27–31), в § 15 (IV, 32–57) мы читаем отчаянные, но глубоко искренние оправдания. Автор письма припоминает те оскорбительные слова и агрессивные (ŠU. BULUG) действия, которые владыка Аххиявы ему когда-то ставил в вину, и с необычайным чистосердечием и простотой повторяет: TUR-aš e-šu-un «я ведь юн был!» (IV, 34), а под конец он предлагает адресату обменяться теми злокозненными подданными, которые каждому из царей передавали злые слова, сказанные другим, и казнить их как преступников.
Еще раз подчеркнем, «Письмо о Тавакалавасе» — единственный известный за всю историю Хеттской империи текст, в котором великий царь, мучимый страхом, обращается к кому-то с позиций откровенной и обезоруживающей слабости и прямо признает превосходство царя далекой державы. С подобным феноменом мы не встречались прежде и более не встретимся ни разу.
7
Время трех последних правителей Хеттской империи — Тудхалияса IV (1265–1235 гг. до н. э.) и его сыновей Арнувандаса III (1235–1215 гг. до н. э.) и Суппилулиумаса II (1215 г. — начало XII в. до н. э.) для нас особенно, настораживающе интересно, поскольку эти 70 лет включают также и те годы, которыми античная традиция в разных ее версиях датирует Троянскую войну, а многие археологи — пожар Трои VIIa. Мы всматриваемся в документы этого времени, касающиеся Аххиявы. Подтверждают они или нет то соответствие, которое многие ученые в последние 30–40 лет предполагают между словами легенды и картиной раскопок на Гиссарлыкском холме? Отразились ли в хеттских текстах какие-то факты, которые могут быть соотнесены с эпическими мотивами, семнадцать веков питавшими античную культуру? И первое, что мы видим, — как резко изменяется в это время отношение Хаттусаса к Аххияве.
Наиболее показателен в этом смысле текст договора Тудхалияса со своим вассалом Шаушкамувасом из Амурру, изданный в KUB XXIII, 1 (приводится ниже по [Sommer, 1932, с. 320 и сл.]). В колонке IV, 1 и сл. этого текста Тудхалияс накладывает на вассала обязательства следовать политике хеттского царя в отношении прочих великих держав. При этом он перечисляет царей, которые, по его мнению, ему равны (LUGALMEŠ -i̯a-mu ku-i-e-eš LÚMI. IḪ. R[Ṳ. Ṭ]I). И вот в этом перечне вслед за царями Египта, Вавилонии и Ассирии (LUGAL URUmi-iz-ri!-i! LUGAL KUR! ka!-ra-Ddụ-nị-aš LUGAL KUR aš-šur) в заключение были вставлены слова LṲGẠL KỤR ạḫ-ḫị-i̯ạ-ṳ-u̯a̤-i̯a̤ «и царь страны Аххиява». Но, будучи написаны, они тут же заглаживаются, хотя и не до конца, так что их можно восстановить вполне определенно. А далее, когда царьку из Амурру предписывается позиция, которую он должен занимать, имея дело с каждой из этих держав по отдельности, а именно: «когда царь Египта Моему Солнцу друг, да будет он и тебе друг. Когда же он Моему Солнцу враг, да будет он и тебе враг…» и т. д., об Аххияве речь уже не возникает.
Как можно объяснить этот факт? Шахермейр справедливо замечает, что здесь не может быть речи об ошибке писца, но за таким исправлением должны стоять какие-то серьезные политические перемены [Schachermeyr, 1986, с. 286]. В самом деле, из «Письма о Тавакалавасе» видно, что в первые десятилетия XIII в. до н. э. властители Хаттусаса безоговорочно признавали царей Аххиявы равными себе и другим великим царям Востока. Так что же произошло за 20–30 лет? Пытаясь объяснить этот поворот, Шахермейр видит его причину в якобы усилившейся к середине века под натиском северобалканских племен на рубежи ахейского мира агрессивной политике Микен на юге Средиземноморья. В это время на Кипр вторгается обширная группа ахейцев, разрушающих ряд древних городов (в Энкоми, Гала-Султан-Теке и др.) и сооружающих на их месте свои крепости [Schachermeyr, 1982, с. 128 и сл.]. По мнению ученого, Тудхалияс осознавал, что миру с Аххиявой наступает конец, и, готовясь к предстоящей борьбе, вычеркнул упоминание о царе Аххиявы из списка признаваемых им легитимных правителей в договоре с Шаушкамувасом. Шахермейр, по-видимому, прав в том, что касается связи между нарастающим натиском на Грецию с севера и массовым переселением на Кипр. Но в целом, как нам кажется, предложенное объяснение не выдерживает критики.
В анализируемом договоре Тудхалияс четко отличает тех великих царей, отношения с которыми могут меняться как в хорошую, так и в плохую сторону (сюда относятся цари Египта и Вавилонии), от царя Ассирии, в это время, при Тукультининурте, резко активизировавшей свою экспансию в Передней Азии. По словам Тудхалияса, царь Ассирии ему постоянный враг и правитель Амурру не имеет права с ним поддерживать даже торговых контактов. Возможность изменений к лучшему в отношениях между хеттами и Ассирией не предусматривается как явно нереальная. Спрашивается, если Тудхалияс и впрямь считал Аххияву, захватившую Кипр, своим заклятым врагом, почему ее царь не упомянут именно в таком качестве, наряду с царем Ассура? Тем более что ниже, в стк. 23, о царе Ассирии сказано: [ŠА KUR aḫ-ḫ]i̤-i̯ạ-u-u̯a-aš-ši GIŠMÁ pa-a-u-an-zi l[i-e] — «Корабль [из страны Ахх]иява к нему не должен проходить!» [Sommer, 1932, с. 326]. А если Тудхалияс допускал, что отношения с Аххиявой еще могут улучшиться, то почему он не поместил ее царя в одном ряду с царями Египта и Вавилонии, которые, по его словам, могут ему стать в будущем как друзьями, так и врагами? В обоих случаях для царя Аххиявы нашлось бы место в списке. Нет, дело в другом, как нам кажется. Во время заключения этого договора Тудхалияс перестает считать Аххияву великой державой, а ее царя — равным себе.
Этому не противоречит и организация тем же царем первого известного в истории похода против осваиваемого ахейцами Кипра (см. [Otten, 1963; Güterbock, 1967]). Из позднейшего текста KBo XII, 38, составленного при Суппилулиумасе II, который пожелал прославить деяния своего отца, ясно, что этот поход был удачен и Тудхалияс, захватив в плен царя Кипра-Аласии, обложил его различными повинностями, формально — в пользу различных божеств-покровителей хеттского царя. Но в тексте нет никаких указаний на то, чтобы этот царь Аласии, будь он ахейцем или нет, находился в какой бы то ни было зависимости от царя Аххиявы. Аласия выглядит вполне самостоятельным государством, а отнюдь не частью какого-то более обширного ахейского царства. Нельзя ли думать, что именно уверенность Тудхалияса в невозможности как отпора, так и возмездия со стороны Микенской Греции позволила ему впервые в хеттской истории попытаться включить Аласию в число уже не союзников, а прямо подчиненных империи вассальных владений?
Через 25–30 лет сам Суппилулиумас II, подобно своему отцу, предпринял поход на этот остров, о чем и рассказал в своих анналах, изданных Г. Оттеном вместе с рассказом этого царя о первом покорении Аласии Тудхалиясом. Суппилулиумас сжег в море корабли врагов, затем разгромил последних на суше и отпраздновал свою, как ему казалось, полную победу сооружением на острове храма («Каменного дома») в память Тудхалияса. Из того, что, говоря о своих собственных успехах, Суппилулиумас ни разу не упоминает о царе Аласии, но собирательно повествует о некоем множестве врагов, Шахермейр сделал правильный вывод. За четверть века положение на острове изменилось, вероятно, в результате вторжений новых завоевателей, так называемых «народов моря» [Schachermeyr, 1986, с. 341] (см. о них гл. 4). Единая власть, объединявшая остров, пресеклась, и Аласия как государство, похоже, распалась на множество мелких, плохо связанных между собою районов, контролируемых отдельными группами пришельцев и прежних обитателей. Но как бы облик острова в конце XIII в. до н. э. ни отличался от того состояния, в котором его застал Тудхалияс, одна черта в обоих описаниях остается общей: ни в том, ни в другом случае мы ничего не слышим об Аххияве.
В этой связи можно вспомнить и так называемое «Письмо в Милаванду», второй по величине текст после «Письма о Тавакалавасе» из опубликованных Зоммером источников об Аххияве [Sommer, 1932, с. 198 и сл.]. В 1982 г. Г. Хоффнер дополнил этот сильно поврежденный текст фрагментом KUB XL VIII.90, благодаря чему интерпретация в ряде деталей прояснилась [Hoffner, 1982] (ср. [Güterbock, 1984, с. 120; Schachermeyr, 1986, с. 251]). Основное содержание письма сводится к пересмотру и изменению границ между Милавандой и Хеттским царством. Имя хеттского царя, при котором происходил этот пересмотр, не сохранилось. Но судя по тому, что в стк. Rs. 10 Пиямарадус мельком упоминается в историческом отступлении в связи с какими-то давними делами, письмо должно быть датировано ближе к середине XIII в. до н. э. [Heinhold-Krahmer, 1983, с. 95; Schachermeyr, 1986, с. 254; ср. с. 252 — отождествление автора письма с Тудхалиясом]. Не лишено резонов сближение отца адресата, который, как отмечается в письме, правил в Милаванде и чинил хеттскому царю зло, посягая на его владения, с известным нам Атпасом, доставившим хеттам много хлопот, войдя в сговор с Пиямарадусом. Вспомним, сколь старательно автор «Письма о Тавакалавасе» пытался ублаготворить Атпаса как вассала царя Аххиявы, показывая свое особое уважение к статусу Милаванды. Ко времени составления второго письма мы видим совсем иную ситуацию. Отношения между царем Хаттусаса и правителем Милаванды трактуются как обычные связи между «отцом» и «сыном», т. е. сюзереном и вассалом. Высший обещает низшему (Rs. 42) «позаботиться о его благе, если тот будет заботиться о благе Солнца», в стандартном стиле подобных вассальных договоров. В своем месте мы убедимся, как бесцеремонно хеттский царь решает в этом письме судьбу еще одного города, над которым в «Письме о Тавакалавасе» признавался суверенитет Аххиявы. Похоже, что в годы Тудхалияса не только Кипр, но и ахейцы Милаванды-Милета оказались под эгидой Хеттской империи. В связи с изложенным встает вопрос, случайно ли в такой политической обстановке произошло вычеркивание царя Аххиявы из числа великих царей?
И наконец, важнейшим текстом этого времени, касающимся проблем Аххиявы, является KUB XXIII,13, значение которого авторы настоящей книги попытались раскрыть в специальной работе [Гиндин, Цымбурский, 1986]. Основная часть его звучит так (дано по [Sommer, 1932, с. 314 и сл.], с уточнениями по [Ranoszek, 1934, с. 52]): (1) […] KUR ÍD še-e-ḫa-aš EGIR-pa II ŠU u̯a-aš-ta-aš (2) […A.]BI A.BI DUTUŠI IŠ.TU GIŠTUKUL UL tar-aḫ-ta (3) [X+ku-u̯a-p]i? KUR. KUR ạr-zạ-[u]-u[a̤ tar-a]ḫ-ta an-za-a-aš-ma-u̯a-za IŠ.TU GIŠTUKUL (4) [X+]x̣-na-aš-za nu-u̯a-aš-ši? u̯a-aš-da-az-za iš-ḫu-na-aḫ-ḫu-u-en (5) [X+]x̤ ku-u-ru-ri-i̯a-aḫ-tạ nu-za-kán LUGAL KUR aḫ-ḫi-i̯a-u-u̯a EG IR-pa e-ip-ta […] (6) [X+E]GIR-pa e-ip-ta LỤGAL GAL-ma i-i̯a-an-nị-i̯a-nu-un (7) [X+Z]A̤? hé-gur ḫa-a-ra-na!-an-kán kat-ta dạ-aḫ-ḫu-un nu-kán D ANSU.KUR. RA. — «(1) [царь или народ] Страны реки Сеха снова дважды согрешил (2)… дед[а] Солнца Моего оружием не победил, (3) [когд]а страны Арцава [побе]дил, нас, однако, оружием [не победил] (4) (точной интерпретации не поддается, но явно заключает в себе какие-то оскорбления в адрес деда хеттского царя) (5) […] вел войну, и царь страны Аххиявы отступил назад […] (6) […] отступил назад, а я, Великий Царь, пришел. (7) Скалу Харана я низверг, 500 колесниц…». Далее речь идет о низложении местного правителя DU-naradu, что, вероятно, должно читаться «Тархунарадус» [Singer, 1983, с. 207 и сл.], и о возведении на престол хеттского ставленника. Впрочем, в этом месте текст сильно испорчен, но в стк. 10 хорошо читается La-ba-ar-na LUGAL [G]A̤L KURTUMUL pa-it «Лабарна, Великий Царь, в страну эту не приходил» — слова, возможно, подчеркивающие масштаб одержанной победы.
Еще Зоммер вполне оценил важность этого свидетельства, указав на него как на единственный текст, который «недвусмысленно выводит на сцену владыку Аххиявы действующим в определенном месте» [Sommer, 1932, с. 319]. Хотелось бы добавить — «и в определенное время», так как с 20-х годов отнесение этого текста по содержательным критериям к анналам Тудхалияса IV, ведшего постоянные войны на западе, признается большинством ученых [Sommer, 1932, с. 316 — со ссылками на Гетце и Форрера; Garstang, Gurney, 1959, с. 95; Ranoszek, 1934, с. 49; Huxley, 1960, с. 7 и сл.; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 251; Schachermeyr, 1986, с. 279]. Доводы некоторых авторов, высказавшихся в последнее время в пользу его датировки предшествовавшим царствованием Хаттусилиса III [Singer, 1983, с. 207 и сл.; Güterbock, 1984, с. 122], не очень убедительны. Так, стк. 2–3 Гютербок предлагает понимать как последовательно относящиеся к деду и отцу правящего царя и переводит с заполнением лакуны в стк. 3 так: «Дед Солнца Моего оружием не покорил, [отец Солнца Моего], когда страны Арцавы покорил, нас, однако, оружием не покорил», — а из этого делается вывод, что автор текста был сыном покорителя Арцавы Мурсилиса, т. е. Хаттусилисом III! Но такое восполнение текста отнюдь не обязательно. Не говорим уже о том, что характер лакун в началах строк позволил бы допустить и совсем иную последовательность поколений, когда сначала стоит прадед ([ABI A.]BI A.BI) говорящего (Суппилулиумас I, также воевавший с Арцавой [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 56 и сл.]), а затем его дед (Мурсилис). Но едва ли благоразумно делать столь далеко идущие выводы из частичного синтаксического повтора, наблюдаемого в уцелевших частях этих строк.
Мы можем иметь здесь, как думал и Зоммер, просто риторическое выделение одиозной информации, акцентирующее дерзость жителей Страны реки Сеха: «Говорят, мол, их дед Солнца Моего оружием не покорил, — хотя, дескать, страны Арцавы покорил, но нас, однако, оружием не покорил!». Такое понимание вполне соответствует стилю данного фрагмента (см. аналогичный прием непосредственно ниже: «… и царь Аххиявы отступил назад; он отступил, я же, Великий Царь, пришел!»). Датировка текста временем Тудхалияса тем оправданнее, что объединение его с другими уцелевшими фрагментами анналов этого царя проясняет смысл слов о втором проступке народа указанной страны против Хеттского царства.
К сожалению, в понимании данного текста имеются и другие сложности. Так, из-за повреждения в начале стк. 5 пропало подлежащее глагола kururijaḫta «вел войну», хотя, скорее всего, речь идет о царе Страны реки Сеха [Sommer, 1932, с. 314 и сл.; Page, 1959, с. 28 и сл.]. В последнее время определенные сомнения возникли насчет перевода глагольной формы EGIR-pa e-ip-ta в той же строке. На протяжении десятилетий авторы, писавшие по поводу данного места, вслед за Зоммером переводили этот предикат в смысле «отступить, попятиться» [Page, 1959, с. 28; Борухович, 1964, с. 97; Lloyd-Mellaart, 1955, с. 83; Ranoszek, 1934, с. 70]. При этом противники отождествления Аххиявы с Микенской Грецией (Зоммер, Пейдж) в своей аргументации придавали большое значение контексту, где царь Аххиявы изображен действующим на малоазийской земле. Напротив, Г. Гютербок, выступив во всеоружии своего авторитета и хеттологической эрудиции в поддержку «микенской концепции», попытался — и, на наш взгляд, неудачно — отвести этот довод, пересмотрев само толкование формы EGIR-pa e-ip-ta. Споря с Зоммером, он пишет: «Я думаю, что значение „находить прибежище у кого-либо“ („полагаться на кого-либо“), засвидетельствованное еще кое-где, дает лучший смысл: „(Такой-то) вел войну и полагался на царя Аххиявы“. Он мог полагаться на него без того, чтобы сам царь находился на сцене» [Güterbock, 1983, с. 138] (см. также [Güterbock, 1984, с. 119]). Насчет возможности значения «еще кое-где» остается лишь доверять опыту Гютербока — словари Фридриха и Тишлера такого значения не дают. Что же касается данного контекста, думается, интерпретация Зоммера, в которой противопоставляется отход потерпевшего поражение царя Аххиявы и победное наступление хеттского царя, дает на деле гораздо лучший смысл, чем перевод Гютербока: «X воевал и имел поддержку от царя Аххиявы; X имел поддержку, я же, Великий царь, пришел», где повтор теряет всякий смысл. Кстати, мысль о том, что царь Аххиявы мог и не присутствовать лично при вторжении своего войска в эту область, задолго до Гютербока высказал Шахермейр, еще опираясь на зоммеровский перевод текста и допуская в качестве альтернативы кратковременное вступление этого царя на малоазийскую землю в роли предводителя войска [Schachermeyr, 1935, с. 39, 86; Schachermeyr, 1982, с. 29]; в последней работе [Schachermeyr, 1986, с. 279], под влиянием Гютербока, он проявляет колебания в интерпретации этого глагола. Вообще надо заметить, что семантическое развитие «брать, двигать назад» → «отступать» представлено в ряде языков, ср. англ, withdraw, нем. zurückziehen, польск. ćofąć się «отступать» при ćofąć «отодвигать, брать назад».
Видимо, всеми этими трудностями вызвано сдержанное отношение многих ученых к давно намеченному сближению данного текста с эпизодом так называемой «Псевдо-Илиады» из греческой традиции о годах, предшествовавших осаде Трои. Еще более 30-ти лет назад Дж. Хаксли [Huxley, 1956, с. 25] мимоходом указал на перекличку KUB XXIII,13 с сообщением Страбона (I,1,17) о том, что «войско Агамемнона, грабя Мисию, как будто Троаду, с позором отступило». Однако слова Страбона, будучи выхвачены из общего контекста традиции, выглядят загадкой. Между тем Дж. Гарстанг и О. Герни, более серьезно, хотя и выборочно рассмотрев этот и некоторые другие источники, посвященные «Псевдо-Илиаде» («Киприи», Pind. Olimp. IX,70 и сл.), указывают: «Совпадение слишком значительно, чтобы его игнорировать» [Garstang, Gurney, 1959, с. 97].
Как оказалось, круг греческих свидетельств, относящихся к этому эпизоду неудачной, грабительской экспедиции Агамемнона в Мисии, может быть значительно расширен. Самый ранний развернутый источник, видимо, во многом инспирировавший последующие, — это «Киприи». Вот пересказ интересующего нас места у Прокла: «[греки], выйдя в море, причаливают к Тевтрании (древнее название Мисии) и начали ее грабить, как будто Илион. Телеф же (местный царь) спешит на помощь и убивает Терсандра, сына Полиника, и сам ранен Ахиллом. Когда же они отплывают из Мисии, случается буря и их разбрасывает в разные стороны». У Пиндара находим по крайней мере три аллюзии этого эпизода — Olymp. IX,70 о Патрокле: «вместе с Атридами придя в долину Тевтранта, один встал рядом с Ахиллом, когда мощных данайцев, обратив в бегство, Телеф отбросил на корабельные кормы»; Isthm. V,38 об Ахилле; «кто доблестного Телефа ранил своим копьем у берегов Каика» (точная локализация места битвы); о нем же Isthm. VIII,59: «кто мисийскую виноградную долину обагрил, обрызгав черной кровью Телефа» (к мифо-ритуальным аспектам этого эпизода см. главу 7). Подробный пересказ соответствующего места из «Киприй» дает Аполлодор (Ер. III,17); «Не зная морского пути в Трою, пристали к Мисии и стали ее разорять, думая, что это Троя. А Телеф, царствовавший над мисийцами, погнал эллинов к кораблям и убил многих…». Живописный образ Телефа, поднимающего на битву свой народ, вырисовывается в позднем романе Диктиса Критского (II,1,4): «Те, кто первыми спаслись бегством от греков, приходят к Телефу, мол, вторглись многие тысячи врагов и, перебив охрану, заняли берега… Телеф с теми, кто был при нем, и с прочими, кого в этой спешке можно было собрать вместе, быстро идет навстречу грекам, и обе стороны, сомкнув передние ряды, со всей силой вступают в бой…». Из географов кроме Страбона к «Псевдо-Илиаде» неоднократно обращается Павсаний, у которого помимо беглых ссылок (I,4,6; VIII,45,7), ничего не добавляющих к известному, появляется интересное сообщение, показывающее, как глубоко воспоминание о великой битве с войском ахейского царя укоренилось в традиции самих жителей Мисии (IX,5,14): «У отправившихся в Трою с Агамемноном случилась ошибка во время плавания и битва в Мисии… И как напоминание об этом входящему в долину Каика служит камень в городе Элее на площади под открытым небом, и местные жители, как говорят, приносят здесь жертвы мертвым». Это свидетельство относится к началу нашей эры, т. е. почти полторы тысячи лет спустя после легендарного сражения!
Эта, еще не полная, подборка источников (некоторые приведены дополнительно в гл. 7) достаточно показывает характер «Псевдо-Илиады» как одной из фундаментальных, проходящих через всю античность тем, связанных с историей Троянского похода, неотделимых в памяти греков хронологически и событийно от опустошения ахейцами Троады и частично ближайших берегов Фракии. Примечательно, что Аполлодор, пересказывая «Киприи», излагает этот эпизод в едином сюжете «Илиады» и соответственно пишет (Ер. III,15–20): «Действительно, поскольку эллины вернулись, иногда говорится, будто война длилась 20 лет: ведь после похищения Елены эллины на второй год приготовились выступить в поход, а после того, как возвратились из Мисии в Элладу, спустя 8 лет они, вновь вернувшиеся в Аргос, отбыли в Авлиду». Сообщение Аполлодора о традиции включать «Псевдо-Илиаду» в историю Троянской войны и отводить на последнюю в целом 20 лет заслуживает полного доверия, поскольку оно прямо подтверждается свидетельством Гомера, у которого Елена в своем плаче по Гектору (Il. XXIV,764–766) восклицает: «Ведь ныне уже у меня двадцатый год идет с того, в который я пришла оттуда и покинула мое отечество». Более того, вопреки ранее высказывавшемуся нами мнению [Гиндин, Цымбурский, 1986, с. 84], есть основания видеть реминисценцию неудачного мисийского похода в одном месте у Гомера, а именно там, где Ахилл предупреждает Агамемнона в связи с насланной Аполлоном чумой (Il. I,59–60): «Атрид, я думаю, что ныне мы, повернув обратно (παλιμπλαχϑέντας), опять назад (или обратно — άψ’) возвратимся, поскольку равно и война, и мор губят ахейцев». При встречающемся в ряде списков раздельном написании, πάλιν πλαχϑέντας, это место получает совершенно иное значение: «… мы, вновь сбившись с дороги, опять возвратимся». Место это темное, может быть, нарочито из-за очевидной полисемии как глагола, так и частицы αψ’ «назад» или «опять»: перед слушателем как бы попеременно то выступает из текста, то вновь в нем исчезает указание на некое уже имевшее в прошлом место возвращение из неудачного похода. Составитель схолий A к этому месту, сразу ухватив его связь с «Псевдо-Илиадой», поясняет фразу: «Атрид, ныне мы, повернув обратно…» следующим образом: «новейшие авторы, основываясь на этом, сообщают о делах, относящихся к Мисии». Еще определеннее комментирует эти строки Евстафий, указывая, что вместо πάλιν некоторые авторы однозначно говорят ἐκ δευτέρου «во второй раз» (подробнее о единстве «Псевдо-Илиады» и собственно «Илиады» см. [Гиндин, 1991а, с. 269 и сл.]). Маловероятно, чтобы Гомер с его тончайшим искусством лексикосемантических аллюзий мог не осознавать напрашивающихся перекличек этого места с темой битвы в Мисии. Скорее, отведя на всю Троянскую войну, начиная от похищения Елены, 20 лет, он в Первой, вводной песни к аллюзиям затянувшейся задержки в Авлиде присоединяет напоминание о событиях еще более ранних, издавна рассматривавшихся в традиции как самый первый этап великого похода.
Мы убеждаемся в разительном сходстве событий «Псевдо-Илиады» с сообщением текста из анналов Тудхалияса. Отождествлению поддаются и место (долина Каика — в хеттском Страна реки Сеха, в регионе между бассейнами Каика и Меандра), и время (канун Троянской войны — годы правления Тудхалияса IV, на которые с большой определенностью приходится гибель археологической Трои VIIa или по крайней мере созревание предпосылок этой катастрофы), и, наконец, ход событий (появление и отступление царя Аххиявы: вторжение и бегство царя ахейцев). Подчеркнем, что из этого сопоставления вовсе еще не вытекает, как думают Гарстанг и Герни, прямое отождествление р. Сеха с Каиком. Достаточно того, что Страна реки Сеха на северном фланге могла охватывать часть бассейна мисийской реки. И точно так же ничего не изменило бы в полученных выводах даже отстаиваемое Гютербоком отнесение текста KUB XXIII, 13 ко времени Хаттусилиса, хотя оно и кажется нам мало правдоподобным по другим причинам. Речь вполне могла бы идти о последних годах жизни этого царя, непосредственно смыкающихся с царствованием его сына. А выводы эти таковы: данный текст — вовсе не аргумент против «микенской» гипотезы, как думал Зоммер. Скорее наоборот, констатируя тот факт, что текст KUB XXIII, 13 — уникальное прямое свидетельство о походе царя Аххиявы в Анатолию, Зоммер невольно дал в руки сторонников «микенской» концепции очень сильный довод. Появление царя Аххиявы в хеттских текстах на малоазийской земле в десятилетия, предшествующие пожару Трои VIIa, точно соответствует засвидетельствованному традицией вторжению ахейского царя в Западную Анатолию за 20 лет до сокрушения Приамовой Трои. Обзор источников, проделанный нами, позволяет сказать определенно: в данном фрагменте из анналов Хаттусаса оказывается отраженным начало Троянской войны.
Более того, еще неизвестные нам в точности события, послужившие прообразом этого легендарного великого похода греков, должны будут осмысляться в двух планах. В рамках той эпохи, в которой это могло происходить, они должны складываться в единую картину с наблюдаемым упрочением позиций хеттов в Милаванде-Милете и на Кипре и с падением роли Аххиявы в Анатолии. В то же время в диахронном ключе эта эпоха, которая для греков выступает как эпоха Троянской войны, а для хеттов — как время Тудхалияса IV и его сыновей, должна по своему духу, по определяющим ее тенденциям радикально отличаться от эпохи предыдущей, облик которой встает перед нами из строк «Письма о Тавакалавасе».
В свете изложенного практически однозначным предстает важнейший для истории всего Восточного Средиземноморья вывод, означающий конец спорам о местонахождении государства Аххиява. Оно должно быть приравнено к Микенской Греции, включая области Анатолии (Малой Азии), с близлежащими островами, охваченные микенской колонизацией.
Можно подумать, что перед нами разыгрывается трагическое действо в стиле многочисленных античных рассказов о каре, сокрушающей носителей героического дерзновения (гибриса) на вершине их успеха. От дерзкого самоутверждения Аххиявы в Анатолии через стадию признанного, легитимного господства над областями, подпавшими под ее власть, это государство приходит к неслыханному возвышению, когда перед ним чуть ли не заискивает повелитель крупнейшей анатолийской империи, затем стремительно наступает полоса неудач и крах.
Кажется совершенно очевидным, что между смирением Царя-Солнца перед владыкой Микен и пренебрежительным сбрасыванием Аххиявы со счетов в делах Анатолии и всего Восточного Средиземноморья должны были произойти какие-то важные события, изменившие облик того мира, который окружал обитателей Хаттусаса. Но об этих событиях мы ничего не узнаем непосредственно из текстов, упоминающих об Аххияве. Мы должны эти сдвиги восстановить и осмыслить, обращаясь к другим хеттским текстам, относящимся к интересующим нас отрезкам времени в истории Западной Анатолии, а если потребуется, и к свидетельствам из иных архивов — египетских, угаритских, а также к данным археологии. Но сразу же скажем, забегая вперед: все исторические потрясения, о которых пойдет речь, оказываются нерасторжимо связаны с отразившейся в греческих преданиях судьбой «Лаомедонтовой» и «Приамовой» Трои.
Глава 3 Вилуса-Илион и Труиса-Троя
1
На протяжении 70 лет спор об ахейцах в хеттских текстах переплетается с дискуссией об отражении в тех же источниках названий Трои и Илиона. Обе эти проблемы как бы сливаются в одну, хотя еще Зоммер справедливо отмечал, что они имеют совершенно разный характер: Троя и Илион — названия негреческие, неотделимые от малоазийской почвы. Поскольку хетты энергично стремились распространить свою власть на запад Малой Азии, то в их знакомстве с одним из крупнейших местных городов и с прилегающей к нему страной нет ничего удивительного [Sommer, 1932, с. 362]. Этого знакомства даже следовало бы ожидать. Но судьба Трои настолько совместилась в сознании европейских ученых с историей Греции, что возможность связей хеттов с Троадой оказалась невычленяема из круга той проблематики, касающейся контактов хеттского и греческого миров, которая, видимо, навсегда соединилась с хеттским словом «Аххиява».
Не случайно уже в первой публикации Э. Форрера «О до гомеровских греках в клинописных текстах» особое внимание было уделено названию страны KUR URUTa-ru-i-ša или в дубликате [KUR URUT]a-ru-ú-i-ša, единожды упомянутой в «Анналах» Тудхалияса IV в том месте, где повествуется о победе этого царя над союзом городов-государств Ассува, к которому принадлежала и Труиса. Ассува, по Форреру, располагалась к северу от Арцавы, включая территории позднейших Лидии, Мисии, Троады, Малой Фригии и Пропонтиды [Forrer, 1924, с. 6]. Позднее Форрер расширил границы Ассувы за счет южной Фригии и северной Карии [Forrer, 1928b, с. 227], объединив весь этот ареал под названием Великой Лидии [Forrer, 1936, с. 713]. Такое воззрение на границы союза Ассува побудило Форрера соотнести это название с греч Ἀσία «Азия» (под которой, как уже говорилось в предыдущей главе, в античности первоначально понималась Малая Азия). Это отождествление Форрера сейчас широко признано в работах по истории древнего мира.
Топоним Ta-ru-(u)-i-ša, обозначающий часть Ассувы, допускает несколько чтений: возможны варианты Truiša, Trui̯ša, Taruiša, Tarui̯ša [Friedrich, 1927, c. 102; Goetze, 1928, c. 49; Goetze, 1934, c. 182; Sommer, 1932, c. 363]. Однако Форрер предпочел чтение Truisa или Trou̯isa, видя в этом названии вероятный прообраз для греч. Τρωίη или Τρωΐα, гом. Τροίη «Троя».
Отождествляя Труису с Троадой, Форрер не уделил особого внимания названию города Wilušija, предшествующего Труисе в перечне городов Ассувы. Не составляет особого труда увидеть даже не сходство, а фактическое тождество этого топонима с названием неоднократно упоминаемой в хеттских документах страны Wiluša. Эти две формы представляют обычные в хеттской топонимике дублеты типа Ḫuwalluša: Ḫuwallušija, Maraššanda: Maraššantija, Arzawa: Arzawija и т. п. [Garstang, Gurney, 1959, c. 105 и сл.; Sommer, 1932, c. 370; Дьяконов, 1968, c. 113]. Однако Вилуса в клинописных источниках фигурировала в связи со «странами Арцавы», и Форрер как сторонник «южной» локализации Арцавы также и Вилусу предпочитал искать где-то на юге, в Киликии или в прилегающих местах, что совершенно не согласовалось с соседством Вилусии и предполагаемой Труисы-Троады. За короткое время (с 1923 по 1924 г.) были предложены три возможные версии местонахождения Вилусы (обзор см. [Гиндин, 1981, с. 162 и сл.]). Две из них выдвинули в качестве альтернатив Дж. Гарстанг и Л. Майер, сближавшие Вилусу либо с г. Иалусом на Родосе, либо с о-вом Элайусой («Оливковым») вблизи киликийского побережья (см. [Kretschmer, 1924, с. 207]; о Вилусе-Элайусе см. также [Hrozný, 1929, с. 332]). Обе данные этимологии подверг справедливой критике П. Кречмер, указавший как на невозможность в первом случае объяснить долгое а в греч. Ἰάλυσος, так и на отсутствие начального u̯ в греч. έλαία «олива», от которого образован топоним Элайуса. Малоубедительной была и попытка Форрера, принявшего единожды засвидетельствованный вариант названия Вилусы Úluša за основной, связать его со словом неизвестного происхождения в одном ассирийском глоссарии ulu «масло», так что «Элайуса» оказывалось как бы переводом местного «Улуса», якобы «Остров, изобилующий маслинами» [Forrer, 1924, с. 4].
По праву не удовлетворенный этими конъектурами, Кречмер впервые привлек для сравнения с названием Вилусы греч. Ἴλιον/Ἴλιος «Илион». Для данного слова недвусмысленно восстанавливается начальное u̯-, которым 50 раз на протяжении гомеровских поэм оказывается обусловлено зияние между начальным I и гласным исходом предшествующего слова [Chantraine, 1958, с. 152]. В этом *Wilios с обычным для греческого языка суффиксом прилагательных -ι̯οϛ Кречмер предположил дублет к анатолийской форме Wiluša [Kretschmer, 1924, с. 207 и сл.; Kretschmer, 1933, с. 254].
Важнейшим аргументом в пользу гипотезы Кречмера стало обращение к одному эпизоду истории Вилусы конца XIV в. до н. э., когда ее правитель по имени Alakšanduš в борьбе с другими претендентами на власть обратился за помощью к хеттскому царю Муватталису и получил эту помощь, признав себя вассалом этого царя и его наследников. Этот эпизод Кречмер сопоставил со словами Стефана Византийского о карийском городе Самилии (Σαμυλία) как о «постройке Мотила (Μοτύλου κτίσμα), принимавшего у себя Париса и Елену». Имя легендарного правителя Μοτυλος ученый сопоставил с лик. Mutleh (род.п.), Mutlei (дат.п.), также с именем царя сирийского государства Куммух в VIII в. до н. э. Muttallu [Kretschmer, 1924, с. 208], ср. еще кар. Μωταλης [Zgusta, 1964, с. 343]. Все эти формы продолжают хет.-лув. Muwattališ, буквально «мощный», особенно известное как имя того самого царя, под чью власть себя отдал Алаксандус из Вилусы. Кречмер утверждал, что невозможно видеть лишь случайное совпадение в параллелизме сюжетов, подкрепленном соответствием оформляющих эти сюжеты имен: «Муватталис оказывает поддержку Алаксандусу из Вилусы» — «Мотил оказывает гостеприимство Александру (Парису) из Илиона. (Wilios)» [Kretschmer, 1924, с. 207 и сл.]. Спустя несколько лет Кречмер выявил еще один отголосок вилусских династических преданий в легендах Троады. Оказалось, что имя предшественника царя Алаксандуса Kukunniš может быть сопоставлено с именем одного из троянских героев Κύκνος «Кикн» [Kretschmer, 1930, с. 170]. Этот Кикн находится в весьма своеобразном отношении к царям Илиона, известным греческой традиции. Прежде всего этот герой, считавшийся сыном Посейдона — строителя Лаомедонтовой Трои, отчужден от династии, правившей в городе: у него своя собственная резиденция в г. Колоны на юге Троады, напротив о-ва Тенедоса. С Илионом он связан лишь отдаленно, через брак с родственницей Приама (Strab. XIII,1,46; Paus. X,14,1–3). В то же время в киклической поэме «Киприи» и в ориентированных на нее позднейших источниках (Apd.Ep. III,31; Tzetz.Antehom. 257) Кикн почему-то «случайно» выступает первым защитником Илиона, дающим бой ахейцам при высадке их на троянский берег и погибающим от руки Ахилла. Таким образом, для троянских сказаний восстанавливается мотив пребывания Илиона под защитой Кикна, чем значительно увеличивается наглядность кречмеровского возведения имени Кикна к имени Кукунниса из Вилусы.
Надо сказать, что Кречмер, как и Форрер, помещал Арцаву на крайнем юге Анатолии. Будучи вынужден локализовать там же Вилусу, он выдвинул смелую гипотезу. Отождествив Вилусию, соседку Труисы в списке стран Ассувы, с Илионом в Троаде, Кречмер предположил, что якобы в XIII в. до н. э. в эти места проникли колонисты, выходцы из южной Вилусы, и именно их традиция, сохранившая образ царя Алаксандуса, дала толчок к возникновению греческих сказаний об Александре-Парисе [Kretschmer, 1924; Kretschmer, 1933, с. 253] (см. также [Page, 1959, с. 116]).
Надо сказать, такая версия не находит ни археологических, ни лингвистических, ни иных подтверждений: каких-либо признаков перемещения племен с юга в Троаду проследить невозможно, в отличие от миграций в обратном направлении, из Троады во внутренние районы и на юг, о чем нам еще придется говорить. Точно так же нет никаких языковых оснований для отделения Вилусии от Вилусы, это явно варианты одного названия [Houwink ten Kate, 1970, с. 77; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 351 и сл.; Гиндин, 1981, с. 145]. Исследователи же, исходящие из представления о «западном», «лидийском» местоположении Арцавы, вообще не сталкиваются ни с какими особыми трудностями в отождествлении примыкающей к Арцаве с севера Вилусы с принадлежащей к Ассуве Вилусией, но прямо помещают Вилусу-Вилусию либо в Троаде, либо где-то в районе среднего и нижнего течения Сангария, оговаривая, что ее территория могла бы тянуться на неопределенное расстояние на запад, включая Троаду [Garstang, Gurney, 1959, с. 104; Page, 1959, с. 116; Дьяконов, 1968, с. 110].
Особую позицию по этой проблеме занял в последней своей книге Ф. Шахермейр [Schachermeyr, 1986, с. 299 и сл.]. Приравнивая Вилусию к Илиону и Труису — к Троаде, а также помещая Арцаву в Лидии, он тем не менее, как и Кречмер, отделяет Вилусию-Илион от Вилусы царя Алаксандуса, предпочитая искать последнюю где-то поближе к Арцаве, например в Карии, и даже допускает ее тождество с Самилией, о которой пишет Стефан Византийский.
Такое толкование легенды, донесенной Стефаном Византийским, не кажется правомерным уже потому, что Александр-Парис в ней появляется не как герой из Самилии, но в качестве гостя ее основателя Мотила (Муватталиса). Вообще, в работе сторонника «западной» Арцавы, каким является Шахермейр, идея вторичной контаминации вилусского Алаксандуса с Александром из греческого эпоса не кажется логически необходимым моментом. Тем не менее одним из авторов данной книги [Цымбурский, 1987а, с. 7] было отмечено обстоятельство, которое могло бы послужить доводом в поддержку попытки Шахермейра искать Вилусу немного южнее троянского ареала: дело в том, что в «Путеводителе» («Синэкдеме») ранневизантийского географа Гиероклита (Hieroc. 667) к юго-востоку от Мисии, где-то в лидийско-фригийском пограничье упоминается город Ἴλουζα. Об этом городе неоднократно говорится в церковных документах того же времени [Zgusta, 1984, с. 197 с лит-рой]. Позднее появление свидетельств о нем не должно быть основанием для того, чтобы игнорировать возможность происхождения этого топонима от праформы *Wilusa, идентичной названию известной хеттам Вилусы. Попутно встает вопрос, не может ли Илуза быть той «южной» Вилусой, которую искал Шахермейр? Для решения проблем, связанных с локализацией и историей Вилусы, необходим детальный анализ всех свидетельств об этом городе, сохранившихся в хеттских архивах. Он позволит нам достаточно определенно восстановить историческую судьбу Вилусы со второй половины XIV в. по вторую половину XIII в. до н. э. и ответить на поставленные вопросы.
2
Предварительно надо заметить, что само соседство Вилусии и Труисы, как будто бы отдельных, самостоятельных государств в списке Тудхалияса IV, вызывает у некоторых специалистов, допускающих тождество Вилусы и Илиона, сомнения в возможности приравнять Труису к Трое, т. е. стране, подвластной Илиону [Дьяконов, 1968, с. 113]. Насколько такие сомнения могут быть оправданы?
Во-первых, само по себе отдельное упоминание следующих друг за другом «страны Вилусия» и «страны Труиса» еще не означает, будто перед нами и впрямь два независимых владения. В хеттских текстах мы постоянно сталкиваемся с таким явлением, когда две в древности различные области, затем слившиеся в одну страну и уже не воспринимающиеся по отдельности, тем не менее обозначаются как сочетание двух стран по схеме «страна X, страна Υ». Может быть, самый яркий пример такого рода — это одна из стран Арцавы Мира-Кувалия. Со времен Мурсилиса она представляет единое вассальное царство, управляемое в каждый конкретный момент общим правителем. Однако хетты, говоря об этой стране в своих дипломатических текстах и хрониках, неизменно записывают ее название KUR URUMira KUR URUKuwalija. Другой пример — это название Страны реки Сеха, рядом с которым очень часто, хотя и более факультативно, чем в случае с Мирой-Кувалией, отдельно указывается название входящей в эту страну и подчиненной ее царям области Апавия или Апа(в)исса, так что в целом получается территориальное образование KUR IDŠeḫa KUR URUApawija (примеры см. [Friedrich, 1930, с. 10, 12,16]).
Эти примеры подсказывают предположение, что единожды упоминаемая рядом с Вилусией и более неизвестная Труиса могла точно так же быть просто составной частью единого царства «Вилусия-Труиса».
Во-вторых, следует внимательнее присмотреться к соотношению терминов Троя и Илион в эпосе. Можем ли мы говорить о том, что уже древнейшие создатели первых песен о Троянском походе, далекие предшественники Гомера, знали один и тот же город под двумя названиями, Илион и Троя? Во всех словарях греческого языка указывается, что Троя — это название и города, и страны, тогда как Илион — название, относящееся только к городу, столице Троады. В подтверждение такого толкования можно бы сослаться на эпитеты Илиона в «Илиаде», однозначно «городские», — αίπύ, αίπεινή «высокий», εὐτείχης «имеющий высокие стены», ἠνεμόεσσα «овеваемый ветрами», ὀφρυόεσσα «крутой», на такие словосочетания, как «высокая башня Илиона» (VI,386) или «Илион, начиная с вершины» (XXII,411; XIII,772; XV,558), наглядно характеризующие Илион именно как город. А с другой стороны, вспомним эпитеты Трои, то ясно представляющие ее в виде страны, окружающей Илион, — εὐρείη «широкая», ἐρίβωλος, ἐριβώλαξ «с широкими пахотными пластами», — то двусмысленные, применимые и к стране, и к городу, например, εὐρυάγυια «с широкими улицами» или «с широкими дорогами», то, наконец, «городские», аналогичные определениям Илиона: εὔπυργος или εὐτείχης «с высокими башнями», «с высокими стенами». Спрашивается, что первично — Троя как обозначение прилегающей к Илиону страны или Троя как второе название города, осаждаемого ахейцами?
Для решения этого вопроса один из авторов данной книги предложил следующую методику [Цымбурский, 1987 г]. Если Троя и Илион — термины, относящиеся к одному и тому же объекту, например, равно обозначающие осаждаемый город, то аналогичные падежные формы от этих терминов должны употребляться в близких смысловых контекстах. Поэтому были проанализированы обобщенные классы контекстных значений, закрепленные за одинаковыми падежными формами обоих топонимов, при этом наречные формы на -δε и на -ϑεν, выполняющие функции, идентичные функциям винительного и родительного падежей с предлогами, были соответственно объединены с этими падежами. Каковы же оказались результаты? Чтобы не утомлять читателя статистикой, приведем здесь лишь итоги анализа.
Всего в «Илиаде» оба топонима вместе встречаются 161 раз. Обследование контекстных значений падежных форм позволило выделить следующие доминирующие значения, охватывающие более 150 случаев, т. е. свыше 93 % контекстов. Именительный падеж: «Троя погибнет, а погубят ахейцы»; «Илион был дорог богам»; «Илион стал ненавистен богам»; «Илион погибнет». Родительный падеж: «ахейцы вернутся из Трои» или «будут из нее изгнаны, не овладев городом»; «сражающиеся герои гибнут в преддверии Илиона». Дательный-местный падеж: «ахейцы погибнут» или «будут истлевать в Трое»; «те или иные герои являются лучшими в Трое или Илионе». Винительный падеж: «ахейцы плывут из Греции в Трою или Илион»; «Парис из Греции привозит Елену в Трою»; «троянцы и их союзники приходят, приносят тела убитых, скрываются с поля боя и т. д. в Илион»; «греки захватят (разграбят, воюют за) Трою либо Илион». В самом по себе выделении подобных контекстов как наиболее представительных нет ничего необычного, думается, такой результат мог бы предугадать любой внимательный читатель «Илиады».
Традиционная словарная трактовка, подкрепляемая распределением эпитетов: Илион — город, а Троя — вместе и город и страна, хорошо объясняет такой узус, когда греки после безуспешной войны могут быть изгнаны или уйти добровольно только «из Трои», но не «из Илиона» (однако покоривший город Геракл вполне в состоянии «плыть из Илиона» — Il. XIV.251). Точно так же понятно, почему невозможно сказать, что греки гибнут или будут тлеть в Илионе, или почему недопустимо высказывание типа «греки разрушают города в Илионе», хотя, согласно Il. IX,328 и сл., Ахилл разграбил 11 городов в Трое. Нетривиальным оказался другой результат, которого вовсе не предусматривало словарное определение, а именно полное отсутствие у Гомера таких контекстов, где бы троянцы или их союзники из соседних городов приходили, вносили тела, отступали, скрывались и т. д. «в Трою» или, скажем, гибли «перед воротами Трои»: в этих случаях неизменно стоит название Илиона. На уровне клишированных семантических контекстов вырисовывается следующая ситуация: греки пребывают в Трое и, погибнув, остаются в ней навсегда; они бьются сразу и «за Илион», который для них пока недоступен, и «за Трою», где они уже находятся; осажденные же, пребывая под защитой крепостных стен, сидят «в Илионе», об их же пребывании «в Трое» ничего не говорится, поскольку это считается само собой разумеющимся. Итак, Троя клишированных текстов — только страна, а Илион — только город!
Этот вывод находит оригинальное подтверждение при сопоставлении встречаемости обоих названий в «Илиаде» и «Одиссее». Если в «Илиаде» термин Илион встречается 107 раз, а Троя — 54 раза, то в «Одиссее» 19 раз упоминается Илион и 36 раз Троя. Итак, для термина Илион численность падает в 5,6 раза, тогда как для термина Троя — всего лишь в 1,5 раза. За счет чего это происходит, нам позволит понять все та же группировка контекстных значений по падежам. Оказывается, что важнейшие содержательные структуры, связанные с термином Троя, таковы: «возвращаться из Трои», «плыть в Трою», «гибнуть или сражаться в Трое», сохраняются и в «Одиссее». Правда, в связи с общей проблематикой этой поэмы, посвященной эпохе скитаний греков после разрушения «священного» города, значительно возрастает число контекстов типа «возвращаться из Трои». Между тем важнейшая смысловая позиция, занимаемая в «Илиаде» термином Илион (свыше трети случаев его упоминания), — обозначение конкретного места, где находятся или куда приходят, вбегают и т. п. те или иные герои, — в «Одиссее» практически элиминирована за ненадобностью. Если рассматривать совокупность смысловых связей — в них вступает каждый из рассматриваемых терминов — как семантическое поле термина, то исчезновение необходимости в различении города и страны в контексте «Одиссеи», а также отсутствие пассажей, посвященных именно истории города, который сперва был мил богам, а потом стал им ненавистен, совершенно разрушают поле понятия Илион. В него теперь входят в основном контексты типа «плыть в Илион» (15 раз). Кстати, среди иных единичных употреблений этого термина теперь становится возможной применительно к грекам конструкция «плыть из Илиона» в смысле «после его взятия и разрушения» (Od. IX.39). Таким образом, «мир» термина Илион становится как бы «дефектным», совпадающим с частью «мира» термина Троя. Отсюда ясно, что ядро, основу семантического поля Илиона в «Илиаде» составляли два вида контекстов: очень распространенные контексты, описывающие движение к Илиону из соседних близлежащих точек Трои (типа «войти, вбежать, втянуть кого-либо в Илион» и т. п.), и несколько контекстов, посвященных мифической истории города, построенного Лаомедонтом. Еще раз подтверждается сделанный вывод: в стандартных, стереотипных смысловых контекстах Троя — это страна, а Илион — город.
Как же происходит смешение этих понятий? Оно оказывается возможным в силу трех факторов. Первый и самый важный из них — это взаимозаменяемость этих терминов, их свободное варьирование по смыслу в таких исключительно частотных контекстах, как «захватить Трою/Илион», «биться за Трою/Илион», «плыть в Трою/ Илион», «родиться в Трое/Илионе». Второй фактор — это возможность метонимического переноса типа «город с высокими крепостными стенами» > «страна с высокими крепостями, стенами, башнями», благодаря чему на Трою распространяются «городские» эпитеты εὐτείχης, εὔπυργος. Сочетания типа «захватить высокобашенный Илион» и «захватить высокобашенную Трою» оказываются дублетами. Наконец, третий фактор — это парономасия, позволяющая истолковать Τροίη πόλις «троянский город» (Il. I,129), вариант при более обычном Τρώων πόλις «город троянцев» (Il. IV,4; VIII,52 и др.), в смысле «город Троя». Однако достоверно в «Илиаде» Троя в смысле «город Илион» прослеживается лишь в одной-единственной, дважды повторенной фразе «здесь бы и взяли высоковратную (ὑψίπυλον) Трою сыны ахейцев» (XVI,698; XXI,544). Эпитет «высоковратный» применим только к городу, но не к стране. Примечательно, однако, что эта фраза в «Илиаде» неразрывно связана с ключевыми, маркированными звеньями гомеровского индивидуально-авторского сюжета, эпизодами выходов на бой Патрокла и Ахилла, т. е., скорее всего, принадлежит к собственно гомеровскому уровню оформления повествования. Поэт уже отождествляет Трою с городом, но это понимание появляется лишь там, где он сочиняет собственные формулы для лучшего воплощения своего сюжета. Патрокл и Ахилл вот-вот возьмут город — но это «вот-вот» не осуществится при их жизни. Когда же поэт в проходных контекстах пользуется стереотипными, клишированными лексико-семантическими блоками, доставшимися от предшественников, Троя всегда страна, а город — Илион. Следующий этап этой эволюции мы находим в «Одиссее», где Гомер уже вводит конструкции «приходить/вести войско под Трою», т. е. под стены города (Od. IV,146; XIV,469). Весь этот материал представляет поучительнейшую для гомероведа картину борьбы поэтической авторской речи эпика с используемым им формульным языком, диктующим иную трактовку термина.
Мы не касались до сих пор одного очень странного контекста в «Илиаде» (I,71), где о Калханте вдруг говорится, что он привел свою дружину «в Илион» (Ἴλιον εἴσω), с послелогом, означающим продвижение внутрь какого-то пространства. Получается, что во время войны Калхант уже находился в Илионе! Непонятно, создал ли поэт данное словосочетание по неправомерной аналогии с синонимией иных конструкций, передающих значение «плыть в Трою/Илион», или же здесь перед нами редчайший архаизм — использование названия Илиона не только для города, но и для всей страны, в которую входила частью Троя (так и хетты писали KUR URU U̯iluša «страна города Вилуса»).
Сопоставление свидетельств гомеровского языка с узусом составителей хеттских документов позволяет вполне определенно сказать, что изначально Троя в восприятии греков была областью, прилегающей к Илиону, но также и Труиса вполне могла быть, исконной частью царства Вилусы/Вилусии. В этом отношении наши источники отнюдь не противоречат друг другу. Рассмотрим теперь вопрос об отождествимости Вилусы с Илионом на более широком фоне малоазийской политической истории XIV–XIII в. до н. э. Сопоставимо ли то, что мы узнаем о Вилусе, с легендами Троады и ее археологией?
3
Договор Муватталиса с Алаксандусом, датируемый концом XIV в. до н. э., изданный И. Фридрихом [Friedrich, 1930], — самый ранний из дошедших документов, упоминающих о Вилусе. Из этого текста перед нами возникает в общих чертах история взаимоотношений Хеттского царства с Вилусой на протяжении достаточно длительного времени. В § 1 отмечается, что уже Лабарна, полулегендарный хеттский царь XVII в. до н. э., подчинил себе все страны Арцавы и Вилусу. После этого Арцава прониклась к хеттам враждой, Вилуса же еще в древности, неизвестно при котором из хеттских царей обособилась от страны Хатти. Но даже обособившись, она оставалась с хеттами в мире и постоянно присылала к ним посольства [Friedrich, 1930, с. 50 и сл.] (ср. [Güterbock, 1986, с. 36]). Поэтому предок Муватталиса Тудхалияс II или III в своих войнах против Арцавы никогда не посягал на Вилусу. В § 3 указывается, что при деде Муватталиса Суппилулиумасе I (1380–1340 г. до н. э., по той же хронологии) уже находился на престоле отец Алаксандуса Кукуннис, продолжавший ту же традицию дружественных отношений с хеттами. Более того, согласно § 4 во время победоносного похода Мурсилиса против Арцавы Кукуннис оказал ему какую-то помощь (как мы помним по предыдущей главе, в это время и Аххиява также могла поддерживать хеттов против Арцавы, властвовавшей над значительной частью анатолийского побережья).
С очень плохо сохранившимся § 5 связана одна смелая гипотеза первого издателя И. Фридриха, имеющая, как увидим ниже, прямое отношение к сближению Алаксандуса с Александром-Парисом. Слова, сохранившиеся от стк. 35–36, — (35) A. NA Ku-ụk̤ […] (36) e-eš-ta n[a-aš…] «У Кук[унниса…]… было, вот он[…]» — напомнили Фридриху аналогичное расположение тех же слов в строках договора Мурсилиса с правителем страны Миры-Кувалии Купанта-Инарасом, приемным сыном прежнего царя Масхуилуваса. На основании этого сходства Фридрих реконструировал следующее чтение: (35) A. NA IKu-ụk̤-[ku-un-ni-ma ku-it IBILA NU. GAL] (36) e-eš-ta n[a-aš-ta-tu-uk IA-la-ak-ša-an-du-un DUMU-an-ni da-a-aš] — «(35) У Кук[унниса поскольку наследника не] (36) было, вот он [тебя, Алаксандус, усыновил]». Данная конъектура подкрепляется и другими контекстами. В § 6, стк. 63 Муватталис отмечает, что «человечество», т. е. вилусское население, «ропщет» (an-tuḫ-ša-tar-ra ku-it a-ra-an-ta-li-i̯a-a[n-zi]) против Алаксандуса. В стк. 67 предусматривалось такое стечение обстоятельств, когда после смерти Алаксандуса страна не примет оставленного им наследника, причем не вполне ясную из-за повреждения текста мотивировку такого отказа Фридрих восстанавливает в виде: NUMUN-u̯a-ta-aš DU[MU LUGAL e-eš-du] «наследником, мол, сын [царя да будет!]». Иными словами, вилусцы не только враждебно относились к Алаксандусу, но и имели какое-то право отвергнуть его детей в качестве наследников — возможно, потому, что с их точки зрения существовали более законные претенденты на власть. Эта догадка подкрепляется и тем, что ниже, в стк. 79 и сл., упоминается вероятность возмущения против Алаксандуса со стороны его брата или кого-то другого из членов царского рода. Не были ли эти «братья» и «сородичи» с их потомством именно теми «царскими детьми», которых Вилуса имела право предпочесть Алаксандусу, получившему власть от Кукунниса, возможно, в обход этих полноправных наследников? Во всяком случае, Муватталис обещал охранять Алаксандуса и его детей от посягательств со стороны этих людей в ответ на встречную преданность вилусского правителя Царю-Солнцу и его роду.
Гипотезу Фридриха об усыновлении Алаксандуса принимают Дж. Гарстанг, О. Герни, Ф. Шахермейр, И. М. Дьяконов [Garstang, Garney, 1959, с. 101; Schachermeyr, 1986, с. 294 и сл.; Дьяконов, 1968, с. 111], но весьма скептически расценивает А. Хайнхольд-Крамер, впрочем, признающая, что Алаксандус должен был по каким-то причинам чувствовать себя на престоле очень неуверенно [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 159, 161]. Вилусу явно раздирали на рубеже XIV–XIII вв. внутренние смуты, и это стало одним из важнейших стимулов для обращения Алаксандуса за помощью к хеттскому властителю. Надо сказать, что хеттские цари в своих договорах с вассальными и зависимыми правителями вообще очень любят подчеркивать слабость своих контрагентов, ущербность тех в каком-либо отношении: физическую болезненность, преступления их родителей, враждебность к ним со стороны их народа и сородичей, чтобы этим еще внушительнее акцентировать зависимость их благополучия от доброй воли и милости правителей Хаттусаса [Ардзинба, 1987, с. 105 и сл.]. По-видимому, нечто в этом роде действительно должно было содержаться в § 5 договора с Алаксандусом.
От § 6, где обрисовывалось установление отношений между двумя царями, также дошло очень мало. Начало параграфа отсутствует в издании Фридриха, но частично сохранилось в опубликованных Г. Оттеном фрагментах копии с договора, снятой еще в начале века его первооткрывателем Г. Винклером [Otten, 1957, с. 27 и сл.]. По этим фрагментам, после смерти Мурсилиса началась некая война и кто-то призвал Муватталиса на помощь. Во время похода хеттский царь разгромил страну Маса и еще каких-то противников на западе Анатолии. Хайнхольд-Крамер думает, что именно в это время Муватталис оказал Алаксандусу какую-то помощь; ибо ниже, в ст. 69 и сл., говорится, что Муватталис, согласно воле Кукунниса, защитил Алаксандуса, умертвив его врага. Правда, при этом неясно, идет ли речь о внешнем враге, например из той же страны Маса, вторгшемся на земли, подвластные Алаксандусу, либо о внутреннем раздоре в Вилусе, о борьбе Алаксандуса с его соперниками, в которую счел возможным и желательным вмешаться хеттский царь во время своей западноанатолийской экспедиции [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 160].
Твердо обещая вилусскому правителю оберегать вечно его самого и его наследников от недругов в Вилусе, Муватталис далее (§ 11 и сл.) налагает на него, по существу, вассальные обязанности. Алаксандус отныне должен доносить ему о всяком мятеже, который мог бы возникнуть против власти хеттского царя в зависимых владениях, созданных Мурсилисом после разгрома царства Арцавы, в частности в Стране реки Сеха. В случае предполагаемой войны хеттов с самостоятельными малыми царствами на западе Анатолии (Каркисой, Масой, Луккой и некоей страной Варсияла) Алаксандус должен по призыву Муватталиса лично идти к нему на помощь с пешим войском и конницей; напротив, в случае войны с Египтом, Вавилоном, Миттани и Ашшуром Алаксандус только обязывался послать вспомогательное войско, о личном же его прибытии речь не шла (§ 17). Эти свидетельства позволили Хайнхольд-Крамер сделать важные заключения относительно географической локализации Вилусы.
Тот факт, что Вилуса длительное время сопротивлялась влиянию Арцавы и в отличие от Страны реки Сеха не дала себя втянуть в антихеттскую коалицию, говорит о достаточной удаленности от собственно арцавских рубежей. Скорее всего, она была отделена от Арцавы Страной реки Сеха. В своих походах хеттские цари ни разу не были вынуждены пересекать территорию Вилусы: это выдает ее обособленное положение в стороне от маршрутов, ведущих из Центральной Анатолии в сторону Арцавы. Наконец, возможность для царя Вилусы без ущерба для своего царства лично принимать участие в походах на Лукку и Каркису и отсутствие такой возможности, когда дело касалось походов через анатолийский юг в сторону Сирии, вносит последний штрих, убеждая в том, что Вилуса должна была лежать на западе полуострова, к северу или северо-западу от комплекса «стран Арцавы» [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 158, 167].
Долгое время Вилуса вообще стояла особняком, не смешиваясь с этими странами. Но в результате помощи, оказанной хеттским царем Алаксандусу, статус страны менялся, о чем возвещал § 17 договора. Здесь указывалось, что в «странах Арцавы» отныне правят четыре царя, которые должны быть в дружественных отношениях между собой: это сам Алаксандус, Kupanta-DKAL, т. е., согласно обычному чтению идеограммы, Купанта-Инарас, некий Manpa-DKAL и Урахаддусас. Этот список легко сравнить со списком вассалов, посаженных Мурсилисом 25 годами ранее в «странах Арцавы». В ту пору, как мы помним, этих стран было три: Мира-Кувалия, Хапалла и Страна реки Сеха. В Мире-Кувалии правил Масхуилувас, чьим преемником стал Купанта-Инарас. Урахаддусас в литературе обычно рассматривается как преемник Таргасналиса из Хапаллы [Garstang, Gurney, 1959, с. 98; Heinhold-Krahmer, 1977, с. 153]. Что же касается имени царя Manpa-DKAL, которое восстанавливается по копии Г. Винклера [Otten, 1957, с. 29] (в издании Фридриха ясно читается лишь элемент DKAL), то Хайнхольд-Крамер с полным основанием видит здесь ошибочное (вероятно, под влиянием идущего следом Kupanta-DKAL) написание имени царя Страны реки Сеха Manapa-DU, т. е. Манапа-Даттаса [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 156]. Этот человек, союзник сокрушенной Мурсилисом Арцавы, получил тем не менее в свое время от Мурсилиса прощение [Ардзинба, 1987, с. 106 и сл.; Goetze, 1933, с. 68 и сл.]. Как мы увидим ниже, в начале правления Муватталиса Манапа-Даттас еще владел своей страной, и потому толкование Хайнхольд-Крамер, ставящей его в один ряд с Алаксандусом, очень правдоподобно. Следовательно, число 4 («четыре царя») в договоре получилось простым присоединением Вилусы к «княжествам», существовавшим при Мурсилисе. Войдя в эту коалицию, Алаксандус принимал на себя вассальные обязательства, в частности признал старшинство и особые привилегии Купанта-Инараса, происходившего по материнской линии из рода хеттских царей.
4
Итак, самое раннее развернутое сообщение о Вилусе в дошедших до нас хеттских документах связано с серьезным военным и дипломатическим успехом Хеттского царства в его борьбе за власть над Западной Анатолией. В годы войн с Арцавой Вилуса не особенно интересовала хеттских царей, вполне довольствовавшихся благожелательным к ним нейтралитетом со стороны этого достаточно удаленного от театра военных действий государства. Точно так же судеб Вилусы не затронула последовавшая за крушением Арцавы перекройка Мурсилисом политической карты покоренных областей. В результате происшедших перемен на территориях Арцавы возникли подчиненные хеттам вассальные царства Хапалла, Мира-Кувалия и Страна реки Сеха, созданные в качестве регионального противовеса сохраняющим относительную независимость Лукке, Каркисе и Масе. Вилуса все еще оставалась в стороне.
При Муватталисе картина меняется. Некая война на западе Анатолии и призывы к молодому царю о помощи, по-видимому, со стороны кого-то из местных династов становятся поводом для похода, во время которого он не только нанес удар по стране Маса, но и прямо вмешался во внутренние дела Вилусы. Формой вмешательства стала поддержка Алаксандуса, которого многие вилусцы явно не считали законным претендентом на власть в городе. Учитывая сообщение Стефана Византийского, рассмотренное выше, допустимо думать, что во время похода Муватталисом была основана на территории будущей Карии крепость Самилия, где он и принимал прибегнувшего к его покровительству Алаксандуса. Примеры основания хеттскими царями в их походах подобных крепостей хорошо известны. Так, в договоре Мурсилиса с Купанта-Инарасом из Миры-Кувалии в качестве одной из границ этого вассального владения указан «лагерь Тудхалияса» [Ардзинба, 1987, с. 125], очевидно воевавшего в этих местах Тудхалияса II или III.
Какие политические последствия могло иметь провозглашение Вилусы четвертой из «стран Арцавы»? Если исходить из локализации «малой» Арцавы в Лидии и соответственно помещать Вилусу на северо-западе полуострова, легко видеть, что присоединение ее к числу этих территорий означало создание прохеттской зоны на эгейском побережье от Геллеспонта до Меандра, управляемой местными царьками. Последние должны были блюсти интересы хеттского царя против еще возможных поползновений со стороны правителей Лукки, Каркисы и Масы и одновременно зорко следить друг за другом. Такова была явная задача, открыто поставленная перед владетелями «большой» Арцавы их хеттским сюзереном. Ее осуществление должно было способствовать «хеттизации» всей Эгейской Анатолии, включая «самостоятельные» мелкие царства, чей статус исподволь начинал реально сближаться со статусом великоарцавских вассалов Хаттусаса.
Но договор с Вилусой, как проницательно подметила Хайнхольд-Крамер, мог преследовать и еще одну, не прокламируемую слишком явно цель, на которую способно указывать довольно темное место в § 17, кол. 52 и сл. В этих строках Алаксандус обязуется биться с врагом, который попробовал бы вторгнуться во владения хеттского царя через земли Вилусы. Муватталис в договоре явно стремится предотвратить возможность такого развития событий, когда при появлении этого неведомого врага Алаксандус предоставит хеттам сражаться, а сам пожелает остаться в стороне [Friedrich, 1930, с. 74 и сл.]. Исследовательница, хотя и придерживающаяся «южной» локализации Арцавы, однако по праву помещающая Вилусу на северо-западе всей этой группы государств, совершенно справедливо ставит вопрос: что же это за враг, который мог бы попытаться проникнуть во внутреннюю Анатолию через Вилусу, неизменно оказывавшуюся в отдалении от всех предыдущих малоазийских конфликтов? Но еще острее встает та же проблема для нас при помещении Вилусы на северо-западной оконечности всего полуострова. Хайнхольд-Крамер высказывает подозрение, что такой враг мог находиться на западе, за пределами Азии. Иными словами, хотя название Аххиявы и не упоминается в договоре (как думает исследовательница — из тактических соображений), но в реальной обстановке конца XIV в. до н. э. договор, заключенный Алаксандусом, неизбежно ориентировал Вилусу не только против «независимых» царств на юге, но и против анатолийских притязаний Аххиявы [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 177]. Ниже мы убедимся, что в 1980-е годы работы Г. Гютербока и Ф. Шахермейра принесли серьезные подтверждения этой догадки.
На первых порах «хеттизация» Западной Анатолии при Муватталисе шла весьма успешно. Практически все известные для этой эпохи местные государства присоединились к хеттскому царю в развернутой им на территории Сирии большой войне против Египта. Текст Рамсеса II, посвященный решительному сражению при Кадеше, неоднократно перечисляя отряды, находившиеся в составе войска Муватталиса, упоминает среди них дружины из всех трех постоянно бывших у хеттов на подозрении «самостоятельных» западноанатолийских царств Qa-ra-qi-ša, Μα-šα и Lú-kú (транслитерация по [Helck, 1971, с. 195 и сл.]). Примечательно, что египтяне не считают нужным указывать по отдельности отряды царьков из Хапаллы, Миры-Кувалии и Страны реки Сеха, объединяя их под общим названием A-rú-s̀á-wi, соответствующим хет. Arzawija и отражающим этнокультурное и историческое единство области, разбитой на вассальные уделы после победы Мурсилиса.
Поразительным фактом является постоянное упоминание в этих перечнях народа Drdnj (по Хельку — Dar-d-an-ja), который в пределах Малой Азии отождествляется только с дарданийцами (Δαρδάνιοι), обитавшими в северной части Троады в окрестностях древнего города Δάρδανος или Δαρδανία. Неожиданное появление в числе хеттских союзников народа, ни разу не упоминаемого в хеттских исторических и дипломатических текстах, но несомненно происходящего с северо-запада полуострова и проживающего, согласно «Илиаде», во владениях царей Илиона, дает сильный довод в пользу отождествления Вилусы с Илионом. Оно отчетливо свидетельствует о том, что влияние Хеттского царства при Муватталисе в самом деле охватило Трою. Синхронизм двух обстоятельств — первого упоминания Вилусы в хеттских документах и первой и единственной фиксации троянского племени в «хеттском» контексте — едва ли может быть случайным. Скорее пункт из договора, обязующий Алаксандуса предоставить Муватталису вспомогательное войско в случае войны с Египтом, должен прямо рассматриваться как причина участия дарданийцев в сирийском походе этого хеттского царя [Garstang, Gurney, 1959, с. 105]. Интересно, что в одном случае египетская надпись включает в список хеттских союзников также название народа или государства '()lśa, которое, по Хельку, может быть сопоставлено с хет. Uiluša, вариант Uluša [Helck, 1971, с. 196]. Похоже, Алаксандус двинул на помощь хеттскому царю большое число воинов из подвластной ему Дардании и эти люди легко попадали на глаза египтянам, тогда как уроженцы Илиона если и участвовали в походе, то в крайне незначительном числе и особой роли в битве не играли. Причем ни дарданийцы, ни единожды упомянутые улса (?) не объединяются составителями надписи с войском Арцавы, но выступают обособленно, подобно Лукке, Каркисе или Масе.
5
Достигнутая при Муватталисе гегемония хеттов над западом Малой Азии оказалась недолговечной отчасти и потому, что в последующие годы этот царь был занят сирийскими делами и даже попытался создать новую столицу на юге. «Письмо о Тавакалавасе», помимо прочего, наглядно свидетельствует о том, чем закончилась попытка распространить суверенитет хеттов на Вилусу. Мы видели, что в этом письме царь хеттов просил царя Аххиявы открыто подтвердить отсутствие вражды и спорных вопросов в отношениях между его страной и Хеттским царством. Он вкладывал в уста адресата следующее предполагаемое заявление: (7)… LUGAL KUR ḫa-at-ti-u̯a-an-na-ạš-kán ú-ug (8) ku-e-da-ni A. NA [INI]M? URUu̯i?-l[u]?-[š]a? še-ir ku-ru-ur (9) e!-šu-u-en nụ-u̯a̤-[m]u ạ-p[i]-e?-[d]a̤-ni? ỊNIM-ni la-ak?-nu-ut? (10) nu-u̯a ták-šu-la̤-ụ-e̤n? — «(7) Мы, царь страны Хатти и я, (8) из-за этой страны Вилуса во вражде (9) были мы, — так, мол, и он меня в отношении ее умиротворил (10) и мы, дескать, заключили договор» [Sommer, 1932, с. 16]. Принимая чтение Viluša для названия города, по поводу которого между двумя царями возникла распря, Ф. Зоммер, однако, усиленно подчеркивал проблематичность этого чтения якобы из-за очень плохой сохранности оригинала. Но в 1984 г. Г. Гютербок после детального обследования текста заявил, что это чтение никаким сомнениям не подлежит: первый и последний знаки, согласно Гютербоку, читаются очень хорошо, средний знак, правда, испорчен, но то, что от него уцелело, может быть отождествлено только с частями знака для lu (письмо к Ф. Шахермейру, см. [Schachermeyr, 1986, с. 246; Güterbock, 1986, с. 37]).
Вывод Гютербока заставляет говорить о войне хеттов с Аххиявой из-за Вилусы как об историческом факте. Из «Письма о Тавакалавасе» явствует, что эта война не принесла хеттскому царю успеха. Он был вынужден согласиться с требованиями царя Аххиявы, и договор был подписан на условиях, которыми противник мог признать себя полностью удовлетворенным. Иначе вряд ли автор письма стал бы просить у своего контрагента, дабы тот во всеуслышание заявил об исчезновении у него после этой войны каких бы то ни было притязаний к стране Хатти. Неоднократно отмечавшийся хеттологами очень мягкий, увещевающий тон «Письма о Тавакалавасе» может объясняться именно тем, что его пишет относительно недавно побежденный в локальном конфликте своему победителю, стараясь извлечь максимальную выгоду из своего проигрыша, из мира, достигнутого ценою уступки. Таким образом, в конце XIV — начале XIII в. до н. э. войска хеттов два раза участвовали в войнах, касавшихся Вилусы. Один такой случай — это поход Муватталиса против Масы, сопровождавшийся возведением на престол Алаксандуса и включением до тех пор независимой Вилусы в один ряд со странами «большой» Арцавы. Второй случай — неудачная война с Аххиявой за Вилусу, кончающаяся признанием прав царя Аххиявы в этом городе. В данном контексте надлежит рассматривать еще один документ, к сожалению, в интересующем нас месте сильно испорченный. Это письмо в KUB XIX,5 уже известного нам царя Страны реки Сеха Манапа-Даттаса к одному из хеттских царей, чье имя, так же как в случае с «Письмом о Тавакалавасе», не сохранилось в уцелевшей части текста [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 173 и сл.].
В последующем анализе мы должны учесть следующие хронологические моменты. Манапа-Даттас, получивший власть в первые годы правления Мурсилиса (середина 1340-х годов до н. э.), ко времени подчинения хеттам Вилусы правил уже свыше 30-ти лет и был в весьма зрелых летах. В позднейшем договоре Тудхалияса IV с Шаушкамувасом из Амурру (KUB XXIII, 1,II.17 и сл.) упоминалось о том, что Муватталис в свое царствование отдал свою сестру DINGIRMEŠ-IR в жены Мастурису, преемнику и, вероятно, сыну Манапа-Даттаса, объявив его царем в Стране реки Сеха. Отсюда следует, что Манапа-Даттас скончался при жизни Муватталиса и соответственно события, о которых говорится в его письме, могли произойти либо при Мурсилисе, либо уже в начале царствования его старшего сына. С другой стороны, содержащееся в стк. 6–7 письма упоминание о притеснении Манапа-Даттаса известными из «Письма о Тавакалавасе» Пиямарадусом и Атпасом и о нападении первого из них на Лацпу-Лесбос заставляет отнести оба документа к одной эпохе и предполагать некую связь между отраженными в них событиями [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 227 и сл.; Heinhold-Krahmer, 1983, с. 87 и сл.].
Для нашего исследования имеют исключительное значение уцелевшие фрагменты строк 3–4, где царь Страны реки Сеха уведомляет сюзерена: (3) […]ú-it ERIN MEŠKUR Ḫat-ti-i̯a ú-u̯a-te-it (4) […]-an EGIR-pa KUR Ui-lu-ša GUL-u-na-an-zi pa-a-ir — «(3)… пришел и войско страны Хатти привел, (4)… назад (или «опять» или «вслед за кем-то») в страну Вилуса биться пошли». Речь явно идет о появлении у хеттов в этом регионе какого-то врага, о прибытии хеттского военачальника с войском и о боевых действиях, охвативших страну Вилуса. Поскольку из договора Муватталиса с Алаксандусом явствует, что до этого царствования правители Хаттусаса не вторгались в Вилусу, приходится заключить: письмо написано при Муватталисе. Причем, если принимать временное значение EGIR-pa (= appa), письмо содержит указание на то, что война с участием хеттов уже, не в первый раз охватила землю Вилусы. Надо думать, Манапа-Даттас пишет обо всем этом, не просто стремясь информировать хеттского Царя-Солнце, который и так должен был получать сведения о ходе войны от своего полководца, но, вероятно, движимый личным беспокойством о судьбе Страны реки Сеха. Эта страна, включавшая долину Каика, оказывалась в непосредственной близости к местам, охваченным войной. Поэтому ничто не противоречит отождествлению последних с Троадой. Хронологическая близость письма Манапа-Даттаса и «Письма о Тавакалавасе» наталкивает на мысль, что первое письмо может быть ценнейшим непосредственным свидетельством, отразившим начальную фазу упомянутой во втором письме войны двух великих держав из-за Вилусы [Heinhold-Krahmer, 1983, с. 87 и сл.]. Есть все основания думать, что эта проигранная хеттами война имела место никак не раньше, но позже договора с Алаксандусом, включившего Вилусу в число «стран Арцавы». Если бы дело обстояло иначе, то этот договор должен был представлять пересмотр итогов неудачной войны, в свое время закрепивших позиции Аххиявы в Вилусе, и поэтому немыслимо, чтобы в тексте ни разу не упоминалось ни об этих событиях, ни об отношениях города Алаксандуса к Аххияве.
Война из-за Вилусы явно разразилась уже после принятия этого города под протекторат хеттского царя. Но тогда по условиям договора, удовлетворившим, судя по «Письму о Тавакалавасе», царя Аххиявы, этот протекторат должен был быть в значительной степени, если не полностью, ликвидирован. На таком понимании происходившего решительно и очень убедительно настаивает в своей последней монографии Ф. Шахермейр [Schachermeyr, 1986, с. 295 и сл.]. По его мнению, эта война вполне могла возникнуть именно из-за действий Муватталиса, посягнувшего на древние, закрепленные обычаем связи Вилусы, находившейся в прибрежной области Западной Анатолии, с Аххиявой — т. е. греками-ахейцами. Вмешиваясь в дела Вилусы, сажая здесь царем своего ставленника и пытаясь присоединить этот город к «большой» Арцаве, Муватталис нарушил исторически сложившийся статус города. По существу, Шахермейр оказывается очень близок к гипотезе Хайнхольд-Крамер, считающей, будто хеттский царь попытался без лишних деклараций повернуть Вилусу против Аххиявы (с которой до того времени, в царствование Мурсилиса, у хеттов были весьма неплохие отношения). «Согласие» хеттского царя с требованиями Аххиявы в «вилусском вопросе» не могло означать ничего иного, кроме восстановления того положения вещей, которое существовало до договора с Алаксандусом. Едва ли этот исходный статус-кво, как думает Шахермейр, заключался в двойном подчинении Вилусы, подобно Милаванде, одновременно Хеттскому царству и Аххияве. Если не говорить о полулегендарном походе Лабарны на этот город, то для эпохи Хеттской империи у нас нет никаких оснований предполагать включение Вилусы в область влияния хеттских царей ранее правления Муватталиса (1315–1296 гг. до н. э.). От Тудхалияса III до Мурсилиса эти владыки вполне довольствовались тем, что Вилуса стояла в стороне от замыслов Арцавы. Скорее Вилуса должна рассматриваться как город, издревле пребывавший в особо тесной близости с Аххиявой. Поражение хеттского царя в войне означало отказ его от посягательств на исконные права Аххиявы по отношению к этому городу.
Каким же временем может датироваться эта война? Если полагать, что именно о ней, а не о первом военном вмешательстве хеттов в дела Вилусы говорится в письме Манапа-Даттаса, тогда эта война должна быть отнесена к первому периоду царствования Муватталиса, до переноса им столицы на юг Анатолии, в Даттасу, где и остались архивы времен его борьбы с Египтом. Но маловероятно, чтобы отряды дарданцев — а может быть, и народа улса, если он впрямь тождествен вилусцам, — могли бы участвовать как вассалы в сирийском походе хеттского царя, после того как он отступился от прав, приобретенных им по договору с Алаксандусом. Приходится предполагать одно из двух: либо в письме Манапа-Даттаса речь идет еще не об этой войне и развернулась она не раньше последних трех-четырех лет жизни Муватталиса, прошедших между Кадешской битвой и его смертью, либо же борьба Аххиявы с хеттами растянулась на долгие годы, так что ко времени сражения Муватталиса с Рамсесом II исход ее еще не был решен и договор с Алаксандусом оставался в силе.
Вспомним, однако, как характеризует свой жизненный путь автор «Письма о Тавакалавасе». Он признает, что, еще будучи юношей (царевичем?), он нанес некие оскорбления царю Аххиявы, за которые тот мог держать на него зло. Однако, по словам автора письма, теперь, возмужав и будучи царем, он изменился и раскаивается в своих ошибках. Значит, перед нами немолодой человек, который в ранние годы, возможно еще не будучи царем, уже играл видную политическую роль и враждовал с царем Аххиявы. Однако по достижении зрелых лет он воспитал в себе наряду с миролюбием и настойчивостью в достижении своих целей средствами «дружеской дипломатии» склонность к рефлексии, определенную самокритичность. (Это совершенно не похоже на воинственного Муватталиса.) Хайнхольд-Крамер и Шахермейр справедливо признают близость духовного облика автора «Письма о Тавакалавасе» к тому, что мы знаем о царе-дипломате и миролюбце Хаттусилисе III, свергнувшем своего притеснителя — племянника Мурсилиса III и в осознании сомнительности такого пути к престолу создавшем яркую самооправдательную «Автобиографию», замечательную по риторическому мастерству. Как известно, этот царь своей «дружеской дипломатией» сумел положить конец затяжной конфронтации хеттов и Египта в Леванте и обеспечить мир для всего этого региона, основанный на гармонизации интересов и взаимной поддержке двух великих держав. В том же русле лежит проступающее в «Письме о Тавакалавасе» стремление умиротворить Западную Анатолию на основе «сердечного союза» правителей Хеттской империи и Аххиявы. Но Шахермейр напоминает, что в годы сирийской войны Муватталиса, постоянно пребывавшего в своей южной столице Даттасе, именно его брат Хаттусилис управлял северными районами империи и соответственно вопросы, связанные с Вилусой и войной из-за нее, должны были в то время находиться в его ведении. Шахермейр полагает автором письма Хаттусилиса, события же прошлого, о которых тот пишет, войну из-за Вилусы и оскорбления, нанесенные им царю Аххиявы, датирует теми годами правления Муватталиса, когда делами на севере распоряжался его младший брат. Это весьма правдоподобно, но отсюда вытекало бы, что эта схватка великих держав за северо-запад Анатолии развернулась в полную силу после отбытия Муватталиса на юг. Письмо Манапа-Даттаса если и отразило эту борьбу, то разве что самое ее начало. Как долго она продолжалась, мы не знаем, и не исключено, что окончательно Хаттусилис склонился к согласию с Аххиявой по вилусскому вопросу, уже взойдя на престол. Сохранился документ времен его правления, KBO XVI,22, упоминающий о том, как во время их распри с Урхи-Тешубом последний попытался привлечь на свою сторону Аххияву, но получил отказ [Schachermeyr, 1986, с. 275]. Можно думать, что именно в благодарность царю Аххиявы за нейтралитет в этом деле Хаттусилис, всячески превознося того в «Письме о Тавакалавасе», пошел ему навстречу в затянувшемся хетто-ахейском споре, послужившем фоном для взбудоражившей Западную Анатолию авантюры Пиямарадуса. Последний все это время, т. е. около 20 лет, выступая против хеттов якобы на стороне Аххиявы, на самом деле явно вел игру в своих собственных интересах, возможно пытаясь создать независимое царство на протяжении от Милаванды до побережья Страны реки Сеха, противолежащего о-ву Лацпе-Лесбосу, и вероятно — включая также и этот остров. А тактика, которую использовал Пиямарадус, отдав своих дочерей замуж за Атпаса и Аваянаса из Милаванды, живо напоминает имевший место столетием ранее брак между Купанта-Инарасом из Арцавы и дочерью Маддуваттаса, открывший последнему путь к созданию «великой Арцавы».
Резюмируя, можно утверждать, что на рубеже XIV–XIII вв. до н. э. попытка хеттов навязать Вилусе свое господство, в своекорыстных целях поддержанная не уверенным в своей власти Алаксандусом, окончилась неудачей. Аххиява (т. е. Ахейская Греция) нанесла ответный удар и в результате борьбы на вилусской земле смогла восстановить и упрочить свое влияние в этом важном для нее городе.
В результате сопоставления всех этих данных перед нами по-новому определяется хронология и смысл уже рассматривавшегося текста KUB V,6, где речь идет о доставке в Хаттусас по случаю болезни царя богов Аххиявы и страны Лацпа и о прибытии одновременно человека по имени Ант(а)равас, совершающего вместе с хеттским царем молитвы этим богам. Как мы помним, в этом тексте в качестве жрицы выступает хеттская царевна DINGIR MEŠ-IR, или Массануцци, которую ее брат Муватталис выдавал замуж за Мастуриса из Страны реки Сеха. Между тем из одного хеттского фрагмента (KUB XXI,33) известно, что еще отец Массануцци Мурсилис назначил ее в невестки Манапа-Даттасу, предшественнику и, скорее всего, отцу Мастуриса. Из сравнения этих документов вытекает, что при Мурсилисе эта царевна, по всей вероятности, была еще ребенком и лишь в правление Муватталиса, достигнув брачного возраста, стада женой Мастуриса, с которым была помолвлена с детства [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 228 и сл.; Heinhold-Krahmer, 1983, с. 87 и сл.]. Но тогда, вопреки Зоммеру, текст, где Массануцци фигурирует как взрослая женщина и жрица, никак не может быть привязан к годам Мурсилиса! Видимо, правы Камменхубер и Шахермейр, отнеся KUB V,6 к царствованию Хаттусилиса III: из переписки этого царя с Рамсесом II известно, как он беспокоился из-за того, что Массануцци, дважды побывав замужем, не имела детей. Хаттусилис всячески пытался разузнать, не может ли чужеземная, египетская медицина помочь его сестре, которой было уже более 50 лет и которая после своего второго замужества вернулась в Хаттусас к брату (ср. [Ардзинба, 1987, с. 119 и сл.]). Именно этим временем — 1270-ми или 1260-ми годами — и надо датировать текст об Ант(а)равасе и богах Аххиявы и Лацпы в хеттской столице. А отсюда надо. заключить, что огромные старания, приложенные Хаттусилисом III к разрешению споров и установлению взаимопонимания с Аххиявой, свидетельством чему явилось «Письмо о Тавакалавасе», увенчались полным успехом: при этом царе отношения хеттов с Египтом, а с другой стороны — с властвующей на морях Аххиявой стали основой мира и порядка во всем Восточном Средиземноморье.
6
Можно ли наметить какие-то точки соприкосновения между реконструируемой по хеттским текстам историей Алаксандуса и античными преданиями о погубившем Илион Александре-Парисе? Некоторые ученые, принимающие блегеновское отождествление «Приамовой Трои» с археологической Троей VIIa, сомневаются в сопоставимости этих персонажей. Согласно И. М. Дьяконову, Александр-Парис, якобы живший в последние десятилетия существования «Приамовой Трои» (по Блегену — это середина XIII в. до н. э.), не может идентифицироваться с Алаксандусом, царствовавшим на рубеже XIV–XIII в. до н. э. Этот Алаксандус скорее мог бы быть отцом Приама, замещенным в легенде мифической фигурой грешного царя Лаомедонта [Дьяконов, 1968, с. 111]. Однако необходимо учитывать своеобразие тех законов, по которым развивается легенда. Например, Кукуннис-Кикн, исторический отец Алаксандуса, в легенде не только отделен от родословного древа царей Илиона, но из XIV в. перенесен прямо в годы Троянской войны и превращен в героя, выходящего на битву с войском Агамемнона. Еще в 1950 г. Ф. Шахермейр отметил, что память о землетрясении, сокрушившем Трою VI, претворилась в Троянском цикле в двух различных формах: во-первых, это образ чудовища Κῆτος, насылаемого на страну разгневанным на Илион колебателем земли Посейдоном; а во-вторых, это представление о громадном Троянском коне, священном животном Посейдона, вступающем в Илион через пролом в разрушаемой стене, — образ, лишь вторично эвгемеризированный и представленный как хитроумная выдумка ахейцев [Schachermeyr, 1950, с. 189 и сл.]. То обстоятельство, что оба этих мотива сцеплены с преданиями о двух различных нападениях ахейцев на Илион, под предводительством то Геракла, то Агамемнона, стало для Шахермейра основанием отрицать историческую реальность Троянской войны, точнее, видеть в этом сказании лишь удвоение более ранней легенды о походе Геракла, отражающей военные экспедиции царей Аххиявы в Анатолии около 1300 г. до н. э. Едва ли следует заходить так далеко. В конце концов, греческий эпос мог привнести в рассказ о событиях Троянской войны образы и сюжетные ходы из более раннего предания, как бы осмыслить более позднюю войну сквозь призму уже выработанных повествовательных схем. Однако разработки Шахермейра говорят против того, чтобы видеть в одном лишь хронологическом разрыве непреодолимое препятствие для сопоставления фигур Алаксандуса и Александра-Париса.
Гораздо важнее «биографии» этих персонажей, реального и вымышленного, те событийные схемы, в которые герои оказываются включены. Для Алаксандуса эта схема объединяет четыре мотива: 1) сомнительность прав на престол, если верить Фридриху — усыновление предшественником; 2) конфликт с более законными претендентами на власть в Вилусе — «братьями» Алаксандуса; 3) договор с Муватталисом, возникающий во время какой-то большой войны, затронувшей судьбу Вилусы; 4) спровоцированная этим договором война хеттов с Аххиявой, заканчивающаяся победой царя Аххиявы, сумевшего отстоять свои права в Вилусе.
Как же выглядит в легендах «биография» Александра-Париса? Об этом позволяет судить сюжет несохранившейся трагедии Еврипида «Александр», реконструируемый по пересказам у Аполлодора (Apd. III,12,5) и Гитина (Hyg. fab. 91), а также по найденному в Оксиринфе гипотесису (краткому предварительному изложению) этой трагедии [Jouan, 1966, с. 113 и сл.; Шопина, 1986]. Новорожденному Парису предсказана судьба губителя Илиона. По воле Приама младенца оставляют на склоне Иды, где его кормит медведица, а затем подбирает на воспитание пастух. Спустя 20 лет Приам учреждает игры в память умерщвленного младенца-сына. Случайно попавший на них Парис вступает в состязание и побеждает всех соперников, в том числе своих братьев. Разгневанный Деифоб пытается умертвить победителя-пастуха, спасающегося перед дворцом на алтаре Зевса. Явившаяся пророчица Кассандра признает в пастухе пропавшего брата, но вместе с тем повторяет предсказание о грядущей гибели Илиона по его вине. Однако Приам провозглашает его своим законным сыном и, зачеркнув свое первоначальное решение, торжественно принимает Александра в царский дом.
Неоднократно обращалось внимание на глубокое сходство этой фабулы с геродотовским рассказом о юном Кире (Hdt. I,108 и сл.).
При этом одни ученые думали о литературном влиянии Геродота на Еврипида, а другие предполагали, что предание о Кире, выброшенном на гибель по приказу деда, воспитанном в доме пастуха, а затем случайно попавшем царю на глаза и признанном царевичем, могло возникнуть под воздействием мифа о Парисе [Robert, т. 3, с. 980; Jouan, 1966, с. 138]. Но ту же последовательность эпизодов находим и в испытавшей этрусское влияние истории Ромула и Рема. Поэтому прав Ф. Жуан, видя во всех этих случаях «азианический» фольклорный сюжет, используемый при формировании квазибиографических легенд о разных героях.
Рассматривая ту конкретную модификацию, которую этот сюжет приобретает применительно к Парису, мы выделяем следующие структурные звенья; 1) изгнание Париса из царского дома и позднейшее признание его в качестве царского, сына Приамом, дающее пришельцу власть в Илионе, т. е., по сути, усыновление; 2) возникающий при этом конфликт с побежденными на состязаниях братьями и враждебное отношение троянцев к Александру как к губителю города: в «Илиаде» (III,454) говорится, что «всем он стал ненавистен черным сердцем» (момент, сопоставимый со словами из договора о ропоте вилусцев на Алаксандуса). Сюда же присоединяются два дополнительных мотива; 3) авантюризм этого приемыша, превратившегося в «царя Александра» (см. Il. IV.96: Ἀλεζάνδρῳ βασιλῆι), навлекающий на Илион ахейское нашествие (в главе 7 мы увидим, что в Троянском цикле сохранилась память и о победной схватке ахейцев Агамемнона с хеттами в Троаде, и об особых отношениях между хеттами и Александром); 4) гостеприимство, оказанное ему пинастом Мотилом. Очевидно, что все эти компоненты истории Александра могут быть в точности сопоставлены с соответствующими эпизодами жизни Алаксандуса: «нелегитимным воцарением», «враждой с братьями», «помощью Муватталиса» и «спровоцированной большой войной с Аххиявой». Интересно, что подтверждение находит и постулируемый Фридрихом мотив усыновления Алаксандуса, в легенде оборачивающийся принятием пастуха в царский дом. Фольклорная канва, на которую ложатся эпизоды жизни Александра в предании, изменяет трактовку эпизодов и причинно-следственные отношения между ними, но само сочетание событийных блоков распознается вполне отчетливо.
Еще более необычные выводы ждут нас, если мы, памятуя о том, что исторически жизнь Алаксандуса должна была приходиться на время перехода от Трои VI к Трое VIIa, внимательнее присмотримся к легендам о конце Лаомедонтовой Трои и начале Трои Приама. Важнейшим эпизодом этих легенд оказывается битва Геракла с Посейдоновым чудовищем и последующее опустошение города приведенным из Микен войском Геракла (в главе 7 см. специально о вероятности отражения в имени сражаемого Гераклом чудища κῆτος; названия Хеттской державы). Связь в одном легендарном сюжете нашествия чудища и вторжения Геракла может отражать хронологическую близость землетрясения, разыгравшегося около 1300 г. до н. э и войны, развязанной Аххиявой против Вилусы, перешедшей при Алаксандусе под власть хеттов. Особый интерес для нас имеет та трактовка прихода Приама к власти, которую дают легенды троянского круга. Если Гомер, рисуя совет старцев в Илионе (Il. III,147), перечисляет в составе его членов братьев Приама Лампа, Клития и Икетаона (ср. Il. XX,238, где в родословной троянских царей Приам назван перед этими своими братьями, вероятно, как самый старший из них), то через постгомеровские версии открыто проходит мысль о Приаме как младшем из братьев, изначально не имевшем прав на престол, но получившем его вследствие кары, совершенной Гераклом над домом Лаомедонта. Версии этого предания многообразны. Среди них выделяются рассказы о выкупе отрока Подарка, будущего Приама, у Геракла из плена его сестрой Гесионой (Apd. II,6,4) или о выкупе его самим Гераклом у пленивших царского сына соседей Трои (Serv. Aen. I,619), навеянные народно-этимологическим сближением имени героя с греч. πρίασθαι «покупать» (ср. Lycophr. Alex. 338 и сл. о Приаме: «выкупленный пленник, пришедший на сожженную родину, скрыв во мраке прежнее, темное имя»). Версия Дарета (Dar. 3 и сл.) говорит о приходе Приама с войском и обширным семейством из Фригии на руины Лаомедонтовой Трои. Диодор повествует о протесте юного Приама против бесчинств Лаомедонта в отношении Геракла и аргонавтов и о награждении справедливого царевича победителем Гераклом (Diod. IV,32). Во всех этих сообщениях можно выделить три общих, устойчивых элемента, а именно: 1) утверждение, что Приам воцарился, хотя не был законным наследником власти; 2) мнение, будто его родичи, имевшие больше прав на престол, были истреблены либо отстранены от наследования; 3) мотив прихода его к власти в результате ахейского нашествия на Трою, последовавшего за победой Геракла над «китом» (κῆτος).
Эти мотивы незаконного воцарения в обход родичей, на фоне хеттского и ахейского вмешательства в судьбы Троады, перекликаются с аналогичными мотивами в биографии Алаксандуса, в том числе и с теми, что, видимо, вошли в историю Александра-Париса («усыновление», «вражда с братьями»). Но высказанная ранее одним из авторов данной работы [Цымбурский, 1990а] мысль об отражении в обеих легендах — о Парисе и о юном Приаме — судьбы Алаксандуса, интерпретированной по разным фольклорным схемам (в одном случае «возвращение царевича-изгнанника во дворец», в другом — «торжество младшего брата над старшими»), не кажется единственно возможным решением. Достаточно заметить, что Александр, видимо в соответствии со своим реальным прототипом, — персонаж, враждебный миру греков, юный же Приам получает власть из их рук. Как ни парадоксально, нельзя исключать того, что события, отнесенные легендой к юности Приама (отвоевание Илиона ахейцами), могли иметь реальный прообраз, следующий за событийным комплексом, связанным с именем Александра-Алаксандуса. Последний герой мог быть вторично соотнесен с событиями более поздними в качестве врага ахейцев и легкомысленного губителя Трои, так же как Кикн-Кукуннис из царя XIV в. до н. э. стал противником Ахилла. Дьяконов допускал, что Алаксандус — союзник Муватталиса на деле мог быть отцом Приама и дедом Александра-Париса, т. е. в реальности занимать то место, которое в легенде перешло к наказанному Гераклом грешному царю Лаомедонту — «Властителю над народом» [Дьяконов, 1968, с. 111]. Трудно сказать на этот счет что-либо определенное, но слияния соименных персонажей — обычное явление в устном эпосе, тем более если эти персонажи связаны родством: былинный князь Владимир Красное Солнышко возник из контаминации двух Владимиров — прадеда крестителя Руси) и правнука (Мономаха) [Bowra, 1952, с. 524 и сл.]. Исторически Парис мог быть раньше Приама!
В заключение этого экскурса мы должны сделать одно лингвистическое замечание относительно этимологии и семантики имен этих двух героев. Имя Приама — это достоверно эпитет хетто-лувийского происхождения со значением «первый», «лучший», ср. ликийское сочетание qaja… prijami (TL 55,4) «святилище… главное» и ликийское имя Prijama, передаваемое по-гречески Πρίαμος [Гиндин, 1981, с. 63]. Позднее эта лексема жила в Эолиде в форме πέρραμος (из *pṛjamos) со значением «царь» (Hes.) (см. об ее эолийской атрибуции [Schwyzer, 1939, с. 274, 323]). Э. Бете настойчиво доказывал, что изначально это просто титул носителя власти в Троаде [Bethe, 1927, с. 49 и сл.]. Тогда легенда о принятии Приамом данного имени только при воцарении могла бы восходить к гораздо более древним временам, чем греческое объяснение имени Приама из глагола «покупать». Но интересно, что второе имя Александра — Парис отражает вариант той же самой индоевропейской основы, представленный в др.-инд. pari «первый, лучший», алб. parë «первый», в хет.-лув. p(a)rija «впереди» и во многих анатолийских именах с элементом Pari-, Parija, например, Parija-ziti «Первый (Главный) человек» [Гиндин, 1981, с. 63]. Поэтому в гомеровском обороте Ἀλεζάνδρῳ βασιλῆι «Александру-царю» допустимо видеть кальку древнего троянского словосочетания вроде *Alaksandus Paris, где второй компонент имел бы титулатурный характер — «Вождь-предводитель». Двухименносгь Александра-Париса вполне сравнима с употреблением эпитета «Приам» как второго имени, получаемого героем вместе с царством.
Итак, события, стоящие за легендами об этих персонажах, могут быть отождествлены с потрясениями, пережитыми Вилусой-Илионом в конце XIV — начале XIII в. до н. э., от перехода Вилусы при Алаксандусе под власть хеттского царя до торжества Аххиявы над хеттами. Но что же нам тогда мешает вслед за Шахермейром сводить всю грандиозную картину Троянской войны к вариации на тему этих битв, разыгравшихся на рубеже веков? Об этом мы поговорим в свое время.
7
Спустя, по-видимому, несколько десятилетий после победы Аххиявы мы снова видим Вилусу в поле пристального внимания очередного хеттского царя. Скорее всего, это уже Тудхалияс IV, воинственный сын миролюбивого Хаттусилиса III и автор упоминавшегося «Письма в Милаванду», где о делах Пиямарадуса вспоминается уже мимоходом в контексте исторического экскурса, посвященного прошлым отношениям Милаванды с Хеттским царством. Сейчас нас интересуют стк. 40–45 этого послания. В приведенной Ф. Зоммером части этого текста из KUB XIX,55 они имели следующий вид [Sommer, 1932, с. 202 и сл.]: (40) A.NA Iu̯a!-al-mu!-ma! ku-e GIŠḪAR? ḪỊ? [А?…] (41) na-at ka-a-aš-ma IT.TI DUMU.I̯A[…] (42) ku-u̯ạ-ρί ŠADUTUši SIG5-tar ΡẠΡ-aš-ti tu-e-e[l-la- SIG5-tar DUTUši PAP-aš-hi] (43) nu-mu-kán DUMU.I̯A Iu̯a-al-mu-un pa-ra-a n[a?-a-i na-an I.NA KUR (URU)X] (44) LUGAL-iz-na-ni ti-iḫ-ḫi na-aš ka-ru-ú GIM-an[…] (45) nu-un-na-ša-aš ka-ru-ú GÍM-an ÌRTỤM kụ-[la-u̯a-ni-eš e-eš-ta nu zi-la-ti-i̯a-i̯a(?)] (46) ÌR ku-lạ-u̯a-ni-e̤š e-eš-du — «(40) А для Валму каковые предначертания… (41) и когда он их тебе, сын мой… (42) Когда о благе Солнца (т. е. хеттского царя) ты будешь заботиться, и о твоем [благе я, Солнце, буду заботиться]. (43) И вот ко мне, сын мой, ты пошли Валму, [и его я в стране…] (44) на царство поставлю и как он раньше был… (45) и как он раньше был зависимым kulawaneš, [так и впредь он] (46) зависимым kulawaneš да будет!».
Отчасти смысл этих полуразрушенных строк был ясен. В Милаванде находился некий подчиненный хеттскому царю местный царек Валму (Walmu), при неизвестных обстоятельствах лишившийся своего царства и нашедший в этом прибрежном городе себе пристанище. Заботясь о его участи, хеттский царь пересылает ему через правителя Милаванды какие-то распоряжения. Валму должен отбыть (вероятно, для личной аудиенции у хеттского царя) из Милаванды в Хаттусас, после чего ему помогут получить назад его царство, где он по-прежнему будет править в качестве kulawaneš. Этот термин, снабженный детерминативом «зависимого человека» ÌR, рассматривается хеттологами как редкое обозначение правителя-вассала, отличное от именования мелких независимых царьков Лукки, Каркисы и Масы kuriewaneš. Но интересно, что термин kulawaneš, объясняемый как производное от хет.-лув. kula «войско, толпа» [Айхенвальд и др., 1987, с. 250], не встречался раньше в текстах конца XIV в. до н. э. и тогда, когда речь шла о «благородных» вассалах хеттского царя, правивших в странах Арцавы. Обозначение Валму этим явно уничижительным понятием в том самом письме, где Царь-Солнце благожелательно титулует владетеля Милаванды своим сыном, натолкнуло некоторых исследователей на мысль, будто Валму выступает здесь как подданный низшего ранга в сравнении с адресатом письма, чуть ли не как вассал этого хеттского вассала [Schachermeyr, 1986, с. 255].
Значение этого места для политической истории Западной Анатолии предстало в совершенно новом свете после того, как X. Хоффнер идентифицировал фрагмент KUB XLVIII.90 с недостающими окончаниями строк «Письма в Милаванду» [Hoffner, 1982]. Некоторые из прежних догадок подтвердились. Так, в стк. 41–42 говорилось, что распоряжения, относящиеся к Валму, которые доставит в Милаванду чиновник хеттского царя Kupanta-ziti, правителю Милаванды следует просмотреть перед отправкой Валму в Хаттусас. В стк. 44-46 Валму именуется в прошлом как царем, так и зависимым kulawaneš и оба эти статуса закрепляются за ним и на будущее. Но разительнее всего оказался исход стк. 43: выясняется, что. страной, куда хеттский царь намеревался вновь водворить Валму, восстановив его в правах, была Вилуса.
Итак, если Хаттусилис с самого начала своего царствований согласился с притязаниями Аххиявы на этот город, то автор «Письма в Милаванду», по всей очевидности преемник Хаттусилиса, Тудхалияс IV решает судьбу этого города, игнорируя Аххияву и не упоминая о ней в этой связи ни единым словом. Он явно возвращается к замыслам своего деда Муватталиса, пытаясь навязать Вилусе своего ставленника Валму так же, как дед поддерживал Алаксандуса, нисколько не считая нужным заботиться о согласии Аххиявы. Поскольку Валму, судя по контексту, должен был уже до этого какое-то время править в Вилусе именно как «кулаванес» Царя-Солнца, напрашивается вывод: связи Вилусы-Илиона с Аххиявой в правление Тудхалияса IV резко ослабели, и этот город вновь стал «лакомым куском» для хеттов. Причем из-под контроля Аххиявы выходит в это время (третья четверть XIII в. до н. э.) и Милаванда-Милет, в начале века пребывавшая в двойном подчинении у хеттов и Аххиявы (см. гл. 2), а теперь однозначно ориентирующаяся на Хаттусас и участвующая в замыслах хеттского царя, относящихся к Вилусе. Любопытно сравнить эту эволюцию Милаванды со строками из «Троянского каталога» (Il. II,867 и сл.), где Милет вместе с прочими обитателями Карии выступает на защиту Илиона от ахейцев. Впрочем, гипотеза о прямой зависимости Валму от правителя Милаванды нам не кажется достоверной. Скорее, стк. 42 надо понимать в том смысле, что хеттский царь обещает адресату всяческие милости в случае поддержки хеттской политики в Вилусе. Но, кроме того, эпизод с Валму обнаруживает и другое крупное изменение в политической системе Западной Анатолии, происшедшее менее чем за полвека. Изгнанный из Вилусы Валму почему-то находит убежище и помощь не в граничащей с Вилусой Стране реки Сеха и не в какой-то иной из близлежащих стран Арцавы, а в достаточно удаленной Милаванде-Милете, ранее никогда не упоминавшейся в относящихся к Вилусе текстах. Случайно ли это? Или в политике стран Арцавы ко времени Тудхалияса IV произошел решительный поворот, лишающий бежавшего из Вилусы хеттского сателлита надежды на поддержку в этих странах? Как это могло случиться? Какие реальные процессы скрываются за этими глухими указаниями хеттских документов?
8
Задумавшись над этими вопросами, присмотримся внимательнее к тексту из анналов этого же царя KUBXXIII.11, повествующему о походе Тудхалияса IV против конфедерации Ассува, — тому самому свидетельству, где появляются рядом названия Вилусии и Труисы.
Мы уже упоминали, что ряд авторов — О. Карруба, Г. Оттен, Ф. Хоувинк тен Кате, Г. Гютербок — пытаются отнести анналы царей Тудхалияса и Арнувандаса вслед за текстом о Маддуваттасе к XV в. до н. э. и приписать их не Тудхалиясу IV и Артувандасу III, последним правителям Хеттской империи, а их далеким предкам — Тудхалиясу II или III и Арнувандасу I. Между тем А. Камменхубер и Ф. Шахермейр продолжают придерживаться прежней атрибуции этих анналов. Текст KUBXXIII.11 представляет для сторонников передатировки особые трудности, ибо в нем страна Вилусия названа в числе государств, выступивших против Тудхалияса, тогда как на рубеже XIV и XIII вв. до н. э. Муватталис прямо писал в своем договоре с Алаксандусом, что Вилуса всегда была в мире с хеттами и, в частности, предок его Тудхалияс в эту страну не вторгался! Приверженцы передатировки, не находя убедительного решения этому казусу, прибегают к натяжкам, либо пытаясь вновь разделить Вилусу и Вилусию, либо полагая, что Вилусия — это страна, окружающая город Вилусу, и город мог быть в мире, хотя страна восстала [Houwink ten Cate, 1970, с. 77 и сл.] (ср. [Güterbock, 1986, с. 40]). Мы же видим в соотношении этих данных прямое подтверждение тому, что победителем Ассувы мог быть только Тудхалияс, правивший после Муватталиса, т. е., как и считалось всегда, Тудхалияс IV.
Приводим текст KUB XXIII, 11 по изданию Раношека [Ranoszek, 1934, с. 53 и сл.]. Начало испорчено, ясно лишь, что Тудхалияс перечисляет страны, которым он нанес поражение во время некой кампании. В уцелевших частях строк 2–8 читаются названия: […KUR URUX]-li-ja (может быть, Kuwalija?), ÍDLi-mi-ja (т. е. река Лимия) (3) […] KUR URUAr-za-u-u̯a(4) […] URUA-ap-ku-i-ša ÍDŠe-e-ḫa (5) […] KUR URUPa-ri-i̯a-na (6) […] KUR URUḪa-pa-al-la (7) […] KUR URUA-ri-in-na KUR URUU̯a-al-la-ri-ma (8) […KU]R URUḪa-at-tar-ša. С. Хайнхольд-Крамер в стк. 4 рядом с названием реки Сеха читает не Ар-ku-i-ša, но Ab-ba-i-ša — название той самой области, которая в хеттских документах конца XIV — начала XIII в. до н. э. фигурирует как составная часть владений царей Страны реки Сеха [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 256, 333]. Уже эти строки вызывают удивление. Во-первых, неизвестно откуда возникает в качестве самостоятельного царства уничтоженная сто лет назад Мурсилисом Арцава. Хайнхольд-Крамер допускает, что название Арцавы могла в это время принять бывшая Мира-Кувалия, если, конечно, это не она упомянута в начале стк. 2. В противном случае придется думать, что области, в древности составлявшие собственно арцавскую территорию, к середине XIII в. до н. э. вновь слились воедино и передел, учиненный Мурсилисом, утратил силу. С этим следует сопоставить тот факт, что во второй половине XIII в. до н. э. на Бейджесултанском холме, где в древности находился дворец царей Арцавы (см. об этом в главе 2), после почти 130-летнего перерыва вновь появляется некое строение дворцового типа [Garstang, Gurney, 1939, с. 93; Lloyd, 1956, с. 210]. Не исключено, что его сооружение связано с отраженным в KUB XXIII,11 возникновением в это время снова государства, принявшего название Арцавы. Во-вторых, в списке врагов Тудхалияса мы находим бывшие «страны Арцавы», вассалов Мурсилиса и Муватталиса: Хаппалу и области, прилегающие к реке Сеха. Все они поднялись против хеттского господства. Но, в-третьих, с ними рядом на равных стоят какие-то, вероятно, очень небольшие царства, о которых мы до сих пор ничего не слыхали. Некоторые из них могут быть локализованы на малоазийской карте: так, P(a)rija-na — это, без сомнения, позднейшая Приена (Πριήνη) в Ионии, к югу от Эфеса, Wallarima — это город Гилларима (Υλλαρίμα) в Карии. Что касается страны Arinna, думается, Дж. Гарстанг и О. Герни с полным правом видят за этим названием будущий ликийский город Arñna [Garstang, Gurney, 1959, с. 106]. Если это отождествление справедливо, то врагами Тудхалияса в этом походе оказываются государства, разбросанные на протяжении от Мисии до внутренних районов Ликии.
Однако, когда, победив этих противников, хеттский царь повернул назад, к Хаттусасу, против него внезапно выступили еще 22 государства, названия которых, заключенные в стк. 14–19 [Ranoszek, 1934, с. 54], также сохранились лишь частично: (14)… [KUR URU…]-uq-qa KUR URUKi-iš-pu-u-u̯a KUR URUU-na-li-i̯a (15) […KUR URUDu-ú]-ra KUR URUḪal-lu-u̯a KUR URUḪu-u-u̯a-al-lu-ši-i̯a (16) [KUR URUK(a-ra-ki-š)a KUR URUDu-un]-da KUR URUA-da-du-ra KUR URUPa-ri-iš-ta (17) […] KUR URUU̯a-ar-ši-i̯a KUR URUKu-ru-up-pi-i̯a (18) [KUR URUX (lu-iš-ša) KUR URU]A-la-ad-ra KUR ḪUR.ŠAGPa-ḫu-ri-na KUR URUPa-šu-ḫal-ta (19) […] KUR URUU̯i-lu-ši̯-i̯a KUR URUTa-ru-i-ša.
Исследователя, привыкшего себе представлять политическую карту Западной Анатолии, основываясь на договорах Мурсилиса и Муватталиса, а также на текстах начала XIII в., подобных «Письму о Тавакалавасе», потрясает это зрелище возникших неизвестно откуда полутора десятков государств, подобных островам, встающим со дна морского после извержения подводных вулканов. А между тем перед нами, казалось бы, хорошо знакомые места: мы видим здесь Каркису, совпадающую, по крайней мере частично, с Карией, и Варсию, по-видимому тождественную той Варсиялле, которую Муватталис во время заключения договора с Алаксандусом считал наряду с Каркисой, Масой и Луккой вероятным противником Хеттского государства. В обрывке некоего слова […]-uq-qa в стк. 14 иногда видят название Лукки [Page, 1959, с. 106]. О других государствах этого списка мы до сих пор ничего не слыхали. Некоторые из них просуществовали до конца века. Сохранился фрагмент текста KUB XXIII,21 времен преемника Тудхалияса IV Арнувандаса III (годы правления 1235–1215 до н. э.), где вместе с Каркисой упомянуты страны Куруппия, а также Луса, которая, возможно, названа в нашем тексте в начале стк. 18. С некоторым колебанием мы могли бы сопоставить KUR с названием лидийского города Τύρος [Zgusta, 1984, с. 645]. В целом перед нами картина нарастающей политической раздробленности, когда вокруг крупных государств, история которых уходит в предшествующие столетия, возникает множество полузависимых, полусамостоятельных мелких «княжеств». Есть, однако, общая черта, которая их всех объединяет, — это враждебность к Хеттской империи. И в этой вражде старые владения подозрительных для хеттских царей kurieu̯aneš выступают заодно и со «странами Арцавы», некогда служившими этим государствам стратегическим противовесом, и с новыми образованиями, возникшими за последние полвека. Все против хеттов. Вот почему Валму, хеттский ставленник, нигде не мог себе найти прибежища в Западной Анатолии, кроме Милаванды!
Однако военное счастье благоприятствовало Тудхалиясу. По его словам, когда во время его пути к Хаттусасу все эти страны собрались и двинули войска против него, он сам выступил им навстречу в ночи, окружил их и с помощью богов уничтожил (стк. 20–26). Затем он устремился в те страны, откуда пришло для битвы каждое из этих войск, и боги, шедшие впереди него, «отдали» ему эти страны (включая, разумеется, и Вилусию, и Труису). В этом месте мы видим прямое указание на акт принятия Вилусы-Вилусии под власть Тудхалияса, приобретение ею такого статуса, когда хеттский царь мог распоряжаться ее судьбой, давая ей в правители своего kulawaneš. После этой победы Тудхалияс впервые провозгласил, что он «разбил страну Ассуву» (стк. 33: KUR URUA-a-šu-wa ḫar-ni-ik-ku-un) — название, в котором для него слилось все это множество племен и областей. Помимо добычи он доставил с собой в Хаттусас пленного вождя из Ассувы SUM-DLAMA, что обычно читается как Pijama-Inaraš, а также его сына и одного видного сподвижника, звавшихся соответственно Kukulliš и Mala-zitiš. Пияма-Инараса и Малацитиса он сделал служителями в одном из хаттусасских храмов, а Кукуллиса, признавшего себя хеттским вассалом, отпустил домой. Тот немедленно поднял новый мятеж в «стране Ассува», и во время карательного похода хеттского царя «боги убили Кукуллиса». Вот, собственно, и все, что мы знаем о конфедерации Ассува. Правда, позднее Арнувандас III, вспоминая в своих анналах об отце, несколько раз упоминает название Ассувы и имя Кукуллиса [Ranoszek, 1934, с. 89, 92], но из этих осколков текстов невозможно извлечь никакой информации.
В связи с историей вхождения Вилусы в состав Ассувы надо поставить два вопроса: что представляла из себя Ассува и какие причины обусловили за несколько десятилетий такое резкое изменение политического облика Западной Анатолии, которое мы видим, сравнивая анналы Тудхалияса с документами времен его отца и деда? Стандартно понятие Ассувы рассматривается как обозначение тех 22 государств, которые восстали против Тудхалияса IV во вторую очередь, государства же из первого списка со «странами Арцавы» в Ассуву не включаются. Арцава как бы четко отделяется от Ассувы. Но при разных вариантах-такого подхода возникают одинаково серьезные противоречия. Так, иногда утверждают, что список «стран Ассувы» перечисляет их с юга на север, причем южный фланг занимает Лукка (Ликия), а северный — Вилусия с Труисой, т. е. Илион и Троя [Page, 1959, с. 106; Гиндин, 1981, с. 146]. Но тогда спрашивается, как соотносится этот список с перечнем государств, разбитых Тудхалиясом на первом этапе похода? Совершенно ясно, что исходя из «лидийско-ионийской» локализации Арцавы невозможно отождествлять ни страну […]uqqa с Луккой-Ликией, ни Каркису с Карией, так чтобы при этом «государства Арцавы» не разорвали цепь государств из «ассувского» перечня. Поэтому Гарстанг и Герни отвергают идентичность Каркисы и Карии, а страну […]uqqa скорее готовы приравнять к небольшому государству Ardugga, упоминаемому во фрагменте Арнувандаса III (KUB XXIII,21), наряду с Куруппией и Каркисой [Garstang, Gurney, 1959, с. 106 и сл.]. Однако при этом у Гарстанга и Герни возникают немалые сложности из-за их стремления во что бы то ни стало разместить Ассуву севернее «лидийской» Арцавы. Поскольку крайнее северное из «государств Арцавы», Страна реки Сеха, по мнению этих авторов (совпадающему с нашим), должна охватывать какую-то часть Мисии, то на остающемся сравнительно небольшом участке Северо-Западной Анатолии оказывается довольно трудно найти место для 22 «ассувских» княжеств. Если же исходить из форреровского понимания Ассувы как «Великой Лидии», то ее территория включила бы в себя значительную часть областей, принадлежащих Арцаве по «западной» («лидийской») версии локализации этой страны. Спрашивается, будет ли простым выходом из этих затруднений перемещение (пусть вопреки рассмотренным фактам) «стран Арцавы», включая Страну реки Сеха, на юг Анатолии, так чтобы западная окраина полуострова оказалась свободна и полностью включалась в Ассуву? Хайнхольд-Крамер идет по этому пути. При этом список 22 государств оказывается обращен не с юга на север, а с севера на юг! Вилуса, видимо, — где-то в Памфилии, самое северное из государств «южной» Арцавы в начале XIII в. до н. э., Лукка и Каркиса лежат еще севернее, и все эти государства соответственно входят в Ассуву. Но как тогда объяснить попадание в первый список рядом со странами Арцавы лидийской Приены и карийской Гилларимы? Не знаем, можно ли вообще разместить эти владения так, чтобы два перечня не смешивались и не перекрывали друг друга.
Мы видим совсем иной выход из этого положения. Он состоит в признании того, что второй список, который обыкновенно только и считают списком «стран Ассувы», может географически разрываться первым, куда, в частности, попадают и «страны Арцавы».
А из этого прямо вытекает, что название Ассува относится не только к 22 государствам, выступившим против Тудхалияса во вторую очередь, но вообще ко всей массе противников, разбитых им в эту кампанию, — от Вилусии до ликийской Аринны, включая и мисийские, и меонийско-лидийские, и карийские исторические области, а возможно, и Ликию-Лукку. Тогда вопрос о размежевании Арцавы и Ассувы отпадает: если под Ассувой Тудхалияса IV понимать общее название для Западной Анатолии, а не для какой-то ограниченной ее части, то «страны Арцавы» от Мисии до северной Карии естественно, будут частью Ассувы. В этом случае хеттское представление об Ассуве как об Эгейской Анатолии в широком смысле будет уже не частично сходно с представлением греков об Азии в дни Геродота, а полностью идентично ему. Такой подход позволяет по-новому интерпретировать смысл событий в рассказе об «ассувском» походе Тудхалияса. На первых порах ему противостояли лишь лежащие в средней части Ассувы «страны Арцавы» и, вероятно, войска из соседней Гилларимы и из внутренней Ликии. Но когда он, одержав победу, повернул обратно, в тылу у него стало накапливаться войско из отрядов периферийных «ассувских» государств, не поспевших к первой баталии. Здесь были отряды и с северной окраины Ассувы — из Вилусы и Труисы, и с юга — из Каркисы и, может быть, Лукки. Их Тудхалияс и разбил во второй заход, а после этого, не страшась сопротивления, устремился на сами эти обескровившие себя государства.
Из этого видно, что Ассува, скорее всего, не представляла особого единства ни в политическом, ни в военном отношении. Сам Тудхалияс называет ее «страной», лишь подводя итог своей победе; Ассува для него едина лишь как покоренное им географическое и политическое пространство. По ходу же действия это для него не «страна», а отдельные «страны», которые, по его словам, «со своими воинами собрались и выставили войско против меня» — (13)… KUR.KURḪIA (20) QADU ZAB MEŠ Š[U.NU] an-da-ta-ru-up-pa-an-ta-at nu-mu me-na-aḫ-ḫa-an-da tu-uz-zi-in da-a-ir.
Пияма-Инарас явно был одним из крупных местных вождей, но отнюдь не правителем Ассувы, поскольку «государства Ассувы» даже как сколько-нибудь целостной федерации, по видимому, не существовало. Был конгломерат обособленных владений, малых государств, сплачиваемых страхом перед хеттами и стремлением отстоять свою самостоятельность. При возрастании хеттской угрозы эти государства, как видно из слов Тудхалияса, пытались создать объединенное ополчение, но получилось на самом деле лишь два или даже несколько ополчений, которые хеттский царь разбил по частям.
Что же стоит за этим впечатляющим преобразованием политической карты Западной Анатолии с размыванием, распадом той четкой структуры баланса сил, которая наблюдалась в начале века? Гарстанг и Герни, а за ними и И. М. Дьяконов приписывают эти перемены происшедшему в XIII в. до н. э. проникновению первых волн фрако-фригийцев на землю Анатолии, так что в Ассуве усматривается чуть ли не фрако-фригийское племенное объединение [Garstang, Gurney, 1959, с. 107; Дьяконов, 1968, с. 114, 118] (ср. [Гиндин, 1981, с. 166]). Вполне допуская, что к середине века ранние фракийцы и фригийцы уже могли находиться в огромном регионе, охватываемом для хеттов понятием Ассувы, мы тем не менее не склонны присоединяться к гипотезе названных ученых по трем причинам. Во-первых, нет никаких свидетельств столь массированного балканского вторжения в Малую Азию в первой половине XIII в., которое бы охватило все эгейское побережье полуострова вплоть до Карии и Ликии. Во-вторых, мы вовсе не видим ко времени Тудхалияса того крушения и исчезновения с карты ранее существовавших государств, которым обыкновенно сопровождаются широкомасштабные этнические потрясения. Практически все известные государства сохраняются (правда, нет упоминаний о Масе, но это короткое название вполне могло стоять в поврежденной части одной из стк. 2–8), однако идет процесс нарастания раздробленности, выделения множества сепаратных мелких владений. В-третьих, среди новых названий вовсе не наблюдается форм балканского происхождения. Ассувские вожди SUM-DLAMA, т. е. Пияма-Инарас, и Малацитис носят обычные лувийские имена, а имя Кукуллис — вариант к известному нам имени Кукунниса, правившего в Вилусе еще в XIV в. до н. э. (см. [Дьяконов, 1968, с. 114], где Кукуллис обозначается как «Кукуннис II»). Думается, для Западной Анатолии времен Тудхалияса IV мы имеем дело с некими чисто политическими процессами, которые могли бы идти параллельно накапливающимся этническим изменениям, но вряд ли были последними обусловлены.
Скорее всего, истоки этих процессов надо искать в событиях первой четверти столетия, когда хетты теряют реальный контроль над эгейскими областями Малой Азии. Ассува становится полем хетто-аххиявских конфликтов с выяснением взаимных претензий силой оружия, а возникающий «вакуум власти» заполняется диктатом могущественных, вполне «суверенных» авантюристов, вроде высокородного Пиямарадуса, на которого Царь-Солнце не мог найти из Хаттусаса решительно никакой управы. Необходимость рассчитывать лишь на самих себя в деле обеспечения своей безопасности — вот та основа, на которой должна была складываться как автаркическая замкнутость отдельных городков и кастеллей, дающих защиту местному населению своей округи, так и тенденция к созданию рыхлых союзов на час, в условиях возникающей конкретной опасности. Повсеместно, кроме, может быть, издревле связанной с Хаттусасом Милаванды, утратившие власть хетты с их непрекращающимися попытками своекорыстного вмешательства в «ассувские» дела вызывают растущую враждебность. К этой-то эпохе и относится последнее, только что рассмотренное нами свидетельство о Вилусе-Вилусии (Илионе).
9
До нас дошел, к сожалению, в очень плохом состоянии один текст, побуждающий думать, что триумф хеттов над Ассувой не остался безразличен и для царя Аххиявы. Это KUB XXVI.91, который мы даем по изданию Зоммера [Sommer, 1932, с. 268 и сл.], где он обозначен еще как Bo 1485. Он представляет собой письмо, составленное от имени хеттского царя. В первой строке, где должно стоять имя адресата, читается: [..E]N? [K]UR aḫ-ḫi-i̯a-u̯[a…] «..господин(у) страны Аххиява…». Зоммер правильно отмечает, что замена царского титула на простое EN «господин, хозяин» выражает очевидное пренебрежение со стороны автора письма. Мы можем прямо сравнить этот случай с вычеркиванием царя Аххиявы из перечня великих царей при Тудхалиясе IV. Но когда Зоммер, ссылаясь на то, что далее в тексте хеттский царь называет адресата как равного себе «брат мой», отказывается видеть в адресате правителя Аххиявы, думается, здесь нужно быть осторожнее. Посмотрим, как представлены в письме отношения между говорящим и его «братом».
В стк. 2–4, сильно поврежденных, упоминается о войне и о каких-то мертвецах. А дальше идут лучше сохранившиеся стк. 5-12: (5) [.] ra-a-an-ni MUKẠM.TI-mu ŠEŠ.I̭A ḫa-at-r[ạ-iš +…] (6) tu-e-el-u̯a gṳr-ša-u̯a-ra ku-e […] (7) DU ÌR-an-ni ạm-mụ-ug pa-iš LỤGẠL? KỤR? a?-aš[-šu-u̯a…] (8) [.]a?-ka-ga-mu-na-aš-za-kán A.BA A.BA A. (?)B[I?(?)…] (9) ρί-ra-an ḫa-ma-ak-ta nu-za Itu-ut!-ḫ[a-li-i̯a-aš…] (10) na-an-za-an ÌR-na-aḫ-ta nu[…] (11) še-ir ḫa-at-ra-a-nu-un […] (12) Ṳ!?ŠA!? LUGAL KUR aḫ-ḫi-i̯[a-u̯a…] — «(5) в год… брат мой написал… (6)… Какие твои [страны] в запустении [были], (7) их мне во владения отдал Бог Грозы. Царь страны Ассува […] (8) Акагамунас, дед отца (?), (9) связал. А нынче Тудхалияс […] (10) его низвергнул […] (11) Так я об этом написал […] (12) И (?) царя страны Аххиява…».
Что же выясняется из этих фрагментов? «Брат», которому хеттский царь адресует письмо, в свое время посягнул на его владения. Ссылаясь на то, что часть земель хеттского царя почему-то пребывает в запустении, он попытался их захватить. При этом он считал Бога Грозы своим покровителем в этом деле. Весь этот контекст напоминает взаимоотношения между Хеттским царством и Аххиявой в первой половине XIII в. до н. э., когда северо-запад Анатолии был опустошен землетрясением, разрушившим Трою VI, а более южные районы охвачены мятежом народов, которых хетты привыкли считать в той или иной форме подвластными себе. В это время Аххиява восстановила власть над Илионом-Вилусой, а Тавакалавас-Этеокл, высадившись в районе Милета, попытался здесь создать новое царство. Как мы помним, Хаттусилис не решался дать отпор притязаниям Аххиявы, пытаясь умиротворить их дипломатическими средствами. Не об этих ли делах вспоминает «брат» хеттского царя в цитируемом письме? Зоммер удивлялся тому, что вначале правитель Аххиявы зовется «господином», а в стк. 12 «царем». Думается, объяснение здесь очень простое: стк. 5-12 представляют прямую речь адресата, который, заявляя о своих правах и вспоминая о делах своих предков, обозначает себя или кого-то из них в качестве «царя Аххиявы». Между тем царь хеттов с оттенком пренебрежения величает своего зарвавшегося собрата «господином Аххиявы», и не более.
В таком случае оказывается, что этот правитель обратился к хеттскому царю с письмом по поводу судьбы царя Ассувы. Зоммер опять-таки недоумевает, почему в стк. 9—10 о Тудхалиясе, победителе Ассувы, говорится в третьем лице. Однако этот ученый упустил из внимания возможность для окончания -ta в хеттском передавать не только третье, но и второе лицо претерита [Фридрих, 1952, с. 85]. Поэтому строки из письма царя Аххиявы, цитируемые в ответном письме, могли иметь смысл: «А ныне, о Тудхалияс, ты… его (царя Ассувы) низверг!» Правда, заслуживает внимания и мнение Шахермейра, что данное письмо могло быть составлено уже при одном из сыновей Тудхалияса [Schachermeyr, 1986, с. 277]. Тогда третье лицо единственного числа было бы вполне оправдано. Перед этим, после вводного упоминания о царе Ассувы, указывается, что (пра)дед, по-видимому, нынешнего царя Аххиявы кого-то «связал». Предложенное Форрером толкование «связал договором» в данном случае выглядит лучше, чем понимание Зоммера «мешал, препятствовал» [Sommer, 1932, с. 274]. Узнав о сокрушении Ассувы, потомок Акагамунаса вспомнил об исторических контактах своего дома с некими анатолийскими династами, видимо, исторически притязавшими на титул «царей Ассувы» (т. е. запада Малой Азии), участвовавшими в выступлении «союза Ассува» против Тудхалияса и потерпевшими поражение. Он поспешил выступить перед Тудхалиясом с неким демаршем, на что тот ответил в назидательно-высокомерном тоне, уже самим обращением уязвляя самолюбие получателя письма («хозяина», а не «царя» Аххиявы), хотя по традиции и продолжая называть его братом. Особые отношения между Аххиявой и династией из Ассувы не могут не напомнить о легендарных генеалогических связях микенских Атридов с Лидией. Остальная часть текста практически не сохранилась, но из уцелевших остатков можно вычитать в начале стк. 14 еще одно упоминание о царе Ассувы, а на оборотной стороне таблички в самом конце, также в стк. 14, явно звучащие предостережением слова ŠEŠ.I̭A uš-ki «Смотри, брат мой!».
Еще в 20-х годах, после того как Э. Форрер выпустил в свет описание этого текста [Forrer, 1928, с. 57], было отмечено удивительное созвучие имен Акагамунаса и греческого Агамемнона [Fries, 1929, с. 145]. Конечно же, о точной передаче греческого имени говорить не приходится, ибо она должна была бы звучать примерно как *Agame-/Agamamnunas. Скорее, впечатление таково, как если бы хетт старался воспроизвести звуковой облик громоздкого иноязычного имени, ухватив его основные фонетические черты: последовательность консонантов g-m-n, принцип повтора одинаковых звуков (в греческом g-m-m-n-n, в хеттском g-g-m-n) и общий характер вокализма с переходом от широко открытого а двух начальных слогов к низкому огубленному o/u в конечном (ср. приводимое выше рассуждение Гютербока о невозможности требовать от хеттской передачи иноязычных имен идеальной фонетической точности). Правда, Зоммер утверждал, что, несмотря на сильнейшие повреждения знаков, предшествовавших a?-ka-ga-mu-na-αš, он убежден в отсутствии здесь детерминатива лица и данное слово должно быть апеллативом с неизвестным значением. Но при этом он был не в состоянии объяснить, как оно соотносится со стоящей следом логограммой для «прадеда» [Sommer, 1932, с. 273]. Напротив, Шахермейр, исходя из позиции этого слова в самом начале предложения (на что указывает частица kán) и перед термином родства, вслед за Форрером уверенно трактует его как имя собственное. Предположительно датируя текст последней четвертью XIII в. до н. э., Шахермейр утверждает, что прадед адресата (Акагамунас) должен был жить в самом конце предыдущего столетия, когда археологическую Трою постигло страшное разрушение, связываемое этим ученым с Троянской войной Агамемнона [Schachermeyr, 1986, с. 277]. Ниже (в гл. 4) нам еще предстоит детально разобрать эту гипотезу Шахермейра, пока подчеркнем лишь, что разделяемая многими авторами значительно более поздняя датировка Троянской войны — от 1260 г. до н. э. до начала XII в. до н. э. — сама по себе не может быть препятствием для возведения прообраза Агамемнона к XIV в. Читатели русских былин легко могут вспомнить сюжет, когда Илья Муромец вызволяет Владимира Красное Солнышко, осажденного в Киеве татарами, хотя между княжением любого из двух Владимиров — Святославича и Мономаха, слившихся в образе былинного «светлого князя», и татарским нашествием лежит немалый срок — от 120 до 220 лет. Если отцом эпического Агамемнона был сделан перенесенный из XV в. до н. э. Атрисий-Атрей, то почему сам Агамемнон не мог прийти из сказаний более ранних, чтобы возглавить великий поход греческих племен за моря?
Самое главное — подтверждается то впечатление, которое мы вынесли в предыдущей главе из разбора текста KUB XXIII, 13 о поражении царя Аххиявы в Стране реки Сеха, а также договора Тудхалияса IV с Шаушкамувасом из Амурру: в третьей четверти XIII в до н. э. произошли какие-то события, в результате которых Аххиява утрачивает положение великой державы, перестает быть крупнейшей политической силой на западе Анатолии, каковой она, согласно «Письму о Тавакалавасе», выступала при Хаттусилисе III. Мятежные страны Ассувы, включая Вилусию с Труисой, бросающие вызов Тудхалиясу IV, были определенно независимы от Аххиявы, потерявшей также свои позиции в Милаванде-Милете. Что же произошло с Аххиявой (Ахейской Грецией) в эти десятилетия, предшествующие пожару Трои VIIa, по Блегену — «Трои Приама»?
Глава 4 Ахейцы, «народы моря» и Гераклиды (Крушение Микенской Греции и гибель Трои)
1
Сейчас мы подходим к проблеме, которая многим читателям, вероятно, покажется самой интригующей из всех, рассматриваемых в книге: какая историческая реальность скрыта за преданиями о Троянской войне — о походе всей Ахейской Греции против города над Геллеспонтом? Мы с полным правом говорим о скрытой реальности, ибо трудно усомниться в том, что позднейший рассказ о союзе женихов прекрасной Елены, поклявшихся защищать того, кто ею будет избран в мужья, да и вообще тема великой войны из-за похищения женщины — не более чем фольклорное оформление, сведение к архетипу, своего рода мифотворческое осмысление гигантской картины, встававшей в коллективной памяти греков. Но спросим: как возник сам этот образ сотен кораблей, покидающих греческие берега, —
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный. Что над Элладою когда-то поднялся. О. МандельштамМы видели, в анналах Тудхалияса IV промелькнуло событие, изображаемое в сказаниях греков своеобразным прологом Троянской войны. Можно ли поручиться, что сражение на Каике не было произвольно вовлечено в троянские легенды и что именно в годы, последовавшие за этим эпизодом хеттской летописи, совершились дела, на полтора тысячелетия поразившие воображение античного мира? На первых же страницах нашей книги было сказано вполне определенно: о разрушении Илиона греками прямо не сообщает ни один источник, кроме их собственных преданий. Скептикам этого достаточно, чтобы отодвинуть Троянскую войну в область полумифологических, полулитературных вымыслов.
Однако здесь возникает встречный вопрос: а каких именно свидетельств мы могли бы ждать, скажем, от предполагаемых современников этой войны — египтян или хеттов? Любой источник представляет событие с позиции повествующего (например, для хеттов нет «долины Каика», а есть «Страна реки Сеха»). Сколько-нибудь сложный комплекс событий оборачивается в источнике прежде всего стороной почему-либо актуальной для повествующего, затрагивающей его интересы; но эти стороны для разных рассказчиков редко совпадают. Кроме того, излагаемые события порой деформируются жесткими требованиями тех стереотипных — сюжетных, мировоззренческих, идеологических — схем, которые повествователь вообще привык накладывать на наблюдаемую им реальность. Для древних эпох можно говорить о мифологизации реальности, о придании ей канонических структур, воплощающих представления коллектива о сакральном сверхсмысле, явленном в их истории. Вспомним эпизод «Псевдо-Илиады» в хеттской и греческой трактовках. Тудхалияс, диктуя свою летопись, делает акцент на «непорядке», хаосе, возникающем на западной окраине державы. Он говорит о вызове, брошенном нечестивым царьком Страны реки Сеха Царю-Солнцу, о позорной неудаче, постигшей в этой стране чужого царя, отступающего из нее прочь, и о том, как в этот край победно вступил сам Тудхалияс, превзойдя подвигами своих прославленных предков и утвердив в побежденной стране должный порядок. Для греков же военная экспедиция на северо-запад Анатолии необходимо воспринимается в ключе похода в Трою. Соответственно битва в Мисии осмысляется как отклонение от основного пути, как неудача первого плавания к указанной цели. Неожиданно, вопреки известным рассказам о путешествиях греков в Трою и, наоборот, троянцев в Грецию, Троя приобретает черты сказочной земли, куда никто не знает дороги. Отсюда такие мотивы, как умилостивление местного героя или бога, стремление обрести в нем союзника, открывающего путь к Илиону, и т. д. (см. гл. 7). В обеих версиях, хеттской и греческой, факты представляются в согласии с мифологической (или «мифологизированной») концепцией истории, исходной для повествователя.
Отчасти аналогичным образом дело обстоит и с интерпретацией археологических данных. Самое объективное и скрупулезное описание археологического материала представляет как бы речь свидетеля, предвзято выделяющего в потоке событий лишь один аспект — трансформации сферы материальной культуры и следы, оставляемые всем происходящим на материальных объектах. Это также одностороннее, деформирующее представление истории, хотя и основанное на иных принципах, чем канон эпоса или древневосточных царских анналов. Работая над истолкованием своих памятников, археолог на деле пытается воссоздать ту последовательность событий, которая могла бы оставить подобные следы. Разногласия археологов в осмыслении исторических показаний одних и тех же памятников часто объясняются тем, что одинаковые или сходные следы могут быть приписаны разным событиям — разрушения могут объясняться землетрясением, нападением врагов, внутренними раздорами и т. д.
Вопрос об историческом смысле троянских сказаний — это прежде всего вопрос о возможности с позиций уже оправдавшего себя междисциплинарного подхода увидеть в их повествовании особую трактовку, специфическое понимание того же комплекса конкретных фактов, пусть фрагментарно и в различных проекциях преломившихся в других свидетельствах рассматриваемой эпохи, в ее письменных документах и археологических реликтах. При этом отправные, минимальные критерии для распознания в разнородных свидетельствах данного круга фактов достаточно просты. Мы ими пользовались, уже рассматривая «Псевдо-Илиаду» (гл. 2). Это отождествимость времени, места и фабулы. Но сколько споров и затруднений возникает, когда с этими, казалось бы, элементарными критериями мы пытаемся подойти к огромному полотну Троянской войны!
2
Прежде всего необходимо определить, о каком конкретно временном промежутке должна идти речь. И здесь начинаются сложности. Известные в античности попытки датировать Троянскую войну относятся ко времени не раньше V в. до н. э., и в них наблюдается большой разнобой. В пересчете на современную хронологию они оказываются раскиданы в интервале от 1334 г. до н. э. (по Дурису Самосскому) до 1136 г. до н. э. (согласно Эфору). Среди предпринимавших подобные попытки авторов наиболее, весомы имена Геродота и Эратосфена, но и эти эрудиты указывают совершенно разные сроки: Эратосфен — 1183 г. до н. э. (Cens. de die natali, 21), а Геродот (II, 145) — больше чем за 800 лет до времени его работы над «Историей», т. е. не позже второй четверти XIII в. до н. э. (о прочих датировках см. [Robert, т. 3, с. 1288 и сл.; Mylonas, 1964, с. 353]).
На 200-летнем временном отрезке между датами Дуриса и Эфора Троя в самом деле три раза переживала большие перемены, открывавшие новую фазу в истории города. Но если исключить конец периода Трои VIIб 1, ознаменовавшийся оккупацией города племенами из Фракии, происшедшей мирно и не сопровождавшейся серьезными разрушениями [Blegen, 1963, с. 167], у нас останутся два события, которые можно сопоставить с эпическим захватом Илиона ахейцами: гибель сперва почти 600-летней величественной Трои VI, а затем, спустя небольшой промежуток времени, — страшный пожар и, видимо, война, уничтожающие ее преемницу Трою VIIа. В начале XX в. В. Дерпфельд под впечатлением от колоссальных стен Трои VI и обширных разрушений в исходе этого периода решительно отождествил этот город с «Троей Приама» [Dörpfeld, 1902, с. 19].
Позднее К. Блеген, придя к мысли о землетрясении как причине уничтожения Трои VI и впервые обнаружив уничтоженную врагами Трою VIIа, объявил именно ее жертвой ахейцев Агамемнона [Blegen, 1963, с. 162; Blegen, 1967, с. 19]. Последовательность катастроф, восстанавливаемая Блегеном, оказывается идеально соответствующей античной традиции, где за «гневом колебателя земли» Посейдона, уничтожающим могучий город Лаомедонта, следует царствование Приама, кончающееся Троянской войной Атридов. Для катаклизма, погубившего Трою VI, Блеген предложил дату около 1300 г. до н. э. Как мы видели, эта датировка косвенно подтверждается и тем, что разыгравшаяся примерно в это же время война Аххиявы с хеттами за Вилусу-Илион отразилась в сказании, где мотив Посейдонова гнева переплетается с историей битвы под Илионскими стенами Геракла с чудищем κῆτος. Что же касается времени сожжения Трои VIIа, то здесь Блеген проявлял серьезные колебания; сначала при публикации материалов раскопок срок около 1240 или 1230 г. до н. э. казался ему вполне допустимым, но в позднейших публикациях он предпочитает говорить о 1260 или даже 1270 г. до н. э., явно идя по пути все большего «занижения» хронологии [Blegen, т. 4, с. 12; Blegen, 1963, с. 174; Blegen, 1967, с. 32].
При обсуждении данной проблемы чрезвычайно важным оказывается соотнести во временном плане эти роковые моменты в истории Трои XIII в. до н. э. с важнейшим событием, происшедшим в том же столетии в истории Ахейской Греции, — политическим и культурно-историческим переломом, выражением которого в изготовлении керамики стал переход от позднемикенского периода III В к позднемикенскому III С. По экспертным оценкам большинства археологов, этот переход должен быть приурочен к 1230–1190 гг. до н. э., причем в пределах указанного промежутка между этими оценками наблюдаем серьезные расхождения. К. Блеген и А. Фурумарк, основоположник современной периодизации истории Микенской Греции, принимали для начала позднемикенского периода III С 1230 г. до н. э. [Blegen, 1967, с. 31; Furumark, 1941, с. 115]. Ф. Шахермейр колеблется между 1215 и 1200 гг. до н. э. [Schachermeyr, 1982, с. 91], Э. Вермёль и В. Десборо предпочитают последнюю дату [Vermeule, 1964, с. 315; Desborough, 1964, с. 240], а Дж. Милонас — 1190 г. до н. э. [Mylonas, 1964, с. 366; Mylonas, 1966, с. 236]. Понятно, что любая из этих дат условна: культурные и политические эпохи редко сменяются за один год, закат старого стиля жизни и становление нового могут охватить и не одно десятилетие [Broneer, 1968, с. 31].
Но как же все-таки с этим более или менее определенно датируемым поворотом в истории Греции соотносятся по времени два интересующих нас разрушения Трои? Согласно Блегену, ни Троя VI, ни Троя VIIа не обнаруживают в своих слоях керамических изделий из Греции по стилю позднее периода III В. По его мнению, конец «Приамовой Трои» VIIа наступил за 10–30 лет до начала нового периода в греческой истории. Но уже Милонас высказывается более осторожно, относя финал Трои VIIа, которую он, как и Блеген, считает «Троей Приама», к переходному времени между позднемикенскими периодами III В и III С в Греции. На взгляд Ф. Матца, насколько можно судить по керамике, недолгая история Трои VIIа оборвалась фактически синхронно с концом позднемикенского периода III В [Matz, 1956, с. 144]. Некоторые ученые отвергают хронологические выкладки Блегена еще более радикально. Уже в начале 1960-х годов такой непререкаемый авторитет в микенской керамике, как Фурумарк, усмотрел в сосудах, откопанных Блегеном в слое Трои VIIа, черты, характерные для периода III С (ср. [Nylander, 1963, с. 7], с приведением данных оценок Фурумарка). А это значило бы, что Троя VIIа погибла не задолго до перемен в Греции, как полагал Блеген, а по крайней мере в начале новой фазы ахейской истории, если исходить из общепринятых оценок, т. е. не раньше 1230-х или даже 1220-х годов до н. э. По хеттской хронологии это означало бы смещение пожара Трои VIIа с последних лет правления Хаттусилиса III или начала правления Тудхалияса IV на самый конец его царствования или даже на те годы, когда у власти находились сыновья Тудхалияса — Арнувандас III и Суппилулиумас II.
Таким образом, ясно обозначаются две противоположные позиции в отношении к концепции Блегена, на деле, как скоро увидим, означающие вообще различное отношение к проблематике Троянской войны. Несколько в стороне от этого спора оказывается экзотическая гипотеза X. Подцувайта, пытающегося уже в Трое VI найти сосуды позднемикенского стиля III С и соответственно конец Трои VIIа смещающего куда-то во вторую половину XII в. до н. э. [Podzuweit, 1982, с. 81]. Из приверженцев этой гипотезы, кроме ее автора, пожалуй, можно назвать лишь советского археолога Л. С. Клейна, популяризирующего ее в ряде выступлений без дополнительной аргументации. Главный же спор идет между авторами, принимающими в основном концепцию Блегена, тем самым считающими, что к моменту уничтожения Трои VIIа Ахейская Греция была еще далека от культурного и политического перелома, и специалистами, идущими за Фурумарком (среди них Матц, Шахермейр, Вермель и многие другие) и относящими пожар этого города ко времени, когда в ахейском мире либо происходили, либо уже произошли ошеломляющие перемены.
Почему же на первый взгляд узко археологическая проблема синхронизации конца Трои VIIа с позднемикенским периодом III В или III С оказалась исключительно значима для решения вопроса об исторической основе троянских сказаний? Да потому, что вся мощь и блеск Микенской Греции, сложная система дворцовых хозяйств, абсолютный авторитет Микен, по мнению историков и археологов, ограничиваются только первым из этих периодов. Переход к периоду III С был ознаменован, катастрофой: на Грецию обрушился какой-то страшный враг. Пострадали Беотия, значительная часть Арголиды, Лаконики, Мессении. По подсчетам специалистов (конец 1960-х годов), в Беотии из 26 раскопанных поселений уцелели 4, в Арголиде — 10 из 27, в Лаконике — 7 из 39, в Мессении — 10 из 56. Наблюдаются разрушения в Микенах и Тиринфе. Правда, эти твердыни вскоре были восстановлены и вновь укреплены, причем в Микенах преемственность обитателей не прерывалась, Тиринф, как предполагается, после опустошения был заселен вновь. Пилосский же дворец в Ано Энглианос, будучи разрушен, так и не восстанавливался [Desborough, 1964, с. 221 и сл.; Broneer, 1966, с. 346 и сл.; Buck, 1969, с. 276 и сл.; Mylonas, 1966, с. 218 и сл.; Blegen, 1967, с. 27 и сл.; Vermeule, 1964, с. 270 и сл.; Lewartowski, 1989, с. 168 и сл.]. Похоже, некая группа захватчиков высадилась даже на Крите, где, однако, следы их нападения не столь масштабны [Desborough, 1964, с. 178 и сл.].
Пелопоннесские ахейцы предвидели это нашествие и готовились его отразить. Найденные в канцелярии Пилосского дворца свежие таблички с перечислением военных отрядов, их диспозиций, отчасти их заданий (контроль над побережьем) рассматриваются в качестве свидетельства предпринимавшихся, но не увенчавшихся успехом мер по защите этого центра [Mylonas, 1964, с. 369; Palmer, 1969, с. 147 и сл.; Hiller, 1972, с. 68 и сл.]. Попытку сдержать агрессию на более ранней стадии, не пропустить наступающих на Пелопоннес выдает огромная стена, воздвигнутая в эти годы поперек Истма — своего рода «линия Мажино» XIII в. до н. э. [Broneer, 1966; 1968]. Впрочем, найденная под ней керамика может быть в равной мере отнесена к концу позднемикенского периода III В или к раннему III С [Broneer, 1968, с. 354]. Но мысль о возможном сооружении этой стены уже после отхода врагов, с целью предотвратить подобные бедствия в будущем, не получила признания среди ученых, прежде всего потому, что подобный размах строительных работ кажется большинству из них маловероятным для эпохи, наставшей после военной катастрофы.
Эта эпоха характеризуется ослаблением ахейского культурного единства, всплеском локальных и региональных особенностей в материальной культуре, где Микены перестают быть законодателем стиля [Desborough, 1964; Полякова, 1983, с. 106 и сл.]. Из областей, подвергшихся нападению, массы населения уходят на окраины, в места, кажущиеся более спокойными. Прослеживаются мощные потоки переселенцев, прежде всего на восток — в прикрытую со стороны континента горами и обращенную к морю Аттику, на Киклады, в частности острова Додеканеса, где наблюдается настоящий расцвет, на Крит и Кипр, в греческие малоазийские города. Поднимается новое ахейское поселение в киликийском Тарсе. Часть же греков движется, наоборот, на запад, находя себе пристанища в позднейшей Ахайе и на островах Ионического моря, в том числе на Одиссеевой Итаке, откуда уже прямая дорога в Южную Италию [Desborough, 1964, с. 226 и сл.; Buck, 1969, с. 278 и сл.; Полякова, 1983, с. 105]. Основные центры разгромленного греческого мира явно смещаются на его периферию, на побережья и острова. Даже относительная стабилизация жизни на несколько последующих десятилетий не приводит к возрождению великоахейской государственности, бюрократически централизованных царских хозяйств; выходит из употребления письменность. Развитие явно начинает идти по нисходящей: конец XIII–XII в. до н. э. в истории Греции — время «заката цитаделей».
Что же за враги ввергли Грецию в водоворот этих драматических перемен? До середины 70-х годов специалисты склонны были утверждать, что пришельцы не оставили в опустошенных ими местах каких-либо примет своей собственной культуры [Desborough, 1964, с. 224 и сл.; Desborough, 1975, с. 662; Hiller, 1972, с. 72 и сл.; Buck, 1969, с. 281]. Высказывались предположения, что какая-то неизвестная причина могла помешать победителям воспользоваться плодами победы, заставив их вскоре уйти из разоренной страны [Desborough, 1964, с. 225]. Догадки же об их происхождении сводились к двум основным версиям: одни ученые, опираясь на традицию о переселении дорийцев, видели в завоевателях именно северо-западных греков, дорийцев в широком смысле [Blegen, 1967, с. 29; Stubbings, 1975; с. 354; Broneer, 1966, с. 357 и сл.; Vermeule, 1964, с. 274 и сл.]; другие же предпочитали объяснять эти потрясения продвижением в Эгеиду неких негреческих племен из Европы [Schachermeyr, 1929, с. 27 и сл.], квалифицируя это вторжение то как иллирийское [Nylander, 1963, с. 9 и сл.; Mylonas, 1966, с. 224], то как фракийское [Buck, 1969, с. 292 и сл.].
Перелом в изучении данной проблемы произошел в 1975–1976 гг., когда Дж. Раттер обратил внимание на присутствие в целом ряде поселений — в Коринфии, на Эвбее, в Аттике и даже в Микенах — в раннем слое позднемикенского периода III С, непосредственно следующем за разрушениями, керамических изделий, которые по типу резко отличаются от соседствующих с ними сосудов, продолжающих микенскую традицию. Последние в основном, хотя и не всегда, изготовлялись на гончарном круге, имели светлую окраску, для них использовалась очищенная глина. Между тем специфическая лощеная керамика, выявленная Раттером, а за ним анализировавшаяся 3. Дегер-Ялкотци, Э. Френч, Ф. Шахермейром и другими специалистами, характеризуется ручным изготовлением с последующим обжигом, темно-серой, коричневой или красноватой окраской, использованием неочищенной глины с минеральными примесями, накладным или прорисованным узором, а также некоторыми формами сосудов, неизвестными в более ранних фазах микенской культуры [Rutter, 1975; 1976; French, Rutter, 1977; Deger-Jalkotzy, 1983; Schachermeyr, 1982, c. 102 и сл.; Schachermeyr, 1983а].
Вокруг этой керамики возникла оживленная дискуссия. Попытки связать данный вид посуды, которую Ф. Шахермейр именует «варварской», с деградацией гончарного дела в Греции в эту эпоху [Walberg, 1976; Sandars, 1978, с. 191 и сл.] входят в противоречие с изолированным ее положением среди массы позднемикенских изделий. В конце 1970-х и начале 1980-х годов она была найдена в Тиринфе, в Ахайе и даже на Крите; но ее нет на Кикладах и в ахейско-малоазийских поселениях. Раттер настаивал на том, что «северяне» принесли с собой такой тип керамики с северо-востока Балкан, где он находит аналоги в Румынии и Болгарии, но также, что для нас особенно любопытно, в близкой к балканскому ареалу Трое, в ее слоях VIIб 1 и 2. Напротив, Дегер-Ялкотци, ссылаясь на обнаружение лощеной керамики на западе Балкан и в Южной Италии (места обитания иллирийских племен), считает основным очагом, откуда шло ее распространение, балканские области, прилегающие к Адриатике.
Как бы то ни было, сейчас доказанной причиной катастрофы, пережитой Грецией в конце позднемикенского периода III В, следует считать натиск негреческих племен с севера Балканского полуострова, среди которых могли быть как предки исторических иллирийцев, так и носители раннефракийских и раннефригийских диалектов. При этом остается несколько спорных вопросов. Неясно, были ли увлечены этой волной и некоторые «дорийские» группы северо-западных греков, исторически соседствовавших с иллирийским регионом. Также не проясняет археология и судьбу завоевателей после их победного вступления на Пелопоннес. Сама обособленность варварской керамики в позднемикенских слоях, непрерывность культурного развития Греции в конце XIII–XII в. до н. э. не позволяет исключить возможность быстрого отхода назад варваров-пришельцев, оставивших после себя руины и изолированные анклавы «северян», сумевших закрепиться в ахейском окружении.
Все эти новые данные, казалось бы, еще больше подкрепляют давний тезис Блегена о решительной невозможности общегреческого похода на Трою с наступлением позднемикенского периода III С — в силу политического коллапса, переживаемого в это время Ахейской Грецией, ее великими царствами, бывшими ранее способными выступать организаторами такой войны [Blegen, 1967, с. 28]. Однако с признанием присутствия лощеной керамики в слоях Трои VIIб этот тезис оборачивается против блегеновского отождествления Трои VIIа с «городом Приама».
Ученые, не желающие отнести Троянскую войну к разряду вымыслов, стремятся датировать ее так, чтобы она ни в коем случае не приходилась на годы, последовавшие за подорвавшим ахейскую мощь северным вторжением. Для тех, кто, доверяя Блегену, не усматривает в слоях Трои VIIа примет позднемикенского периода III С, нет особых сложностей. Они спокойно идут за Блегеном и в его сюжетной схеме, хотя могут, как Милонас, расходиться с ним на десятки лет в конкретных датах. Так, В. Десборо и С. Уитмен считают именно истощение сил ахейцев в великой войне причиной того, что их города оказались легкой добычей «северян» [Desborough, 1964, с. 221; Whitman, 1958, с. 43]. По Милонасу, разрушения в Микенах вообще могут быть связаны не с нападением внешнего врага, а с легендарной «Орестеей» — историей убийства вернувшегося с войны Агамемнона и последующей местью царевича Ореста за отца [Mylonas, 1966, с. 226].
Труднее тем, кто идет в этом споре не за Блегеном, а за Фурумарком (таковых большинство). Матц подчеркивает, что 1240-е годы до н. э. и позднее — время, хорошо согласующееся с возможностью «северного» нашествия, но очень плохо — с подготовкой объединенного похода Греции на Трою. По его оценке, крах ахейских столиц и культурно связанной с ними Трои VIIа, скорее всего, мог быть вызван одной и той же причиной [Matz, 1956, с. 144]. Матц, Шахермейр, К. Нилендер, О. Броунир, М. Вуд, Д. Истон и другие возвращаются от Блегена к Дерпфельду, признавая «Приамову Трою» в могучей Трое VI, павшей в дни микенского величия, в начале XIII в. до н. э. [Nylander, 1963, с. 10 и сл.; Broneer, 1966, с. 358 и сл.; Schachermeyr, 1982, с. 91; Wood, 1985, с. 230 и сл.; Easton, 1986, с. 190]. На фоне этой резкой антиблегеновской реакции понятны и идеи Подцувайта, и настроение скептиков, вроде М. Финли или Ф. Хампля, вообще не считающих Троянскую войну сколько-нибудь надежным историческим фактом [Hampl, 1962; Finley, 1964].
Между тем нетрудно увидеть, что всех этих ученых, при многочисленных разногласиях, объединяет один постулат. Для них общеахейское предприятие, подобное Троянской войне, после бесчинств «северян» и вступления Микенской Греции в финальную, кризисную фазу ее истории, — вещь немыслимая, априори исключенная. Кажется, лишь один специалист в этом отношении идет «против течения». Это Э. Вермёль, допускающая, что ахейцы вполне могли сплотиться для такого похода через небольшой промежуток времени после драматического начала этого периода [Vermeule, 1964, с. 277]. Отметим, забегая вперед, что выводы, к которым мы приходим в настоящей главе, побуждают нас не только высоко оценить проницательность исследовательницы, но пойти еще дальше, сделав более сильное утверждение, а именно: Троянская война Атридов не только могла произойти после разорения Пелопоннеса северными племенами, она по характеру своему должна была произойти после него и вследствие него. Между этим историческим катаклизмом и величайшим, по восприятию греков, событием их сказаний реконструируется не просто временная близость, но фундаментальная причинная связь.
3
Если признать вместе с критиками Блегена, что ахейцы не могли быть разрушителями Трои VIIа, то неизбежно встает вопрос: кто же разрушил этот город и как его драматический конец вписывается в историю Западной Анатолии конца XIII в. до н. э.? И здесь такие разнящиеся между собой ученые, как Шахермейр, Финли, Хойбек, Матц и многие другие, высказывают мысль, обычно не приходящую на ум гомероведам, размышляющим об исторической подоплеке Троянской войны. Коротко эта мысль заключается в том, что этот город уничтожили так называемые «народы моря». Под «народами моря» специалисты по истории Древнего Востока вслед за египтянами конца XIII — начала XII в. до н. э. понимают множество различных племен, совершивших в это время два больших нападения на Египет и в самих египетских памятниках связываемых с «морем» (jm), или, перифрастически, с «великой зеленью» (w; ḏ wr). Произошли эти события при двух фараонах XIX и сменившей ее XX династии — соответственно Мернептахе и Рамсесе III. Надписи этих фараонов и являются главным источником, относящимся к «народам моря». Причем по крайней мере второй из этих походов далеко вышел за рамки локального столкновения «народов моря» с египтянами и имел неизгладимые последствия для истории всего Средиземноморья и Ближнего Востока. В первом же из них есть весьма интригующие моменты, на которые как-то мало обращалось внимания в научной литературе.
Точная датировка этих событий весьма затрудняется общей дискуссионностью древнеегипетской хронологии. Так, если принимать за точку отсчета воцарение Рамсеса II, то окажется, что для этого события существует несколько предлагаемых дат: это или 1304 или 1290 или даже 1279 г. до н. э. [Parker, 1957, с. 42 и сл.]. Соответственно с принятием ранней даты нам следует отнести первое нападение «народов моря» к 1232 г. до н. э., а второе к 1191–1190 гг. до н. э. [Barnett, 1975, с. 366–371]. Вторая, промежуточная дата воцарения Рамсеса II даст нам для этих битв соответственно 1219 и 1180–1177 гг. до н. э. [Schachermeyr, 1982, с.91]. А если отсчитывать от самой поздней из допускаемых дат, то первое нападение придется на 1209/1208 г. до н. э. Тогда исследователи либо вынуждены сдвигать вторую войну куда-то в 1160-е годы до н. э., что по многим причинам кажется неправдоподобно поздней датой, либо же, основываясь на гипотезе, значительно сокращающей время правления Мернептаха, относят это вторжение все к тем же 1180–1177 гг. до н. э. [Hölbl, 1983, с. 125]. Ниже мы будем исходить из двух первых хронологий, самой ранней и промежуточной, расценивая разрыв между ними как временной интервал, в пределах которого должны были произойти описываемые события.
Начинаются они с того, что на 5-й год правления фараона Мернептаха (в ранней датировке 1232 г. до н. э) во время очередной войны между Египтом и его соседями — лувийцами последние получили необычных союзников. Среди них неожиданно оказались лукка-ликийцы (Rw-kw), а также другой народ, хорошо знакомый египтянам с начала XIV в. до н. э., народ шардана (Š;-r;-d;-n; 2) [Breasted, т. 3, с. 241 и сл.]. В XIV–XIII вв. до н. э. отряды шардана, неизвестно откуда пришедших на юг Средиземноморья, служат наемниками в Библе, в Египте, где для поселений этого народа выделяются специальные области в долине Нила. Не исключено, что они же составляли в Угарите воинские подразделения ṯrtnm [Faulkner, 1975, с. 226; Barnett, 1975, с. 360; Lehmann, 1983, с. 80 и сл.]. Контингент шардана, входя в войско Рамсеса II, храбро сражался против хеттов при Кадеше. При Мернептахе же шардана внезапно изменили ориентацию, выступив с ливийцами против Египта. То обстоятельство, что Мернептах упоминает их в числе «северных народов, пришедших со всех сторон», заставляет думать о прибытии в Левант некой новой группы шардана. Во всяком случае, старая гипотеза, связывающая их имя с названием города Сарды в Лидии [Mertens, 1960, с. 79], должна быть решительно отклонена, ибо основывается лишь на греческой передаче малоазийского топонима, не считаясь с его звучанием в оригинале (ср. лид. Sfarda, др.-перс. Sparda — «житель Сард» [Zgusta, 1984, с. 542]).
Но помимо известных в Египте ликийцев-лукка и шардана врагами фараона в этот год оказались народы, ранее не упоминавшиеся в египетских текстах. Во-первых, это народ i-ḳ-w;-š;.также i-ḳ-j-w;-š; или i-ḳ-w;-j-š;, в котором легко узнаются Ἀχαιϝοί — греки-ахейцы. В одной из надписей, посвященных этой войне, стеле из Атрибиса, фараон специально выделяет из скопища врагов акайваша и говорит о них с осуждением как об «обитателях чужой страны у моря, которых с собой привел презренный вождь» [Schachermeyr, 1982, с. 45] (перевод Г. Хёльбля по изданию [Kitchen, т. 4, с. 22]). Рядом с ними выступает в битве народ Tw-rw-š; или Tw-rj-š; [Breasted, т. 3, с. 243, 249]. Позднее, при Рамсесе III, данный этникон появляется также в записи Tj-w-r;-š; [Breasted, т. 4, с. 75–76], и, по-видимому, он должен обобщенно транслитерироваться как Turša. Без сомнения, турша — тот самый эгейский этнос, который назывался греками позднее Τυρσανοί или Τυρσηνοί, с ассимиляцией Τυρρηνοί. Это тирсены или тиррены; их ветвь в конце II — начале I тысячелетия до н. э. в Италии дала начало историческим этрускам.
И наконец, внимания — хотя, скорее всего, роль его в этой войне была невелика — заслуживает племя Š;-k;-rw-š;, условно Šakaluša. Это не кто иной, как сикелы или сикулы, греч. Σικελοί, лат. Siculi.
От них идет название острова Сицилия, но их распространение в древности не ограничивалось этим островом. Их имя засвидетельствовано на адриатическом побережье Италии, от Бруттия до Пицена (Thyc. VI,2; Plin. III, 110 и сл.), и точно так же на противоположной стороне Адриатики, в Акарнании, а кроме того, в формах Siculi, Siculotae в Далмации (Paus. I,28; Plin. III,141, 143). За пределами адриатического бассейна известны холм Σικελία в Аттике (Paus. VIII, 11), некая область с тем же названием во Фракии и, наконец, «малая Сицилия» как другое название крупнейшего из Кикладских островов — Наксоса [Detschew, 1976, с. 442]. Совпадение этого названия с фракийским, вероятно, не случайно, ибо у Диодора (V.50) говорится о раннем заселении Наксоса некими фракийцами, среди которых назван герой Сикел. Это очевидный этноним северобалканского происхождения. Причем возникает впечатление, что основным очагом распространения его носителей была Адриатика и лишь спорадически они проникают в Эгеиду, в том числе и на Киклады. Союзные связи шакалуша и шардана в дни Мернептаха побудили Г. Леманна наметить и для последнего этнонима любопытные допустимые параллели на севере Балкан. По его мнению, на Балканах к тому же гнезду форм принадлежит название города Σάρδος в Иллирии (сейчас г. Shurda в Албании [Mayer, 1957, с. 294]); его жители в античности звались Σαρδηνοί — сардены (St. Byz., s.v. Σάρδος), имелась также область Sardus, Serdica на крайнем северо-западе Фракии, вблизи иллирийских территорий, охватывающая окрестности нынешней Софии [Detschew, 1976, с. 432]. Наблюдения Леманна явно нацелены на гипотезу о шакалуша и шардана в качестве этносов, генетически связанных с одним и тем же северобалканским регионом, что будто бы и могло в какой-то мере их сплотить в атаке на Египет (см. карту Леманна и его комментарий в GÄL, с. 177 и сл.).
В большой надписи из Карнака Мернептах патетически повествует о том, как враги «внезапно проникли в долины Египта к великой реке» и принялись свирепо опустошать страну и сколь стремительно фараон выступил на врага: «его отборнейшие лучники были собраны, его колесницы были приведены со всех сторон» и т. д. [Breasted, т. 3, с. 242, 244]. Цифры убитых и пленных воинов разных народов, хотя и немного варьирующиеся по разным надписям Мернептаха и частично поврежденные, дают, однако, представление о реальном вкладе в эту войну союзников, выступивших против Египта. Число убитых ливийцев превышало 6200–6300 человек, число взятых в плен — 9300 человек. По сравнению с этими цифрами количество «северян» может показаться незначительным. Так, для шакалуша получаем цифру убитых примерно в 220 воинов, для турша — около 740 человек. Акайваша погибло значительно больше: в начале века в своде Брестеда численность убитых оценивалась в 2201 человека [Breasted, т. 3, с. 255]. Позднее в издании рамессидских надписей К. Китчена [Kitchen, т. 4, с. 22] это чтение пересмотрено и неоспоримо установлена значительно меньшая цифра в 1213 человек, сейчас приводимая большинством авторов (ср. [Schachermeyr, 1982, с. 45; Hölbl, 1983, с. 124], однако в работах Барнетта и Сандарс [Barnett, 1975, с. 367; Sandars, 1978, с. 114] численность дается по-прежнему по Брестеду). Кроме того, в надписи из Атрибиса в поврежденных строках стоят цифры 200 и 32, вероятно, относящиеся к убитым шардана и лукка соответственно [Kitchen, т. 4, с. 22] (ср. [Hölbl, 1983, с. 124]).
Между тем, вникнув в причины ошибки Брестеда, мы получим результат большой важности. Этот ученый признавал, что восстановил для стелы из Атрибиса цифру 2201 под влиянием близкого числа 2370 в надписи из Карнака [Breasted, т. 3, с. 255]. Но, обратясь к этой надписи, обнаруживаем, что здесь цифра 2370 относится не к одним лишь ахейцам. В этом месте (см. [Breasted, т. 3, с. 248; Kitchen, т. 4, с. 8]) пересчитываются порознь погибшие ливийцы и их северные союзники. При подсчете у первых отсекались фаллосы, а у вторых — по руке, затем большая часть каждой кучи была доставлена пред лицо фараона. Так, из 6359 фаллосов перед Мернептахом были повержены лишь 6111 и с ними 2370 рук. Отсюда можно заключить, что всего в битве с египтянами полегло около 2400 пришельцев с севера, а из них, как сказано в надписи на стеле из Атрибиса, больше 1200 составляли акайваша-ахейцы. Проверить этот вывод можно, сложив указанные выше цифры для акайваша, турша, шардана, шакалуша и лукка: получим те же 2400 с небольшим человек, что примерно соответствует показаниям надписи из Карнака. Если по численности павших в каждом отряде судить о размерах самих отрядов, то ахейцы составили свыше половины пришлого воинства, сомкнувшегося с ливийцами в нападении на Египет.
В этом плане оказываются знаменательны слова о «презренном вожде», приведшем акайваша в эту страну. Либо здесь имеется в виду вождь ливийцев — и тогда акайваша выделяются среди всех северных отрядов как основная союзная ливийцам сила, связанная с ними особым договором, — либо же, что гораздо вероятнее, речь идет о вожде самих акайваша — и тогда они опять-таки выделяются среди прочих «северян», о чьих предводителях в надписях не говорится ни слова. Еще поразительнее следующая деталь, вызывавшая много дискуссий в литературе о «народах моря». В надписи из Карнака акайваша настойчиво противопоставляются ливийцам, не знающим обрезания, как народ, практикующий эту процедуру — и именно этим обстоятельством мотивируется отсечение у одних фаллосов, а у других — рук [Breasted, т. 3, с. 248; Kitchen, т. 4, с. 8]. Как ни удивляет это свидетельство в сравнении со всем, что известно об обычаях позднейших, исторических греков, но факт знакомства разбитых Мернептахом ахейцев с обрезанием сейчас общепризнан [Astour, 1965, с. 355 и сл.; Helck, 1971, с. 227; Barnett, 1975, с. 367;Hölbl, 1983, с. 125; Lehmann, 1979, с. 490 и сл.]. При объяснении этого свидетельства нужно, во-первых, иметь в виду, что такой обычай мог изначально возникнуть у ахейцев Крита и Кипра под влиянием их соседей на юге Средиземноморья — тех же египтян и семитских народов Леванта в общем контексте культурного влияния. Во-вторых же, в самих Микенах широко прослеживается подражание ритуальной практике Египта — в попытках применять бальзамирование для сохранения тел умерших, погребальной архитектуре, в обычае наполнять гробницу золотыми изделиями и т. д. [Schachermeyr, 1984, с. 64 и сл.]. Таким образом, распространение обрезания среди ахейцев не имеет в себе ничего неправдоподобного. Но оно практически невероятно для шакалуша-сикелов и турша-тирсенов — народов Северной Эгеиды и Адриатики, прежде не появлявшихся на юге средиземноморского бассейна. И в самом деле, в египетских надписях ни слова не говорится об обрезании у этих народов, однако указывается, что при подсчете павших у них так же, как у акайваша, отсекались руки! Одним из авторов данной работы этому парадоксальному факту предложено следующее объяснение. Впервые в своей истории столкнувшись с враждебным войском из двух, ливийского и эгео-адриатического, компонентов, египтяне при их различении использовали привычную классификационную оппозицию «рука-фаллос», причем все «северяне» оказались объединены с практикующими обрезание ахейцами, как основным войском, вошедшим в союз с ливийцами. Прочие мелкие отряды расцениваются как второстепенные этносы того же «ахейского» круга, и при подсчете убитых среди них используется «ахейский» классификационный показатель [Цымбурский, 1994].
Тем поразительнее, что акайваша, в этой войне выступающие ядром бросившего вызов фараону на его собственной земле эгео-адриатического мира, после этого навсегда исчезают с горизонта властителей Египта. Это как раз та загадка, которую нам предстоит разрешить в данной главе. Более того, если при отце Мернептаха — Рамсесе II из Греции в Египет широко ввозилась керамика позднемикенского стиля III В, то со времени Мернептаха торговые связи с ахейским регионом полностью прекращаются. Правда, исследователи отмечают, что в Угарите меч с картушем этого фараона соседствует с микенскими сосудами [Desborough, 1964, с. 239 и сл.; Lewartowski, 1989, с. 14], однако вряд ли можно доказать, что эти сосуды не были привезены из Греции ранее. Нападение акайваша на Египет отчетливо синхронизируется с прекращением ввоза сюда посуды импонировавшего египтянам стиля, который исторически был связан с наивысшим расцветом ахейского мира и которому положило конец наступление на этот мир северобалканских народов, в том числе, если не преимущественно, соседствующих с Адриатикой.
На события, происходившие в Южном Средиземноморье в последующие годы, проливают свет документы угаритских архивов: письмо хеттского царя в Угарит с требованием немедленно переправить в Хаттусас некоего знатного хетта, захваченного пиратами šikalaju и выкупленного угаритянами (RS 34, 129); посылаемые с Аласии-Кипра к Аммурапи, царю Угарита, панические письма о появившихся вблизи кипрских берегов вражеских кораблях (RS L1); ответ Аммурапи с сообщением о высадке тех же неприятелей в угаритских окрестностях и словами о невозможности в данный момент оказать им сопротивление ввиду сосредоточения угаритского войска в стране Хатти, а угаритского флота — в портах страны Лукка (RS 20,238) — все это свидетельства консолидации крупных государств региона в попытке обуздать сикельское пиратство, уже перерастающее в крупномасштабные военные действия [Barnett, 1975, с. 369; Lehmann, 1979; Schachermeyr, 1982, с. 57 и сл.]. Свидетельством достигнутого в эти годы взаимопонимания между Египтом и Хеттской державой является отправка Мернептахом в год его победы над союзом ливийцев и «северян» большого количества пшеницы в порядке «продовольственной помощи» в страну Хатти, где разразился голод [Lehmann, 1979, с. 486; Schachermeyr, 1982, с. 55]. Попыткой навести порядок в этом беспокойном секторе Средиземноморья выглядит и блестящий поход Суппилулиумаса на Кипр, единственная крупная морская операция в хеттской истории, обеспечить которую, как предполагается, и было призвано упомянутое сосредоточение союзных хеттам угаритских кораблей в портах на юго-востоке Анатолии [Barnett, 1975, с. 369 и сл.; Schachermeyr, 1982, с. 62 и сл.].
И тем не менее отодвигаемая почти 30 лет общими усилиями левантийских держав катастрофа в конце концов грянула — правда, уже после кончины Мернептаха, при новой XX династии. Сперва, на 5-й год правления Рамсеса III — в 1194/1180 г. до н. э. ливийцев в их новом натиске на Египет поддержали ранее неизвестные египтянам народы Pw-r;-s:-tj и Ṯ-k-k;-r; [Breasted, т. 4, с. 24]. Район их происхождения просматривается очень хорошо — это опять Балканы. Имя Pw-r;-s;-tj восходит к названию части эпирского побережья Palaiste, Palaistine (Caes. Bel. civ. 3, 6; Lucan, V,460), также в виде Παλαιστήνη (Lyd. de mag. III,46) оно встречается как общее название для Эпира; его можно сопоставить и с наименованием верхнего течения Стримона во фрако-иллирийском пограничье Palaistinos (Ps.-Plut. de Fluv. 11, 1) (см. [Kretschmer, 1943, с. 152 и сл.; Bonfante, 1946, с. 251 и сл.]; GÄL, с. 177 и сл. — карта и примечания Г. Леманна). Видимо, вариант передачи той же основы — в известном из схолий к «Илиаде» (XVI,233) названии Зевса в эпирской Додоне — Пеластский (Πελαστικός) вместо Пеласгический.
Имя Ṯ-k-k;-r;, встречающееся также в вариантах Ṯ-k;-r; и Ṯ-kw-r; [Breasted, т. 4, с. 75 и сл., 201], определенно соответствует северо-эгейскому этнониму Τευκροί. Последний для нас важен тем, что он в античности неизменно в той или иной форме связывался с традициями Троады: считавшие себя потомками тевкров пеоны настаивали на своем родстве с троянцами (Hdt. V,13). Сама Троада именовалась также Тевкридой, и в эпоху Геродота маленький троянский этнос гергиты рассматривался как последний реликт древних тевкров (Hdt. V,122; VII,43). Наконец, имя Тевкра в троянских сказаниях носит саламинский герой, будто бы рожденный вывезенной из Илиона царевной Гесионой. Кстати, то же имя приписывалось и древнейшему прародителю троянцев. Хотя в античной литературе и предпринимались попытки изобразить этого давнего Тевкра перебравшимся в Троаду критянином (Verg. Aen. III,104 и сл.), но реально для данного этникона нигде не прослеживаются глубокие связи, кроме региона, включающего Троаду. В союзе пеласгов (палайстов) и тевкров соединились происходящее в рассматриваемую эпоху «пробуждение» Западных Балкан, проявившееся в активизации сикулов и, по Дегер-Ялкотци, в атаке на Грецию племен «варварской керамики», с движением этносов из окрестностей Трои (куда, как увидим, относятся и тирсены). В этот раз Рамсес III, как некогда и Мернептах, отразил совместное наступление ливийцев и пришельцев из Эгеиды. Но всего через три года, в 1191/1177 гг. до н. э. на Египет надвинулась опасность, несравнимая со всем, что он изведал в своей истории, включая завоевание кочевниками-гиксосами. В надписях Рамсеса III, относящихся к восьмому году, говорится о грозном заговоре «северян» на их островах, об их твердой уверенности в осуществимости их грандиозного плана, на самом деле изменившего всю карту Передней Азии. В этом походе пеласты и тевкры соединились с турша-тирсенами. шакалуша-сикелами и какими-то группами шардана [Breasted, т. 4, с. 37 и сл., 201; Hölbl, 1983 — таблица на вкладыше]. Кроме того, к ним примкнули еще два народа — некие W;-š;-š;,отождествимые с карийцами, жителями области Ούάσσος вблизи Галикарнасса [Barnett, 1975, с. 377], и племя D;-j-n-jw-n;, один раз именуемое также D;-j-n-jw без конечного n; [Breasted, т. 4, с. 38, 48 и сл., 201]. Последний народ мы через 300–400 лет находим в Киликии, где в надписи-билингве IX–VIII вв. до н. э. из Кара-тепе, составленной царем Аситаваддой на иероглифическом лувийском и финикийском языках, в финикийской части подданные Аситавадды много раз именуются dnnym [Barnett, 1953; Astour, 1965, с. 2 и сл.]. Весь этот конгломерат народов двигался и сушей, и морем, причем перемещавшиеся по суше везли на повозках свои семьи: это уже был не набег ради добычи, но целеустремленное переселение [Hölbl, 1983, с. 132]. Рамсес III сообщает, что на пути своем мигранты сокрушили страну Хатти (H-t;), Кархемыш (Ḳ-r;-k;-т-š;), Арцаву (i-r;-ṯw), Аласию-Кипр (;-r;-š;) [Breasted, т. 4, с. 37]. Хаттусас лежал в руинах, завоеватели разбили свой стан в дотла опустошенном ими Амурру. Видимо, под их же ударами в этот год погиб Угарит [Schachermeyr, 1982, с. 60 и сл.]. Ясно, что на таком огромном пути, пролегавшем для одних групп переселенцев через всю Анатолию, для других — через средиземноморские острова, включая Крит, балканские народы не могли сохранить чистоты этнического облика. Когда войска Рамсеса III с огромным напряжением разбили эти полчища и пеласты, откатившись на восток, появляются в Библии как воинственные филистимляне, давшие свое имя стране Палестине (Palaestina), тождественное наименованию их эпирской родины, некоторые из них уже носят малоазийские имена [Albright, 1975, с. 508].
После этого разгрома пути «народов моря» разошлись. Отступившие в Ливию шардана вскоре ушли на Сардинию, получившую свое название от их этнонима. Это подтверждается как многочисленными позднебронзовыми статуэтками воинов на этом острове, внешне идентичными изображениям шардана на египетских рельефах [Pallottino, 1950, с. 17], так и преданиями о том, как прародитель сардинцев Сард, приплыв с войском из Ливии, заселил этот остров (Paus. Х,17). На Запад перебрались и турша-тирсены.
В то же время «народы моря», оставшиеся на берегах Леванта, в том числе филистимляне, неизменно утверждают в своих поселениях культуру позднемикенского периода III C — культуру распадающегося ахейского мира [Dothan, 1983; Albright, 1975, с. 509; Desborough, 1964, с. 237 и сл.; Lewartowski, 1989, с. 173]. Очевидно, среди них значительное влияние должны были иметь элементы, исторически ориентированные на Грецию, что вполне достоверно для тевкров, племен, которые издавна могли быть причастны к ахейской цивилизации через Троаду. Как мы уже отмечали, пеласты-филистимляне также происходили с окраины Греции, из Эпира. К тому же они явно двигались из Адриатики на Ближний Восток через Крит. На это указывает Библия, называющая данный народ «критянами» — kərētī (Иез. 25,16), а кроме того, настойчиво связывающая их со страной Kaptor (Иер. 47, 7; Ам. 9,7), тождественной Криту, в египетской традиции — Кефтиу [Weippert, 1981, с. 225 и сл.]. За время пребывания на этом ахейском острове они должны были еще в большей степени приобщиться к материальной стороне микенской цивилизации, что и проявилось после перехода их к оседлой жизни в Палестине.
С учетом всех этих данных мы вправе теперь вернуться к поставленному вопросу: как могут соотноситься предание о Троянской войне, гибель Трои VIIa и два события, объединяемых историками под влиянием египетских источников в единый сюжет «походов народов моря», т. е. факт коллективной памяти греков, факт археологии и факты «египтоцентристски» ориентированной письменной традиции?
4
Оговоримся сразу же: походы «народов моря» в изображении египетских источников, рассматриваемые многими учеными как «достоверная» историческая альтернатива «мифической» Троянской войне, на самом деле представляют такой же случай, как трактовка событий в долине Каика в анналах Тудхалияса IV в сопоставлении с их же рецепцией в греческой легенде. Мы точно так же имеем здесь параллельное отражение фрагментов одного и того же событийного комплекса в свидетельствах разного типа — с одной стороны, в фольклорном предании, концентрирующемся вокруг темы разрушения Трои, а с другой — в типичном для Древнего Востока квази-историческом письменном официозе, где на первый план выдвигаются мироупорядочивающие деяния побеждающего хаос Властителя.
В Троянском цикле налицо несколько сюжетов, легко сопоставимых с египетскими сообщениями о деяниях «народов моря». Прежде всего это хорошо прослеживаемая тема высадки ахейского войска в Египте непосредственно после разрушения Приамовой Трои, как бы в эпилоге Троянской войны, и сокрушительного разгрома ахейцев силами египетского царя (фараона).
К этой теме два раза, с небольшими нюансами, обращается Одиссей у Гомера в своих так называемых «лживых рассказах» на Итаке, когда неузнанный царь в обличье нищего рассказывает слушателям различные версии своей вымышленной биографии. В XIV песни (ст. 199 и сл.) он изображает себя побочным сыном некоего знатного критянина, преуспевшим в войнах и набегах и девять лет сражавшимся в Троаде рядом с царем Идоменеем. Вернувшись с Троянской войны и пробыв в своем доме не более месяца, герой этого рассказа снаряжает девять кораблей и отбывает со своей дружиной в Египет. Здесь его воины, отправленные на разведку, «поддавшись дерзостному устремлению и повинуясь своей ярости, сразу же начали грабить прекрасные поля египетских мужей, угонять их женщин и малых детей, а их самих убивать. Быстро слух дошел до города. Внявшие крику о помощи [египтяне] явились вместе с засветившейся зарей. Вся долина наполнилась пешими воинами и колесницами и сверкающей медью» (Od. XIV,262–268). Далее (ст. 269–282) греки обращаются в бегство, их убивают или обращают в рабов. Но их предводитель, увидев вблизи самого египетского царя, успевает, отбросив оружие, сдаться лично ему в плен, и тот увозит рыдающего пленника к себе во дворец, хотя разъяренные египтяне и грозят критянину смертью. В XVII песни (ст. 415 и сл.) Одиссей пересказывает ту же историю с изменениями. Здесь нет указаний на критское происхождение рассказчика, путь в Египет, проделываемый в предыдущей версии критянами за пять дней, назван просто «долгой дорогой», финал же проигранной битвы для побежденного героя оказывается еще более плачевным — взяв в плен, его продают в рабство на Кипр. Поразительно, что вся эта картина из «Одиссеи»: неожиданное появление врагов в долине Нила, насилие и грабежи, стремительное появление египетского царя с колесницами и пехотой — почти буквально совпадают с рассказом Мернептаха в египетском источнике о его победе над врагами, среди которых он выделяет «презренного вождя акайваша».
Видимо, та же тема высадки ахейцев после опустошения Трои в Египте воплотилась в известном легендарном сюжете египетского плавания Атрида Менелая. Сейчас мы имеем в виду не столько даже гомеровскую версию этого сюжета. У Гомера приход спартанского царя в Египет имеет окказиональный, непреднамеренный характер. Буря забрасывает плывущего из Трои Менелая к критским берегам, здесь большинство его кораблей разбивается о скалы, а сам он с пятью кораблями оказывается в Египте, где проживает в доме царя, торгует, посещает Ливию и Финикию, чтобы через много лет вернуться в свою Спарту (Od. III,300 и сл.; IV,125 и сл.). Гораздо интереснее версия, приводимая Геродотом (II,118 и сл.), со ссылками на беседы с египетскими жрецами. По Геродоту, Парис-Александр, спеша в Илион с Еленой и похищенными у греков сокровищами, против воли попал в Египет; его царь вынуждает троянца оставить в этой стране и Елену, и остальную добычу. Но греки, прибыв под стены Илиона, не поверили заверениям троянских тевкров, что в Трое нет ни жены Менелая, ни богатств. Когда же город был разрушен после осады, Менелай, убедившись в справедливости сказанного тевкрами, отделился от других ахейцев и направился со своими кораблями в Египет. Здесь египтяне ему выдали Елену и сокровища, но вскоре между ними и ахейским вождем вспыхнула вражда, ибо, задерживаемый в Египте отсутствием попутного ветра, Менелай принес в жертву ветрам египетских детей. Преследуемый египтянами, желающими отомстить за злодейства, он бежал в Ливию. Р. В. Гордезиани, сближая эту легенду с надписями Мернептаха, говорящими о первом вторжении в дельту Нила «народов моря», включая ахейцев-акайваша, делает акцент на мотивах бегства Атрида от египтян и обретения им убежища у ливийцев, бывших, напомним, в этой войне союзниками «народов моря» [Гордезиани, 1978, с. 194 и сл.]. Но едва ли не важнее то, что в подобной трактовке появление ахейского флота в Египте становится как бы частью Троянского похода Атридов, продолжением «поисков Елены», не прекращающихся и после сожжения Приамовой Трои. Разграбление Троады и египетский поход оказываются звеньями единого сказания: Троянская война не ограничивается северо-востоком Эгеиды, но для какой-то части ахейцев выливается в операции на юге Средиземноморья.
Как в истории Менелая, так и в «лживых» рассказах Одиссея ахейцы появляются в Египте сразу же после ухода из Трои и в обоих случаях прибывают со стороны Крита, что можно сопоставить с настойчивыми упоминаниями об островах «народов моря» в египетских надписях. Вообще, сравнивая эти легендарные мотивы с египетскими свидетельствами, в особенности с надписями Мернептаха, допустимо воспользоваться теми же критериями достоверности и методикой, примененными выше (гл. 2), когда мы рассматривали «Псевдо-Илиаду», чему способствует упомянутый выше параллелизм засвидетельствования одного и того же реального события в фольклорно-литературном и официально-историческом источниках.
До походов Александра Македонского только для эпохи «народов моря» оказывается достоверно зафиксировано вооруженное вступление греков-ахейцев (акайваша) в Египет с грабительскими и завоевательными целями. Но точно так же во всей греческой традиции только в «лживых» рассказах Одиссея мы видим разграбление ахейцами долины Нила. Отождествлению поддаются места, к которым привязываются эти ситуации, сопоставима и их хронология: в одном случае это первые же месяцы после сожжения Илиона, в другом, в зависимости от принимаемой датировки, интервал между концом 1230-х и началом 1210-х годов до н. э. Наложение этих дат должно вполне удовлетворять критиков Блегена, настаивающих на передвижении времени пожара Трои VIIa ближе к концу XIII в. до н. э. Наконец, сходны и фабулы обоих событий, исторического и эпически-легендарного: нападение на Египет врагов с моря, осознание населением опасности, надвинувшейся на страну, выдвижение большого войска из колесниц и пехотинцев, возглавляемого лично фараоном, разгром и пленение нападающих, обращение многих греков в рабство. Мифологизированную аллюзию тех же событий можно усмотреть и в бегстве приплывшего за Еленой и сокровищами «преступного» Менелая в Ливию от преследующих его египтян.
Поскольку по хеттскому династическому летосчислению победа Мернептаха должна приходиться на конец царствования Тудхалияса IV или на первые годы после смерти этого царя, то оказывается, что с его правлением синхронизируемы уже не один, а два эпизода, составлявшие, по воспоминаниям греков, начало и конец троянской эпопеи: «Псевдо-Илиада» и египетский поход. Между этими двумя, как выясняется, не только реальными, но и близкими по времени коллизиями для греков простиралась вся Троянская война Атридов. Между тем большинство специалистов не будет возражать против датировки конца Трои VIIa теми же годами. Правда, традиция ничего не говорит о союзе греков в их нападении на Египет с другими племенами. Однако в числе «многоскитальных разбойников» (ἅμα ληϊστῆρσι πολυπλάγκτοισιν — Od. XVII,425), с которыми объединяется герой рассказов Одиссея в этом походе, ничто не мешает усмотреть хотя бы тех же пиратствующих сикулов.
Гораздо сложнее дело обстоит с попытками обнаружить у греков воспоминания о втором, «большом» наступлении «народов моря» на Левант, уничтожившем хеттскую державу. В этом плане привлекались рассказы о саламинском герое Тевкре, будто бы отвергнутом после самоубийства его сводного брата Аякса их общим отцом Теламоном и отправившемся в скитания. По легенде, придя на Кипр, он женился на дочери местного царя и в память о своей родине заложил город Саламин, дав начало знатному роду Тевкридов (Paus. I,3,2; II,29,4). Конечно, в истоках эта легенда должна быть связана с проникновением на средиземноморский юг в конце XIII — начале XII в. до н. э. североэгейских тевкров, племен, союзных пеласгам как раз по «большому» походу «народов моря» (о кипрских изделиях первой половины XII в. до н. э. с характерными изображениями знакомых по египетским памятникам воинов-теккара см. [Wainwright, 1963, с. 146 и сл.]). У Атенея (VI,256) кипрское племя гергинов, якобы родственное троянским гергитам, рисуется в качестве троянцев — пленников Тевкра, поселенных на острове этим героем. Фамильное имя кипрских Тевкридов так же может восходить к этнониму предполагаемого прародителя, как, например, имя Фракидов в Дельфах (Diod. XVI,24). Но легко видеть, что сказание о Тевкре не донесло почти никакой исторической информации, кроме имени персонажа и сообщения о его высадке на Кипре. Похоже, в результате мощного движения греков на Кипр в исходе II тысячелетия до н. э. отпрыски тевкров оказались практически ассимилированы греками-ахейцами, позднейшими носителями аркадо-кипрского диалекта. Созвучие догреческого названия острова Саламин у побережья Аттики и города Саламина на Кипре дало толчок к превращению родоначальника кипрских Тевкридов в саламинца, брата Аякса [Schachermeyr, 1982, с. 117], тем более что такая идея подкреплялась мифом о вывезенной Теламоном из Трои царевне Гесионе (об ее имени как обозначении для «уроженке страны Асия» см. в гл. 2). Так в рассказах и песнях о Троянской войне возник сын Гесионы, «полуахеец» Тевкр. В мифе о его скитаниях и поселении на Кипре историческая память оказывается деформирована почти до полной утраты сходства между сюжетом и его реальной основой. Пользоваться таким мифом для реконструкции нелегко.
Не меньше трудностей представляет и другой сюжет, неоднократно трактовавшийся в связи с проблематикой «народов моря». Это миф о лидийском царе Мопсе (Μόψος) или Моксе (Μόξος), будто бы сразу после Троянской войны завоевавшем Южную Анатолию, включая Памфилию и Киликию, а затем вторгшемся в Сирию и дошедшем до Финикии (Strab. XIV,4,3). По преданию, сподвижниками Мопса были ахейцы во главе с Амфилохом и прорицателем Калхантом, которые после Троянской войны пешком из сожженного Илиона двинулись прямо в Лидию. Там Калхант стал состязаться с Мопсом в искусстве прорицания, но, проиграв спор, умер (Apd.Ep. 6, 2). Амфилох же вместе с Мопсом пошел воевать в Киликию, где они вместе основали ряд городов (Strab. XIV,5,16). Позднее греки-памфилийцы считались потомками ахейских союзников Мопса (Hdt. VII,91).
Вообще о Мопсе-Моксе бытовали разнообразные поверья. Одни авторы считали его сыном фиванской пророчицы Манто и критянина Ракия либо даже самого Аполлона. Говорили, будто, придя в Анатолию из Греции вместе с матерью, он построил в Кларосе храм Аполлону, изгнав из тех мест карийцев (Paus. VII,3,2). Для других он был малоазийский уроженец, сын Лида, предка лидийцев (так Athen. VIII,346 E со ссылкой на историка Ксанфа Лидийского). Николай Дамаскин писал о Моксе как о герое, научившем народ почитать богов (FHG III, фр. 24). У Ксанфа же Лидийского Мопс, придя в сирийско-палестинский город Аскалон, расправляется с великой богиней Атаргатис, ввергая ее в озеро на съедение рыбам (Athen., там же). Предполагают, что это имя отражено во множестве малоазийских названий: ср. города Μόψου κρήνη «Источник Мопса» и Μόψου ἑστία «Очаг Мопса» в Киликии, Μοξούπολις «Город Мокса» на юге Фригии, также племя Μοξοανοί в Западной Фригии [Barnett, 1975, с. 366; Zgusta, 1984, с. 395, 405]. Последнее, видимо, из анат. *Muksuwana «происходящие от Мокса» с лувийским суффиксом происхождения-wana.
Это имя с его вариантами восходит к древней форме *Moku̯sos. Выглядящее явно негреческим, оно было хорошо известно в Микенской Греции, ибо его носители упоминаются и в Кноссе, и в Пилосе, см. KN De 1381 mo-qo-so, PY SA 774 mo-qo-so-jo (род. пад.) [Ventris, Chadwich, 1973, c. 562]. Всего примечательнее то, что в хеттском «Тексте о Маддуваттасе», к сожалению, в сильно испорченном месте (Vs. 75–76) фигурирует некий западноанатолийский правитель Muk-šuš, действовавший в конце XV в. до н. э. в тех же местах, где Маддуваттас и Аттариссий, т. е. на территории позднейших Лидии и Карии [Goetze, 1928, с. 36 и сл.].
Сенсационный интерес к фигуре Мопса Колофонского привлекла упомянутая надпись из Кара-тепе, высеченная царем Аситаваддой. Дело в том, что в ней имя подвластного Аситавадде народа dnnym сочетается с обозначением династии, к которой принадлежал этот царь, в качестве «Дома Мопса», финик. Bt Μορš или, в иероглифической лувийской части, «Дома Мукса» (Mu-k(a)-s2-s É pa-r-ná) [Astour, 1965, с. 2; Barnett, 1953, с. 142; Meriggi, 1967, с. 83, 87]. На этом основании ряд ученых отождествил подвластных «Дому Мопса» dnnvm с греч. Δαναοί «данайцы», частым, наряду с Ἀχαιοί «ахейцы», обозначением греков в гомеровском эпосе, и приравнял этот малоазийский этнос к грекам-ахейцам, после взятия Илиона перешедшим под власть Мопса и помогавшим, ему создать царство на юге Анатолии. В то же время, поскольку dnnym явно тождественны народу D;jnjwn;, нападавшему на Египет вместе с тевкрами и пеластами, Мопс Колофонский начал трактоваться как вождь крупного войска, в значительной степени состоявшего из греков-данайцев, дошедшего до Сирии и Палестины в числе «народов моря», разрушителей Кархемыша и Угарита. И наконец, поскольку до работ Г. Оттена, появившихся во второй половине 1960-х годов, «Текст о Маддуваттасе» относили к самому концу XIII в. до н. э., то в вожде Муксе из этого документа стали прямо видеть Мопса-Мокса в период до его завоеваний в Памфилии и Киликии [Barnett, 1953,с. 142 и сл.; Barnett, 1975, с. 364; Houwink ten Cate, 1961, с. 44 и сл.], вслед за Г. Боссертом, А. Дюпон-Соммером, А. Грегуаром и другими учеными (обзор см. [Astour, 1965, с. 54]). Многие вновь вспомнили предложенное Кречмером в 1930-х годах сближение названия Киликии в ассирийских документах mātQawe с приводимым у Геродота (VII,91) старым обозначением жителей этой страны ϓπαχαιοί, т. е. «под-ахейцы», «народ, подвластный ахейцам». При этом Qawe трактуется как искажение древнего Aḫḫijawā [Kretschmer, 1933; 1936а]. Но если Кречмер отстаивал данное сближение в качестве аргумента в пользу локализации Аххиявы, будто бы греческого анклава в Малой Азии, на территории Киликии, то Р. Барнетт привлекает эту гипотезу, говоря об ахейцах — создателях «царства Мопса» [Barnett, 1975, с. 365].
Ущерб этому построению нанесла передатировка «Текста о Маддуваттасе»: вместе с Маддуваттасом и Аттариссием Мукс этого документа переместился в конец XV — начало XIV в. до н. э. и перестал быть кандидатом на роль вождя «народов моря», да и имя данунитов, как увидим через несколько страниц, прослеживается для Киликии намного раньше интересующих нас десятилетий. К тому же М. Эстур обратил внимание на то, что греческая традиция наряду с лидийским царем-прорицателем Мопсом-Моксом знает его фессалийского тезку, лапифа Мопса, отличавшегося пророческими и врачевательскими способностями участника похода аргонавтов (Ap. Rhod. 1,65 и др.; Hyg.fab. 14). Та же основа представлена в названии фессалийского городка Μοψίον (Strab. IX,5,20) и в архаичном наименовании Аттики Μοψοπία (St. Byz. s.v.), формально идентичном древнему названию Памфилии (Plin. V.96), будто бы полученному этой южноанатолийской областью в честь ее завоевателя, лидийского Мопса. Суммируя подобные факты, Эстур высказал не лишенное доказательности предположение о Мопсе, сыне Аполлона, как о западноанатолийском божестве, рано принятом греками и позже считавшемся предком утвердившихся в Киликии династов [Astour, 1965, с. 65 и сл.]. Эту гипотезу можно бы подкрепить надписью из Александрии Троянской (CIG, 3577), где вслед за Аполлоном Сминфейским и его сыном Асклепием Спасителем следует группа близких им божеств Моксинитов (Μοζυνειταις, см. [Zgusta, 1984, с. 395]). Что же касается употребления имени бога в функции антропонима, то оно имеет аналоги в древнем мире — например, у хеттов Телепин как теоним и как царское имя, Сминфей — эпитет Аполлона и личное имя в Микенской Греции и т. д.
Сейчас достоверным следует считать лишь прибытие в Киликию династов из «дома Мопса» со стороны Карии и Лидии, а вероятным — участие в этом завоевании греков-ахейцев, чье имя отразилось в этниконе ϓπαχαιοί. Но мы не знаем, возникло ли «царство Мопса» на юге задолго до движения «народов моря», или в ходе его, или же по его следам, когда вызванные им перемены на политической карте региона могли развязать инициативу местных властителей и подтолкнуть их к попыткам создания новых «империй». Наконец, неизвестно, не могли ли эти лидийско-карийские династы быть на самом деле потомками Мукса — современника Аттариссия, не носил ли некий его потомок, возглавивший это переселение, то же имя, что и пращур, не произошла ли в этом случае контаминация исторического персонажа с пророчествующим полубогом. Неясных моментов здесь много.
Итак, наиболее отчетливыми реминисценциями в греческих легендах и эпосе событий, связанных в египетских надписях с натиском «народов моря», следует считать разгром ахейской дружины войском фараона в «лживых» рассказах Одиссея и, вероятно, дублирующее ту же тему египетское плавание Менелая, особенно в версии Геродота с финальным бегством в Ливию. Более всего эти сюжеты перекликаются с первым нападением «народов моря», отбитым при Мернептахе. Однако в то же время их особенностью, как и более смутных отголосков второго похода «народов моря» в истории Тевкра и, возможно, Мопса, является четкое их тяготение к Троянскому циклу. Все, что коллективная память греков могла сохранить о делах «народов моря», связывается в ней с образом Троянской войны и с ее последствиями.
5
Ученые, отвергающие историческую достоверность преданий о Троянской войне или по крайней мере не приемлющие предложенного Блегеном отождествления Трои VIIa с «Троей Приама», охотно указывают на «народы моря» как на самых вероятных разрушителей этого города [Heubeck, 1961, с. 115; Finley, 1964, с. 5 и сл.; Nylander, 1963, с. 9 и сл.; Hampl, 1962, с. 48 и сл.]. Казалось бы, велика ли разница, коль скоро точно известно, что в число этих народов входили ахейцы? На самом деле, по мнению скептиков, принятие этой альтернативы подрывает доверие к традиции, ибо египетские надписи будто бы дают совсем другую картину, чем Гомер и прочие греческие авторы. Вместо сплочения ахейского мира вокруг царя Микен, поднимающего греческие племена в священный поход на Трою, мы видим конгломерат этнически разнородных дружин, грабящих средиземноморские города, и среди этого воинства группу ахейцев, неизвестно откуда пришедших — из континентальной Греции, или с островов, или из малоазийских поселений. Если даже воспоминания о набегах этих пиратов претворились с эпическими преувеличениями в Троянских сказаниях, велика ли цена таким свидетельствам, до неузнаваемости деформирующим реальность?
Суммировать все «позитивные» данные, т. е. археологические материалы и свидетельства документов из хеттских и египетских архивов конца XIII в. до н. э., с тем чтобы на их основе воссоздать целостную картину событий этого времени, постарался в 1980-х годах в серии обширных монографий Ф. Шахермейр [Schachermeyr, 1980; 1982; 1983; 1984; 1986]. Как мы уже говорили, этот автор еще в 1950 г. блестяще объединил две эпические темы — Посейдонова чудища, опустошающего Трою и побеждаемого Гераклом, и Троянского коня, вступающего в город через пролом в стене, и отождествил их с землетрясением, уничтожившим Трою VI. Отсюда его постоянная мысль о том, что Троянская война Агамемнона — это всего лишь эпический вариант рассказа о разрушении города Гераклом и за этими легендами не могут стоять разные исторические прототипы. За десятки лет работы взгляды Шахермейра не оставались неизменными; иногда он относился к Троянской войне с большим скептицизмом [Schachermeyr, 1960, с. 64], в других же случаях считал ее реальным событием рубежа XIV–XIII вв. до н. э. [Schachermeyr, 1986, с. 116], хотя и допускал, что в рассказы о ней могли инкорпорироваться некоторые более поздние мотивы из эпохи «народов моря». Но датировка Троянской войны второй половиной или даже концом XIII в. до н. э. отвергалась Шахермейром как противоречащая всем историческим фактам.
В своей концепции 1980-х годов Шахермейр исходил из того, что «народы моря» — это не что иное, как те же племена «варварской керамики», в конце позднемикенского периода III B опустошившие ахейские столицы. По мнению ученого, они около 1215 г. до н. э. завоевали Грецию, создав на ее территории множество собственных мелких «княжеств», с которыми мы, собственно, и имеем дело, говоря о греческих территориях в позднемикенский период III C. Возможно, предлагая дату 1215 г. до н. э., Шахермейр имел в виду и то, что Тудхалияс IV, по одной из датировок (не той, что принята нами), умирает незадолго до того, а от более позднего времени надежных сведений об Аххияве нет. Предводители варваров довольно быстро усвоили греческий язык и микенскую культуру, постарались легитимизировать свою власть, возможно, вступая в браки с женщинами из прежних правящих династий и т. п. Стиль позднемикенского периода III C — это на деле стиль завоевателей, принесших его в Палестину. Шахермейр думает, что они почти сразу после прихода на юг Балкан вовлекли покоренных греков в свое движение на юг и на запад в качестве подданных или сателлитов. Что касается войны, разыгравшейся при Мернептахе, то, по мнению австрийского ученого, она могла предшествовать завоеванию Греции «северянами», знаменуя их встречу с ахейцами в Леванте — в одинаковой для тех и других роли ливийских наемников [Schachermeyr, 1982, с. 43 и сл.]. Остается совершенно неясным, почему ахейцы, способные накануне нападения с севера сражаться в Египте, не могли в это же время предпринять поход в Троаду.
Гибель Трои VIIa также датируется крайне поздно — около 1200 г. до н. э., т. е. началом этого второго, великого похода «народов моря», когда их основную массу составили тевкры и пеласты, а жертвой их оказались Хеттское царство, Кархемыш и Угарит. Варварская керамика в Трое VIIб 1, по Шахермейру, выдает в новом населении города какую-то группу пришедших со стороны Греции участников этого грандиозного передвижения, которым, по-видимому, оказались захвачены также малоазийские и кикладские греки, включая будущих создателей «царства Мопса».
Ученый считает, что после этих событий северные пришельцы еще около 200 лет правили Грецией, постепенно до неразличимости сливаясь с греками. Они пытались возродить дворцовый стиль жизни и даже временами добивались относительной стабильности. Но в конце концов их «княжества» захирели и пришли в упадок, и тогда на юг полуострова двинулись северо-западные греческие племена, включая дорийцев. По мысли Шахермейра, период примерно с 1220 по 1000 г. до н. э., охватывающий приход и правление «северян», практически полностью выпал из памяти греков, образовав лакуну в традиции. Лишь после дорийского переселения память народа вновь восстанавливается и его предания обретают статус достаточно достоверного свидетельства. Это очень шаткое место в построении Шахермейра. Едва ли в истории какого-либо еще народа мы найдем пример подобного беспамятства, бесследно поглотившего всякое представление о том, как им 200 лет правили одолевшие его чужеземцы. Особенно если учесть, что этот период амнезии всего два-три века отделяют от появления фиксированного письменного эпоса — гомеровских поэм и произведений поэтов-кикликов, повествующих и о посттроянском периоде в легендарной истории ахейцев. Вообще, в отношении к традиции Шахермейр проявляет непоследовательность: то он по принципу «все может быть» спокойно постулирует подобные огромные провалы, то вдруг, рассуждая о невозможности Троянской войны в конце XIII в. до н. э., особый упор делает на отсутствие в преданиях сообщений о нашествии с севера накануне этой войны [Schachermeyr, 1983, с. 292].
Опыт Шахермейра очень поучителен. В отличие от чистого скепсиса авторов вроде М. Финли Шахермейр выдвигает едва ли не единственную на сей день, при этом уникальную по стройности и широте охвата фактов гипотезу о происходившем в Греции и в Эгеиде в начале позднемикенского периода III С, гипотезу, принципиально несовместимую с картиной, представляемой троянскими сказаниями греков. При этом Шахермейр допускает реальный исторический смысл в рассказах о Троянской войне, но он трактует этот смысл «не по Блегену», отвергая понимание исторических процессов, воплощенное в гипотезе американского археолога. В результате он вынужден отказать в доверии греческой традиции в целом, сведя ее ценность к разрозненным, отрывочным воспоминаниям. Этот итог не случаен. Концепция Блегена, по которой за городом, разрушенным землетрясением (Троя VI), следует город, сожженный врагами (Троя VIIa), и эти враги суть ахейцы, разрушители «Приамовой Трои», полностью отвечает связи и последовательности событий, содержащейся в греческом предании. Отвергая версию Блегена, мы вынуждены дискредитировать традицию как целостный исторический источник. И наоборот, реабилитация традиции в этом качестве оборачивается возвращением к интерпретации Блегена (разумеется, прежде всего и к предлагаемой ею сюжетной канве, но необязательно к конкретным датировкам) и требует серьезной критики альтернативы, сформулированной Шахермейром.
Мы не будем сейчас говорить о принципиальном расхождении с Шахермейром в отношении к традиции, ибо при абсолютизации методологического разногласия дальнейший спор часто становится невозможным. Но в нашей критике мы займем позицию, правомерность которой не может отвергнуть ни один историк, — мы попытаемся показать, что осмысление уже рассмотренных «позитивных» данных, исходящее из доверия к греческому преданию, согласуется с этими данными не хуже, а во многих отношениях лучше, чем построение Шахермейра или утверждения скептиков, отметающих идентификации Блегена.
При этом наш анализ сосредоточится на трех ключевых вопросах. Во-первых, адекватно ли Шахермейр, а также Финли, Хойбек, Нилендер и другие интерпретируют характер участия греков в походах «народов моря»? Во-вторых, верно ли понимают исторический смысл сказаний о Троянской войне те авторы, которые видят в этой эпической теме лишь выражение триумфа ахейской мощи, прославление победной экспедиции греческих вождей? Или смысл этих сказаний изначально намного сложнее и драматичнее? Наконец, в-третьих, действительно ли предания о Троянской войне не отражают опасности, нависшей с севера над Пелопоннесом или уже успевшей его постигнуть до ухода ахейцев на завоевание Трои?
6
Посмотрим, есть ли у нас хоть один источник, дающий картину, предполагаемую Финли или Шахермейром: небольшой ахейский контингент среди массы слабо организованных «северных грабителей» (по Финли) или он же в подчинении грозных завоевателей, идущих на покорение Леванта (по Шахермейру).
Для начала обратимся к событиям времен Мернептаха. Как мы уже видели, в первом нападении «народов моря» акайваша оказывается столько же, если не больше, чем шакалуша, турша, шардана и лукка, вместе взятых. Поразительно, что мимо этого прошли не только критики Блегена, но и такой автор, как Р. В. Гордезиани, принимающий разрушение Трои VIIa ахейцами Агамемнона, а первый поход «народов моря» сближающий с рассказами о египетском плавании Менелая. Он также пишет о незначительности участия ахейцев в этом походе [Гордезиани, 1978, с. 194 и сл.]. Однако египетские источники говорят совершенно о другом: среди противников Мернептаха ахейцы были не вспомогательным отрядом и не чьим-то сателлитом, а едва ли не ядром войск, вторгшихся в дельту Нила вместе с ливийцами.
Что касается событий, разыгравшихся при Рамсесе III, то здесь дело обстоит иначе. Прежде всего, сомнительно даже то, принимали ли в них вообще какое-то участие греки. Как бы ни было заманчивым встречающееся в массе работ отождествление «народа моря» Dnn сразу и с данайцами, и с киликийскими данунитами, три-четыре века спустя подвластными «дому Мопса», однако при внимательном разборе оказывается, что с этой цепочкой идентификаций дело обстоит не столь просто.
Исследователи давно отметили в текстах конца правления Тутмоса III (середина XV в. до н. э.), а также в надписи из погребального храма Аменхотепа III (начало XIV в. до н. э.) весьма правдоподобные случаи передачи греч. Δαναϝοί — этнического имени греков-данайцев. Это имя Tin;j, или Tin;jw (читается примерно как Tanaju или Danaju — напомним, что в эпоху Нового царства фонемы t и d уже слились в одну), появляясь в эпоху утверждения греков на Крите, устойчиво фигурирует в египетских надписях именно в связи с названием острова Кефтиу, т. е. Крита, изделия которого вожди Danaju посылали в дар фараонам [Helck, 1979, с. 29 и сл.; Lehmann, 1979, с. 488; Schachermeyr, 1982, с. 190 и сл.].
Особенно знаменита надпись из храма Аменхотепа III, где в начале стоят названия Kftw и Tin;jw, а затем перечисляются города Крита и ахейского Пелопоннеса (даем их названия в транскрипции Хелька): ’am-ni-šá — Амнис, Ku-tu-na-ja — Кидония на Крите, Kú-nú-šá — Кносс, Mu-k’-a-nu — Микены и т. д. Отсюда видно, что если этническое имя ахейцы (акайваша) появляется в египетских надписях очень поздно и лишь один раз, при Мернептахе, то под именем данайцев египтяне знали греков намного раньше. Как и в греческом прообразе, в этих египетских передачах XV–XIV вв. до н. э. нет никаких намеков на суффиксальное -na в исходе этнонима. Между тем уже говорилось, что в текстах Рамсеса III основной формой записи для имени народа Dnn является D;-j-n-jw-n;, т. е. дануна, с n;-исходом, и лишь один раз, возможно, ошибочно стоит просто D;-j-n-jw, т. е. дану. Совершенно неизвестный в Греции «азианический вариант» с суффиксальным -na получил весьма оригинальную интерпретацию в работе Э. Лароша, посвященной данунитам Киликии [Laroche, 1958, с. 263 и сл.].
Ларош показал, что в финикийской части билингвы из Кара-тепе страна, о которой идет речь в надписи, вместе с ее населением обозначается двояко — либо просто через dnnym «дануниты», либо как cmq ’dn «долина Аданы», главного своего города (греч. Ἀδάνα). В лувийско-иероглифической части этим выражениям соответствует или название области Á-dana-wa, или прилагательное от этого топонима Á-dana-wa-i-, или, наконец, этническое имя Á-dana-wa-na [Laroche, 1958, с. 264 и сл]. На основе этих параллелей Ларош предположил, что имя племени данунитов восходит к праформе *(A)dana-u̯ana, позднее Danuna, чисто лувийскому образованию от Adanawa со значением «жители Аданы, аданцы». Отпадение же начального a- ученый пытался объяснить, ссылаясь на «поздне- и вульгарно-финикийские» аналоги.
Важнейшим результатом Лароша стали приведенные им доказательства того, что название данунитов и их страны в Киликии несравненно древнее эпохи передвижения «народов моря». Так, уже в эпоху Аменхотепа IV — Эхнатона (первая половина XIV в. до н. э.) царь Тира по имени Абимилки информирует фараона в письме, составленном на аккадском языке, о событиях, происходящих в соседних областях Леванта, указывает, что «царь страны Дануна умер, и брат его воцарился на место его, и спокойна страна его» (LUGAL KUR Da-nu-na BA.UG u ša-ar-ra ŠEŠ-šu a-na EGIR-šu u pa-aš-ḫa-at KUR-šu [Laroche, 1958, с. 268]. Позднее Шахермейр, со ссылкой на Э. Эделя, указал также хеттские фрагменты начала XIII в. до н. э., возможно, периода Урхи-Тешупа или Мурсилиса III, свергнутого своим дядей Хаттусилисом III, где, говоря о совпадающей с позднейшей Киликией области Киццуватна, пишущий заменяет ее название словом Danuna [Schachermeyr, 1982, с. 194]).
Что же касается страны данунитов Adana, то она как Adaniya упоминается еще в начале XVI в. до н. э. при древнехеттском царе Телепину [Goetze, 1962, с. 52]. Ларош расценил данунитов как исконно анатолийский этнос, не имеющий ничего общего с греками-данайцами. Он полагал, что именно эти жители Аданы в начале XII в. до н. э. были втянуты в движение «народов моря» и участвовали в их нападении на Египет. Египетские свидетельства о связи этого племени с островами он интерпретировал в смысле раннего проникновения данунитов на островки, прилегающие к киликийскому побережью. Специалисты давно видят след имени либо данайцев, либо же киликийских данунитов (если это разные этносы) в ассирийском наименовании Кипра в VIII–VII вв. до н. э. matIa-ad-na-na или matIa-da-na-na, наряду с простым matIa, трактуемым как отражение западносемитского i’ «остров» [Тураев, 1937, с. 48; Astour, 1965, с. 48 и сл.; Barnett, 1975, с. 377 и сл.]. Попытка в качестве альтернативы увидеть в этом Ja отражение основы названия греческого племени ионийцев, а в целом истолковать Ja-Danana как композит со значением «ионийцы-данайцы» [Albright, 1950, с. 172] неубедительна, поскольку в истории этого острова не играют никакой заметной роли малоазийские ионийцы [Astour, 1965, с. 48]. Наконец, в начале 80-х годов Й. Арбайтманом и Г. Рендсбургом было продемонстрировано, что форма Danana никак не может быть получена из имени греков-данайцев, но должна расцениваться как вариант к южноанатолийскому Danuna, представляя просто иное диалектное развитие общей праформы *Dana(u̯a)-u̯ana [Arbeitman, Rendsburg, 1981, с. 154]. Поэтому можно думать, что дануна-данана, ближайшие соседи Кипра, приняв в начале XII в. до н. э. участие в движении «народов моря», вместе с тевкрами вторглись на этот остров, как и на другие, более мелкие острова поблизости, — и тем самым стали в глазах египтян «островными» дануна(вспомним упоминание Рамсеса III о покорении «народами моря» Аласии-Кипра).
Лингвистические выкладки Лароша об отношении имени дануна к формам Adanawa, Adanawana подверг критике М. Эстур, справедливо подчеркивая недопустимость использования позднефиникийских фактов для объяснения отпадения а- в Danuna, фиксируемом уже в XIV в. до н. э. Этот автор считает название Аданы и имя данунитов разными, изначально неродственными формами. При этом он не слишком удачно пытается их этимологизировать из западносемитского корнеслова, в одном случае из adān «господин», в другом — из dan «судья» [Astour, 1965, с. 38, 45]. Конечно, нельзя вовсе исключать окказионального, вторичного сближения созвучных основ. Но в качестве резерва мы могли бы указать и на довольно широко встречающийся в топономастике Восточного Средиземноморья префикс a-, передающий связь между собственными именами. Вспомним такие примеры, как кар. Ἄ-ϑυμβρα — город на реке θύμβρος; крит. Ἄ-πτερα, город, будто бы основанный героем-эпонимом Πτϵρᾶς; варианты троянского названия города и реки Ἄπαισος — Παισός (Il. II,828; V.612; Strab. XIII,1,19). Этот рудиментарный префикс, который в разных случаях может быть как индоевропейского, так и неиндоевропейского происхождения [Гиндин, 1967, с. 86], вполне позволительно было бы допустить, на уровне гипотезы, и в названии киликийской Аданы (Аданавы, Адании) как страны народа данунитов (дану, дануна). В частности, Арбайтман и Рендсбург, выделяя в имени дануна индоевропейскую основу *dānu «вода, поток», др. — инд. dānu «жидкость», авест. dānu «река» и др., объясняют А- в A-danawa как префикс со значением «рядом, около» из и.-е. *ṇ- или *o-/e-, так что формы с префиксом и без него истолковываются соответственно как названия «племени, живущего около реки» и просто «речного племени» [Arbeitman, Rendsburg, 1981, с. 149]. Эта интерпретация тем интереснее, что к той же этимологической основе давно возводится наряду с неким этнонимом Dānāva из «Авесты» и тождественным названием для группы демонов в «Ригведе» также и имя греков-данайцев [Pokorny, 1959, с. 175].
Так или иначе, ученые вынуждены признавать для XV–XIII вв. до н. э. существование в Восточном Средиземноморье двух паронимических народов: греков-данайцев и данунитов в Киликии, а связи между ними либо вовсе отрицаются, как это делал Ларош, либо трактуются очень разноречиво. Некоторые авторы настаивают на негреческом происхождении имени данайцев, связывая его с названием самого северного из древнееврейских племен Dan, обитавшего у моря вблизи Яффы (из этого племени происходил знаменитый враг филистимлян богатырь Самсон). В данунитах видят осколок того же народа. Кроме того, в мифе о Данае, прародителе данайцев, сыне Бела (семитское божество Ba’al), преследуемом своим братом Египтом и спасающемся в Аргосе, порой усматривается очень древнее воспоминание о событиях XVI в. до н. э., когда покорившие Египет племена гиксосов, среди которых значительную часть составляли семиты, были изгнаны египтянами во главе с основателем XVIII династии фараоном Яхмосом I. Высказывается мнение, что часть изгнанников могла найти себе пристанище в Аргосе [Huxley, 1961, с. 55; Astour, 1965, с. 93 и сл.]. По другому пути идет Шахермейр. Отмечая для XVI в. до н. э. в раннем слое Микен египетское влияние, он тем не менее доверяет легендам, изображающим Даная как домикенского, аргосского персонажа. Сами микено-египетские контакты он охотно связывает с обстоятельствами изгнания гиксосов, но трактует по-иному: ссылаясь на сообщения в египетских источниках о царице Аххотеп, матери Яхмоса I, собравшей для борьбы с гиксосами разных чужестранцев и беглецов, он предполагает наличие греко-ахейских дружин на службе этого фараона, когда и могли установиться связи между Египтом и Грецией [Schachermeyr, 1984, с. 64 и сл., 99 и сл.]. Здесь огромный простор для догадок, тем более что некоторые специалисты допускают не семитское, а индоевропейское происхождение самого палестинского племени дан, будто бы лишь вторично ассимилированного иудейским окружением [Huxley, 1961, с. 21; Vaux, 1969, с. 478; Arbeitman, Rendsburg, 1981, с. 151 и сл.].
Историк-филолог, стоящий на почве языковых фактов и письменных источников, вынужден выбирать между двумя решениями. Во-первых, не исключена возможность, что имя данунитов лишь вторично сблизилось с известным в XVI или даже XVII в. до н. э. названием страны Адана. В таком случае этот народ может быть потомками греков-данайцев из «дома Мопса», якобы приведенных этим героем в Киликию. Но тогда это переселение должно было произойти задолго до Троянской войны, в Мопсе же вполне можно усмотреть того Мукса, который в конце XV в. до н. э. выступал сподвижником Аттариссия-Атрея. Не исключено, что легенда могла обоих этих героев перенести во времени, поближе к событиям великой битвы за Трою. При этом появление в Киликии страны Дануна уже в первой половине XIV в. до н. э. будет вполне объяснимо. Но столь же понятно будет и различие в оформлении имен данайцев и данунитов: в последних придется видеть анатолизировавшийся осколок греков, адаптация которых к лувийскому окружению проявилась и в приспособлении их имени к явно негреческой ономастической модели (тип лувийских этнических имен на -u̯ana/-una), указанной Ларошем. Для рубежа XIII–XII вв. по н. э. отождествлять данный этнос с греками-данайцами в широком смысле было бы не вполне корректно. Во-вторых, это может быть народ, издревле проживавший в «долине Аданы» и давший ей свое имя, не имевший близкого отношения к грекам-данайцам и лишь позднее подпавший под власть «дома Мопса» из Лидии. В любом из этих двух вариантов дануна, участвовавшие в атаке на Египет при Рамсесе III, — либо вообще не греки, либо особая ветвь малоазийских греков с очень специфичной судьбой. Без обиняков отождествлять их с ахейцами-акайваша — главными противниками Мернептаха — нет оснований.
Пытаясь уклониться от этого напрашивающегося вывода, Шахермейр и Г. Леманн выдвигают версию, кажущуюся нам наименее правдоподобной. Ссылаясь на единичный случай с утратой конечного -n’, способный также относиться к D;jnjwn;, как хет. иерогл. Adanawa к Adana-wana, они думают, что во время Рамсеса III мы имеем дело не с анатолийцами-данунитами, а с греками-данайцами, которых, однако, египтяне по созвучию перепутали со знакомым киликийским народом, соответственно неправильно записав и их имя [Schachermeyr, 1982, с. 196; Lehmann, 1979, с. 488]. Это объяснение выглядит тем более натянутым, что, по признанию самого Шахермейра, в Египте существовали традиционные формы записи для имени греков-данайцев, не встречающиеся в надписях Рамсеса III. Естественнее всего видеть в народе D;jnjwn; или D’jnjw, союзнике тевкров и пеласгов на последней, южносредиземноморской стадии их похода, давних соседей Египта по Леванту, данунитов Киликии-Дануны и ближайших к ней островов. Участие их в этом походе вполне аналогично роли лукка-ликийцев в войне времен Мернептаха; как и те, дануниты присоединились к войску, идущему против Египта, ибо для них это был недалекий путь, сулящий хорошую добычу.
Дифференцированный анализ событий убеждает в том, что историку едва ли следует говорить обобщенно об «участии греков» в походах «народов моря». Ибо в двух войнах, разделенных примерно 30 годами, дело в этом плане обстояло по-разному. Во второй из них (1190-е или 1180-е годы до н. э.) греки как самостоятельная сила либо не участвовали вовсе, либо этим предприятием была захвачена их небольшая группа в Анатолии, уже 200 лет как обособившаяся от основного греческого этнического массива. Напротив, в первой войне, датируемой, скорее всего, 1220-м годами до н. э., акайваша-ахейцы выглядят не просто рядовыми участниками похода, но по численности — его лидерами, к которым примыкают остальные отряды. Ни в одном из этих случаев у нас нет оснований думать об ахейцах Балкан как о сателлитах или вассалах «народов моря». Но точно так же явно негреческий, неахейский состав основных противников Рамсеса III, при всем их знакомстве с микенской культурой, не позволяет принять и гипотезу А. Штробеля о микенцах как об основной силе этих походов [Strobel, 1976, с. 265 и сл.]. Ахейское войско на берегах Леванта появлялось только раз — при Мернептахе, и победа этого фараона над акайваша в пределах одного-двух десятилетий сополагается и с внезапным ослаблением Аххиявы при Тудхалиясе IV, и с неудачной высадкой ее царя в Стране реки Сеха, и, по-видимому, с пожаром Трои VIIa. Второй, пеластско-тевкрийский поход «народов моря», положивший конец Хеттской империи, лежит за пределами очерченного временного интервала и охваченного им круга событий.
7
Дополнительную информацию дает участие в обоих нашествиях «народов моря» ранее неизвестного египтянам этноса турша, т. е. тирсенов.
Ядром первого похода надо считать сложившийся на севере союз ахейцев и тирсенов с явным доминированием первых. При этом особое значение приобретает весьма вероятная изначальная локализация тирсенов на Северо-Западе Анатолии, в достаточной близости к Троаде [Schachermeyr, 1929; Säflund, 1957]. Широко известна версия Геродота (I,94) об этрусках-тирренах как о выходцах из Лидии, покинувших ее после 18-летнего голода, когда будто бы ее народ разделился между царем Аттисом и его сыном Тирсеном и последний со своими подданными отбыл на чужбину (мотив страшного голода, терзающего страну, может быть реминисценцией великого недорода, постигшего по египетским источникам, Анатолию накануне первого выступления «народов моря»). Любопытно, что эта легенда имеет точную параллель в рассказе Ксанфа Лидийского (Dion.Hal. I,28) о том, как разделились дети Аттиса Лид и Торреб; потомки последнего будто бы до позднейшего времени обитали по соседству с лидийцами в городе Торребе. Давно отмечалось созвучие имен тирренов и торребов между собой, а также с названием лидийского города Тирры (в греческой передаче Τύρρα, возможно, из *Tursa (Pareti, 1926, с. 34; Schachermeyr, 1929, с. 228 и сл.]). Вполне возможно, что в этнонимах Τορρηβοί и Τυρσηνοί, Τυρρηνοί мы имеем дублетные варианты образований от *Tursa: соответственно из анат. *Tursa-u̯a и *Tursa-na [Цымбурский, 1986а, с. 178]. Но еще важнее, что анатолийские связи этрусков не ограничивались Лидией, но охватывали крупные эгейские острова, противолежавшие позднейшей Эолиде и Мисии. Геланик Лесбосский писал о тирренах на Лесбосе [FHG I, фр. 121], другие авторы отмечали их пребывание на Лемносе (Ap. Rhod. IV,1758 и сл.; Thuc. IV,109). Последнее полностью подтверждается обнаружением на этом острове надписи VI в. до н. э., составленной на языке, очень близком к этрусскому, но записанной при помощи алфавита, отличающегося от этрусского, а также содержащей глубоко архаичные формы: глагольное окончание -ai при этр. -e, лемн. aomai при этр. ame, amce «был» и т. п.
В свое время В. Георгиев прямо пытался включить Троаду в область проживания тирсенов, сближая имя этого народа с хеттским обозначением Трои — Труиса. При этом за исходную принималась форма основы *Trus·, представленная в лат. E-trus-ci, E-trur-ia < *E-trūs-ia, а греческие формы, отражающие основу *Turs-, расценивались как вторичные, претерпевшие метатезу [Георгиев, 1958, с. 200 и сл.]. В мифах о приходе в Италию троянского героя Энея этот ученый видел отзвук этрусского переселения, по сути отождествляя этрусков с троянцами. Но как ни заманчива такая гипотеза, от нее приходится отказаться. Нельзя считать обособленный вариант сомнительной древности, к тому же с необычной протезой E-изначальным видом основы, игнорируя не только греч. Τυρσηνοί, Τύρσανοι, но егип. Tw-rj-š;, Tj-w-r;š;, да и латинское старое название этрусков Tusci < Turs-ik-oi (ср. Tursikina как родовое имя в Этрурии VII в. до н. э. в ThLE, с. 350). Возможность сближения на малоазийской почве с именем племени торребов также скорее говорит в пользу восстановления для этнонима тирсенов праформы основы *Turs(a)-, а не того *Tr(o)us-, каковое имеем в названии Трои. К тому же традиция никогда не смешивала и даже не сближала мифических троянцев Энея с этрусками. Но хотя имя этого народа (как ни жаль!), по-видимому, исторически не связано с названием Трои, однако очень вероятно, что предки этрусков — тирсены на своей прародине принадлежали к числу южных соседей троянцев.
Поэтому очень интересно появление в «Илиаде» в «Каталоге кораблей» (Il,840 и сл.) и далее (XVII,288 и сл.) в числе союзников, защищающих Илион, отряда из лежащего на юге Троады города Ларисы; его обитатели фигурируют у Гомера под именем «пеласгов». Тема нашей книги не предполагает обсуждения так называемой «пеласгской» проблематики, в частности вопроса об исторической реальности этого легендарного народа, который греки считали своим доисторическим предшественником на Балканском полуострове, но чьи следы с уникальным постоянством обнаруживаются от Македонии до Крита и от Трои до италийского Лация (обзор источников см. [Lochner-Hüttenbach, 1960]; ср. [Гиндин, 1967, с. 43 и сл.]). Точно так же нас здесь не касается даже проблема соотношения имени вездесущих и не зафиксированных нигде, кроме греческих легенд, пеласгов и реальных пеластов-филистимлян. Напомним здесь лишь интереснейшую гипотезу В. Георгиева о греч. Πελασγοί из *Pelag-sk-oi как о греческой народно-этимологической переделке имени исторических пеластов (палайстов) по аналогии с греч. πέλαγος «море» в наименовании некоего «морского народа» [Георгиев, 1958, с. 102]. Эта гипотеза наводит на определенные параллели с египетским обозначением консорциума племен в качестве «народов моря», где виднейшую роль в начале XII в. до н. э. играли пеласты.
Но для нас сейчас важнее то, что даже авторы, исходящие из презумпции исторической реальности народа пеласгов, вынуждены признать применительно к северо-востоку Эгеиды настойчивое перенесение в греческой традиции имени пеласгов на тирсенов: «тирсенские места» в трактовке греческих авторов оказываются «пеласгскими» [Немировский, 1983, с. 20 и сл.]. Так, например, Геродот постоянно говорит о пеласгах на Лемносе (IV,145; V,26; VI.136 и сл.) — «тирсенском» Лемносе, где за 100 лет до Геродота звучал язык, близкородственный этрусскому, а у Фукидида (IV, 109) находим удивительную характеристику некоего Эгейского этноса как «пеласгского, из числа тирсенов» (Πελασγικὸν τῶν… Τυρσηνῶν), То же самое наблюдаем в разных версиях тирсенского переселения на запад. По Геланику Лесбосскому (FHG I, фр. 1), «пеласги» — это первоначальное имя ушедших в Италию тирренов; согласно Мирсилу, также уроженцу Лесбоса, наоборот, «тиррены» — древнее имя пеласгов с Лесбоса, заселивших Италию (FHG IV, фр. 2, 3); по Страбону (V,2,4 со ссылкой на историка Антиклида), герой Тирсен приводит в эту страну подвластных ему пеласгов. Поскольку одновременно, по аналогии с Балканами, греки склонны были находить в древней Италии «настоящих» пеласгов, будто бы пришедших из Фессалии, то в вопросе о соотношении пеласгов и тирсенов на италийской земле возникала еще большая путаница. Но одно можно сказать определенно — применительно к местам, соседствующим с Троей, под пеласгами («морским народом») греки часто разумеют не кого иного, как тирсенов. Поэтому сообщение о «пеласгах» из троянской Ларисы, явившихся на защиту Илиона, сразу же привлекает особое внимание.
Название этого городка Λάρισα принадлежит к догреческому, неиндоевропейскому слою эгейской топонимики. Оно исключительно популярно в этом ареале, где его носят до 14 городов и поселений: в Фессалии, Аргосе, Аттике, на Крите, в Лидии и т. д. Еще распространеннее заключенная в нем основа Lar-, встречающаяся как в простом, нерасширенном виде (женское имя Λαρ в Малой Азии), так и с разнообразными суффиксальными оформлениями [Гиндин, 1967, с. 82 и сл.]. Примечательно, что имя Lar, родительный падеж Laris, хорошо засвидетельствовано также в Этрурии, в том числе в форме Larisa, имеющей значение притяжательного прилагательного — «нечто, принадлежащее Лару» (ThLE, с. 205, 213). В свое время П. Кречмер, опираясь на этрусские данные, попытался истолковать название Larisa в Средиземноморье однотипно как восходящее к героическому имени Лар: «поселение Лара» [Kretschmer, 1940, с. 271 и сл.]. Стремясь сузить область исконного распространения данной основы, один из авторов этой книги высказал догадку, что «на Апеннинский полуостров личные имена с основой Lar этруски могли занести непосредственно из Малой Азии или заимствовать в какой-либо части Эгейского бассейна во время миграции» [Гиндин, 1967, с. 84]. Как видим, возможности для этого были не только в Лидии, но и севернее, на южной окраине Троады.
Знаменательно, что отец двух молодых пеласгов — защитников Илиона носит имя Λῆϑος Τευταμίδης (Il. II,843). Здесь патроним легко объясним из индоевропейского корнеслова: ср. лит. tautà «народ», др.-прусск. tauto «страна», герм. Teutoni — название племени, гот. piuda «народ», piudans «царь», иллир. Teuta, Teutana — личные имена; фрак. Tauto-medes — личное имя, букв, «правящий народом» [Pokorny, 1959, с. 1054; Detschew, 1976, с. 495], также название области Τευϑρανία к югу от Трои. Но если имя отца Лета *Teutamos хорошо входит в этот индоевропейский ряд, то сама форма Λῆϑος не имеет аналогов в ономастике соседних индоевропейских народов. Более того, оставив в стороне проблематичную перекличку с гидронимом Ληϑαῖος в Карии, Фессалии и на Крите, т. е. в местах довольно удаленных от Трои, мы находим к имени троянского пеласга Лета исключительное соответствие в этрусском leϑe, женский род leϑia, именах, в историческую эпоху особенно популярных в Этрурии среди низших, зависимых слоев населения [Vetter, 1948]. Кроме того, та же основа представлена с колебаниями в передачах исхода слова, в вариантах имени этрусского бога Leϑam, Leϑn, Leϑns.
На бронзовой модели печени из Пьяченцы, изображающей этрусскую мифологическую картину мира, этот бог получает больше всего домов, обитая сразу в пяти участках, что выдает его значительную роль в пантеоне [Pfiffig, 1975, с. 239]. А. И. Немировский, впервые отметивший этрусские параллели к имени троянского пеласга, отстаивая идею исторической реальности пеласгского этноса, без достаточных оснований видел в носителях соответствующих имен из Этрурии представителей покоренного доэтрусского населения [Немировский, 1983, с. 28]. Нам кажется более правдоподобным другое объяснение; с учетом обычного для рассматриваемого региона отнесения имени «пеласгов» к тирсенам мы видим в имени героя Лета с юга Троады ранний ономастический «этрусцизм», отражающий контакты греков-ахейцев с тирсенами (египетскими турша) в этих местах [Цымбурский, 1986а, с. 181]. Само соединение этрусского имени с индоевропейским патронимом может вполне достоверно отражать этническую ситуацию в данной области, повлиявшую на формирование строя этрусского языка в преиталийский период.
Гомеровские данные подкрепляют мысль о том, что именно в Троаде и смежных с ней анатолийских областях мог в XIII в. до н. э. сложиться союз ахейцев и тирсенов, проявившийся в их совместном походе на Египет. Тем самым косвенно подтверждается и маршрут, приписываемый традицией части ахейцев, выступивших на Троянскую войну (флот Менелая, критяне из «лживых» рассказов Одиссея): Греция — Троада — (Крит) — Египет. В переводе на реальные археологические и исторические факты это означало бы пожар уничтожаемой ахейцами Трои VIIa с последующим устремлением на юг части этого воинства, присоединившего к себе тирсенов, затем, уже во вторую очередь, ликийцев и прочих союзников. Во втором же походе «народов моря», через 30 лет, турша-тирсены плыли в Египет уже знакомым путем, объединив свои силы с ближними северными соседями — племенами тевкров, вероятно населявшими какую-то часть Троады (что, впрочем, не исключает распространения этого этнонима и в других частях северной Эгеиды). Так, несколько гомеровских строк в сопоставлении с египетскими надписями проливают свет на раннюю историю этрусков-тирсенов, народа, ни разу прямо не упомянутого ни в «Илиаде», ни в «Одиссее». Заодно еще раз подтверждается высказанное нами предположение о том, что первый поход «народов моря» имел свою предысторию в битве за Трою.
8
Подойдем теперь к нашей теме с другой стороны. Как уже говорилось, слишком часто историки видят в Троянской войне прежде всего выражение мощи и триумфа Ахейской Греции, утверждение ее превосходства над противоборствующими ей малоазийскими и северобалканскими народами. Соответственно решается вопрос и о событии, которое могло бы послужить реальным прообразом такого сказания. Как формулирует Т. В. Блаватская, «победа над Троей должна была неизмеримо усилить роль Ахейской Греции в международной жизни Восточного Средиземноморья. Это было время, когда ахейское общество достигло самого высокого уровня» [Блаватская, 1966, с. 163]. Однако при этом игнорируется главный парадокс преданий Троянского цикла, поражающий при непредвзятом подходе: в них повествуется о гибели Трои, но при этом совершенно отсутствует идея торжества победителей, их радостного возвращения домой. В этих песнях есть великое поражение Трои, но, по сути, нет великой победы ее разрушителей.
В «Одиссее» (III,130–151) Нестор вспоминает о страшной распре, вспыхнувшей среди ахейцев на руинах Илиона и приписываемой гневу Афины (видимо, имеется в виду миф об оскорблении Афины Аяксом Оилидом, надругавшимся в ее храме над пророчицей Кассандрой). Предлог для раздора оказывается до смешного мелок: Атрид Менелай стремится немедленно в путь, тогда как Агамемнон хочет сперва совершить гекатомбу Афине. Братья осыпают друг друга оскорблениями, и в первую же после победы ночь войско распадается на два враждебных лагеря. Наутро половина ахейцев уходит с Менелаем и приносит жертвы на Тенеде, а не в Трое. Зная позднейшую судьбу Менелая, в раздоре Атридов можно видеть реминисценцию выделения отряда, выступающего в Египет. Но и после этого ссоры среди ахейцев не утихают, и армада распадается на отдельные группы, из которых каждая движется своим путем, не дожидаясь остальных (Od. III,155 и сл.). За считанные дни победоносного общеахейского войска не остается и в помине.
Традиция говорит о мятежах и переворотах, происходящих во владениях крупнейших греческих героев ко времени их возвращения. Агамемнона по его прибытии немедленно убивают его супруга Клитемнестра и ущемленный сородич Эгист. Жена Диомеда Айгиалея поднимает восстание в Аргосе, и вернувшийся царь вынужден, не задерживаясь, бежать на родину своих предков в далекую Этолию, а оттуда отправиться на колонизацию италийской Апулии (Lycophr.Alex. 610 и сл. со схолиями; Serv. ad Verg. Aen. VIII.9).
В отсутствие критского Идоменея некий Левк убивает его жену и дочь, захватывает на острове города, а затем изгоняет царя-победителя, подобно Диомеду, отбывающего в Италию (Apd. Ер. 6, 9; Verg. Aen. III,400 и сл.). Эта легенда явно некритского происхождения, ибо на самом Крите до позднейшего времени показывали гробницу Идоменея в Кноссе (Doid. V.79). Но примечательна настойчивость традиции, насыщающей легендарные судьбы виднейших троянских вождей мотивами нежелательности их возвращения на родину, картинами восстаний, изгойства, бегства. В ней возникает демонический образ губителя ахейцев Навплия, видимо, исконно морского бога или полубога, изображаемого отцом героя Паламеда, неправедно казненного ахейцами по наущению Одиссея. Оказывается, это Навплий в отсутствие царей чинит бесчисленные козни, устраивая смуты в Микенах, Аргосе и на Крите; это он же, доплыв до Итаки, возбуждает местную знать слухом о смерти Одиссея и побуждает потенциальных новых мужей Пенелопы грабить дом царя (Apd. Ер. 6, 7-11; Schol. Lycophr. 1093). Наконец, он в бурные ночи зажигает ложные огни на скалах, заставляя ахейские корабли разбиваться о рифы, и затем безжалостно истребляет добирающихся до берега пловцов (Apd. Ер. 6, 11). В тот же цикл мотивов входит и скитание отвергнутого отцом Тевкра, и гибель в море особенно ненавистного Афине Аякса Оилида (Od. IV,499 и сл.), а в конечном счете и крушение большей части Менелаева флота у критских берегов (Od. III,290 и сл.; Ap. Ep. 6, 2), и многолетнее пребывание этого царя в Египте и Ливии. Подавляющему большинству «победителей» нет благого пути из-под Трои домой. Для них заморский поход не кончается с разрушением троянской столицы.
Античные авторы, в той или иной мере осознавшие этот парадокс, объясняли его по-разному. По мнению Фукидида (I,12), из-за затягивания войны «возвращение из-под Илиона замедлилось, что привело к многочисленным переменам: в государствах возникают… междоусобицы, вследствие которых изгнанники стали основывать новые города». Дион Хрисостом в «Илионской речи», замечая, что победители не возвращаются в обстановке такой ненависти и позора, как предполагаемые разрушители Трои, инкриминировал Гомеру — а значит, и всей традиции греков — стремление затушевать некую страшную неудачу, разгром, постигший, по мнению этого ритора, войско Агамемнона под стенами Илиона. При этом Дион мастерски акцентирует мотивы колебания между победой и поражением ахейцев, пронизывающие «Илиаду» и неотделимые от хорошо прослеживаемого гомеровского представления о победе, оборачивающейся поражением, и наоборот. Впечатление таково, будто, пытаясь уличить Гомера в фальсификации, Дион на деле предлагает свое, крайне вульгаризованное толкование доминирующей идеи Троянских сказаний: победа над Илионом означала надлом, кризис в истории ахейского мира. Микенская Греция оказывается обречена погибнуть вслед за Троей. Это представление удивительным образом обнаруживает четкий археологический эквивалент в фактической синхронности уничтожения Трои VIIa и разрушений в ахейских центрах на переходе к позднемикенскому периоду III С, отмечаемой критиками Блегена.
Что же касается того эпического затягивания великой войны, о котором пишет Фукидид, то целый ряд героев похода явно не стремится возвращаться домой вообще, независимо от каких бы то ни было катаклизмов и препон по пути. Похоже, они и из Авлиды отплыли без намерения вернуться. Именно такое впечатление возникает, когда читаем у Аполлодора (Ep. 6, 2) уже рассмотренное выше место о том, как Амфилох, Калхант и другие, оставив свои корабли возле разрушенного Илиона, пешком устремляются в Колофон к Мопсу. Или немногим ниже (Ер. 6, 15) о том, как из прочих героев «одни поселились в Ливии, другие в Италии, некоторые же в Сицилии и на островах, расположенных вблизи Иберии. Эллины поселились также и на берегах реки Сангарис (к востоку от Троады. — Л.Г., В.Ц), были и такие, которые поселились на Кипре». Тут же (Ер. 6, 15a-b) Аполлодор частично раскрывает содержание данного пассажа; в Италию попадает фессалиец Филоктет, в Ливию — его сосед Гуней, жителей Коса забрасывает сперва на Андрос, потом на Кипр; спутники эвбейца Элефенора, погибшего в Трое, заплывают в Ионийский залив и поселяются в Эпире и т. д.
Троянская война превращается в великое рассеяние греков, а то, что позднее называлось «Возвращениями» (Νόστοι), в большинстве случаев представляет миграции, обретение новых мест для жизни, не предполагающее возвращения к оставленным очагам. Разумеется, когда позднейший местный фольклор приводит Менелая с Еленой в Калабрию и Сицилию (Lycophr. Alex. 852 и сл. со схолиями), а Нестора — в Метапонт (Strab. VI, 1,15), мы имеем дело с попытками «облагородить» эпическими именами генезис тех или иных позднейших колоний, и не более того. Но такие попытки едва ли были бы столь популярны в античности, если бы представления о Троянской войне не несли в себе изначально идеи огромного колонизационного движения, сопровождающего закат микенской эпохи, когда отток греков на периферию былого «великоахейского» ареала и временный хозяйственный расцвет этой периферии соединяются с децентрализацией греческого мира, с обезлюдением и деградацией прежних ахейских столиц, все больше подрываемых неурядицами и мятежами. Все это — сжатая, суммированная в памяти народа картина жизни позднемикенского периода III С, через тысячу лет лаконично обобщенная в словах Страбона (1,3,2): «Так что после гибели Илиона победители из-за оскудения обратились к грабежу, а еще более — уцелевшие побежденные. И говорят, много ими было основано городов за пределами Эллады…».
Как видим, вдвойне неверно противопоставлять якобы помпезно-триумфальный образ Троянской войны «второстепенной» и «ограниченной» роли ахейцев среди «народов моря». С одной стороны, первый, «акайвашский» поход народов моря, когда египтянами было убито свыше 1200 ахейцев, может быть расценен как всплеск, пик ахейской экспансии, обрушившейся на Левант, согласно легенде, уже затухающей волной, докатившейся с севера, от берегов Троады. А с другой — Троянская война в воспоминании греков не столько вершина микенского могущества и благополучия (скорее связываемых с именами Геракла, Эврисфея и Атрея), сколько начало конца греческого века, зыбкая грань между внезапной консолидацией ахейского сообщества и его сокрушительным распадом. Сказания Троянского цикла не дают нам права связывать события Троянской войны с цветущим позднемикенским периодом III В. Круг ассоциаций, сопряженных с этой войной, всецело принадлежит последней, драматической фазе в истории Микенской Греции, по крайней мере началу этой фазы. События, послужившие прообразом этих сказаний, вовсе не должны были непременно «неизмеримо усилить роль Ахейской Греции в международной жизни Восточного Средиземноморья». Это скорее какой-то прилив героизма в преддверии коллапса и выпадения Ахейской Греции из средиземноморского баланса сил, накануне колоссальных перемен в картине этого ареала. Не те ли это времена, когда Тудхалияс IV колебался, сохранить или вычеркнуть царя Аххиявы из списка «великих царей», и решился — вычеркнуть, но после этого стертые слова еще проглядывали вполне отчетливо, хотя уже определенно были устранены из текста?
9
В свете того, что мы уже знаем о натиске носителей «варварской керамики» с северо-запада Балкан как о причине массового движения ахейцев в Западную Анатолию (Малая Азия) и на Ближний Восток, естественно задаться вопросом: действительно ли, как утверждает Шахермейр, мы ничего не слышим в греческих сказаниях о завоевателе, незадолго до Троянской войны овладевшем ахейскими городами?
В ошибочности этого утверждения Шахермейра легко удостовериться, обратившись непосредственно к мифу, отразившему волну миграций с севера, положивших конец ахейской государственности. Имеется в виду миф о Гераклидах — сыновьях Геракла, изгнанных властителями Микен на север и оружием прокладывающих себе путь на пелопоннесскую родину. Обычно этот миф понимается слишком узко — как мистифицированное воспоминание о продвижении на юг северо-западных (дорийских) греческих племен. Так его воспринимали потом и сами позднейшие обитатели дорийских полисов Пелопоннеса, например спартанские цари, обосновывавшие свое право на власть происхождением от Гераклидов и их великого предка Геракла. Но здесь есть один редко учитываемый нюанс. Передвижение дорийцев на Пелопоннес традиция относила ко времени спустя 80 лет после Троянской войны (Thuc. I,12). Впрочем, о пребывании отдельных дорийских групп на этом полуострове, в частности вблизи Пилоса, в микенскую эпоху могут говорить не только усматриваемые Дж. Чедвиком дорийские языковые приметы в некоторых пилосских табличках [Chadwick, 1976а], но также и отраженное в «Каталоге кораблей» «Илиады» (II,594) название поселения в этом ахейском царстве Δορίον τϵῖχος [Rubinson, 1975, с. 107]. Однако если «большое» переселение дорийцев в эти края считалось событием определенно более поздним, нежели Троянская война, то с Гераклидами как таковыми дело обстоит иначе: предание с большой настойчивостью сообщает о первой, неудачной попытке возвращения Гераклидов на родину до общеахейского похода на Трою.
По Аполлодору (II,8, 1–4), после смерти Геракла гонимые микенским Эврисфеем Гераклиды, пройдя через всю Грецию, являются в Аттику. Вторгшийся сюда Эврисфей гибнет в бою от руки Гераклова сына Гилла (Ὕλλος). После этой победы Гераклиды устремляются на Пелопоннес и занимают там все города. Но вспыхнувшая эпидемия заставляет их оставить полуостров, отступив на север. Получив будто бы от оракула обещание победы «после третьего плода», Гилл с войском через три года вновь идет на Пелопоннес, но на Истме ему перекрывает путь и вызывает его на единоборство тегейский царь Эхем. В поединке Гилл гибнет. Позднее Гераклиды осознают, что, говоря о «третьем плоде», оракул имел в виду необходимость смены трех поколений, провидя то дорийское передвижение, которое совершилось через 80 лет после разорения Трои. Поражение Гилла на Истме было широко известно в традиции, служа неизменным поводом для похвальбы тегейцев (Hdt. IX,26). По Диодору (IV,58), тегейского героя выставил против Гилла не кто иной, как Атрей, будто бы после гибели Эврисфея получивший власть в Микенах и возглавивший оборону Пелопоннеса, — недвусмысленное указание на то, что это нашествие с севера по легенде должно было предшествовать походу ахейцев за моря во главе с Атридами. Анализируя это сказание, Н. Хаммонд, условно приняв за дату гибели Трои 1200 г. до н. э., считает возможным датировать первый натиск Гераклидов 1220 г. до н. э. [Hammond, 1975, с. 681 и сл. с картой]. Если же считать, как это делаем мы, именно 1230 г. или 1220-е годы до н. э. наиболее вероятным временем битвы за Трою, то соответственно нашествие Гераклидов, занявших все пелопоннесские города, их отход назад на север и последующее поражение при попытке вновь прорваться через Истм должны быть отнесены примерно к 1240-м годам до н. э. «Первое возвращение гераклидов» и по месту, и по времени, и по развитию событий совпадает с археологически документированным нападением на Грецию племен «варварской керамики» с Северных Балкан.
В конце 1960-х годов на это обратил внимание Р. Бак. Однако, будучи под влиянием старого представления о Гераклидах как о дорийцах и не видя в традиции никаких указаний насчет иллирийского или фракийского посягательства на пелопоннесские столицы ахейцев, он предложил компромиссную гипотезу. Согласно ей, вторжение негреческих балканских племен в Северную и Среднюю Грецию могло комбинироваться с нападением дорийцев — Гераклидов на Пелопоннес, а позднее в местных преданиях северных греков иноплеменные агрессоры превратились в тех же Гераклидов, будто бы прошедших всю Грецию с севера на юг [Buck, 1969, с. 292]. Сама мысль, что за мифическими Гераклидами в легенде об их «первом возвращении» могут скрываться ранние иллирийцы или фракийцы, положившие конец позднемикенскому периоду III В в Греции, оказывается очень плодотворной в свете позднейших работ Раттера, Дегер-Ялкотци, Френча, Шахермейра о «варварской керамике», принесенной этими завоевателями. А вот с утверждением, будто традиция ничего не знает о народах балканского севера, идущих войной на Ахейскую Грецию, можно поспорить. Дело в том, что Гераклид Гилл, главный герой «первого возвращения», убийца Эврисфея и фактически покоритель Пелопоннеса, не только дал имя одной из трех дорийских фил, так называемой филе гиллеев (Ὕλλϵῖς). Он в равной мере эпоним омонимичного иллирийского племени гиллов, или гиллеев (Ὕλλοι, Ὑλλαῖος, Ὑλλϵῖς и т. д.), обитавшего на адриатическом побережье и, видимо, на ближайших островах, о чем говорит отголосок их имени в названии Гиллейской гавани на Керкире [Mayer, 1957, с. 158 и сл.]. На карте, составленной Г. Леманном (GÄL, с. 178), ясно просматривается соседство исторической области иллирийских гиллов с районом обитания пеластов, а также насыщенность этого края топономастическими следами имени сикелов (сикелиотов). Похоже, гиллы принадлежали к кругу западнобалканских племен, захваченных миграционными потоками второй половины XIII — начала XII в. до н. э. Начальствование мифического Гилла над «первыми Гераклидами», покоряющими на какое-то время Пелопоннес, хорошо согласуется с тем, что пишет Дегер-Ялкотци об адриатическом очаге керамики, появляющейся в поздней Микенской Греции вместе с этим вторжением.
Следует иметь в виду, что предание никогда не отождествляло Гераклидов со всеми дорийцами в их совокупности. Н. Хаммонд ссылается на рассказы о том, как Айгимий, царь дорийцев, в благодарность Гераклу за оказанную им помощь принял в свой род его сына Гилла (Ephor. FGH 79, F 15) и уступил Гераклидам треть своей земли (Diod. IV,37) — она должна была составлять владения гиллеев. Из этого Хаммонд верно заключает, что среди дорийцев только гиллеи, потомки Гилла, имели право на имя Гераклидов, тогда как остальные две дорийские филы — памфилы и диманы не принадлежали к Гераклову роду [Hammond, 1975, с. 696 и сл.]. В науке причисление гиллеев к дорийцам давно оценено как отражение ассимиляции последними иллирийского этноса [Wilamowitz-Moellendorff, 1924, с. 177; Mayer, 1957, с. 158; Blumenthal, 1930; Rubinson, 1975, с. 112]. В частности, А. фон Блюменталь небезуспешно анализировал дорийские лексемы в словаре Гесихия на предмет выявления иллирийского слоя, который он называл «гиллейским». Сопоставим два выявленных тождества; «дорийские гиллеи — ассимилированные иллирийцы» (в истории) и «гиллеи — Гераклиды, потомки мифического Гилла» (в легенде). Легко заключить, что причисление к дорийцам «Гераклидов» во главе с Гиллом должно отражать на мифо-легендарном уровне адаптацию среди северо-западных греков раннеиллирийских элементов, участвовавших в третьей четверти XIII в. до н. э. в инвазии, интерпретированной греками как первая попытка «возвращения Гераклидов». Возникла такая интерпретация потому, что, как думал еще Виламовиц-Мёллендорф, эти иллирийцы, стараясь теснее сблизиться с окружающими их греками, объявили своим предком греческого Геракла (возможно, отождествив его со своим племенным героем). После того как традиция этих «квази-Гераклидов» влилась в этническую традицию дорийских племен, нападение гиллеев на города Пелопоннеса было связано в единый сюжет с последующим переселением дорийцев на юг.
Итак, вопреки Шахермейру, традиция как раз запечатлела те события, которые он считал изгладившимися из памяти греков. Но рисуемая ею картина вовсе не согласуется с идеей Шахермейра о долговременном подпадении греков под власть иноплеменных правителей. Уж скорее слова об эпидемии, заставившей пришельцев уходить с Пелопоннеса, и об ахейцах, отразивших на Истме через три года новую попытку вторжения, согласуются с прозорливым мнением Десборо насчет бесплодности данного завоевания для самих победителей, почему-то не сумевших им воспользоваться. Кстати, не за эти ли три года, судя по соседней керамике, на самой грани позднемикенского периода III В и периода III С, поднялась стена поперек Истма, сделавшая перешеек непроходимым для «племени Гилла»?
Здесь хотелось бы обратить внимание на самую раннюю реминисценцию «первого возвращения Гераклидов» в гомеровском «Каталоге кораблей» (Il. II,657 и сл.). Это рассказ о Тлеполеме, родосском герое, будто бы принадлежавшем к сыновьям Геракла, но по безрассудству убившем своего родича, старца Ликимния, и вынужденном в страхе перед гневом прочих Гераклидов отплыть с большим войском на колонизацию Родоса. Согласно позднейшим авторам (Apd. II,8,2; Diod. IV,58), это убийство произошло в Аргосе, что подтверждает имя Ликимния (Λικύμνιος) как эпонима Тиринфского акрополя Ликимны (Strab. VIII,6,11). По Аполлодору, это случилось во время захвата Гераклидами Пелопоннеса, а Диодор пишет, что Ликимний и Тлеполем и раньше жили в Аргосе сами по себе, отделившись от прочих Гераклидов. Хотя позднее, когда и Аргос и Родос были заняты дорийцами, Тлеполем превратился в их традиции в дорийского героя-изгнанника, спасающегося от своих же сородичей, но едва ли это было так, изначально. Уже Страбон (XIV,2,6), споря с таким мнением, настаивал на том, чтобы видеть в Тлеполеме мифического тиринфянина или аргосца, а еще раньше Пиндар (Ol. VII,20 и сл., 77 и сл.), ни с кем не вступая в спор, просто славил Тлеполема как «предводителя тиринфян». В нашем веке рисуемая Гомером картина прихода этого героя с дружиной на Родос сравнивалась с многочисленными приметами поздней микенской колонизации на этом острове [Nilsson, 1933, с. 262; Колобова, 1951, с. 41 и сл.]. Во всяком случае, если даже права М. Римшнейдер, видя в Тлеполеме догреческое родосское божество (местный вариант хатто-хеттского бога плодородия Телипина) [Riemschneider, 1973, с. 16], он бесспорно должен был быть адаптирован ахейцами гораздо раньше, чем дорийцами. Поэтому знаменательно, что на каком-то этапе своей эволюции этот персонаж был осмыслен как предводитель аргосских ахейцев (многочисленных выходцев из опустошенного носителями «варварской керамики» и обезлюдевшего Тиринфа), отплывающих, спасаясь, под его началом на Родос, с наступлением позднемикенского периода III С расцветающий благодаря притоку иммигрантов из Греции. Для этого времени Тлеполем представлял героизированный тип ахейца, уходящего с Пелопоннеса — родины, оказавшейся добычей «Гераклидов» — гиллеев с Адриатики, и их союзников. И отнюдь не случайно этот «беглец-колонизатор», по преданию, вскоре пополняет ряды воинства, устремляющегося в Трою.
10
Подведем итоги. Восстанавливая ход событий, разыгравшихся в Восточном Средиземноморье во второй половине XIII — начале XII в. до н. э., мы видим, что исторически достоверные факты образуют конфигурацию, в которой отчетливо различимы контуры великой Троянской войны.
Как мы помним, Тудхалияс IV (1265–1235 гг. до н. э.) столкнулся с новой для хеттских царей ситуацией «вакуума власти» на западе Анатолии из-за резко ослабевшего влияния Аххиявы в этом регионе. Царь Аххиявы вычеркивается из перечня великих царей, чье могущество Тудхалияс считает равным своему. Археология говорит о том же: на 1240-е годы до н. э., может быть, немного раньше или немного позже, приходится нашествие народов «варварской керамики» на Микенскую Грецию. Показаниям клинописных документов из Богазкёя и разрушениям в Микенах, Тиринфе, Пилосе вторит легенда о гибели Эврисфея в Аттике и первом вступлении Гераклидов в Аргос. У нас нет оснований не верить традиции, когда она настаивает на кратковременности этого вторжения (ср. сообщение Аполлодора об эпидемии, разразившейся среди завоевателей). Как бы то ни было, все рассмотренные факты согласуются с версией о быстром отходе «первых Гераклидов» в более северные районы. Часть их могла смешаться с северогреческими, «дорийскими» в широком смысле племенами, отдельные же группы могли оставаться и на юге, входя в контакты и в союзы с владельцами отстраиваемых ахейских цитаделей.
Судя по всему, устои «великоахейского» стиля жизни, опирающегося на централизованное, бюрократизированное дворцовое хозяйство, за несколько лет потрясений оказались подорваны. Среди населения возникает сознание опасности жизни вблизи столь привлекательных для варваров и столь беззащитных перед ними столиц. Утрата политической стабильности увеличивает подвижность греков, подгоняемых предприимчивостью и страхом, ненадежностью хозяйствования на старых местах и открывающейся перспективой поиска для жизни новых территорий за морем. Очень ярко этот комплекс мотивов выразился в мифе о Тлеполеме, в страхе перед первыми Гераклидами переселяющемся на Родос.
Расцвет локальных тенденций в культуре позднемикенского периода III С говорит о снижении ранее абсолютного культурного авторитета Микен. За этими переменами видится новая политическая ситуация с возобладанием автаркического принципа «каждый за себя», крепнущая децентрализация. Однако в чисто материальном аспекте хозяева Микен по-прежнему остаются едва ли не самыми мощными династами Пелопоннеса. После отхода завоевателей стены в Микенах и Тиринфе укрепляются заново. Как уже говорилось, не исключено, что именно в эти годы возводится огромный вал на Истме, предназначенный предотвратить новые вторжения. В то же время в попытках восстановить свой общеахейский престиж микенские правители должны были считаться с новыми реалиями, среди которых важнейшей оказывается массовый отход населения на «окраины греческой ойкумены», сочетающий эмиграцию с экспансией.
Похоже, что в это время царь Микен пытается вновь подтвердить свое присутствие в политической жизни Анатолии. Ввиду происшедшей или только грозящей расправы над врагом Тудхалияса — Кукуллисом из Ассувы — в Хаттусас отправляется письмо, напоминающее хеттскому царю о давних договорах предков Кукуллиса с Агагамунасом, дедом нынешнего царя Аххиявы, видимо, правившим в конце XIV — начале XIII в. до н. э., в пору максимального усиления влияния Аххиявы в Малой Азии. Отсюда видно, что, несмотря на кризис, переживаемый Аххиявой в дни Тудхалияса, в ее главном центре правит все та же династия — и с прежними претензиями. Тудхалияс отсылает автору этого письма пренебрежительный и предостерегающий ответ, рассмотренный нами в третьей главе. Но в эти же годы хеттские анналы фиксирует событие, бывшее с точки зрения греков началом Троянской войны Атридов: пользуясь антихеттским выступлением Страны реки Сеха, царь Аххиявы с войском высаживается в этой стране вблизи Вилусы-Илиона, но оказывается изгнан. Традиция греков уже включает эту вылазку в контекст гигантского легендарного сбора вождей и дружин в фактически безвозвратный для большинства из них заморский поход, растянувшийся на десятилетия, из которого даже уцелевшие не спешили возвращаться.
Итак, информация, заключенная в анналах Тудхалияса IV, позволяет свести в рамках 30 лет, охваченных правлением этого царя, следующие события: перелом в истории Ахейской Греции после ударов «первых Гераклидов», конец позднемикенского периода III В, миграции греков на Киклады и к берегам Анатолии; новый всплеск агрессивности ослабевших царей Аххиявы в районе Вилусы-Илиона, перекликающийся с борьбой Аххиявы за Вилусу в начале века. Затем первый поход «народов моря» на Египет, тот поход, в котором главной силой были воины Аххиявы с примкнувшими к ним другими народами. Среди последних наряду с пиратами шакалуша (сикелами) и хорошо знающими Египет шардана особенно выделяются вошедшие с ахейцами в союз турша-тирсены, южные соседи Троады. Присоединив сюда тот факт, что пожар Трои VIIa приходится на те же начальные годы позднемикенского периода III С и что в числе разрушителей этого города была группа незадолго до того проникших на Пелопоннес носителей «варварской керамики», а также учтя слова Геродота о последовавшем за сожжением «Приамовой Трои» продолжении поисков Елены ахейцами в Египет, мы достраиваем картину до конца.
Как представляется, правители Микен, стремясь вернуть свое лидерство в Греции и заодно позиции в Анатолии, нашли удачное решение, направив владеющий греками миграционный порыв в русло давно апробированной и престижной акции — нового похода на отпавшую от греческого мира Трою. Выше мы уже видели, что великий Агагамунас-Агамемнон и «нечестивый» Алаксандус-Александр могли войти в эпос из воспоминаний о событиях начала XIII в. до н. э. В таком случае возникает кажущийся парадокс — песни об этих героях Троянской войны могли на самом деле звучать еще накануне этой войны, более того, в какой-то мере направлять ее течение, чтобы потом слиться с ее грандиозным образом. Но через один-два века этот великий поход оказался закреплен за Агамемноном, а более ранняя экспедиция связана с мифическим воплощением микенской мощи — Гераклом. Впрочем, известная тенденция к повторению одних и тех же имен в династических генеалогиях, с называнием внуков в память дедов и т. д. делает предположительными любые суждения в этом роде (см. о «двух троянских войнах» [Hiller, 1977]): вполне допустимо, что Микенами в эту пору снова правил царь, носивший, как и его прадед, имя Агамемнон, а в Вилусе в составе правящей верхушки, окружавшей местного царя, носившего титул «Приама», могли быть лица с характерным для этого города и не зафиксированным в Малой Азии за его пределами именем Алаксандус.
Неубедительны абстрактные рассуждения о том, что опасность с севера исключала для микенцев широкие завоевательные акции вдали от дома. Как раз наоборот — осознанная необеспеченность, ненадежность жизни на родине превращала самих энергичных и предприимчивых греков в полчище потенциальных мигрантов-завоевателей. Это подтверждают, например, волны греческих переселенцев в XIII–XI вв. до н. э., неоднократно и сокрушительно захлестывавшие Кипр. Именно тогда правители Микен, провозгласив план похода на Илион, могли сплотить под своим началом, пусть на очень небольшой срок, такую армаду, о которой не приходилось и мечтать в пору стабильного благополучия.
Видимо, во многом правы авторы, такие, как Д. Пейдж, допускающие в эпическом консорциуме народов, защищающих Илион, воспоминание о совместных выступлениях «стран Ассува», включая Вилусию с Труисой. Члены этого регионального союза, ранее противодействовавшие натиску на Эгейскую Анатолию державы Тудхалияса IV, теперь должны были поддержать Илион и его правителя, носившего титул или титулатурное имя «Приам», против неслыханного по масштабам нашествия с моря. Впрочем, «Троянский каталог» относит к союзникам Илиона и державшийся в стороне от Вилусы, ориентировавшийся на Тудхалияса Милет-Милаванду. В этой битве народов мог участвовать и отряд осевших в Греции носителей культуры «варварской керамики», примкнувших к ахейцам.
Между прочим, самые незначительные из противников Мернептаха — отряд народа Luku — привлекают особое внимание специалистов по Гомеру ввиду исключительной роли ликийцев в «Илиаде». В этой поэме ликийское войско, прибывшее с юга Анатолии в Трою, рисуется крупнейшей союзной силой, защищающей столицу троянцев. Но вместе с тем один из предводителей этого войска, Главк, признает в греческом герое Диомеде друга своей семьи и прямо на поле битвы возобновляет с ним старинный союз (Il. VI,215 и сл.). На исторической сцене ликийцы-луку действуют как спутники акайваша-ахейцев только при Мернептахе, но ни разу не упоминаются в надписях Рамсеса III, либо оставшись в стороне от великой миграции филистимлян и тевкров, либо будучи вместе с Хеттской империей и странами Арцавы сокрушены потоками мигрантов. Упоминание о Luku — еще один момент, сближающий надписи Мернептаха с Троянским циклом, как и параллелизм между отраженным в этих надписях союзом ахейцев с турша-тирсенами и появлением у Гомера на поле битвы за Трою «пеласга» с типично этрусским именем.
Таким образом, борьба за Троаду завершилась с уничтожением этого города в самом конце 1230-х или уже в 1220-х годах до н. э. Вопреки мнению некоторых авторов [Vermeule, 1964, с. 278; Stubbings, 1975, с. 354], Троянскую войну надо синхронизировать не с «пеластско-тевкрийским» переселением в XII в. до н. э., а с первым, «акайвашским» походом «народов моря», присоединивших к себе тирсенов с севера Анатолии, а также прежних союзников Илиона — ликийцев. Собственно, если отрешиться в осмыслении фактов от египтоцентристской позиции, то же самое можно сказать более четко: связь событий, трактовавшаяся греками как Троянская война, с выдвижением в коллективном сознании на первый план одного эпизода, затмившего и подчинившего себе все остальные, — эта же война в той части, в которой она коснулась Египта, была расценена египтянами в качестве первого из походов «народов моря».
Не следует надписи фараонов противопоставлять эпосу и легендам греков, как будто бы позитивную фактографию — поэтическим домыслам. Стереотипная терминология и картина мира египетских надписей представляла мощный механизм — только в ином ключе, чем у греков, — мифотворческой переработки реальности: под давлением этого механизма в восприятии ученых XX в. возникла идея «народов моря» как единой общности, чуть ли не 50 лет поэтапно осваивавшей по единому плану восток Средиземноморья. И наоборот, греческое предание глубоко проникает в движение истории, когда оно рисует раздор Атридов перед побежденным городом и стремительное превращение воодушевленного героическим планом воинства в разрозненные отряды, бороздящие моря во всех мыслимых направлениях с военно-колонизационными целями. Гибель Илиона, исчерпав задачу, во имя которой ахейцы в последний раз и в небывалом числе сплотились вокруг царя Микен, знаменует фактический конец этого единения, распад ахейского сообщества на массу автономных групп, включая выделение отряда, выступающего, согласно традиции, во главе с супругом Елены Атридом Менелаем в Египет. На руинах Илиона Греция конституируется в новом состоянии: поход микенского царя оборачивается уже никем не контролируемой миграцией, разбрасывающей греков по всем концам Средиземноморья, когда каждая группа, захваченная этим движением, в одиночку борется сама за себя, за свое выживание и успех. Здесь легенда выразила самую суть того, что сталось с греческим миром в позднемикенском периоде III С. Разумеется, она в согласии со своей природой стремится резюмировать смысл эпохи в обобщающих, часто фольклорных сюжетах, привязанных к популярным фигурам героев. Однако, сопоставляя предание с известными по другим источникам фактами, историк вынужден заключить, что основную канву происходившего оно сохранило в неприкосновенности.
Троянская война, включая ее египетский эпизод, должна быть включена в цепь из четырех великих миграций, за 100 лет последовательно преобразивших этнополитический облик Передней Азии и Восточного Средиземноморья. При этом каждая предыдущая из этих миграций подготавливала или провоцировала последующую. Первая из них — это нападение на Грецию примерно в 1240-х годах племен «варварской керамики» (из них мы твердо можем говорить о гиллах), выведшее ахейский мир из состояния стабильности. Вторая — стимулированное опасностью с севера движение греков на восток и, как следствие, Троянская война, разыгравшаяся в 1230-е или 1220-е годы до н. э. на просторах от Геллеспонта до Нила. После нее дезинтегрированная Микенская Греция фактически исчезает в качестве единой силы, ранее поддерживавшей своей талассократией порядок в Эгейском бассейне. Тем самым открывается возможность для третьей миграции, потрясшей в 1190-х или 1180-х годах до н. э. Эгеиду и Левант: в ней уроженцы Западных Балкан — эпирские пеласты, возможно, принадлежавшие ранее к кругу народов «варварской керамики», соединяются с народами областей, соседствовавших с Троадой и опустошенных ахейцами (таковы тевкры и тирсены, повторно увлеченные планом нападения на Египет). Отсутствие в это время разрушений на Кикладах вовсе не говорит о том, что в поход была вовлечена какая-то «влиятельная группа микенцев» [Desborough, 1964, с. 238]. Скорее оба основных маршрута мигрантов: восточный, через Анатолию (условно «путь тевкров»), и западный, со стороны Адриатики, через Крит и далее к берегам Леванта («путь пеластов-филистимлян»), соединившиеся на берегах Сирии и Палестины, обошли стороной этот архипелаг, к счастью греков — его обитателей.
Никакой уверенности в непосредственной причастности ахейцев к этому походу нет. Греческая традиция в целом прошла мимо переселений и баталий других народов, если не считать их отзвуком рассказы о скитаниях героя Тевкра. Однако эти рассказы так же делают упор на второстепенных моментах миграции, уничтожившей Хеттскую империю, как надписи Мернептаха, с точки зрения грека, должны были отражать событийную периферию Троянской войны. И наконец, четвертая великая миграция была вызвана «политической пустотой», возникшей после пеластско-тевкрийского передвижения на месте ранее властвовавшего над Анатолией Хеттского царства. Эта пустота была заполнена массовым переселением на малоазийский полуостров фракийских и фригийских этносов Северной Эгеиды, доходящих во второй четверти XII в. до н. э. до Евфрата, где их остановила мощь Ассирии. Среди переселенцев оказались и строители Трои VIIб 2, города, с возникновением которого обрываются микенские связи Троады (об этом подробнее говорится в следующей главе). К этим названным четырем миграциям примыкает позднейшая пятая: начинающееся со второй половины XII в. до н. э. и растянувшееся на полтора века движение северо-западных греков на юг Греции, где еще сохранялись остатки ахейской государственности.
Так выглядит значение событий Троянской войны в истории Восточного Средиземноморья на том, предельно обобщенном уровне исторического описания (так сказать, «с птичьего полета»), когда различимы лишь потоки населения, соотношение сил, гибнущие и возникающие царства.
В ином ракурсе раскрывается исторический смысл Троянской войны, если поставить в центр внимания сознательную установку ахейских предводителей, приписываемую им эпосом, на колонизацию Северо-Западной Анатолии. Предание о происхождении их предка Пелопса, сына Тантала, из Анатолии прямо связывало его с местами, прилегавшими к Троаде, частично включавшими ее: в Пелопсе видели лидийца (Pind. Ol. I,24; IX,9), или фригийца (Hdt. VII,8; Bacch. VIII,31), или, наконец, пафлагонца (Istr. FHG I, фр. 59; Diod. IV,74). Цец в комментарии к стк. 158 «Александры» Ликофрона указывает, что бог — Зевс или Посейдон — отправил Пелопса в Грецию «из Лидии или, согласно некоторым, из Пафлагонии». Все это области, как бы подковой окружающие владения Илиона. На юге самой Троады Килл, эпоним поселения Киллы, славился как возница Пелопса (Strab. XIII, 1,63). Отсюда понятна возможность поэтического наименования Пелопса «дарданцем», т. е. прямо выходцем из Троады (Sen. Her. fur. 1165). В этот круг представлений, естественно, включается и мотив изгнания Пелопса с его родины победившим царем Трои Илом (Paus. II,22,3; Diod. IV,74; Nic. Damasc. FHG III, фр. 17). Эта версия освещает важный аспект предыстории Троянской войны, непростительно часто упускаемый из вида. Осада Троянской столицы Атридами имеет в легендах явственный смысл возвращения на землю предков, возможно, даже реванша за изгнание прародителя Пелопса. Ибо существовала версия, будто необходимым условием взятия Илиона был привоз под его стены костей Пелопса (Apd. Ер. 5, 10–11; ср. Lycophr. Alex. 53 и сл. — слова о Трое, сожженной «остатками от погребального костра Танталова сына», и схолии к этому месту). Воюя за Трою, Атриды в определенном смысле утверждались на своей родине. Кстати, в конце XV — начале XIV в. до н. э. лишь немногим южнее, в Лидии воевал Ат(та)риссий, вероятный исторический прототип легендарного Атрея, их предка.
По воспоминаниям греков, Троянская война уже на ее первом, вполне контролируемом и направляемом Атридами этапе не ограничивалась Троадой. Из Илиады (IX, 129, 271) узнаём о разграблении ахейским войском Лесбоса, хеттской Лацпы, будто бы находившегося в сфере влияния Приама (XXIV,544). Выше, во второй главе, мы рассматривали хеттский текст времен Хаттусилиса III о том, как из Аххиявы в Хаттусас приезжал жрец Ант(а)равас, везя с собой к заболевшему хеттскому царю изображения богов Аххиявы и Лацпы. В эпосе конфликт Микен с Илионом немедленно оборачивается бедой для Лесбоса. Зато правитель соседнего Лемноса Эвней рисуется Гомером как союзник ахейцев; на его острове они делают стоянку перед высадкой в Троаде (Il. VIII,230), здесь же они продают в рабство троянских пленников (Il. XXI,40 и сл., XXIV,753). Эвней во время осады посылает Атридам дары и через своих посланцев прямо под стенами Илиона покупает захваченную ахейцами добычу (Il. VII,468 и сл.). Словом, если попытаться очертить пространство, затронутое Троянской войной в собственном смысле, до того, как она переходит в «возвращения ахейцев», нетрудно видеть, что оно в основном совпадает с позднейшей греческой малоазийской областью Эолидой.
Между тем возникновение исторической Эолиды греки относят к десятилетиям, последовавшим за Троянской войной, и связывали его с именами потомков Агамемнона. Говорили, что уже сын Агамемнона Орест предпринял поход в Мисию, т. е. по следам своего отца (Pind. Nem. XI,36 и сл.). По другой версии, дети Ореста, снарядив корабли, отправились колонизовать эти края, причем местом отплытия избрали ту самую Авлиду, откуда якобы два раза — в Мисию и в Троаду — отплывал Агамемнон (см. Strab. IX,2,3). По этой трактовке заселение Эолиды пелопоннесскими и беотийскими выходцами с самого начала оформлялось по аналогии с Троянской войной. Наконец, в еще одном варианте колонизация началась при сыне Ореста и внуке Агамемнона Пенфиле через 60 лет после гибели «Приамовой Трои». Это примерно середина XII в. до н. э., когда усиливается движение на юг северных греков, осмысленное в легендах как новая попытка «возвращения Гераклидов». Получается, что правители скудеющих Микен отреагировали на этот натиск точно так же, как раньше на первое вторжение северян-негреков, — тягой на северо-запад Малой Азии, к Пелопсовым местам. Причем Пенфил будто бы повел туда свой народ не по морю, а сушей через всю Грецию, и лишь его сын Архелай добрался до острова Кизика в Мраморном море у троянских берегов и далее до реки Граника на севере Троады, внук же Пенфила Грас оттуда перебрался на Лесбос (Strab. XIII, 1,3). Возможно, создатели Эолиды пытались осесть в Трое, но не смогли удержаться в этой местности, куда в то время прибывали все новые северобалканские племена (Strab. XIII, 1,8), и были вынуждены отойти к югу и на острова. Лишь в VIII в. до н. э. эолийцы уже с юга осваивали Троаду и, придя на руины Илиона, строят здесь свой город — Трою VIII [Cook, 1975, с. 781].
Поскольку в ряде поселений Малой Азии, например в Смирне, эолийская колонизация явно предшествует ионийской, начинаясь ранее 1000 г. до н. э., мы можем вполне доверять традиции, относящей возникновение эолийских поселений к XII–XI вв. до н. э. [Hammond, 1975, с. 704 и сл.; Cook, 1975, с. 779 и сл.; Schachermeyr, 1980, с. 377 и сл.; Schachermeyr, 1983, с. 332]. Но тогда должен быть всерьез поставлен и вопрос об исторической преемственности между эолийской колонизацией и троянскими войнами микенских царей XIII в. до н. э. Эта преемственность проявляется в самой «пластичности» традиции, в подвижности внутри нее тем и мотивов, постоянно уподобляющей последующие события предыдущим путем своего рода «удвоения» (ср. [Гиндин, 1985]): рассказ о великом походе Атридов насыщается аллюзиями «Троянской войны Геракла», а, в свою очередь, в изложение эолийской колонизации переносится важнейший для троянских сказаний эпизод сбора в Авлиде. Можно ли на этом основании утверждать, подобно некоторым гиперкритикам, будто Троянская война Атридов — просто вымысел аэдов, поэтизирующих переселение эолийцев, или вслед за Шахермейром, считать, что она только удвоение «экспедиции Геракла»? Отнюдь нет, ведь реальными историческими фактами являются и война Аххиявы в начале XIII в. до н. э. с хеттами за Вилусу-Илион, и высадка царя Аххиявы в Стране реки Сеха близко к тому времени, когда была сожжена Троя VIIa, и переселение эолийцев. «Пластичность» традиции выражает постоянно присутствовавший в истории ахейцев лейтмотив какого-то неустанного конкистадорского стремления их правителей в Трою и в смежные с ней области. Слиянием этого многовекового лейтмотива с кризисным порывом бегства из Балканской Греции за моря, охватившим массы ахейцев после первого «нашествия Гераклидов» и придавшим новому походу на Илион небывалый общеахейский размах, определяется тот поливалентный облик, какой обрела в памяти греков Великая Троянская война: то ли завоевание, то ли бегство, не то триумф, не то катастрофа, событие, формально вписывающееся в историю греко-малоазийских отношений, по масштабу же и трагизму связанных с ним ассоциаций не имевшее себе в прошедшем подобий.
КТО ЖИЛ В ТРОЕ?
Глава 5 Фракия и Троада
1
Восстановив картину того, как и когда гибла «Приамова Троя», естественно спросить: а кто ее защищал? К кому на помощь, по преданию, устремлялись союзники со всего побережья Малой Азии и Фракии? Какой язык или языки накануне войны звучали в стенах этого города?
На этот счет в науке имелось и сейчас имеется несколько версий. С самой романтической из них, принадлежащей В. Георгиеву, мы ознакомились уже выше и решили, что троянцы все-таки не могут считаться предками этрусков-тирренов. Похоже, эти предки и впрямь жили где-то в Северо-Западной Анатолии, относительно недалеко от Трои, но отождествлять эти народы не следует. По другой версии, Трою населял некий народ, говоривший на одном из языков хетто-лувийской семьи. Впрочем, В. Георгиев, считая самих этрусков народом, близкородственным хеттам (с чем не соглашается практически ни один авторитетный этрусколог), пробовал свести эти две концепции воедино. По третьей версии, Троя была частью греческого мира и обитало в ней греческое племя, по языку и культуре родственное тем ахейцам, которые ее сокрушили. Согласно последней гипотезе, крах Трои напоминает происшедшее в годы расцвета Микен разрушение Фив, уничтоженных, по всей вероятности, соперниками из числа ахейских правителей, обеспокоенными могуществом этого города.
Но есть еще одна концепция. Ее основы, по-видимому, заложил еще Страбон, комментируя 835-й стих Второй песни «Илиады». Говоря о троянском городе Арисбе, он с присущей ему ученой сухостью констатировал (XIII,1,21): «Есть и на Лесбосе город Арисба… есть и река Арисб во Фракии, как говорят, и вблизи нее фракийские кебренийцы. Ибо много созвучных имен у фракийцев и троянцев (разрядка наша. — Л.Г., В.Ц.). Например, некие фракийцы-скеи и река Скей и Скейская крепость — и в Трое Скейские ворота, фракийцы-ксанфии — и река Ксанф в Трое, Арисб, приток Гебра и Арисба в Трое, река Рес в Трое и Рес, фракийский царь».
О фракийцах, язык которых представлен многими десятками местных названий и личных имен в античных источниках, народе, с которым греки связывали мифы об Орфее и Дионисе, с каждым годом становится известно все больше, и не только в результате непрерывно ведущихся археологических раскопок. Обследование фракийской ономастики, проделанное И. Дуридановым и В. Н. Топоровым, обнаружило ее тесные связи с ономастикой народов, говорящих на языках балтийской семьи [Duridanov, 1969; Топоров, 1977а], вплоть до того, что впрямую возникает мысль о древнем фрако-балтийском диалектном единстве. Но с востока, на переходе из Подунавья в Причерноморские степи, фракийцы издавна граничили с носителями иранских, а возможно, и индоарийских диалектов. Там же, на востоке от протофракийцев должны были проживать и ранние хетто-лувийцы в преданатолийский период своей истории. На запад от фракийского ареала обитали племена протоиллирийцев и протокельтов. Фракия оказывается соединяющим звеном между восточной и западной частью индоевропейского мира, а со второй половины III тысячелетия до н. э., когда хетто-лувийцы начинают заселять Анатолию, — между индоевропейцами в Европе и индоевропейцами Малой Азии. Не будет преувеличением назвать Фракию местом пересечения дорог, ведущих во все концы мира индоевропейцев, как бы сердцевиной этого мира (ср. [Гиндин, 1981, с. 18]).
Слова Страбона о созвучных именах у фракийцев и троянцев кажутся вполне понятными — ведь речь идет о давних соседях. Море, плещущее у троянских берегов, Гомер называет «Фракийским морем» (Il. XXIII,230), цари Трои и Фракии, как увидим ниже, связаны брачными союзами, в руках троянца Гелена блистает «фракийский меч» (Il. XIII,577). Ономастический список Страбона даже по научным критериям XIX–XX вв. выглядит вполне внушительным. Опираясь почти исключительно на него, такие авторитетные ученые, как Э. Мейер и П. Кречмер, признали наличие в троянской топонимике фракийских элементов, однако не склонны были считать их слишком древними [Meyer, 1877, с. 11 и сл.; Kretschmer, 1896, с. 186 и сл.]. В XX в. по этому вопросу более решительно высказался Э. Бете, который, исходя из общих этногеографических соображений, отнес Трою с самых ранних фаз ее существования к ареалу расселения фракийцев [Bethe, 1927, с. 16 и сл.]. Гипотезу о северобалканском происхождении населения Трои I высказал видный археолог К. Шухардт [Schuchardt, 1940]. В. Георгиев также допускал фракийское происхождение имени троянцев, хотя и полагал, что это имя было перенесено на местный хетто-лувийский народ [Георгиев, 1958, с. 172]. С начала 1960-х годов о параллелях между культурой Трои и фракийскими культурами раннего бронзового века много писал Дж. Мелларт [Mellaart, 1960; 1971].
В 1970-х годах фрако-троянские этнические и языковые отношения во II тысячелетии до н. э. стали предметом специальных исследований одного из авторов данной книги [Гиндин, 1973; 1974; Gindin, 1978]. Эти исследования были позднее подытожены в обобщающей работе [Гиндин, 1981]. Результаты проделанного обследования троянско-гомеровской топо- и гидронимики оказались нетривиальными: они побудили вразрез с гипотезами о греческой или хетто-лувийской принадлежности «города Лаомедонта и Приама» выдвинуть тезис о преобладании среди населения Трои этого времени людей, говоривших на раннефракийских диалектах, и соответственно о единстве в культурно-историческом отношении северо-запада Анатолии с территориями юго-востока Балкан. Этот тезис нашел прочную поддержку в материалах осуществлявшихся в те же годы раскопок ряда памятников бронзового века Болгарии, особенно советско-болгарских раскопок поселения Эзеро, возглавлявшихся Н. Я. Мерпертом и И. Георгиевым. В 1980-х годах уже сложившуюся картину серьезно обогатили и дополнили материалы раскопок поселения Юнаците (о согласовании языковых свидетельств с археологическими данными см. в конце данной главы).
К настоящему времени степень изучения материала достигла такого уровня, когда кажется возможным представить целостную карту гомеровской «фракийской Троады». Особо подчеркнем, что мы говорим именно о гомеровской Троаде и принимаем в расчет лишь названия, засвидетельствованные в «Илиаде». Дело в том, что уже после создания великой поэмы эта область пережила новые этнические потрясения, свидетелями которых стали греки — основатели Трои VIII. Приблизительно в конце VIII в. до н. э. западнофракийские племена треров, прорвавшись через проливы, сперва заселили все троянское побережье к югу от Абидоса, а затем, устремившись в Лидию, Фригию и Пафлагонию, приняли активное участие в походах киммерийцев (Strab. I,3,18, 21; XIII, 1,8; XIV, 1,40). Возможно, вместе с киммерийцами они достигли Закавказья, где их имя отразилось в названии области к югу от Тбилиси — Триалети, арм. Trelk' [Tomaschek, 1980, I, с. 54 и сл]. Позднее, на грани VII–VI вв. до н. э., последняя фракийская волна, стримонское племя вифинцев вторгается в Азию и, оттеснив киммерийцев из Северо-Западной Анатолии, превращает ее часть к востоку от Троады в историческую Вифинию (Eusth. ad Dion. Per. 322; см. [Tomaschek, 1980, I, с. 64 и сл.]). Очевидно, что эти миграции должны были принести и принесли в Малую Азию массу новых языковых и культурных элементов из Фракии. Гомеровский эпос, при всей гетерогенности сообщаемых им фактов, все-таки ясно позволяет обозначить те пласты троянской топонимики, которые должны были предшествовать инвазиям треров и вифинцев. И без того, как мы увидим, возникают проблемы с периодизацией гомеровских данных, концентрированно заключающих в себе троянскую историю на протяжении свыше полутора тысячелетий.
2
Мы начнем с микротопонимики Илиона, где важнейшими точками, неоднократно упоминаемыми в «Илиаде», оказываются двое ворот: Скейские и Дарданские. Скейские ворота играют особую роль, поскольку они, судя по всему, непосредственно обращены к полю битвы. Над ними восседают на стене троянские старейшины, глядя на подступающее к городу ахейское войско (III,145 и сл.), через них выезжает Приам для принесения клятвы перед поединком Менелая с Парисом (III,263 и сл.). Эти ворота, иногда вместе с росшим вблизи них знаменитым дубом, неоднократно упоминаются Гомером и в других местах поэмы (VI,237; IX,354; XI,170; XVIII,453 и др.), очень часто в контекстах, где речь идет о выходе троянцев на битву, либо об их отступлении в город, либо, наконец, о битве, непосредственно приближающейся к стенам Илиона. Поскольку, согласно поэме (II,464 и сл.), смотр ахейских войск происходил в находившейся к югу от Илиона Скамандрийской долине (и здесь же на побережье античность помещала так называемую «Стоянку ахейцев»), надо полагать, что Скейские ворота смотрели, скорее всего, на юг. Название других, Дарданских ворот говорит само за себя: это ворота, обращенные к древнему троянскому городу Дардану или Дардании, лежавшему на северо-северо-восток от Илиона. Эти ворота упоминаются сравнительно редко. Лишь один раз Гера риторически восклицает, что, пока Ахилл участвовал в войне, троянцы боялись выглянуть даже за Дарданские ворота (V.788 и сл.), т. е. самые удаленные от поля битвы. Зато около них разыгрывается сцена гибели Гектора. Преследуемый Ахиллом от Скейских ворот, он трижды обегает Илион и неоднократно пытается войти в него через эти дальние ворота, пока на четвертом круге не становится жертвой своего врага.
В нашем обзоре троянской топонимики мы будем исходить из той системы ориентиров, которую нам предлагает Гомер, и различать «скейскую» и «дарданскую» часть Троады, т. е. соответственно северную и южную по отношению к Илиону. Но если смысл названия Дарданских ворот ясен сам собой, то название Скейских не расшифровывается из троянской топономастики, и о них надо сказать несколько слов специально. Народная этимология сближала их название с греч. σκοπός, лат. scaevus «левый, западный». «Большой этимологикон» утверждает, что ворота названы либо по имени соорудившего их зодчего Скея (т. е. «Левши»), или оттого, что находились в «левом», западном секторе города. Страбон, отступив от этого толкования, сблизил название ворот с именем фракийского племени скеев (Σκαιοί), по-видимому, родственным упоминаемому им названию реки Скей и отразившимся в обозначении некой крепости как «Скейской стены». Где протекала эта река и где находилась данная крепость, мы не знаем. Стефан Византийский ссылается (s.v. Σκαιοί.) на Гекатея, который, упоминая о скеях в описании Европы, помещал их «между (μεταξύ) Троадой и Фракией». Не очень ясно, что означает «между», когда речь идет о регионах, разделенных морем, подразумеваются ли Эгейские острова или речь идет о проживании скеев в ближайшей к Трое области Фракии, возможно даже об их проникновении на троянскую землю. Историк Полиэн (VII,22) пишет о фракийских племенах кебрениев и скайбоев, «у которых обычай иметь вождями жрецов Геры». Здесь явно имеются в виду скеи, причем запись их имени у Полиэна Σκαιβόαι (с разночтением Συκαιβόαι) позволяет восстановить фракийскую форму *skai-u̯o-[Гиндин, 1981, с. 119].
Хотя сведения Стефана Византийского об изображении данного этноса у Гекатея побуждают считать скеев соседствующим с Троей эгеофракийским племенем, однако нельзя пройти мимо того, что их корни, возможно, обнаруживаются и в другой, континентальной части Фракии. В дакомизийском регионе вблизи р. Ятера (совр. Янтра), притока Дуная, находилось поселение Skai-dava. С выделением обычного в дакомизийских сложных топонимах элемента -dava, -deva «город, поселок» (из и.-е. *dhē- «класть, основывать») это название иногда прямо толкуется как «город или поселение скеев» [Tomaschek, 1980, II, 2, с. 82]. Однако возможно и другое толкование, ибо среди многочисленных фрако-балтийских соответствий, выделенных И. Дуридановым и В. Н. Топоровым, обращают на себя внимание древнепрусское местное название Scayboth, Schaybotten и личное имя Schayboth, восходящие к *Skai-but- [Топоров, 1977а, с. 98], где во второй части, видимо, отражен тот же элемент, что в лит. butas «жилище», др.-прусск. button «дом». Точное цельноформульное соответствие фрак.-дак. Skai-dava и балт. Skai-but- со вторым элементом, значащим «обиталище», заставляет скорее видеть в *Skai- древний ономастический элемент, может быть, как думает Дечев, восходящий к и.-е. *skai- «светлый» [Detschew, 1976, с. 454], от которого посредством адъективного суффикса -u̯o- образовано имя скеев, «светлых, светловолосых», наряду с названием упомянутой ранее р. Скеи, т. е. Светлой.
Вероятность проникновения скеев в Северо-Западную Анатолию выводится не только из сопоставления свидетельства Гекатея с ролью Скейских ворот в повествовании Гомера. Оно может быть подкреплено и некоторыми дополнительными данными. В этрусской ономастике, отличающейся многочисленными западноанатолийскими вкраплениями, обращают на себя внимание родовые имена Sceva, Scevia с этрусско-латинскими продолжениями Scaeva, Scaevinius, Scaevola [Detschew, 1976, с. 454], которые в латыни подвергаются вторичному народно-этимологическому осмыслению по созвучию с тем же scaevus «левый» (вспомним миф о подвиге Муция Сцеволы). С другой стороны, Г. Б. Джаукян предполагает участие фракийских скеев в великом движении северобалканских народов, включая фракийские, протофригийские и протоармянские племена, в конце II — начале I тысячелетия до н. э. прошедшие с битвами всю Анатолию до восточных ее пределов. Отзвук этого имени он видит в арм. (h)skay «великан, гигант» и в имени Skay-ordi «Сын Ская» [Джаукян, 1984, с. 12].
Если принять эту гипотезу, можно будет объяснить полное отсутствие скеев в исторической Трое. Между тем некогда они должны были играть в ее истории весьма заметную роль, если их имя и местопребывание стали одним из важнейших ориентиров в греческих воспоминаниях о планировке Илиона.
Один из важнейших мотивов, в преданиях связанных со Скейскими воротами, это мотив убийства Парисом с помощью Аполлона подступающего к этим воротам Ахилла, особой заботы Аполлона о неприступности обращенных к югу ворот. Своеобразное преломление мотив получает в позднем романе Дарета «О падении Трои» (гл. 46): прибывшего для переговоров Ахилла ждет засада в стоящем перед этими воротами маленьком святилище Аполлона Фимбрейского. Генезис этих представлений об Аполлоне в Скейских воротах будет понятен, если мы вспомним, что при раскопках Трои перед южными и западными («скейскими», согласно народной этимологии) воротами были обнаружены пилоны в честь бога-защитника этих ворот, подобные столбам, в историческое время воздвигавшимся перед дверными входами в честь Уличного, или Дворового, Аполлона [Nilsson, 1955, с. 562; Лосев, 1957, с. 272]. Эти пилоны, которые еще мог видеть Гомер в VIII в. до н. э., посещая Троаду, относятся к периоду «Лаомедонтовой» Трои VI (XVIII–XIV вв. до н. э.), как и небольшое святилище рядом с южными воротами, где на протяжении сотен лет горел огонь и часто приносились жертвы [Blegen, 1963, с. 138 и сл]. Если даже думать, что миф о гибели Ахилла возник у греков в века после гибели города под впечатлением созерцания его руин и культовых памятников в южной и западной части, все равно имя скеев должно было быть еще достаточно живым в традициях Трои для того, чтобы оно могло столь же прочно закрепиться за этим памятником Трои VI, как имя реальных дарданцев — за противолежащими воротами.
3
По примеру античных периплов (географических обзоров в жанре путешествий) рассмотрим сперва топонимику северной Троады, начиная с упомянутой Дардании. Мы уже видели, что жители этих мест тождественны тем Drdny, которые после вассального соглашения Муватталиса с Алаксандусом из Вилусы приняли участие в походе хеттского царя против Египта. Значит, они уже в конце XIV в. до н. э. жили в Малой Азии, скорее всего во владениях Илиона-Вилусы. Но это отнюдь не исключает их более древних северобалканских истоков. Действительно, данный этникон тождествен названию племени Δάρδανοι, Dardanii в верховьях р. Аксия, севернее Пеонии, в промежутке между Северо-Западной Фракией, Мисией и собственно иллирийскими областями. Это племя дожило до позднеримского времени, и еще Аммиан Марцеллин (29,5) в IV в. до н. э. сравнивал вдруг оживающую воинственность дарданцев с отрастанием голов Лернейской гидры. Языковая принадлежность дарданцев служит предметом серьезных споров. Некоторые ученые (например, [Mayer, 1957, с. 108; Çabej, 1977, с. 386]) вслед за Страбоном (VII,5,12) и Аппианом (Illyr. II,5) относят их к иллирийцам, ссылаясь на иллирийские имена их вождей, вроде Dassius, Messius, Longarus и т. д., а также на возможное продолжение этой основы в иллиро-мессапской Апулии, где некие Dardi упоминаются как древнее племя, истребленное еще Диомедом (Plin. III,104). Но можно также привести отражения той же основы во фракийском женском имени Dardisa и в местном названии Δαρδάπαρα, которое содержит типично фракийский топономастический элемент -para «брод, переправа» [Detschew, 1976, с. 357]. Стефан Византийский (s.v. Σαμοϑράκη) приводит слово Дардания как старое обозначение Самофракии, откуда якобы на троянскую землю прибыл первопредок Дардан. Само обитание балканских дарданцев на стыке фракийского и иллирийского ареалов делает вероятным наличие в составе данного этноса фракийских элементов (см. [Tomaschek, 1980, I, с. 25; II, 1, с. 20]), но еще дальше идет Д. Дечев, полагая дарданцев фракийским по происхождению племенем с господствующей иллирийской прослойкой [Detschew, 1976, с. 118].
Мы можем объяснить появление Дардании в Троаде только тем, что это племя, в историческую эпоху отрезанное от моря пеонийскими этносами, должно было во времена более отдаленные иметь выход на Эгейское побережье, причем гораздо раньше рубежа XIV–XIII вв. до н. э., когда возникла «Приамова Троя».
Династические легенды троянской Дардании и топономастика ее окрестностей имеют яркую «фракийскую» окраску. Название реки, впадающей в море непосредственно рядом с городом Дарданом, — Родия, Ῥόδιος (Strab. XIII,1,28), родственно названию левого притока фракийской реки Неста Ῥοδόπη. Последнее построено по типу многочисленных фракийских гидронимов с элементами -απα, -ϵπα, -οπα, родственными лит. upe «река», др.-прусск. ape «река», др.-инд. ap- «вода», и, подобно очень многим иным фракийским названиям, находит точное балтийское соответствие в лит. Rud-upe «рудая, с красноватыми водами река» (см. [Георгиев, 1977, с. 92; Duridanov, 1969, с. 59]). «Родий», собственно, значит «Рыжий», «Рудый» (поток), ср. русские имена рек Рудая, Руденка [Топоров, Трубачев, 1962, с. 220]. Следует добавить, что по реке Родопе назван крупный горный кряж в Западной Фракии.
В «Илиаде» (XX,215–240) Эней, предводитель отряда из Дардании, перечисляет имена правителей, царствовавших в Илионе и в родном городе Энея Дардане. При этом сразу бросается в глаза, что все династы из Дардании с момента, когда их династическая ветвь расходится с ветвью илионской, либо оказываются героическими эпонимами хорошо известных фракийских городов, либо носят имена-прилагательные, образованные от фракийских местных названий. Так, сам Эней связан своим именем с городами Эносом (Αἰνος) в устье Гебра, напротив Самофракии, и, вероятно, Энеей (Αἰνϵία) в Халкидике. Имя его отца Анхиза соотносится с названием, к сожалению, точно не локализуемого города Ἀνγισσός. Историк Феопомп упоминает об этом городе, рассказывая о войне, которую македонцы под 340 г. до н. э. вели в Пропонтиде, осаждая Византий и Перинт (FGH 115, № 227). Не исключено, что Ангисс находился здесь же, недалеко от берегов Троады. Дед Энея Капис носит «героическое» фракийское имя, отраженное в таких континентально-фракийских топонимах, как Καπι-στούρια «страна Каписа», крепость в верховьях Гебра, и Καπί-δαυα «город Каписа», в восточной части балканской Мисии (так называемая «Малая Скифия»). Имя же прадеда Энея Ассарак — это прилагательное, образованное от названия города в Мигдонии, на северо-западе Эгеиды Ἄσσαρα. Итак, не только название самой Дардании, но и весь перечень ее легендарных царей восходит к ономастике Фракии, к именам ее героев и обозначениям ее населенных пунктов.
Двигаясь от окрестностей Дардании к северу параллельно все более загибающемуся на восток побережью, мы приблизимся к «божественной Арисбе», как именует Гомер этот город (II,836). Конечный элемент -ισβα был впервые интерпретирован А. Хойбеком, опиравшимся на параллели в ономастических реликтах Южной Анатолии. Анализируя памфилийское личное имя Μαγασιψϝας, читающееся как Magas-issu̯as, этот автор выделил основу -issu̯a, к которой возвел элемент -ισβα/-ισπα в килик.-исавр. Δορμ-ίσβας, Δορμ-ισπας и некоторых других именах. Эту основу с очень нетривиальным развитием, -su̯- > -sb/p-, он сопоставил с названием лошади в лувийских диалектах, продолжающим и.-е. *ek'u̯os, др.-инд. áśvaḥ, лат. equus и т. д., как раз обнаруживающим таковой звуковой переход, ср. лув. иерогл. aśuwa, лик. esbe «лошадь», сюда же имя ликийского конного бога Κακ-ασβος (см. об этом боге [Kretschmer, 1939, с. 257]). В -issu̯a Хойбек предложил видеть вариант этого названия с необычным сужением a/e > i, истолковав в этом ключе ряд имен, особенно удачно писид. Μασναν-ισβας, при лув. maš(a)na «бог», в смысле «Конь божества», аналогично греч. Ποσειδ-ίππος «Конь Посейдона» и др. [Heubeck, 1962, с. 84 и сл.]. Одним из авторов данной работы была подробно развита мимоходом высказанная Хойбеком мысль о возможности отражения того же слова в чрезвычайно распространенном на северо-западе Малой Азии названии Арисбы (Ἀρίσβη) [Гиндин, 1967, с. 143]. Этот топоним мы находим в Троаде и на Лесбосе, во Фракии ему соответствует название реки Ἄρισβος, упомянутой лишь Страбоном; сюда же принадлежит Ἀρίσβα как имя мифических троянских героинь, которых традиция давала городу Арисбе в эпонимы: супруги первого троянского царя Дардана (St. Byz. s.v.) и жены Приама (Apd. III,12,5), дочери князька Меропа из северотроянского города Перкоты. Как отмечалось в той же работе Гиндина, это древнее североэгейское имя зафиксировано и в греческих областях Балкан: Гомер (Il. XVII,345), а за ним Павсаний (IX,36,6) говорят о некоем аргосце Арисбанте, т. е. «уроженце Арисбы», а словарь Суды сообщает о городе Арисбе в Беотии.
Предложенная этимология подкрепляется тем, что «божественная» Арисба у Гомера рисуется как город, славный своими конями: в «Илиаде» (II,838 и сл.) перед слушателями является герой Асий Гиртакид, «которого из Арисбы принесли кони блещущие, огромные». В этих строках семантика троянского топонима как бы находит претворение в художественных ассоциациях греческого эпика, связанных с данным городом. К сожалению, начальный элемент Ar- из-за краткости допускает различные объяснения: наряду с попытками видеть в нем теоним или героическое имя [Heubeck, 1962, с. 88; Гиндин, 1967, с. 145 и сл.] возможно его понимание в качестве частички со значением «хороший, благой» (ср. греч. ἄριστος «наилучший»), что придавало бы названию Арисбы смысл греческого ϵὔιππος «имеющий хороших коней» [Heubeck, 1962, с. 88].
Кстати, поскольку имя Ἄσιος этимологически родственно названию Ἀσία, хет. Aššuwa, обозначавшему исконно запад Анатолии, нелишне вспомнить упоминавшуюся выше, во второй главе, этимологию, возводящую это название к лув. aśuwa «лошадь», в смысле «страна, изобилующая конями». Соответственно имя героя Асия могло исторически значить не только «житель Ассувы, коневодческой страны», но и прямо «владелец коней», «конник», каковым и предстает у Гомера Асий Гиртакид из Арисбы. На древнейшем уровне традиции в соотношении имени этого героя и названия управляемого им города — *Asu̯ios: *Ar-issu̯a — могли сталкиваться два диалектных западноанатолийских варианта одного и того же слова для «лошади» — с открытым и с узким начальным гласным.
В монографии Гиндина [Гиндин, 1981, с. 133 и сл.] был сделан следующий шаг в изучении ареальных связей этого троянского названия: сопоставление слов Страбона «есть и река Арисб во Фракии… и вблизи нее фракийские кебренцы» с цитированным свидетельством Полиэна, помещающего во Фракии в непосредственной близости друг к другу кебренцев и скайбоев, позволило включить топоним Арисба в единый ономастический пучок, объединяющий Троаду с близлежащим берегом Фракии, а возможно, частично охватывающий и соседние эгейские острова (ср. г. Арисба на Лесбосе). Одновременно было показано, что южнофракийскому -ισβος < *issu̯os как продолжению и.-е. *ek'u̯os противостоят в континентальных районах Фракии отражения того же индоевропейского слова с более широким начальным гласным. Таковы личные имена Esbenus, Εσβενις с соответствиями в лит. ašvíenis «жеребец», др.-прусск. aswinan «конский», др.-инд. Aśvinau «Ашвины», близнечные конные божества.
Надо упомянуть также варианты эпиклезы фракийского бога-всадника Хэроса в надписях из окрестностей Варны Οὐτασπιῳ —Οὐϵτϵσπιῳ, где широкое e чередуется с a, как и в лик. esbe: Κακ-ασβος. Начальный элемент Ut-U̯et- объясняется фракологами по-разному. Вариант Ut- удачно сопоставлен Д. Дечевым с др.-инд. ut «на», так что слово в целом было истолковано в смысле «Восседающий на коне», «Верховой», а в качестве кальки к нему был привлечен эпитет Хэроса Ἐπιπιός, передающий греч. ἐφίππιος с тем же самым значением [Detschew, 1976, с. 349]. Напротив, вариант U̯et- сближался П. Кречмером с алб. vetë «сам» по типу греческого имени Αὐτίππος, буквально «Сам-конь» [Kretschmer, 1923, с. 103]. Наконец, недавно В. Н. Топоров соотнес оба варианта с индоевропейским названием для «воды», способным иметь и ту и другую огласовку, ср. греч. ὕδωρ, но фриг. βέδυ из *u̯edō(r). Сам же эпитет бога объясняется Топоровым из *Ud-/U̯ed-eku̯ios в связи с распространенным мифическим представлением о водяных — морских или речных — конях [Toporov, 1990, с. 52 и сл.].
Можно отметить любопытное явление: «аномальное» сужение начального гласного в индоевропейском обозначении коня, характеризующее некоторые позднеанатолийские, по географическому распределению лувийские, диалекты, прослеживается и на севере Эгеиды, выделяя из фракийского ареала участок Эгейского побережья вместе с Троадой. Эта изоглосса покажется еще важнее, если вспомним, что греческое название коня в разных его вариантах -ἵππος, мик. i-qo, глосса ἵκκος (Et.M.) — обнаруживает тот же необычно суженный гласный. В свое время П. Кречмер на этом основании предполагал, что названия для коня могли быть заимствованы греками из каких-то северобалканских диалектов [Kretschmer, 1934, с. 120 и сл.]. Однако среди всех диалектных форм в балканском регионе, которые могут отражать данную основу (см. привлекаемые Кречмером иллирийские имена Ессо, Ерро, др.-макед. Ἐπό-κιλλος, племенное название Ἐπϵιοί в Элиде, возможно, из *Ekwijoi «конники», откуда, кстати, имя знаменитого героя Эпея, создателя Троянского коня), сужение е > i надежно прослеживается лишь в прославленном своими коневодческими традициями регионе, прилегающем к Троаде. Здесь слово для коня звучало как *isbo-/isu̯o-, и за ним может стоять тот же индоевропейский диалектный вариант *ik’u̯o-, что отразился и в греческом.
В этом отношении особенно примечательны микенские имена PY Au 723 a-ri-qo, т. е. «Арисб», и PY Jn 832 a-ri-qa, тождественное имени гомеровского Арисбанта. Дж. Чедвик при прочтении этих имен связал их с названием Арисбы, однако ошибочно восстановил для всего ряда форм основу *Arisgu̯o- [Ventris, Chadwick, 1973, с. 534]. В таком случае совпадение исхода имени A-ri-qo- с i-qo- «конь» было бы обусловлено исключительно особенностями графики линейного письма Б и не имело бы значения для лингвистического анализа. Однако предложенная выше этимология топонима «Арисба» позволяет подойти к микенским именам иначе, реконструируя для них звучания Ar-iku̯os и Ar-iku̯ant- и видя в них прямое отражение греческого обозначения «коня». Тем самым мы получаем точное микенско-троянское ономастическое соответствие на уровне цельного композита, причем это соответствие должно уходить в большую древность, когда еще в диалектах Трои и Эгейской Фракии индоевропейская палатализованная фонема k’ в *ik’u̯o (из и.-е. *ek’u̯o-) не перешла в s. Кроме того, если начальная частичка Ar- в этом слове означает «хороший», то троянская, эгеофракийские и микенские формы, восходящие к *Ar-ik’u̯o-, могли бы быть структурно и этимологически сопоставлены с таким хорошо известным позднейшим греческим именем, как Ἀρίστιππος из *Arist-ik’u̯o- «Имеющий наилучших коней». Все эти факты подводят к неожиданному выводу о том, что фонетически «неправильное» греческое название для «коня» могло быть в какую-то раннюю эпоху заимствовано из прославленной своим коневодством Троады. Впрочем, подробное обсуждение проблемы «греки и ранняя Троя» мы оставляем до другого исследования. Пока же удовольствуемся тем, что еще раз подчеркнем принадлежность названия Арисбы к числу фрако-троянских изоглосс, пересекающих Геллеспонт.
В окрестностях Арисбы, протянувшихся по северо-западу Трои вдоль Геллеспонта, нас ждут несколько интересных находок. Согласно «Троянскому каталогу», отсюда в Илион прибыли два отдельных отряда, и поэтому можно предполагать существование в этих местах двух самостоятельных доменов, пребывающих в вассальной зависимости от Илиона. Но на самом деле размежевать эти владения достаточно сложно. Во главе первого отряда, включающего бойцов из поселений Адрастии, Апайса и Питиеи, стоят два сына прорицателя Меропа из Перкоты, Адраст и Амфий (II,830–831), но город их отца Перкота почему-то выходит из-под их власти, и «Илиада» (II,835) включает его в область, подвластную выезжающему на своих конях из Арисбы Асию Гиртакиду (вспомним, что Мероп считался отцом героини Арисбы, эпонима города). Думается, рассказывая легенду о том, как Мероп запрещал сыновьям идти на войну, но они выступили на свой страх и риск во главе отряда, набранного в соседних местах, поэт на самом деле стремился лишь ввести в текст побольше персонажей местных троянских легенд, а отнюдь не хотел проводить территориальные границы внутри этой, по существу, единой области, где исследователи обнаруживают немало фракийских или во всяком случае «фракоидных» топонимов.
Так, название высящейся вблизи Адрастии Терейской горы (Τηρϵίης ὄρος) часто сопоставляется с исключительно популярным во Фракии (до 50 примеров) именем Τήρης, один из носителей которого, в частности, основал в V в. до н. э. Одрисское царство. О глубочайшей древности этого имени говорит то, что в греческих мифах его в варианте Τηρϵύς носит царь фракийцев, якобы в незапамятные времена обитавших в Фокиде (Thuc. II,29 и др.). Многочисленные исследователи возводят троянский ороним к данному фракийскому имени [Fick, 1905, с. 148; Jokl, 1929, с. 282; Bredow, 1986, с. 181]; для него В. Томашек предложил сближение с и.-е. ter- «преодолевать, побеждать», др.-инд. taráḥ «победитель» [Tomaschek, 1980, II, 2, с. 37], ср. хет. tarḫu- «герой», также Tarḫu- как имя бога грозы.
Рассмотрим название Περκώτη — город между Абидосом и Ламсаком на малоазийском берегу Геллеспонта (Il. II,835 и сл.); согласно комментарию Страбона (XIII, 1,20), эта местность была шестым владением Приама из девяти, на которые было разделено побережье, «называемое Троей». Этот топоним в книге Гиндина [Гиндин, 1981, с. 137 и сл.] был сопоставлен с формой Πέρκη, приводимой Стефаном Византийским под словом Θράκη, где он, ссылаясь на Арриана, пишет: «А Фракия — страна, которая называлась Перка и Ария». В индоевропейском языкознании давно признано, что Перка в качестве обозначения Фракии родственно и.-е. *perku̯os, *perku̯a, представленным в лат. quercus, греч. ἔρκος, лангоб. fereha «дуб», др.-в.-нем. forha, др.-исл. fura «сосна», а также во многих местных названиях, относящихся к поросшим лесом горным массивам: кельт. Hercynia (silva) — лес и горы в Средней Германии, др.-в.-нем. Firgunnea — о Рудных горах, ср.-в.-нем. Virgund — о Судетах [Hirt, 1892, с. 481 и сл.; Mayer, 1951, с. 79 и сл.; Иванов, 1958, с. 101 и сл.; Гиндин, 1981, с. 86] (индоевропейский материал также см. [Pokorny, 1959, с. 822]). Аналогично и данное название Фракии означает «гористая, поросшая соснами и дубами страна». Топоним же Перкота с фракийским суффиксом -ωτη- (ср. личное имя из Фракии Ἀροιμηώτης и др.) может быть понят либо как дублет к Перка с тем же значением [Mayer, 1951, с. 90], либо в смысле «поселение выходцев из страны Πέρκη, т. е. из Фракии» [Гиндин, 1981, с. 138].
В пользу второго истолкования топонима Перкота можно привлечь контекст из «Илиады» (ΧΙ.221 и сл.), повествующий о выходце из знатной троянской фамилии Антенориде Ифидаманте. Мать Ифидаманта Феано, супруга троянского старейшины Антенора, была дочерью фракийского царя Киссея, а братья его Архелох и Акамант возглавляли вместе с Энеем войско из троянской Дардании (II,823 и сл.). Ифидамант был воспитан во Фракии у деда Киссея, по достижении зрелости женился на одной из его дочерей и прочно обосновался по другую сторону Геллеспонта, но, узнав о Троянской войне, он устремляется на защиту Илиона. Его корабли причалили в Перкоте, откуда он пешком с дружиной прибыл в троянскую столицу (ΧΙ.229 и сл.). Этот рассказ замечателен нарисованной в нем картиной кровнородственных и брачных связей, соединяющих знатные семьи Фракии и Троады, когда сыновья выданных в Трою замуж фракиянок получают воспитание в роду своих матерей и предпочтительно берут замуж своих двоюродных сестер из этого рода. Имя царя Киссея (Κισσής, производное от κισσός «плющ», также Κισσός эпитет Диониса) может быть навеяно ролью плюща в дионисийском культе, выводимом греками из Фракии. Кстати, того же мифического фракийского царя под именем Κισσεύς Аполлодор (III,12,5) объявляет уже отцом Гекубы и тестем самого Приама.
Едва ли покажется случайной тенденция приписывать различным троянским персонажам происхождение по материнской линии от фракийских царей. В истории Ифидаманта хорошо прослеживается заинтересованность этих правителей Фракии и судьбах своих илионских сородичей. Но к тому же этот контекст подкрепляет и толкование топонима Перкота как соотносимого с обозначением Фракии: Перкота в нем предстает привычной гаванью для прибывающих в Троаду фракийских кораблей.
В то же время надо подчеркнуть, что эта местность вообще изобилует «лесной» топонимикой. Так, вблизи Перкоты находилось поселение, известное уже Гомеру как Πιτύϵία «Сосновая местность» (Il. II,829), позднее также Πιτύη «Сосна», находившееся под высокой горой, покрытой сосновым лесом (Strab. XIII,1,15). Заманчиво видеть в этом названии греческий эквивалент к фрак. *Perkota. Неподалеку находился упомянутый город Лампсак, известный еще микенцам (ср. в главе 2 о мик. ra-pa-sa-ko), вторым названием которого было Πιτύουσα «Сосновый» (Strab. XIII, 1,18). В честь другого вида сосны было названо поселение Καλή Πεύκη «Прекрасная Сосна», где действительно росло дерево этой породы (Pinus maritima), славное высотой и древностью (Strab. XIII, 1,44). Поэтому для названия Перкоты можно допустить синкретизм значений «область, обращенная к стране Перке», т. е. к Фракии, и «область, изобилующая горным лесом», причем рассмотренные реалии наводят на мысль, что в троянских условиях и.-е. *perku̯o- могло скорее конкретизироваться в смысле «сосна», как в древневерхненемецком или древнеисландском, нежели «дуб», как в большинстве индоевропейских диалектов.
Описание этих мест в «Троянском каталоге» содержит одну удивительную деталь: в перечне городов, подчиненных Асию Гиртакиду (II,835 и сл.), поэт наряду с Арисбой, Перкотой, Абидосом и Практием, неожиданно называет Сест (Σηστός), фракийский город, находившийся отнюдь не в Троаде, а напротив Абидоса, на другом берегу Геллеспонта [Detschew, 1976, с. 439]. Это трудно объяснить, если не допустить, что Сест в троянской традиции входил наряду с Абидосом, Арисбой и т. д. в одно владение легендарного Асия, раскинувшееся по обеим сторонам пролива. Геллеспонт не только не оказывается помехой ни для языковых, ни для этнических, ни, по преданиям, для брачно-родственных связей, но, в глазах Гомера, это троянское владение, зависимое от Приама, простирается через пролив, захватывая часть фракийской земли.
Еще далее к востоку в море, возле города Пария (Πάριον) — название, определенно родственное имени Πάρις из *p(a)rija- «наилучший», — впадала река Граник (Γράνικος или Γρήνικος), на берегу которой в 334 г. до н. э. разыгралась первая битва Александра Македонского с Дарием III. По верному наблюдению Георгиева, основа *Grān- может представлять фракийскую параллель к греч. κρήνη, дор. κράνα «источник» [Georgiev, 1957, с. 154]. Недавно это греческое слово, как и родственное κρουνός с тем же значением (из *krosno-), далее др.-англ. hroen «волна» из герм. *hrazno-, было сопоставлено с др.-инд. śrāpayati «варить, кипятить» (из и.-е. *k’reǝ) как обозначения клокочущей, «кипящей» воды [Елоева, 1984, с. 12]. Комбинаторное озвончение kr- > gr- встречается и в других фракийских формах (ср. этникон в Мигдонии Κραστῶνϵς, вариант Γραστῶνϵς, область обитания этого племени Κραστωνία или Γραστωνία, герой-эпоним Γράστος, или река в Дакии Κρίσος, она же Grisia [Detschew, 1976, с. 266 и сл.]). Этим подкрепляется и этимология Георгиева, и фракийская атрибуция гидронима Γράνικος, где придется также принять комбинаторную депалатализацию k’ по соседству с -r, ср. фрак, ἄργιλος «мышь» из и.-е. *arg’- «белый, блестящий».
Наконец, за Граником протекает река Айсеп, восточная граница Троады. По Страбону (XIII,1,9-10), Айсеп впадает в Пропонтиду (Мраморное море) невдалеке от острова Кизик. О жителях этих мест в «Илиаде» говорится (II,844 и сл.): «те, что Зелею населяли у подножия Иды, богатые, пьющие черную воду Айсепа троянцы». Название города Ζέλϵια образовано от хорошо известного фракийского слова, зафиксированного у Гесихия, в словаре Фотия и в других источниках в вариантах ζελᾶς, ζειλᾶ, ζιλαί < *zelja и везде толкуемого как обозначение вина у фракийцев. Оно тождественно слав, zelje, родственно др.-инд hāla «вино», греч. χαλίς «вино» из и.-е. *g’hel- [Detschew, 1976, с. 180; Георгиев, 1977, с. 15] и примыкает к индоевропейским словам со значением «зеленый цвет, растительность», например, лит. žaljas «зеленый» или то же самое слав. zelje в смысле «трава, злак» и др.
Гидроним Αἴσ-ηπος построен по обычной во фракийском языке модели речных названий, с которой мы уже познакомились на примере «Рудой реки», Родопы (ср. также Ζάλδ-απα «Золотая река», Μούνδ-ϵπα «Мутная река»). Начальный элемент Αἴσ- представлен во фрако-вифинских гидронимах Aesius, Aesyros, во фрак. Αισύμη, Oesyma, названии города на берегу Стримонского залива, откуда, кстати, согласно «Илиаде» (VIII, 304 и сл.), происходила одна из жен Приама. Он родствен основе (Ḫ)ois-, др.-инд. eša- «быстрый», выступающей в таких европейских названиях рек, как лит. Aise, умбр. Aesis, кельт. Isara, вероятно, сюда же фрак. Ἴστρος «Дунай» из *lsros [Detschew, 1976; Pokorny, 1959, с. 300]. Отраженная в конечной части форма -apos хотя и необычна для сложных гидронимов Фракии, где в этой позиции представлены лишь варианты -apa, -opa, однако точно соответствует фрак. Apos, названию одного притока Дуная [Detschew, 1976, с. 19], далее др.-прусск. apus «колодец, источник», хет. ḫapaš «вода». (О точном хетто-лувийском соответствии к названию Айсепа см. ниже, в гл. 6.)
Название выходящей к морю вблизи Зелеи огромной горной гряды Иды, окаймляющей Троянскую долину с востока, указывает на связь Трои с догреческими Балканами в целом, обнаруживая соответствия в обозначении одноименного горного массива на Крите, горной вершины Идомены в Акарнании и, наконец, в догреческом апеллативе ίδη «лесистая гора, корабельный лес». Это слово индоевропейское, восходящее к *u̯idhu̯ā «лес, дерево», др.-ирл. fid, др.-англ. widu, wudu [Pokorny, 1959, с. 1177] (обзор материала и подробную литературу вопроса см. [Гиндин, 1967, с. 132 и сл.], там же о многочисленных продолжениях этой основы в позднеанатолийских языках). Сейчас оно интересует нас лишь как еще один пример непосредственного «перехода» названий из Трои на Фракийский Херсонес, где известен город с омонимичным троянскому горному массиву названием Ἴδη и поселок Ἴδάκος [Detschew, 1976, с. 214].
Особо надо обсудить название берущей начало на Иде реки Ἑπτά-πορος в северной Троаде. Его греческое толкование в смысле «Поток с семью переправами» бросается в глаза своей семантической нестандартностью, заставлявшей в эллинистическое время греков либо переделывать его в Πολύπορος «С многими переправами», либо объяснять его необходимостью семь раз переходить через реку по пути к святилищу, основанному Лисимахом, полководцем Александра Македонского (Strab. XIII, 1,44). Все это слишком уж отдает народной этимологией. В упоминавшейся монографии Л. А. Гиндина [Гиндин, 1981, с. 131, ср. с. 76 и сл.] было намечено сопоставление начального Ἕπτα- с исключительно распространенным элементом (H)epta-, Epte-, Ipta-, E(p)ta-, встречающимся в огромном числе фракийских сложных имен-композитов, как правило, в сочетании со вторыми компонентами -centus, -poris, -zenus и т. д., имеющими значения «сын», «рожденный», «происходящий от кого-либо» [Георгиев, 1977, с. 79, 83, 90; Detschew, 1976, с. 181, 239, 374]. Во фракийском антропонимы такого типа часто содержат в начальной позиции имена различных божеств, ср., например, Dias-centus, Di-poris, Di-zenus и т. п. со значением «сын небесного бога, Зевса» [Гиндин, 1981, с. 77]. Комбинаторный анализ, побуждающий видеть также и во фракийском (H)epta- скорее всего некий теоним, делает очень наглядным вывод Дечева о тождестве этой основы с редким именем богини-матери в Анатолии I тысячелетия до н. э. [Detschew, 1976, с. 167], представленным в трех вотивах в виде Μητρί Ἵπτα или Μητρϵὶ Εἵπτα. Данным вотивам посвятил в свое время специальную заметку П. Кречмер, напомнивший, что в рукописях комментария Прокла к «Тимею» Платона кормилица детей Диониса зовется Ἵπτα [Kretschmer, 1927, b, с. 76]. Греческим отзвуком малоазийского почитания богини Гипты являются, кроме того, орфические гимны 48 и 49, где Гипта славится как царица, спутница великого фригийского бога Сабазия и пестунья Диониса, а священными ее местами названы горы на северо-западе Анатолии: Тмол в Лидии и — что особенно интересно для нас — Ида в Троаде, массив, на склонах которого как раз находились истоки реки Гептапор.
Кречмер выявил в этом позднем теониме продолжение имени заимствованной хеттами у хурритов во II тысячелетии до н. э. великой богини, жены хурритского бога грозы Тешуба Ḫepit- или Ḫipit-. Это имя отражено также во многих сложных хеттских антропонимах, где оно выступает в виде Ḫера-, например, Ḫepa-muwa «Мощь богини Хепат», Ḫepa-pija «Данный богиней Хепат» и др. [Laroche, 1966, с. 68, 293]. Надо заметить, что по отношению к фракийским формам речь не должна идти о заимствовании имени богини-матери из позднеанатолийских языков. Во-первых, судя по крайней редкости упомянутых вотивов, имя Хепат в I тысячелетии до н. э. уже утратило в Малой Азии всякую популярность, за исключением эзотерического культа орфиков, и это делало бы совершенно необъяснимым его чрезвычайную распространенность во Фракии, где в римско-эллинистическое время насчитывается до 70 случаев фиксации имен с данным теофорным компонентом (в Анатолии этого времени лишь один раз появляется имя Ιπτας [Zgusta, 1962, с. 204], а композиты хеттского и фракийского типа не встречаются вовсе). Во-вторых, при массе отражений этого имени в ономастике Фракии культ Хепат в историческую эпоху для фракийского ареала уже не засвидетельствован ни одним источником. В это время великим женским божеством фракийцев была богиня Бендида, которую Гесихий (s.v. Βένδις) отождествляет с Артемидой и параллельно (s.v. Κυβήβη) сближает с фригийской Великой Матерью Богов Кибелой-Кибебой. Скорее всего, изображение именно Бендиды находим на многих сосудах из Рогозенского клада, где великая богиня представлена то в виде охотницы, то на колеснице, запряженной крылатыми конями, то выезжающей на львице подобно Кибеле. Но точно так же с обитательницей Иды — Кибелой определенно должна была сближаться якобы властвующая на Иде Гипта (Хепат).
Параллелизм образов великой анатолийской богини II тысячелетия до н. э. Хепат и собственно фракийской Бендиды, имя которой, как богини браков и совместной жизни, восходит к и.-е. *bhendh- «связывать, соединять» [Tomaschek, 1980, II, 1, с. 47], возможно, проявляется и в полной аналогии двух фракийских женских имен, построенных по одной и той же типично анатолийской модели: Βϵνδι-ζητα «Жрица Бендиды» и Ε(π)τα-ζϵτα «Жрица Хепат». Во втором их компоненте отразилось лув. ziti «жрец, человек», ср. хет. Arma-ziti «Жрец бога Луны», Tarḫunta-ziti «Жрец бога Тархунта» и т. д. [Баюн, 1987, с. 7] (ср. [Гиндин, 1981, с. 77]), причем для Ετα-ζϵτα можно предполагать точный прообраз в известном из лувийской иероглифики имени Hepa-ziti. Надо думать, что фракийские антропонимы, содержащие имя *Hebat-, восходят ко II тысячелетию до н. э. и являются прямым свидетельством теснейших контактов протофракийцев этого тысячелетия с хетто-хурритской Анатолией, их связей в языковой и культовой сфере, которые могли осуществляться в частично контролировавшихся хеттами городах на западноанатолийском побережье, а также на древних торговых путях из Анатолии в Европу, проходивших через Геллеспонт и Троаду.
Поэтому гидроним Ἑπτάπορος вблизи Илиона, в малоазийской области, как мы видим, хорошо и издавна освоенной фракийцами, может представлять важное указание на проникновение данного культа во Фракию из хетто-хурритского мира через соседствовавшую с последним Трою-Труису. Весьма заманчиво было бы цельнолексемное сближение названия троянского Гептапора с распространенным фракийским мужским именем Heptaporis «Сын (богини) Hepta», тем более что у фракийцев мы находим немало имен, тождественных именам рек, которые в древнейших религиозных традициях часто одухотворяются, выступают в качестве местных божеств: ср. фракийское личное имя Стримон (Στρυμών) или, например, употребление в функции антропонимов речных названий Ἕβρος и Μέστος [Гиндин, 1981, с. 130]. Но возможно и другое толкование, предполагающее в элементе -πορος греческую передачу многократно встречающегося во фракийской топонимике и, вероятно, родственного греческому -πορος элемента -παρα «брод, переправа» или «место торга» [Tomaschek, 1980, II, 1, с. 16]. Понимание названия троянского Гептапора в смысле «Переправа Хебат» находит точное соответствие во фракийском Βϵνδι-παρα [Detschew, 1976, с. 50] «Переправа Бендиды».
4
Рассмотренная картина фрако-троянских отношений вставала перед нами, пока мы шли из Илиона на север, так сказать, в «дарданском» направлении. Если же мы выйдем через Скейские ворота и направимся к югу, то через несколько часов ходьбы, миновав лежащие от Илиона в 130 стадиях, или 24 км, владения небольшого племени неандриев, перед собой увидим равнину, называемую Кебренией. По ней струится река Кебрен, на которой стоит одноименный город, и жители здесь зовутся кебренцами (Κϵβρηνοί) или кебренийцами (Κϵβρηνίοι) (Strab. XIII,1,33, 51 и сл.; St. Byz. s.v. Κϵβρηνία). Еще в конце V в. до н. э. Ксенофонт писал о Кебрене как о «поселении», но о «поселении, чрезвычайно укрепленном» (Xen. Hell. III,1,17). Попав к кебренийцам, как не вспомнить слова Полиэна о соседствующих племенах кебренийцев и скеев (скайбоев) во Фракии, имевших вождями у себя жрецов Геры (т. е. отождествляемой с Герой фракийской богини, вероятно, Бендиды)! Возникает догадка, что колонисты из этих двух племен, по-видимому, перебрались через проливы совместно и заселили соседние области в Троаде южнее Илиона, но потом троянские скеи частично ассимилировались, частично на рубеже II–I тысячелетий до н. э. ушли в глубь Анатолии, как думает Джаукян [Джаукян, 1984, с. 12], с потоком иных мигрантов, кебренцы же освоили получившую их имя долину и на многие сотни лет стали троянским народом. У Гомера их название отразилось в имени одного из побочных сыновей Приама, Кебриона Κϵβριόνης, сраженного Патроклом возницы Гектора. Между прочим, сам Патрокл погибает в разыгравшейся битве именно за тело и доспехи Кебриона, смерть которого оказывается роковым эпизодом всей «Патроклии» (XVI, 727–782). Страбон (XIII,1,33) по справедливости считает этого отпрыска илионских царей эпонимом кебренской области и города, с их явно фракийскими названиями.
Внимание привлекает еще один момент: на территории Мисии, в бассейне Дуная, т. е. примерно там же, где по данным топонимики, возможно, прослеживается раннее пребывание скеев, обнаруживается гидроним Κέβρος, Cebrus с одноименной на нем крепостью, сейчас река и город Цибр. Томашек правильно указывал, что имя эгеофракийских кебренийцев должно происходить от названия мисийской реки [Tomaschek, 1980, 1, с. 51]. Значит, для кебренийцев, как и для скеев, восстанавливается общая схема миграции: север Фракии (Мисия) — Эгейская Фракия — юг Троады.
На дальнейшем нашем пути важнейшим водным рубежом, отделяющим окрестности Илиона от союзной этому городу области троянских киликийцев, перед нами предстанет знаменитый поток Скамандр, о котором сказано в «Илиаде» (XX,73–74): «великая глубоководная река, которую Ксанфом называют боги, а смертные Скамандром». На берегу этого потока в Скамандрийской долине происходит смотр ахейских войск, дающий повод для введения в «Илиаду» «Каталога кораблей» (II,464 и сл.). Второе, «человеческое» (т. е. «мирское») название этой реки отразилось в имени некоего убитого Менелаем троянца Скамандрия (V,49 и сл.); тем же именем Гектор нарек своего маленького сына, прозванного троянцами Астианактом — «Владыкой Города» (VI,402 и сл.).
Возникает вопрос, каково происхождение двух названий для одной и той же реки? Разные авторы предлагали на этот вопрос различные ответы (см. обзор [Bredow, 1986, с. 167, 181]). Еще Страбон, как мы видели, обратил внимание на перекличку названия троянского Ксанфа с фракийским этниконом Ξάνϑιοι, Ξανϑοί. Локализовать это племя позволяет его же сообщение (VII, фр. 44): описывая область племени киконов, Страбон упоминает рядом с Бистонским озером города Ксанфию (Ξάνϑϵια), Маронию и Исмар. Первое название образовано от имени ксанфиев. Но с самим этим этниконом не все просто. Д. Дечев обратил внимание на то, что это практически единственный случай, когда во фракийском в начале слова встречается сочетание звуков ks-. По его мнению, это просто адаптация, приспособление некоего фракийского имени к греч. ξανϑός «рыжий, светло-золотистый» [Detschew, 1976, с. 334]. Едва ли можно сомневаться в том, что подобный эпитет представляет также и вполне подходящее речное название. Однако когда В. Георгиев считает «божественное» имя Скамандра в гомеровском эпосе чисто греческим [Georgiev, 1957, с. 160], против этого возникают серьезные возражения. Дело в том, что прилагательное ξανϑός, мик. ka-sa-to не имеет в греческом языке этимологии [Schwyzer, 1939, с. 329; Frisk, т. 2, с. 333]. Это наталкивает на мысль об его иноязычном происхождении, возможно догреческом (см. (Гиндин, 1981, с. 122]). О том же может говорить его вероятное тождество этрусскому zamϑi «золото, золотой» [Георгиев, 1958, с. 189], побуждающее видеть в начальном ξ- греческого слова передачу аффрикаты языка-источника. То, что речь может идти о слове, происходящем из Северо-Восточной Эгеиды, подтверждают не только продолжение в этрусском, отражение в троянском гидрониме и вероятное заимствование в прибрежные эгеофракийские диалекты, но и возможный рефлекс той же основы (с метатезой и упрощением аффрикаты) в другом троянском гидрониме: названии реки Сатниоэнта (Σατνιόϵις, -ϵντός < *Zanti-went-), протекавшей южнее Скамандра на самом юге Троады, в области вблизи города Педаса, согласно Гомеру, населенной лелегами (VI,34; XXI,87). Перед нами снова изоглоса, связующая северо-запад Малой Азии, в частности Троаду, с фракийским берегом.
Такую интерпретацию данного соответствия подкрепляет еще одно обстоятельство. Во владениях фракийских ксанфиев, по Птолемею (III,11,7), находился город Пергам (Πέργαμον). Идентичное название в варианте Πέργαμος зафиксировано также несколько дальше к западу в области племени пиеров, проживавших севернее горы Пангея (Hdt. VII, 112). Но дело в том, что Πέργαμος, Πέργαμα — это слово, хорошо известное на северо-западе Анатолии, оно представлено в многократно, начиная с «Илиады» (IV,508; V,460, 446; VI,512; XXIV,700), зафиксированном в греческой литературе названии троянской цитадели, которая у Гомера постоянно изображается как обиталище Аполлона, защитника города. То же самое слово отразилось и в названии крупнейшего мисийского города Пергама. В греческом языке под влиянием троянских сказаний оно превращается в апеллатив, становится универсальным в поэтических текстах обозначением для крепости, цитадели, акрополя (см. подробнее [Гиндин, 1981, с. 110 и сл.]).
В указанной работе специально обосновано значение этого слова для проблемы фрако-троянского языкового континуума. Его этимология вполне надежна: она восходит к и.-е. *bhergh- «высокий, возвышенность», ср. ст.-слав. брѣгъ «берег», нем. Berg «гора» и т. д. В то же время в континентальной Фракии, изобилующей горами, мы находим в местных названиях множество отражений той же индоевропейской основы, но сплошь со звонким губным в начале, ср. названия поселений Βέργα, Βέργισον, Bergule и т. д. [Detschew, 1976, с. 52 и сл.]. Как же объяснить появление в прибрежных районах форм с глухим губным? Думается, объяснение может быть лишь одно — через мощное влияние со стороны Анатолии, где эта основа отражена в массе форм именно с начальным глухим: ср. такие топонимы, как памф. Πϵργη, кар. Πϵργασα, писидийское личное имя Πϵργη, киликийское Πϵργαμη и т. д., все восходящие к хет. parku- «высокий» (см. [Гиндин, 1967, с. 153 и сл.; Гиндин, 1981, с. 111 и сл.]). Малоазийского происхождения, по-видимому, название городов Пергам на Крите и на Кипре, также ионийская глосса, приведенная в словаре Суды (см. Πέργαμος), где сказано: «[словом] πέργαμον ионийцы называют город, а некоторые вообще всякие возвышенности». Ранние заимствования данной основы в греческий отражены в названии аттического дема Πϵργασή и, в варианте с нулевой огласовкой корня, в догреческом апеллативе πύργος «башня» [Гиндин, 1967, с. 153]. Итак, во Фракии выделяются области на побережье, где продолжения этой индоевропейской основы имеют не обычный «фракийский» вид, но такой, в каком они представлены в Анатолии, и прежде всего в близлежащей Троаде. Здесь еще раз, как в случае с именем богини Хепат, окрестности Трои оказываются связующим звеном на пути проникновения малоазийских языковых и культурных элементов к фракийцам. Южноанатолийские влияния, достигнув Трои, легко «переходят» через проливы, во Фракию. Но еще замечательнее то, что изоглосса Пергам в Илионе — Пергам на Бистонском озере дублируется распространением локального слова для золота, желтого цвета. Река Ксанф, «Золотистая», вблизи Илиона и племя ксанфиев, «рыжих, золотоволосых», в бистонском Пергаме. Именно потому, что Троя была в культурно-историческом и языковом плане как бы частью Фракии, захватившие ее малоазийские влияния легко распространялись и далее, на другую сторону Геллеспонта.
Принадлежность названия Ксанфа фрако-троянскому миру получает особое значение в контексте одного гомеровского эпизода, где выступает эта обожествленная река. Это эпизод истребления Ахиллом дружины, присланной на помощь Илиону северобалканским племенем пеонийцев (XXI, 135 и сл.), кстати, непосредственно граничащих с балканской Дарданией. После того как Ахилл оскверняет воду Ксанфа, бросая в нее тело убитого сына Приама Ликаона, поток воодушевляет на битву с ним пеонийца Астеропея, т. е. «Молнийного», и «вкладывает ему в грудь силу» (XXI,145). Важно, что Астеропей — не просто северобалканский герой, он внук бога одной из крупнейших рек Аксия (Ἄξιος), берущей исток в землях балканских дарданцев. Этот гидроним сейчас с учетом его нынешнего македонского названия Црна река, т. е. «Черная река», сближают с иран. akšaena «черный», ср. древнее название Черного моря Πόντος (Ἄξϵινος, из и.-е. *ṇ-ksei «черный, беспросветный» [Георгиев, 1977, с. 32]. Вся завязавшаяся борьба уроженца Северной Греции Ахилла с отпрыском фракийского потока, который, по словам Гомера, «широкотекущий, наилучшую воду на землю изливает» (XXI,157 и сл.), во фракологии рассматривается как древний балканский сюжет, отразивший борьбу греков с фракийцами и близкими им северными племенами и сравнительно поздно имплантированный в картину Троянской войны [Венедиков, 1976]. (Другую, более вероятную интерпретацию этого важнейшего эпизода Троянской войны см. [Gindin, 1990; Гиндин, 1990].)
Ахилл, гордящийся своим происхождением от Зевса, провозглашает превосходство мощи своего божественного прародителя над мощью всех рек и потоков, включая великую греческую реку Ахелой, и в подтверждение своих слов истребляет, вслед за Астеропеем, почти всю пеонийскую дружину. Тогда против него поднимается сам Ксанф, спасает тех пеонийцев, что оставались еще в живых, в своих глубинах (характерный сказочный мотив сокрытия героя в подводном царстве!) и обрушивает на Ахилла всю мощь своих волн. Ахилл побежден, и ему грозила бы неминуемая смерть, если бы его молитвам не вняла Гера и не послала ему на помощь Гефеста, который своим огнем укротил поток. Вся эта картина, где бог троянской реки, омонимичный фракийскому племени, воодушевляет северобалканских героев, связанных узами родства со своей рекой, берущей истоки в «другой», европейской Дардании, прячет их в своих глубинах и бьется вместе с ними, является удивительным художественным воплощением идеи принадлежности Трои и северобалканскому миру. Как здесь не вспомнить слов Геродота (V.13) о том, что пеонийцы, жившие на Стримоне, прямо считали себя потомками переселившихся из Трои тевкров.
Интересную интерпретацию предложил Георгиев для параллельного имени Ксанфа — Σκάμανδρος или Κάμανδρος по схолиям к «Илиаде» (XXI,2). Приняв последнюю форму за основную и ссылаясь на то, что в нижнем течении Ксанф-Скамандр протекает через гористую местность, сейчас называемую Kayalidaǧ «Каменистые горы», ученый возводит этот гидроним к и.-е. *Kǎmǒn-drowos «Каменистая река». Если первый компонент *Kǎmǒn- отождествляется им с и.-е. *akmō̌n «камень», слав, kamy и т. д., представленным во множестве индоевропейских гидронимов, то конечную часть -δρος, выделяемую также в названии крупнейшей реки в Меонии Μαιάν-δρος, он сопоставляет с др.-инд. dravá- «течение», иллир. Dravus — река в Паннонии, совр. Драва [Georgiev, 1957, с. 155 и сл.], ср. здесь же фрак. Δράβος (в латинской передаче было бы Dravos), поселение на эгеофракийском побережье вблизи Геллеспонта [Detschew, 1976, с. 156]. Тем самым в троянском и лидийском речных названиях Георгиев не без основания видит северобалканские по происхождению гидронимические композиты. В частности, предложенное им выделение в названии Скамандра индоевропейского слова для «камня» находит неожиданное подтверждение в схолии к Ликофрону, где Скамандр приводится как древнее обозначение холма, на котором стоял Илион (Schol. ad Lycophr. 29).
Если мы перейдем Ксанф и вступим в область троянских киликийцев, то и здесь перед нами будут мелькать названия, напоминающие топонимику Фракии. Так, название основного святилища этих мест Киллы (Κίλλα) сопоставимо с топонимами к северу от Гебра и в Македонии — Κέλλαι, Cillium, Κέλλη. То же слово отразилось в прозвище бога Асклепия Σαλδο-κεληνος вблизи источника, который сейчас именуется Глава-Панега или Златна-Панега («Золотая Панега»), что побуждает фракологов в эпиклезе бога выделять некое указание на источник с золотистой (Σαλδο-) водой. Поэтому для фракийского восстанавливается сочетание вроде *Zalto-ki/ela, где ki/ela, возможно, из и.-е. gu̯el-, др.-инд. jala «вода», нем. Quelle «источник», означает «источник, поток» [Георгиев, 1977, с. 31; Detschew, 1976, с. 238, 413]. Впрочем, для фрак. *kella «источник» можно предположить и иное происхождение, если сблизить его с хеттским названием источника Kella [Laroche, 1966, с. 278] и далее с др.-англ. hlynn «шум, быстрый поток» из *kel(e)n-, *klṇi̯o-, в конечном счете от индоевропейского корня *kel- «звучать», «шуметь» (см. [Pokorny, 1959, с. 550]). Можно думать, что тот же апеллатив сохранился и в названии троянской Киллы, однако ниже, в главе 6, мы увидим, что в последнем топониме эта фракийская основа, по-видимому, фонетически совпала с другим термином, хетто-лувийского происхождения.
Еще дальше начинается Мисия, район с собственными древнебалканскими связями. Нельзя не видеть, что движение кебренов и скеев из Мисии на Дунае в Трою поразительно наглядно воспроизводит схему передвижения в Северо-Западную Анатолию части всего этнического массива, именуемого мисийцами (Μυσοί), переселения, в результате которого наряду с Мисией в Подунавье появилась вторая, малоазийская Мисия между Троей и Меонией (Лидией), частично совпадающая с областью, известной хеттам как «Страна реки Сеха». Когда произошло это передвижение и как оно соотносится с великим нашествием балканских народов на Анатолию в конце XIII — начале XII в. до н. э.?
Известно, что от имени мисийцев образовано то собирательное название Muški, которое ассирийцы с XII в. до н. э. распространили на все северобалканские народы, расселявшиеся по Малой Азии. Впервые мушки появляются в поле внимания ассирийцев во второй четверти этого столетия, когда они уже пытаются перейти Евфрат [Дьяконов, 1968, с. 123, 227]. Видимо, с последних десятилетий XIII в. до н. э. уже следует предполагать превращение мисийского этникона в общее название племен, рвавшихся в глубь полуострова со стороны Троады. Упоминавшееся наблюдение Джаукяна позволяет отнести к числу мушков также пришедших из Мисии в Трою скеев. В «Илиаде» (III,185 и сл.) вождем фригийцев, союзных Приаму в борьбе с амазонками (см. подробнее гл. 7), оказывается Мигдон — эпоним племени мигдонов на западе Эгейской Фракии, так же как и мисийцы, перебравшихся частично в окрестности Трои. Насколько могли разделяться во времени две миграции мушков: с Балкан на северо-запад Малой Азии и с северо-запада этого полуострова в его внутренние районы? Можем ли мы доверять Гомеру в «Илиаде» с его Скейскими воротами и героем Кебрионом в «Приамовой Трое», а также когда он говорит о малоазийских мисийцах как уже обитающих южнее Троады в годы нашествия ахейцев (см. XXIV, 278 — о дарах мисийцев Приаму до Троянской войны) и о союзе Приама с Мигдоном? Думается, у нас нет оснований не верить — и по общим соображениям, и по тому, что поэт, явно стремящийся избежать по мере возможностей включения в свой эпос «поздних» племен типа дорийцев, сообщает массу подробностей, наводящих на мысль, что переселение XII в. до н. э. было предваряемо длительным освоением северо-западной окраины полуострова балканскими этносами и вовсе не имело характера стремительного и безостановочного их натиска на чуждые и новые для них территории.
Аналогичным путем из мест, сопредельных с Мисией, через Эгейскую Фракию (Самофракию?) должны были некогда двигаться в Трою дарданцы, которых мы видим в Малой Азии с конца XIV в. до н. э.
5
С учетом всех этих фактов, из которых складывается картина глубоких фракийских связей гомеровской Троады, мы рассмотрим теперь этимологию самого названия Троя (Τροία), хетт. T(a)ruiša.
Как мы видели выше, архаичные фиксации этого топонима — дорийская Τρωΐα, ионийские Τρωΐη, Τρωΐη — структурно прозрачны и позволяют без колебаний интерпретировать термин Троя в смысле «страна племени Τρῶϵς». Но далее естественно встает вопрос: какова этимологическая структура самого этого этникона и обнаруживает ли он какие-то параллели за пределами той области в Северо-Западной Анатолии, где греки сталкивались с троянским племенем? Скрупулезный и в своих профессиональных деталях, может быть, несколько скучноватый разбор лингвистических тонкостей, сопряженных с этой проблемой, приводит нас в конечном счете к неожиданным в своей яркости этноисторическим результатам.
В формах Τρωΐα, Τρωΐη зияние на стыке долгого ō и последующего i настолько нехарактерно для греческого языка, что вполне определенно указывает на выпадение в исходе этникон-основы некоего звука, которым по правилам греческой исторической фонетики может быть либо -u̯-, либо — s-, либо, наконец, группа из обоих этих звуков — u̯s-. Таким образом, фонетические законы оставляют нам на выбор три возможные праформы названия троянского этноса — Trōs-, Trō̌u̯s- или Trō̌u̯-. Э. Швицер, исходя из внешней аналогии в оформлении иноязычной формы Τρώς и таких греческих лексем с основой на -ω из -ōu, как πάτρως «брат отца», *pətrōu̯s, лат. patruus и т. д., по существу, принимает последнее толкование: Τρώς из *Trōu̯- (ср. [Schwyzer, 1939, с. 480]). Сейчас это мнение можно бы подкрепить свидетельствами памятников линейного письма Б. С одной стороны, в Кноссе мы находим имя мужчины to-ro KN De 5687 (-Trōs), в Пилосе to-ro-o PY An 519 (= род. пад. Trōos), также женское имя to-ro-ja PY Ep 705 (= Trōja) безо всяких следов -u̯- в ауслауте основы. Но, с другой стороны, в обоих этих центрах зафиксированы явно родственные формы с -u̯-, устраняющим зияние между гласным основы и последующим гласным окончания или адъективного суффикса. И в Пилосе, и в Кноссе наряду с to-ro-o появляется to-ro-wo KN Ag 89, PY An 129 (= Trōwos). В Пилосе видим также мужское имя to-ro-wi, род. пад. to-ro-wi-ko PY Cn 131, Jn 601; Cn 655, т. е. Trōwix, Trōwikos, ср. греч. Τρωϊκός «троянский», в Кноссе вариант to-ro-wa-ko KN X 7566, что надо читать Trowakos; сюда же следует отнести название поселения вблизи Пилоса to-ro-wa-so PY Na 405 (=Trōwassos) с характерным для анатолийской и догреческой топонимики суффиксом -(α)σσος (словоформы даем по [Ventris, Chadwick, 1973, с. 587 и сл.]).
Из этих свидетельств видно, что в XIII в. до н. э. в греческом мире была широко распространена негреческая по происхождению ономастическая основа Trō̌u̯-, сопоставимая с этниконом троянцев и, как правило, сохраняющая -u̯- (греч. ϝ) в исходе. Думается, более редкая форма основы Tro- без лабиального, документированная передачами to-ro-o, to-ro-ja, представляет вторичный вариант к Trō̌u̯-. Причем не совсем обычное для микенского периода исчезновение -u̯- или его ассимиляция с предшествующим о могут объясняться не только его позицией в конце сверхдолгого дифтонга, которую ему приписывает Швицер (на самом деле само ŏ могло удлиниться вторично вследствие выпадения этого звука). Но нельзя исключать и возможности специфической слабой артикуляции -u̯- в языке-источнике, откуда эта основа была заимствована греческим. В частности, именно такое «ослабленное» произношение устанавливается для -u̯- во фракийском, судя по таким вариативным фиксациям, как Ναίσσος, лат. Navissus — местное название или Νοης, лат. Novas — гидроним (см. подробнее [Гиндин, 1981, с. 32] — о разнобое с древнейших времен в греческих, а позднее и латинских отражениях этого фракийского звука, вполне аналогичном микенскому варьированию to-ro-o: to-ro-wo).
Перейдем теперь к названию Труиса, отраженному в анналах Тудхалияса IV. Хотя нет никаких оснований с точки зрения реальной, историко-географической отвергать возможность соотнесения Труисы с Троей, однако языковые нюансы этого сопоставления следует обсудить подробнее. Э. Форрер мыслил его таким образом, будто T(a)ruiša или T(a)roiša при заимствовании греческим дало первоначально *Τρωίσα, а затем, после перехода -s- в -h-, последовательно Τρωίhα и, наконец, Τρωΐα [Forrer, 1924, с. 6 и сл.; Forrer, 1929а, с. 262]. По поводу такого объяснения надо заметить, что сейчас, в свете данных линейного письма Б, наглядно свидетельствующих о переходе s в h в начальной и интервокальной позициях как о более раннем по сравнению с Микенской эпохой, имеются все основания отнести этот переход, охвативший все без исключения ветви греческих диалектов, к общегреческому периоду, т. е. самое позднее к первой половине или скорее к началу II тысячелетия до н. э. А это значило бы, если принимать в наши дни интерпретацию Форрера, что название Трои также должно было быть известно грекам чуть ли не с начала этого тысячелетия, поскольку иначе нельзя объяснить, каким образом на него распространился закон, действовавший в столь ранний период истории греческого языка. В этом случае наблюдается то, что вообще нередко происходило с гипотезами Форрера, которые при их первоначальном обсуждении казались весьма уязвимыми для критики с формальной стороны, а порой в глазах современников этой критики вовсе не выдерживали: по прошествии многих лет мы вдруг распознаем за ними контуры некоей глубокой и нетривиальной исторической истины. Но об этом ниже. Пока же подчеркнем, что названия Truiša и Τροία, которые Форрер считал разновременными, связанными диахронным переходом, на самом деле, как выясняется, сосуществовали в синхронии XIII в. до н. э.
Однако еще в 1920—30-х годах П. Кречмер, сразу признавший тождество Труисы с Троей, усомнился в приведенных фонетических объяснениях, игнорирующих вместе и прозрачность греческого названия Трои, образованного от этнического имени троянцев при помощи обычного в греческом языке суффикса -ια, и тот факт, что суффиксальное -σ(σ)- сохраняется безо всяких изменений в десятках греческих передач других малоазийских топонимов. Кречмер предпочитал думать, будто греки, понимая внутреннюю форму топонима *Trou̯isa «страна троянцев», заменяли, передавая его, малоазийский суффикс -sa аналогичным по функции греческим суффиксом -ια [Kretschmer, 1924, с. 213; Kretschmer, 1930, с. 167]. Иную догадку высказал Г. Боссерт: по его мнению, на самой малоазийской почве могли издавна употребляться дублетные формы топонима T(a)ruiša/T(a)ruja, аналогично, например, Karkiša/Karkija, это T(a)ruja и дало в греческом Τρωΐα [Bossert, 1946, с. 33] (цит. по [Garstang, Gurney, 1959, с. 105]). Как видим, Кречмер и Боссерт (ср. [Sommer, 1932, с. 362 и сл.]) вплотную приблизились к мысли о том, что ни греческое название Троя не должно прямо выводиться из хеттского Труиса, ни наоборот, но что речь должна идти о различных независимых терминах, обозначающих одну и ту же область, населенную троянским племенем. Но такого, казалось бы, естественного заключения ни один из них не сделал. Окончательная формулировка положения о независимой передаче в хеттском и греческом некоего общего туземного прототипа принадлежит одному из авторов данной работы. При этом Форрер и Кречмер, не колеблясь, толковали -iša в T(a)ruiša как суффикс, идентичный хеттскому топонимическому суффиксу -šša, и тем самым приходили по-разному к ономастической основе *Trō̌u̯-/*Trū-.
Между тем эта их главная предпосылка на самом деле вызывает серьезные сомнения. Материал, собранный Э. Ларошем и Л. А. Гиндиным, говорит о том, что нужно последовательно различать анатолийские топонимы на -(a)šša с удвоенным -šš-, представляющие обычное множественное число среднего рода от лувийских относительных прилагательных на -(a)šši, и топонимы с исходом на -aša, -uša, -iša, содержащие простое, неудвоенное -š-, которое может отражать особую, ненапряженную или озвонченную артикуляцию спиранта. Последний тип названий, а их немногим более десятка, включает в основном топонимы не хетто-лувийского происхождения. Иногда это просто дохеттские формы, кончающиеся на -š, вторично оформленные хеттским тематическим гласным -a: ср., например, Ḫattuša вместо древнего хаттского Ḫattuš, Tauriša из хаттского *tauriš, сирийское Pišaiša — переоформление хурритского *Pišaiš [Laroche, 1957, с. 2]. Явно нехеттским является название страны Ḫajaša, вариант Azzi, на востоке Анатолии. Едва ли не единственный возможный случай хетто-лувийского топонима такого типа — название горы Iškiša при хет. iškiš(a) «спина, хребет» — на самом деле также сомнителен, поскольку это слово не имеет индоевропейской этимологии и может быть дохеттским заимствованием. Впрочем, здесь -š- в любом случае не является суффиксальным, но принадлежит исходной апеллативной основе. Целую серию таких названий мы находим и на западной периферии хеттского мира, диалектная принадлежность которой остается очень спорной: здесь и Маса, и Каркиса-Каркия, и Вилуса с Труисой и, по-видимому, Апаса, столица Арцавы (впрочем, в последнем случае вариантное написание Apašša, как и в некоторых других примерах, явно отражает попытку приспособить чужой топоним с необычным для хеттов туземным произношением спиранта в конечном слоге к привычному типу названий на -šša). Не вдаваясь в более детальное рассмотрение материала (оно проделано в работе [Гиндин, 1981, с. 150 и сл.]), заметим в качестве резюме: действительно, топонимы с неудвоенным -s- в исходе, к которым принадлежит и T(a)ruiša, — это гетерогенные, практически сплошь нехеттские формы, восходящие к различным местным языкам и наречиям. Они не образуют единой модели, позволившей бы сразу решить вопрос о членимости каждого подобного названия. Для любого из них этот вопрос должен ставиться отдельно и решаться, в тех случаях, когда это возможно, методом «атомарного» анализа, предметом которого являются история и совокупность ареальных связей именно данного индивидуального топонима. Так, если в случае с названием Каркисы-Каркии, возможно, восходящим к неиндоевропейскому дохеттскому слою [Гиндин, 1967, с. 111], суффиксальное оформление различается достаточно четко (ср. неиндоевропейские догреческие формы вроде Λάρισα и этрусские адъективы на -ša), то применительно к Труисе, как показали изыскания В. Георгиева, вопрос о морфонологической функции -š, по крайней мере в историческом ключе, допускает совсем иной ответ, чем думали Кречмер и Боссерт.
Мы видели выше (гл. 4), что исходная гипотеза болгарского ученого о тождестве имен троянцев и тирсенов-этрусков, скорее всего, ошибочна. Однако, разрабатывая ее, Георгиев исключительно подробно и глубоко сумел проследить ареальные северобалканские связи троянского этникона, обратив внимание уже в 1937 г. на иллирийские личные имена Trosius, Trosia, с параллелями в рано заселенной иллирийцами италийской Апулии, где на одной монете представлено личное имя или местное название Trosantios, а в мессапских надписях неоднократно появляется мужское имя Trohantes, Troantes, род. пад. Traohantihi ([Georgiev, 1937, с. 183]) со ссылками на [Kretschmer, 1896, с. 260; Krahe, 1929, с. 118 и сл.]; см. также [Parlangeli, 1960, с. 366 и сл.]). Реконструировав для этих имен первоначально единую основу *Trōs-, позднее, в 1958 г. Георгиев смог выявить связующее звено между троянским и иллирийским ареалами, которое позволило правильнее осмыслить этимологическую структуру данной балканской основы: таким звеном оказалось название северофракийского племени Τραυσοί, Thrausi. Постулируя возникновение *Trōs- как в имени троянцев, так и в иллирийских антропонимах из *Traus- в результате монофтонгизации (ср. мессап. Traohant < *Trau̯s-ant·), исследователь смело предположил тождество -š- в хеттском названии Троады T(a)ruiša тому этимологическому -š-, которое проходит без исключения через весь ряд родственных северобалканских форм. При таком объяснении T(a)ruiša выводилось из *Tr(a)usja > *Trosja, собственно «Троянская (земля)» (греч. Τρωΐα), через метатезу [Георгиев, 1958, с. 172, 197 и сл.] (к структуре ср. женские имена — мик. Troja, иллир. Trosia).
В упоминавшейся монографии одного из авторов данной работы [Гиндин, 1981] концепция Георгиева была переосмыслена и дополнена в двух важнейших аспектах. Во-первых, было подчеркнуто, что собранный Георгиевым материал не позволяет более рассматривать ни греч. Τρωΐα, ни хет. T(a)ruiša в качестве исходной формы топонима. Речь не должна идти ни о греческом проникновении в хеттскую топонимику, ни наоборот, о хеттском в греческую. И греч. Τρωΐα, и хет. T(a)ruiša являются независимыми и разновременными передачами одного и того же туземного названия северобалканского по происхождению с ближайшими соответствиями во Фракии. При этом отмечалось, что при объяснении принимаемой, вслед за Георгиевым, метатезы в форме T(a)ruiša, вероятно, следует допустить влияние аналогии с малоазийскими и эгейскими топонимами на -iša, сказавшейся либо на звуковом облике самого местного названия, либо на его адаптации в хеттской передаче.
Во-вторых, был поставлен вопрос о более конкретной этнической атрибуции имени троянцев. Привлеченное Георгиевым в качестве параллели племенное название фракийских травсов Τραυσοί еще более увеличивает список ономастических соответствий, соединяющих Трою с отдаленными областями Фракии, по праву претендующими на глубокую древность. Для географической локализации травсов мы располагаем двумя принципиально различающимися указаниями. По Геродоту (V.3), они вместе с гетами жили к северу от города Крестона, находившегося в западной части Эгейской Фракии, что позволяет относить их местообитание к юго-западной части Родоп [Tomaschek, 1980, 1, с. 100; Detschew, 1976, с. 521]. Этому соответствует и упоминание Ливия (38,41) об их грабительском вторжении в 188 г. до н. э. в область к западу от Гебра. Совершенно иной характер имеет свидетельство Стефана Византийского (s.v. Τραυσοί.), у которого вслед за безнадежно испорченным началом, содержащим какое-то упоминание о кельтах (по правдоподобной конъектуре А. фон Гутшмида надо читать «Травсы, вблизи кельтов…», см. [Detschew, 1976, с. 7]), стоит «… племя, которое эллины называют агафирсами (Ἀγαϑύρσους)». Но агафирсы — это хорошо известный грекам народ, обитавший, согласно Геродоту (IV,48), у истоков реки Марис (совр. Муреш к юго-западу от Карпатского хребта) [Tomaschek, 1980, 1, с. 100; Detschew, 1976, с. 3].
Начальная часть имени агафирсов, включаемых Геродотом в круг племен, соседствовавших со скифами (у этого автора в IV, 10 мифические предки народов Агафирс и Скиф предстают двумя родными братьями), была сопоставлена В. Томашеком с иран. aγa- «злой», вторая же — ϑυρσοι истолкована как прямая передача исходного фрак. Τραυσοί. Этникон этот автор предложил понимать в духе сообщения Стефана Византийского как фрако-иранский гибридный композит «Злые-Травсы». П. Кречмер, также считая травсов-агафирсов смешанным фрако-иранским племенем, с фракийской основой и скифским суперстратом (см. Hdt. IV, 104 — о тождестве большинства обычаев агафирсов с обычаями фракийцев), тем не менее допускал в их имени возможность чисто иранского композита со второй частью, равной авест. ϑraos- «достигать расцвета, зрелости» и лишь вторично, по созвучию напоминавшей иранизированным травсам их исконное название [Kretschmer, 1936, с. 37 и сл.]. Напротив, Д. Дечев прямо высказал гипотезу об отражении в самом фракийском этниконе Τραυσοί той же индоевропейской основы *treu-s «быть сильным, зрелым», что представлена в авестийском слове [Detschew, 1952, с. 7], — изоглосса, которая могла бы облегчить скифскую адаптацию фракийского этнического самоназвания со значением «племя сильных, процветающих». В любом случае отождествление племени агафирсов в его основе с фракийцами-травсами, оказавшимися волей исторической судьбы, по существу, за пределами фракийского ареала, вполне правдоподобно. (Ср. весьма категорическое утверждение Гесихия: Τραυσοί ἔϑνος Σκυϑικόν «травсы — скифское племя», отразившее все то же своеобразное положение прикарпатских травсов между двух этнических массивов.)
Но каким же образом совместить локализацию данного народа вблизи Родоп, по Геродоту, с версией Стефана Византийского, помещающей носителей данного имени намного севернее, где-то в районе современных Баната и Семиградья [Detschew, 1976, с. 3]? Единственное правдоподобное объяснение предлагает концепция В. Томашека, видящего в прикарпатских и родопских травсах осколки некогда единого племенного образования, охватывавшего обширную территорию от Прикарпатья до Постримонья, т. е. практически всю западную Фракию [Tomaschek, 1980, 1, с. 100]. Поддержавший эту гипотезу Кречмер усмотрел в ней замечательную возможность объяснения имени фракийцев — Θράϊκϵς, в позднейших вариантах Θρᾷκϵς, Θρήικϵς и т. д. По его мысли, воспринятой многими специалистами, Θράϊκϵς происходит из *Trau̯s-ik-, через ступень Τραϝhικες с выпадением консонантной группы — u̯h-, вызвавшей аспирацию начального согласного; предполагается, что греки заимствовали это имя в период, когда действовал закон перехода интервокального -σ- в h, при последующем выпадении [Kretschmer, 1936, с. 39 и сл.] (также см. [Detschew, 1976, с. 205; Георгиев, 1958, с. 136 и сл.]). В таком случае хронология отраженного в передаче имени фракийцев общегреческого перехода s > h (см. выше) говорит о необходимости датировать первоначальные контакты греков с «травсийскими» племенами временем не позже начала II тысячелетия до н. э., иначе говоря, эпохой пребывания первых на их общегреческой прародине в фессалийско-македонском ареале, по соседству с областью расселения протофракийцев, часть которых и должна быть отождествлена с носителями самоназвания *Trau̯s(ik)-. Вторичное же восприятие греками термина Τραυσοί как относящегося к периферийным фракийским этносам, сохранившим свое древнее имя, произошло намного позже, когда этот звуковой переход уже не действовал, скорее всего во времена появления греческих колонистов во Фракии.
Анализ всех этих обстоятельств позволил внести новые серьезные коррективы в георгиевскую трактовку происхождения слова Τρῶες (см. [Гиндин, 1981]). Перед нами не просто этникон с древними северобалканскими связями, отражающий языковое родство ранних обитателей Троады с носителями палеобалканских индоевропейских диалектов III–II тысячелетия до н. э., но этноним, исторически тождественный названию одной из наиболее мощных группировок протофракийских племен, которое превратилось в устах греков в обобщенный термин для всего фракийского мира. Хотя это, может быть, самое значительное подтверждение доминирующей роли ранних фракийцев в этногенезе Трои, однако в своих выводах мы можем пойти дальше. Дело в том, что постулируемая Георгиевым монофтонгизация au > ō, допустимая для некоторых иллирийских диалектов (см. [Mayer, т. 2, с. 146]), не находит надежного обоснования ни на хетто-лувийской, ни на фракийской почве. Отношение между названиями троянцев и фракийцев естественнее мыслить совсем иначе, чем это делает Георгиев: поскольку во фракийском ǒ обычно дает ǎ (ср. во фракийских гидронимах Σαλδο- из и.-е. *ĝholto- «золото», Δίας- в личных именах из Diu̯os- и т. д. [Георгиев, 1977, с. 164]), логично полагать, что основа Trau̯s- происходит из *Trou̯s-, которое непосредственно и отразилось в имени троянцев [Гиндин, 1981, с. 156 и сл.]. Последнее, таким образом, представляет форму более раннюю сравнительно с *Trau̯s-(ik-), давшим название для совокупности фракийских этносов на Балканах. Исчезновение в греческих передачах обоих вариантов, и *Trau̯s-, и *Trau̯s-ik-, конечного -s- основы заставляет относить заимствование обоих этниконов к греческим примерно к одной эпохе конца III — начала II тысячелетия до н. э. Но тогда неизбежно заключение о том, что если в какие-то ранние времена имя троянцев было попросту тождественно самоназванию части протофракийцев по другую сторону Геллеспонта, то к началу II тысячелетия до н. э. эти времена уже прошли. В европейских протофракийских диалектах исходное *Trou̯s- дало *Trau̯s-, но Троаду, сохранившую более древний облик данной основы, не затронула инновация. Значит, к этому времени город и область на северо-западе Анатолии уже обособились от протофракийского ареала Эта лингвистическая реконструкция полностью отвечает свидетельствам древнебалканской и троянской археологии, в чем мы убедимся ниже.
Позволим себе высказать некоторые наблюдения относительно характера распространения ономастической основы *Trous- и ее продолжений в балкано-анатолийском этноязыковом пространстве. В Западной Малой Азии мы находим целую серию соответствий к приведенным балканским формам, дополнительно подтверждающих необходимость реконструировать -s в ауслауте обозначения троянцев. Таково ликийское местное название Τρυσα в греческой записи (в туземной, наверное, Trus-, судя по винительному падежу Trusn̄ в ликийском тексте TAM I, 44b 15), а также мужские личные имена — в Карии Τρυσης и в Ликии Τρυσαδας [Zgusta, 1964, § 1607–1608]. Последнее обращает на себя внимание своей суффиксальной частью: при ее истолковании следует, учитывая известные в хетто-лувийских языках колебания в вариантах суффикса -nda/-da (вспомним Mil(a)wanda: Mil(a)wada), реконструировать основу *Trusant-. Эта основа идентична балканской, представленной в иллир. Trosant·, мессап. Tr(a)ohant-, что может говорить о глубоком архаизме образования с суффиксом -nt (*Trou̯sant-), встречающегося и на Балканах, и в Анатолии параллельно рефлексам простой основы *Trous(a). Анализируя семантику этих форм в их ареальном распределении, обнаруживаем важную закономерность. В центре ареала, приходящемся на Северо-Восточные Балканы и Северо-Западную Анатолию, данная основа имеет, прежде всего, если не исключительно, этнонимическое значение, выступая в наименованиях народов по обеим сторонам будущего Фракийского моря. А на периферии ареала, включающей Южные и Западные Балканы с органически примыкающей к последним мессапской Апулией и районы Западной Анатолии южнее Троады, от этой основы образуются либо личные имена, либо топонимы.
Для греческих форм из этого ряда особенно очевидна их прямая соотнесенность с троянским этниконом: микен. Trōs значит «Троянец», Trōja — «Троянка», Trōwix, Trōwax — «Троянский», пилосский топоним Trowassos, как и позднее засвидетельствованная Τροία в Аттике, явно отсылает к названию Трои над Геллеспонтом. Не может ли точно так же обстоять дело и с прочими, иллирийскими и малоазийскими, периферийными образованиями? Тогда их пришлось бы рассматривать как восходящие к III–II тысячелетию до н. э. адъективы от названия широко известной группы протофракийских племен, исторически контролировавших торговые и иные пути, соединившие Анатолию с Балканами и древней Европой.
Сложнее дело обстоит с названием Илиона-Вилусы. Соотношение между суффиксальными частями хеттской передачи Wiluša и греческой ϝίλιος выглядит еще загадочнее, чем в случае с Труисой-Троей. Среди исследователей, занимавшихся данным топонимом, преобладает мнение о принадлежности его к древним основам на -u. Так, П. Кречмер считал имя эпонима этого города Ἴλος позднейшей адаптацией первоначального *Wilus, ссылаясь, в частности, на название местности вблизи Илиона Ἰλήιον πϵδίον (Il. XXI,558), согласно схолиям к данному месту непосредственно прилегавшей к кургану героя Ила. Необычная форма адъектива от имени Ила Ἰλήιον окажется вполне объяснимой, если мы вспомним, что именно так выглядят притяжательные прилагательные от имен на -(ϵ)υς-: Ὀδυσσεύς — Ὀδυσσήιος, Πηλϵύς — Πηλήιος. Значит, исконно эта местность называлась *Wilewjo-, и в основе этого обозначения вполне может лежать имя местного мифического персонажа *Wilus, переданное греками как Ϝίλος. По мнению Кречмера, хет. Wiluša и греч. Ϝίλιος представляют независимые друг от друга названия малоазийского города, образованные от имени этого предполагаемого героя-эпонима [Kretschmer, 1933, с. 254 и сл.]. Ф. Зоммер с осторожными оговорками указал на возможность постулировать параллельную к Wiluša форму *Wiluwa (как в Karkiša/Karija) с последующим греческим развитием *Wilüwa > *Wilio-, подобно Aššuwa > Ἀσία [Sommer, 1932, с. 371]. В. Георгиев, принимая ту же фонетическую эволюцию, что и Зоммер, полагал, будто топоним Wiluša, как и Truiša, мог войти в греческий язык еще до перехода -s->-h- и, следовательно, вариант *Wilüwa естественно должен был возникнуть после этого перехода в самих греческих передачах, исторически развиваясь в *Wiljo- [Georgiev, 1973, с. 12]. При всех нюансах интерпретации основа *Wilu- восстанавливается исследователями для названий Илиона и Вилусы единодушно и весьма убедительно.
О том, что звукокомплекс Wilu-, заключенный в наименовании троянской столицы, был также не чужд фракийской ономастике, может свидетельствовать перечисление омонимичных городов у Стефана Византийского (s.v. Ἴλιον): «Илион, город Троады. в честь Ила… Второй в Пропонтиде на реке Риндаке, третий в Македонии, основанный Геленом, четвертый в Фессалии, пятый во Фракии около Бизии (κατὰ Βιζύην)». О фессалийском и македонском Илионах мы намерены говорить специально в другой работе. Все три остальных находились в достаточной близости друг от друга. Река Риндак, на которой стоял Илион, впадала в Мраморное море, протекая по Вифинии, немного восточнее троянского Айсепа. Существование в Северо-Западной Анатолии двух Илионов отразили раннехристианские церковные документы, упоминающие о самостоятельных епископатах в каждом из этих городов [Zgusta, 1984, с. 197], лежащих на территории, которая могла в древности входить во владения единой Вилусы со столицей в археологической Трое. К тому же ряду названий принадлежит и упоминавшийся в главе 3 топоним Ἴλουζα несколько южнее, на границе Лидии и Фригии: он точно соответствует обозначению древней Вилусы, и его возникновение, вероятно, как-то связано с историей этого государства и миграциями его уроженцев в более южные районы Анатолии. Фракийский же Илион находился в местности, населенной племенем астов, к северу от Боспора, т. е. все в том же поясе областей, скорее связуемых, а не разделяемых, как мы видели, Пропонтидой. Георгиев предлагал для этого фракийского топонима отдельную от малоазийских названий этимологию из и.-е. *īlw-jo-, греч. Ιλύς, ст.-слав. ИЛЪ «грязь, тина» [Георгиев, 1957, с. 20]. Но перекличка названий к северу и к югу от проливов вполне может объясняться этнической близостью обитателей обоих берегов, и при обычном в греческих фиксациях фракийских имен опущении слабого [u̯] омонимия троянского, вифинского и фракийского Илионов наглядно заключает лингвистическую картину «фракийской» Трои.
6
Как же соотносятся все эти лингвистические данные и показания традиции, включая гомеровские сообщения о Мигдоне, Кебрионе, мисийцах и Скейских воротах в «Трое Приама», со свидетельствами археологии о материальной культуре Троады?
Существует очевидный рубеж, начиная с которого археологи, не колеблясь, признают принадлежность Трои к области обитания исторических фракийцев. Это последняя фаза существования догреческой Трои, так называемая Троя VIIб 2, которую Блеген датирует примерно 1170–1100 гг. до н. э. Этот город строят на руинах Трои VIIб 1, прямой преемницы и продолжения «Приамовой Трои», пришлые племена, принесшие с собой до тех пор не засвидетельствованную в этом городе культуру «выпуклой керамики», для которой помимо специфических выпуклостей характерен вытисненный или процарапанный орнамент с повторяющимся мотивом концентрических кругов и вытянутые, загибающиеся под острым углом ручки [Dimitrov, 1971]. Эта культура, не имея соответствий ни в окрестностях Трои, ни вообще в Анатолии, перекликается многими чертами с культурами Средней и Юго-Восточной Европы, в частности Подунавья [Blegen, 1963, с. 169 и сл.; Akurgal, 1961, с. 3; Дьяконов, 1968, с. 117]. На территории Фракии обнаружено множество черепков от сосудов позднего бронзового века, выполненных в той же технике. Решающим событием для этнической атрибуции культуры Трои VIIб 2 стало обнаружение в 1956 г. в окрестностях Казанлыка фракийской культуры с сосудами, абсолютно идентичными сосудам данного слоя Трои, но при этом по своему типу имеющими как предысторию, так и продолжение в последующие века на территории Фракии [Dimitrov, 1971, с. 78]. Это дает надежные основания для отнесения Трои VIIб 2 к культурам сложившегося с XIII в. до н. э. стиля «фракийского гальштатта», оформившегося в результате тесных культурных связей фракийцев этого времени с раннекельтскими и раннеиллирийскими этносами (см. [Čičikova, 1971, с.80 и сл.]).
В начале XI в. до н. э. Троя VIIб 2 была разрушена очередной группой пришельцев со стороны Фракии. По Блегену, городская жизнь на Гиссарлыкском холме не возобновлялась до прихода в конце VIII в. до н. э. греков — строителей Трои VIII. X. Подцувайт, ссылаясь на найденные Блегеном в поздних слоях Трои VII сосуды протогеометрического стиля, справедливо настаивает на том, что какое-то население могло оставаться в городе и в последующие века [Podzuweit, 1982, с. 81 и сл.]. По крайней мере для XI–X вв. («протогеометрическая эпоха») это вполне правдоподобно. Однако едва ли Подцувайт прав, пытаясь продлить существование Трои VIIб 2 чуть ли не на все «темные века», вплоть до строительства Трои VIII. Троянские предания отражают переход населения Илиона в эту эпоху в более безопасное место на Скепсис в предгорьях Иды, а также правление в Троаде вплоть до гомеровских времен фракийской династии, возводившей себя к древним царям Дардании. Итак, можно утверждать без колебаний, что ко времени создания «Илиады» Троада четыре с лишним века была населена фракийцами, причем предшественниками этих фракийцев были известные здесь с конца XIV в. до н. э. дарданийцы или дарданцы.
Если мы захотим продвинуться в глубь веков к более древним стадиям связей между Троей и Фракией, отправным пунктом должен стать тот фундаментальный вывод, которым увенчались интенсивно проводимые в послевоенные годы раскопки многослойных поселений на территории Болгарии, в особенности таких, как Эзеро (раннебронзовый век), Михалич (Караново VII) той же эпохи и особенно поселения Юнаците, охватывающего огромный временной отрезок с энеолита до позднего бронзового века. Этот вывод состоит в непрерывности линии культурного развития на фракийской земле на протяжении всей эпохи бронзы, начиная с самых ранних ее стадий и кончая позднейшими, к которым относятся уже культуры исторических фракийцев, в том числе и тех, что основали Трою VIIб 2 (см. [Георгиев, Мерперт, 1965, с. 130; Мерперт, 1969, с. 254; Katinčarov, 1972, с. 53 и сл.]). Напротив, начало бронзового века ознаменовалось военными и культурными потрясениями на всей территории Юго-Восточной Европы и Балкан, гибелью цветущих, но совершенно незащищенных неолитических поселений, обитатели которых зачастую, как это имело место в Юнаците, были внезапно и беспощадно истреблены некими пришельцами. С победой последних связано возникновение во всем этом ареале в конце IV — начале III тысячелетия мощных поселений крепостного типа и появление гряды новых, раннебронзовых культур от Баденской до Караново VII, Эзеро и «нового» Юнаците. (Данной проблематике был посвящен подробный доклад Н. Я. Мерперта «Раскопки поселения в Юнаците» на заседании Секции по античной балканистике в Институте славяноведения и балканистики в январе 1990 г.) Эти события могут быть истолкованы однозначно как вторжение в приэгейские области племен с севера, решительно изменивших этнический облик данного региона и сыгравших видную роль в его «индоевропеизации». Поскольку в течение последующих двух тысяч лет состав населения на территории не подвергался кардинальным изменениям, из этого прямо следует, что на рубеже IV–III тысячелетий до н. э. на землю Фракии в числе иных индоевропейских народов пришли предки исторических фракийцев, возможно, принадлежавшие к фрако-балтийскому диалектному континууму на протоуровне.
«Раннебронзовый» этнокультурный переворот не ограничился Юго-Восточной Европой в узком смысле, он охватил также острова Северной Эгеиды и Кикладского архипелага. Следствием его явилось появление раннебронзовых поселений Терми на Лесбосе и Полиохни на Лемносе, имеющих множество общих черт с современными им культурами Фракии. На волне этих преобразований, закономерно распространившихся на Северо-Запад Малой Азии, возникла и культура Трои I [Мерперт, 1988]. Уже Блеген подчеркивал глубокие связи, соединившие этот город с начальными стадиями Терми, Полиохни, а также с культурой так называемого «холма Протесилая» во Фракийском Херсонесе [Blegen, 1963, с. 58]. Немногим ранее В. Чайлд обратил внимание на подобие культуры Михалич (Караново VII) с Троей I и на всю важность этого факта [Childe, 1956, с. 45 и сл.]. О североэгейском характере культуры Трои и близлежащей культуры Йортан (малоазийская Мисия) подробно писал А. Гётце [Goetze, 1957, с. 19 и сл.]. Раскопки многослойного поселения в Эзеро на юге Болгарии, проводимые совместной болгаро-советской экспедицией в течение многих сезонов под руководством Н. Я. Мерперта и И. Георгиева, значительно дополнили и уточнили эту картину. Комплексное сличение его девяти верхних строительных горизонтов (слой раннего бронзового века) с Троей I–IV выявило для Трои I–II (по Блегену, 3000–2300 гг. до н. э.) поразительную картину культурной идентичности по таким показателям, как многочисленная керамика, планировка городища, архитектура, и, наконец, такое специфическое фортификационное устройство, каким явился в Трое II укрепленный «воротный вход» (в деталях см. [Езеро, 1979]).
Что же касается массовой троянской керамики этого времени, темной, монохромной во множестве оттенков, от оливково-зеленого до серого и черного, с нарезным узором, заполняемым белой краской [Blegen, 1963, с. 52], то, по словам Мерперта, «трудно назвать троянский вариант, двойник которого не был бы найден в Эзеро» [Мерперт, 1966, с. 114]. Сходства обнаруживаются также в бытовых изделиях из металла, кости, рога и камня. Важным результатом сличения стал вывод о большей древности первоначального слоя Эзеро (Эзеро А1) по сравнению с Троей I (см. статью Черных в [Езеро, 1979, с. 312, 316]). Поскольку Троя с самого своего появления соответствует этапу Эзеро А2, естественно утверждать, что возникновение города на Гиссарлыкском холме было стимулировано этнокультурными процессами, развернувшимися на Северо-Восточных Балканах, особенно в соседнем протофракийском ареале, и что строительство этого города отразило факт вовлечения близлежащих районов Анатолии в тот же процесс, хотя и не на самой ранней его стадии. Эту мысль подтверждают и раскопки Юнаците, где ранняя фаза, непосредственно следующая за руинами беспощадно уничтоженного энеолитического поселка, также оказывается предшествующей началу Трои. Троя I — это как бы младшая сестра городов-крепостей, которые строили народы, в конце IV тысячелетия до н. э. заселявшие Фракию, в том числе говорившие на диалектах, исторически развившихся в диалекты фракийцев конца бронзового и железного веков. С разительными археологическими параллелями между Эзеро и Троей I–II согласуется тот лингвистический факт, что позднейшее фракийское поселение Илион, о котором упоминает Стефан Византийский, находилось на юго-востоке Фракии в области астов, т. е. именно там, где процветала в древности культура Эзеро.
Интересно, что разрушение Трои I в середине III тысячелетия до н. э. и строительство новой, гораздо более внушительной цитадели Трои II не изменило этнокультурного облика этого города, первоначально по-прежнему особенно не выделяющегося из ряда эгейских городов, ориентированных на «протофракийский» мир. Между тем за гибелью Трои I внезапно начинается мощное распространение культур, родственных новой Трое II, на юг и во внутреннюю часть Малой Азии, сначала до Бейджесултана вблизи верховьев Меандра, далее через долины Конья к предгорьям Тавра и в Киликию. Дж. Мелларт вполне обоснованно связывает эти события с проникновением в Малую Азию лувийцев, обитателей юга полуострова, во II тысячелетии до н. э. [Mellart, 1958]. По Мелларту, народ, говоривший на лувийском диалекте, был строителем Трои II и использовал этот город как плацдарм для дальнейшего движения к югу. Но тогда как можно объяснить прямую преемственность между Троей I и Троей II, хорошо показанную Блегеном, полное отсутствие резких культурных изменений, которые было бы естественно ожидать в случае прихода завоевателей? Предположение Дж. Маккуина [Маккуин, 1983, с. 23 и сл.], будто лувийцы могли населять уже Трою I, плохо согласуется с жестоким разрушением этого города. Однако оно весьма способствует раздумьям над проблемой исторических отношений между лувийскими племенами и народами «протофракийского» круга, с которыми связан «раннебронзовый» переворот на северо-востоке Балкан, давший импульс к строительству Полиохни, Терми и Трои I.
В самом деле, если вторжение завоевателей ничего не меняет в культурной ориентации города, но сами завоеватели несут его культуру далее, это значит, что они или полностью восприняли традиции новых для них мест, или еще до своего прихода в эти места принадлежали к одному культурному кругу с их более ранними жителями. Поскольку Троя I находилась в органическом единстве с культурами «протофракийского» ареала (через него должны были пройти лувийцы на их пути к проливам), преемственность Трои II по отношению к этому городу и распространение близких Трое культур по Анатолии с волнами ранних лувийцев указывают лишь на то, что лувийцы вступили на этот полуостров и первое время осваивали его пространства как носители культурных традиций, близких традициям раннебронзовой Фракии. Иначе говоря, древности III тысячелетия до н. э., которые мы именуем «протофракийскими», базируясь на ареальной приуроченности их к территории будущей Фракии и на непрерывном эволюционном движении от них к культуре исторических фракийцев, с равным основанием могут рассматриваться в качестве разновидности «индоевропейских» древностей, составившей достояние различных индоевропейских племен, соприкасавшихся с традициями этого ареала (см. подробнее [Гиндин, 1988а]). К таким племенам, по-видимому, должны были принадлежать и племена лувийцев. Они были подготовлены к восприятию традиций протофракийского мира благодаря существованию многочисленных общих признаков (формы сосудов, шнуровой орнамент, боевые топоры, типы захоронений), объединяющих раннебронзовый век Болгарии, как и другие балканские территории, с центральноевропейскими и юго-восточноевропейскими культурами, и прежде всего с районами Подунавья и Северного Причерноморья [Мерперт, 1965; Мерперт, 1969, с. 238; Мерперт, Черных, 1971, с. 553]. Поэтому предполагаемое для середины III тысячелетия прохождение лувийцев через Троаду не нарушило и не могло нарушить протофракийских связей этого города.
Картина начинает меняться лишь постепенно, без этноисторических катаклизмов и потрясений по ходу внутренней эволюции культуры Трои II. Средние фазы истории этого города характеризуются появлением ряда новых разновидностей сосудов (среди них знаменитый depas amphicypellon, тип изящных цилиндрических кубков с сердцевидным контуром, снабженных двумя ручками, а также иные, более вместительные кубки с одной или двумя ручками [Blegen, 1963, с. 81]), позволяющих говорить о формировании особого троянского культурного стиля. X. Подцувайт, выдвинувший в конце 1970-х годов новую, весьма оригинальную периодизацию культуры Трои раннебронзового века, основанную исключительно на особенностях керамических коллекций в различных слоях этого города, объединяет Трою I и фазы Трои II a — b в единый культурный период, начиная же с Трои II c, говорит о наступлении нового периода [Podzuweit, 1979, прил. 2]. В это время отношения между Троей и протофракийским ареалом приобретают новое качество. По оценке Н. Я. Мерперта, которой он любезно поделился с авторами книги, с этого времени можно говорить о параллелях, заимствованиях, взаимовлияниях, отражающих непрекращающийся культурный обмен между Троей и протофракийскими этносами, но уже не о единстве. Троя обретает свой неповторимый облик, она из части протофракийского мира становится его влиятельной и популярной соседкой. Если для начала III тысячелетия до н. э. сейчас уже нет очевидных оснований трактовать культуры Юго-Восточной Фракии в качестве деривата анатолийских культур, в частности откровенно «протофракийской» Трои I, то в конце этого тысячелетия «троянские» изделия и отдельные «троянские» стилистические черты в культурных комплексах Юго-Восточной Европы (см. [Kalicz, 1963; Мерперт, Черных, 1972, с. 501; Георгиев, Мерперт, 1973]) говорят уже о влиянии, о моде, исходящей из Троады и осознающейся именно как мода, как предмет импорта и имитации.
Однако, по справедливому выводу К. Блегена, на протяжении 1100 или 1200 лет, охваченных периодами Трои I–V, троянская культура эволюционировала в едином русле, и если один раз, на переходе от Трои II к Трое III, может быть, и допустимо предполагать смену в городе одной группы обитателей другой, близкородственной, то о прерывности в традициях, о смене культурной парадигмы, о полном замещении одного этноса другим говорить не приходится. Даже для лувийцев, как мы увидим, скорее стоит предположить в той мере, в какой они задержались в Троаде, оседание на ее периферии и адаптацию к ее условиям, в том числе к власти правителей города на Гиссарлыкском холме. Троя конца III тысячелетия до н. э. и современные ей протофракийские культуры, протофракийские племена — это результат постепенного расхождения двух ветвей одного и того же ствола, который дает нам в его первоначальном единстве сопоставление Трои I и Эзеро. Это то расхождение, лингвистическим эквивалентом которого может считаться дивергенция троянского и европейского продолжений этникона *Trou̯s-, давшего на рубеже III–II тысячелетий до н. э. *Trau̯s-: *Trau̯s-ik- в Европе, но *Trous-/*Trouis- в Азии.
Любопытно, что в XVIII в. до н. э., когда, по Блегену, в начале эпохи Трои VI город сменил культурную парадигму и взамен своих прежних северобалканских связей обратился «лицом к Греции», заселяемой в ту же эпоху раннегреческими племенами [Blegen, 1963, с. 94 и сл.], этот культурный переворот не сопровождался ни разрушениями, ни пожаром, ни массовой резней, ни иными признаками этнических катаклизмов. К. Биттель, ссылаясь на это, а также на присутствие в Трое VI образцов более ранней троянской керамики и наличие в ранних фазах этого города зданий, построенных в прежней манере, вообще отрицал реальность этого перелома в этнической истории Трои, признаваемого Блегеном [Bittel, 1956]. В таком случае население Трои предстало бы однородным с начала Трои I по конец Трои VI1б 1, когда в Троаду прибывают носители культуры «фракийского гальштатта», т. е. на протяжении почти двух тысячелетий. Вспомним еще раз о дарданцах как вероятных подданных Илиона-Вилусы в конце XIV в. до н. э. и о той картине массового заселения североэгейских берегов Анатолии в «эпоху Приама» балканскими народами, которую нам дает Гомер.
В свою очередь, Блеген указывал на одновременное возникновение в Трое и в Греции характерного парадного стиля «серо-минийской» керамики, на параллельное введение в обоих регионах коневодства, а кроме того, на обнаруживающиеся в Трое с самого начала микенской эпохи, с XVI в. до н. э., привозные сосуды микенского стиля, надолго опережающие появление ахейских колоний в Анатолии. С первой половины II тысячелетия до н. э. между Троей и Грецией устанавливаются прочные культурные связи, троянцы зорко следят за модами греческого мира. Выше мы указывали на возможность заимствования из Троады греческого слова со значением «конь». В том же ключе надо рассматривать и наличие в Греции городов с названием Ἴλιος, омонимичных троянскому Илиону. Об особых отношениях Илиона-Вилусы с греками говорит и война между Аххиявой и Хеттским царством за этот город в конце XIV — начале XIII в. до н. э., когда Муватталис попытался включить Вилусу в сферу хеттского влияния. Для Троады в этот период не исключено присутствие какой-то престижной иноэтнической прослойки, связанной с Грецией, о чем может свидетельствовать и имя вилусского Алаксандуса, явно отражающее греч. Ἀλέξανδρος — Александр.
Но тем не менее ряд керамических форм, общих и в эту эпоху для Трои и Фракии, заставляет думать о пребывании в городе группы обитателей, по-прежнему традиционно ориентированных на Северные Балканы, а за пределами Трои «по обеим берегам Пропонтиды население, вероятно, оставалось в основном фракийским» [Hodinott, 1981, с. 58]. Тот же автор помимо археологических данных, упоминает греческие легенды о походе аргонавтов, старающихся по пути в Колхиду миновать Илион под покровом ночи и вынужденных вступать на пропонтийских берегах в сражения с фракийцами — бебриками и долионами. Похоже, эти легенды отразили воспоминания о контроле за проливами, осуществлявшемся правителями Илиона и соседними фракийскими народами, делавшими тем самым черноморский бассейн малодоступным для микенцев. Есть все основания думать, что ко времени Троянской войны раннефракийские элементы преобладали в составе племенной общности тевкров, которые считались древнейшими обитателями Троады и к которым, как мы помним, согласно Геродоту, позднее причисляли себя также пеонийцы по другую сторону Фракийского моря (греч.
Τευκροί от и.-е. *teuk- «род, племя», ср. др.-инд. tokám «дети, потомство», ср.-в.-нем. Diehter «внук» из *teuk-ter [Pokorny, 1959, с. 1081, 1085]).
Что же касается обстоятельств прихода в Северо-Западную Анатолию носителей культуры «фракийского гальштатта», строителей Трои VIIб 2 (по Блегену — около 1170 г. до н. э.), то по этому поводу один из авторов книги недавно привлек любопытный контекст из надписи Рамсеса III, относящейся к пятому году правления этого фараона [Цымбурский, 1994]. Говоря о смуте, охватившей северные народы, пеластов-филистимлян и тевкров, составитель этой надписи на втором пилоне из Мединет Хабу (ст. 51–52) дает к имени последнего народа загадочное примечание: [iw] fdḳ.w t;. sn [Kitchen, t. 5, c. 25]. Глагол fdḳ, означает «раскалывать, разорять, опустошать». Дж. Брестед переводил это место так: «которые опустошили свою страну» [Breasted, т. 4, с. 24] — что с семантической точки зрения маловразумительно или, во всяком случае, нуждается в специальном обосновании. Позднее У. Эджертон и Дж. Уилсон предположили, несмотря на торжественно-официальный характер надписи, что в этом месте по недосмотру утерян предлог и переводить данный контекст надо «теккара, которые были отрезаны, отколоты от своей страны». Впрочем, сознавая проблематичность такой конъектуры, эти авторы оговаривают: для такого перевода «существуют возможные альтернативы, но ни одна из них не удовлетворяет вполне» [Edgerton, Wilson, 1936, с. 30]. Однако нам кажется, перевод этой фразы, удовлетворительный формально и приемлемый семантически, на деле вполне возможен. Исходя из того, что в новоегипетский период глагольный показатель w нормально используется в безличных конструкциях [Korostovtsev, 1973, с. 89], это место заманчиво перевести: «тевкры, чью страну кто-то опустошил, разорил». Получается, речь здесь идет о разорении каким-то врагом исторической родины тевкров, побудившем их выступить в поход.
Но если родина тевкров для первой четверти XII в. отождествима с Троадой, о каком событии из истории археологической Трои здесь может идти речь? В принципе, если допускать предельно позднюю датировку великого похода «народов моря», можно было бы допустить, что здесь как раз имеется в виду вторжение в Анатолию племен «фракийского гальштатта». Но этому противоречит отмечаемый Блегеном удивительно мирный характер вступления в город этих пришельцев, похоже, не встретивших в Трое никакого сопротивления [Blegen, 1963, с. 167 и сл.]. Это само по себе нуждается в интерпретации, однако во всяком случае не позволяет отнести слова египетской надписи о разорении страны тевкров к появлению новой волны фракийцев в Северо-Западной Анатолии. Между тем заметим: при любой из более ранних датировок великого похода, возглавленного тевкрами и пеласгами, от 1190-х до 1170-х годов до н. э., он приходится на период Трои VIIб I, убогой наследницы Трои VIIа — города, разрушенного и сожженного врагами, отождествляемого нами вслед за Блегеном и его сторонниками с уничтоженной ахейцами «Троей Приама». Поэтому в словах надписи Рамсеса III насчет опустошения страны тевкров можно видеть отголосок событий, отразившихся в традиции греков в виде Троянской войны. Это уже вторая реминисценция перипетий этой войны в египетских источниках после надписей Мернептаха, описывающих нападение на Египет ахейцев-акайваша с их союзниками, турша-тирсенами и лука-ликийцами.
По-видимому, именно оскудение Троады после ахейского нашествия побудило ее жителей (теккара египетской традиции) примерно через 20–25 лет выступить инициаторами похода множества народов, положившего конец Хеттскому царству и ряду более мелких государств Передней Азии и на какой-то период представлявшего смертельную угрозу для Египта. В то же время, поскольку из египетских изображений, как уже писалось в главе 4, явствует, что участники этого похода двигались, покинув родные места навсегда, вместе с семействами и со всем скарбом, можно предположить следующее: в результате ухода своих обитателей Троя оказалась сильно обезлюдевшей и это позволило фракийцам из Европы беспрепятственно заселить город.
Впрочем, мирный характер этого нового культурного поворота в судьбе Трои может находить дополнительное объяснение также в историческом родстве и тысячелетиями не прекращавшихся контактах двух народов. Если фракийцы позднебронзового века — такие же преемники протофракийцев из древнего Эзеро, как жители «Приамовой Трои» — законные наследники Трои I, родственной поселениям Михалич, Эзеро и Юнаците, то фракийская иммиграция, положившая начало Трое VIIб 2, уже не выглядит торжеством чужаков, но скорее восстановлением на новом уровне единства Трои и Фракии, встречей двух ветвей одного «троянско-травсийского» рода.
Глава 6 Лувийцы в Трое
1
Мы видим, что Троада буквально перенасыщена северобалканской, в основном — явно фракийской топо- и этнонимикой (может быть, с небольшой примесью западнобалканских, раннеиллирийских элементов), и трудно поверить, насколько популярной, едва ли не общепризнанной была в 60-70-х годах идея хетто-ливийской языковой принадлежности Трои VI и VIIа, по крайней мере среди лингвистов. Об археологах — особый разговор. И поныне у этой идеи достаточно много приверженцев. Подтверждения ей усиленно искали в троянской, не обязательно гомеровской ономастике. Сейчас можно оценить, как скудны и в ряде случаев двусмысленны были факты, на основании которых делались заключения о будто бы превалирующем хетто-лувийском языковом слое в Троаде.
Рассмотрим эти факты. Вероятно, самой достоверной троянско-лувийской антропонимической изоглоссой является титулатурное имя последнего легендарного царя Трои Πρίαμος «Приам» с прямыми аналогами в поздних лувийских диалектах: лик. А Prijama, килик. Prim — личное имя (в арамейской записи V в. до н. э.), лик. Б prijãmi «главный, наивысший» как эпитет святилища (литературу и источники см. выше, в гл. 3). Эта изоглосса неоспорима, тогда как с этимологически родственным и близким по смыслу именем Париса дело обстоит не так ясно, поскольку помимо элемента Pari- «первый» в анатолийских именах известно и неоднократно встречающееся во Фракии личное имя Πάρις [Detschew, 1976, с. 358], ср. алб. parë «первый». Эти формы показывают, что имя Париса может быть исконно балканским, хотя на индоевропейском уровне и родственным созвучной хетго-лувийской основе.
Среди троянских топонимов надежное хетто-лувийское объяснение имеет местное название Πηδάσσος, равное анатолийскому топониму Petašša, образованному от хет.-лув. peda «место» при помощи характерного лувийского суффикса -ašša [Laroche, 1957, с. 5]. Троянский город Педасс лежал на юге области и был, по преданиям, населен полулегендарным племенем лелегов (Λέλεγες), имя которых восходит к хеттскому (из хурритского) названию для чужаков, варваров — lulaḫḫi. Как предполагается, греческим языком данный этноним был заимствован из позднеанатолийских, возможно, карийских диалектов [Дьяконов, 1980, с. 106]. В ряду троянских лувизмов находится и название близкого к Трое острова Ἴμβρος, которое может быть сопоставлено с лув. immara «сельская местность» и его отражениями в малоазийской ономастике [Гиндин, 1981, с. 106 и сл.]. Можно вспомнить легенды о неких ликийских и киликийских поселениях в Трое, а также название Илионского акрополя Пергам из анат. *parga-ma «высокий». Эта лексема была перенесена из Малой Азии также и в топонимику Эгейской Фракии. Однако в контексте проделанного в предыдущей главе обзора троянско-фракийских соответствий ясно виден спорадический характер этих инородных вкраплений в области, органично соединенной с раннефракийским миром, не говоря уже о том, что данные вкрапления в значительной мере относятся к южной окраине или к морской периферии Троады.
«Троянско-хеттскую» гипотезу сильно дискредитировали опыты сплошного этимологизирования гомеровских форм из «Илиады» на базе хетто-лувийского словаря. Вспомним попытку В. Георгиева выделять в легендарных троянских именах Асканий, Ассарак хеттское aššu «хороший» (Georgiev, 1973, с. 5 и сл.], игнорируя, скажем, явные фракийские истоки имени Ассарака. Или же стремление другого автора за обычными греческими именами Биант и Антифат, когда Гомер наделяет ими эпизодических троянцев, открывать гипотетические хеттские прообразы вроде *Pijant-«Кладущий» и Ḫanta-pada «Идущий впереди» [Келлерман, 1971, с. 95]. Напротив, очевидно негреческое имя некоего троянца Φάλκης (Il. XIII,791; XIV,513) достаточно убедительно связывается с хет.-лув. palḫ- «широкий» [Шеворошкин, 1965, с. 305]. Но вполне принимая данную этимологию, как и некоторые другие, надо помнить, что малоазийские имена у Гомера не должны непременно говорить о присутствии хетто-лувийцев в исторической Трое XIII в. до н. э. Личные имена разные народы легко заимствуют друг у друга. К тому же некоторые позднеанатолийские антропонимы в «Илиаде» могут объясняться попросту тем, что поэт, рисуя свою условную, эпическую Трою, для придания ей местного колорита, позволяющего слушателям признать в ней малоазийский город, мог привлечь отдельные формы из современных ему хетто-лувийских диалектов.
Например, имя стоящего рядом с Фалком героя Πάλμυς (Il. XIII, 792) явно тождественно лидийскому титулу qλmλiś «Царь», в греческой передаче πάλμυς, и может быть возведено к хет. kalmuš «посох как символ царской власти» [Баюн, Дандамаев, 1983, с. 163]. Но как раз само это полное совпадение гомеровской формы с позднейшими передачами лидийского титула заставляет видеть здесь у Гомера прямое заимствование из лидийского языка. Конечно же, оно весьма ценно само по себе как наиболее раннее свидетельство об этом языке, опережающее первые письменные памятники на нем, появляющиеся лишь в VII в. до н. э. Однако оно едва ли имеет какое-то отношение к языковой и этнической истории Трои. Прямо проецируя имена вроде Фалк или Палм в историческую Трою VIIa, современный исследователь легко может впасть в заблуждение из-за своего неумения увидеть в «Илиаде» прежде всего текст, творимый поэтом.
Что же касается перечисленных выше надежных хетто-лувийских — в основном лувийских — форм в Троаде, то ранее единичность и периферийность этих примеров расценивались одним из авторов книги как признаки позднего их происхождения сравнительно с основной массой троянской топонимики. Появление их объяснялось политическими (вассальными, союзническими и прочими) контактами троянцев с хетто-лувийскими народами и инфильтрацией сюда представителей этих народов, группами или поодиночке [Гиндин, 1981, с. 164 и сл.].
Привлечение данных, которые будут изложены ниже, побудило авторов книги в 80-х годах решительно пересмотреть эту точку зрения. Мнение об отсутствии в Троаде архаичных хетто-лувийских элементов оказалось трудно примирить с показанным тем же автором [Гиндин, 1981], а затем подтвержденным в публикациях [Баюн, 1987; Цымбурский, 1988] наличием ранних анатолийских, обычно лувийских, заимствований во фракийском. Археология дает нам для второй половины III тысячелетия до н. э. картину мощного движения со стороны Трои II в те области, где через несколько веков непрерывной этнической эволюции застаем исторических лувийцев [Mellaart, 1958, с. 28 и сл.; Маккуин, 1983, с. 23 и сл.]. В существовании фрако-лувийских и более редких фрако-хеттских изоглосс следует видеть свидетельство ранних контактов соответствующих племен — видимо, еще в преданатолийский период истории хетто-лувийцев, когда последние пребывали на юго-востоке Европы, скорее всего в причерноморских степях, на восток от места обитания протофракийцев. Наличие серии исключительных хеттоарийских изоглосс (см. неполный перечень в [Гиндин, 1981, с. 24 и сл.]; более пространный — [Гиндин, 1972, Gindin, 1993]) заставляет для начала III тысячелетия до н. э. поместить хетто-лувийцев между раннефракийскими этносами и народами восстанавливаемой греко-арийской (индоиранской) общности. Разрушение Трои I, предшествующее движению с северо-запада Анатолии племен, осваивающих будущий лувийский регион, правдоподобно укладывается в концепцию прихода лувийцев через Эгейскую Фракию. Более того, как отмечалось в предшествующей главе, культурная преемственность Трои II по отношению к типично балканской Трое I (во всяком случае, ко второй половине этого периода) может указывать, что лувийские племена проникали в Эгеиду как носители того же типа раннеиндоевропейской культуры, характерного в эту эпоху для раннефракийского ареала, включая Троаду. При таких условиях отсутствие лувийских. языковых реликтов вблизи Трои-Илиона было бы мыслимо лишь в том случае, если бы лувийцы с ходу миновали эту область, устремляясь кочевой ордой в глубь полуострова. Но исторически мы видим совсем иное: племена, идущие во второй половине III тысячелетия до н. э. со стороны Трои, несут с собой культуру, в основном продолжающую культурный комплекс Трои II (см. [Mellaart, 1958, с. 30] о распространении культур, родственных троянской, в 2400–2200 гг. до н. э. на юг, включая долины Коньи; там же со ссылкой на [Goldman, 1956, с. 347 и сл.] о сожжении пришельцами Тарса и наступлении «троянской фазы» в истории Киликии). Мигранты достаточно хорошо должны были обжиться на троянской земле, чтобы впитать и перенести в новые места ее традиции. Могло ли их пребывание здесь пройти бесследно для топонимики этой области и для ее преданий?
Думается, это не так, но для того, чтобы с достоверностью выявить интересующие нас реликты и отделить их от позднейших привнесений, понадобится иная методика, чем та, которой мы пользовались до сих пор. Методика сплошного обследования этно- и топонимического материала объективно показала, что хетто-лувийцы во II тысячелетии до н. э. не могли доминировать в Трое и в лучшем случае составляли здесь незначительное меньшинство. Но как это меньшинство складывалось — на этот вопрос подобная методика ответа не дает. Сейчас мы подойдем к проблеме по-иному. Мы рассмотрим отраженные в «Илиаде» троянские легендарные сюжеты, отмеченные лувийскими лингвистическими элементами, попробуем определить, может ли трактовка этих элементов в Троаде быть вторичной по сравнению с лувийским югом и говорить об их привнесении оттуда или, наоборот, контексты, которыми окружает их фольклорная традиция Трои, в своей архаичности сами проливают свет на раннюю историю некоторых лувийских племен до их передвижения на юг. Подчеркнем, что речь идет лишь о некоторых племенах, ибо мы, конечно, далеки от мысли выводить все лувийские этносы (и тем более хеттские) непосредственно из Трои.
2
На протяжении большей части главы в центре нашего внимания будет находиться тема ликийцев в «Илиаде». Сказать, что этот народ упоминается в поэме очень часто, значит сказать очень мало. Более красноречивы следующие цифры: фригийцев «Илиада» упоминает 3 раза, карийцев, один из самых крупных и хорошо знакомых грекам народов в Малой Азии VIII в. до н. э. и позднее, — 2 раза, меонийцев — 3, мисийцев — 5, пеонийцев — 7, пафлагонцев — 4, фракийцев — 17, а ликийцев — 49 раз, т. е. больше, чем все имена других малоазийских и северобалканских этносов, кроме троянцев, вместе взятые! Если говорить о географических названиях, то Фригию Гомер вспоминает 5 раз, Фракию — 6, Меонию — 2, Карию и Мисию — ни одного раза, Пеонию — 2, название же Ликия появляется 21 раз (правда, из них 4 примера приходятся на Троянскую Ликию, о чем ниже). Опять-таки эта небольшая, далекая от Трои страна на крайнем юго-западе Анатолии по числу упоминаний превалирует над прочими областями, вместе взятыми. Ликийцы практически затмевают иные народы Малой Азии, так что о подвигах представителей последних мы в поэме почти ничего не слышим. Внимание к ликийцам как ко второму по своей значимости народу после троянцев видно по фигурирующей в разных падежах формуле «троянцы и ликийцы» (VI,77; XVI,564), а также по удивительной формуле обращения к объединенному войску, защищающему Илион, «троянцы и ликийцы и дарданцы, бьющиеся врукопашную», произносимой 6 раз (VIII,173; XI,286; XIII,150; XV,425, 486; XVII, 184), где имя ликийцев вклинивается между двумя терминами, выступающими у Гомера своего рода обобщенным названием для всех жителей Троады. В чем причина особого отношения поэта к этому народу, когда ликийцы получают такое огромное значение по сравнению с народами вроде меонийцев и карийцев, с которыми эолийские и ионийские греки — слушатели Гомера находились в отнюдь не менее тесном общении?
Задумываясь над тем, какие пласты исторического опыта могут скрываться за гомеровскими сюжетами, отмеченными именем ликийцев, мы обнаруживаем не менее трех таких пластов, «лежащих на глубине» до полутора тысячелетий. Первый, самый очевидный слой соответствует истории взаимоотношений между малоазийскими греками I тысячелетия до н. э. и жителями ликийского выступа Анатолии. Когда Гомер говорит о текущей в Ликии р. Ксанф (11,877; V.479) или о памятнике, воздвигнутом на родине герою Сарпедону (XVI,675), он указывает тем самым реалии, с которыми мог бы ознакомиться любой современный ему грек, посетив эту область.
Второй уровень исторических ассоциаций, преломившихся в сказаниях о ликийцах, — это роль страны Lukkā в эпоху Хеттской империи. При всей скудости достоверных данных по малоазийской географии того времени представляется, что локализация этой страны, игравшей в XIII в. до н. э. видную роль в событиях, связанных с Египтом, о-вом Аласией (Кипром) и Угаритом [Laroche, 1963, с. 247], в районе исторической Ликии [Garstang, Gurney, 1959, с. 76 и сл.] намного правдоподобнее, чем отождествление ее с лежащей в глубине континента и не имеющей прямого выхода к морю Ликаонией [Cornelius, 1979] (ср. [Barnett, 1975, с. 361]). Еще менее убедительны попытки поместить Лукку где-то в северо-западной части Анатолии в непосредственной близости к Троаде [Маккуин, 1983, с. 35, 37] или между ней и Хеттским царством [Goetze, 1975, с. 120]. Единственный заслуживающий внимания аргумент в пользу подобных построений был приведен Г. Оттеном, обратившим внимание на текст KBo XI,40,6, где в перечне священных рек и гор разных областей, построенном в порядке движения по часовой стрелке вокруг страны Хатти и начинающемся с востока, рекам и горам Лукки отводится почти последнее место, т. е., по мнению автора, крайний северо-запад [Otten, 1961, с. 112]. Против этой гипотезы выдвигались серьезные возражения историко-географического характера (см. [Laroche, 1963; Нойман, 1980, с. 331]; особенно [Schachermeyr, 1986, с. 321 и сл.] с аргументацией в пользу отождествления Лукки с Ликией, ср. параллелизм названий Kuwalpaša в Лукке ~ Κολβασα в Ликии и т. п.). Ничто не мешает думать, что привлеченный Оттеном список просто разомкнут в северо-западной части, как полагает Ларош (отметим со своей стороны отсутствие в этом списке гор и рек Вилусы). В то же время, как мы вскоре увидим, за отнесением святынь Лукки к северо-западу могут стоять уходящие в глубокую древность представления хеттов. Остается спорным вопрос о том, могла ли реально Ликия-Лукка оказывать значительную помощь далекой Трое в годы этнокультурных и политических катаклизмов, охвативших Восточное Средиземноморье в конце XIII в. до н. э., когда, по египетским источникам, племена лукку (ликийцы) и акайваша (ахейцы) вместе нападали на Египет.
Наконец, третий уровень мотивов, сопряженных с ликийской темой и ставящих термин Λύκιοι в совершенно особое положение среди малоазийских этнонимов, определяется высокой достоверностью этимологии, трактующей название страны и народа Lukkā как наиболее архаичную форму обозначения для всего лувийского региона в Анатолии, по сравнению с засвидетельствованной в клинописных текстах формой Luwija с вариантом, при выпадении w, Luija [Laroche, 1963а, с. 79] (ср. [Meriggi, 1957, с. 194; Goetze, 1957, с. 181]). В этой гипотезе Ларош указывал на ослабление и спирантизацию индоевропейских заднеязычных в лувийском: хет. kimmara «сельская местность» ~ лув. immara; хет. keššar «рука» < и.-е. *g’hesr-~ лув. iššari; хет. parku «высокий» < и.-е. *bherg’h ~ лув. parra/i·, хет. tekan «земля» < и.-е. *dheg’hṓm ~ лув. tijami. Предполагается, что полное исчезновение заднеязычных, отмечаемое в этих примерах Лароша, может быть обусловлено как позицией по соседству с палатальным гласным e/i, так отчасти и качеством выпадающих заднеязычных, восходящих в ряде случаев к индоевропейскому палатальному придыхательному *g’h (см. (Ivanov, 1965, с. 131 и сл.]). Но сама по себе спирантизация имеет в лувийском более общий характер [Čop, 1971] (ср. хет. šakna-/šakkar- лув. Saḫḫan- «грязь»; хет. nakkes — лув. naḫḫuwa «заботиться»). В этом контексте имя народа и страны Lukkā, также вариант Lukki из аккадского клинописного письма в египетском дипломатическом архиве из Тель-Амарны (первая половина XIV в. до н. э.) (Bryce, 1974, с. 396; Нойман, 1980, с. 330], часто сближаемое с хет. lukka-, лув. luḫa-«свет», может рассматриваться как исходная форма лув. *Lu(w)ija, особенно если по аналогии с дублетами вроде Wiluša/Wilušija, Arzawa/Arzawija предположить в аккадской передаче Lukki вариант *Lukkija. Тогда полное исчезновение велярного легко объясняется его палатализацией перед i, как в вышеприведенных примерах Лароша. Вероятно, переходную форму между *Lukkija и Luwija сохранило зафиксированное в лувийской иероглифике личное имя (видимо, первоначально этникон) Lu-ḫi(-a) [Гиндин, 1967, с. 101].
Еще большее правдоподобие этой гипотезе придает то, что ономастическая основа Luka- отражается в позднее время в названиях таких отдаленных друг от друга лувийских областей, как Λυκία и Λυκυανία. При этом в этниконе Λυκάουες, от которого образовано название Ликаонии, прямо вскрывается типично лувийский этноним *Luka-wana «происходящий из страны или из народа Luka-», как, например, лув. Aššurawana «уроженец Ассирии» и т. д. [Гиндин, 1967, с. 102 и сл.]. В той же работе было показано, что на Крите и на Пелопоннесе в районах, изобилующих лувийскими топонимическими образованиями (откуда видны попытки лувийцев, скорее всего в начале и первой половине II тысячелетия до н. э., перед наступлением микенской гегемонии утвердиться на юге Балканского полуострова и на крупнейшем из соседних с ними островов), часто появляются местные названия от основы Luka-, построенные по анатолийским моделям и лишь в порядке народной этимологии сближающиеся с греч. λύκος «волк» или λϵυκός «светлый». Таково древнее название Аркадии Ликаония, будто бы по имени мифического царя-волка Ликаона, на деле явно тождественное названию упомянутой лувийской области и отражающее появление здесь этноса с самоназванием *Luka-wana «выходцы из области Luka-»; также название аркадского города Λυκόα < лув. *Luk-uwa, с популярным хетто-лувийским топономастическим суффиксом -uwa, т. е. «город племени Luka-»; критский топоним Λύκτος, точно воспроизводящий название поселения в стране Лукка — Luktaš, и т. д. [Гиндин, 1967, с. 103–108 и сл.]. Из этих примеров хорошо видно, что лувийцы, проникавшие в среднеэлладский период на Балканский полуостров, сами себя называли не иначе как «племенами лукка». С учетом прочих фактов, особенно доказанного Э. Ларошем и Ф. Хоувинком тен Кате происхождения ликийского языка (так называемого А) от одного из лувийских диалектов [Laroche, 1938; 1960а; 1967; Houwink ten Cate, 1961], значение этнонимической основы Lukka- как первоначального самоназвания лувийцев может считаться окончательно обоснованным.
Таким образом, ввиду обстоятельств, в которых греки на протяжении своей истории сталкивались с носителями данного имени, ликийские мотивы греческих преданий могут иметь под собой либо контакты греков (дорийцы и ионийцы) с историческими ликийцами в период великой греческой колонизации в Анатолии; либо взаимодействие греков Аххиявы с обитателями страны Лукка, скорее всего на ее же территории во времена микенской экспансии на малоазийском побережье; либо, наконец, встречи греков с лувийцами в эпоху раннего расселения греческих племен по Балканскому полуострову (а может быть, как увидим, и еще раньше!). Однако главная сложность состоит в том, что один и тот же легендарный комплекс, сконцентрированный вокруг ликийской темы, иногда способен включать все три очерченных уровня.
Так, когда Гомер воспевает в числе своих героев ликийского вождя Главка как одного из предводителей дружины, пришедшей с далекого юга на помощь Трое, он явно ориентируется на возвеличение современной ему смешанной греко-ликийской фамилии Главкидов, правившей во многих городах Ионии (Hdt. I,147). Договор, заключаемый между Главком и аргосцем Диомедом о мире и гостеприимстве, вполне способен символизировать примирение греков и местного населения в ионийских полисах под властью Главкидов [Wilamowitz-Moellendorff, 1916, с. 305; Malten, 1944]. Но когда Главк, рассказывая Диомеду свою родословную, повествует о своем деде, герое Беллерофонте, посланном тиринфским царем Пройтом в Ликию с посланием к ликийскому царю, мы вспоминаем прежде всего не гомеровское время, когда греческая письменность если уже и существовала, то не могла использоваться для международных сношений, а микенские времена, пору активной переписки Аххиявы с хеттами, с Милавандой и, по всей вероятности, с другими малоазийскими государствами. Точно так же поединок двоюродного брата Главка Сарпедона с Тлеполемом, царем Родоса, представлявшего в XIII в. до н. э. своего рода форпост Аххиявы у ликийского побережья, имеет в основе догомеровский сюжет, вторично отнесенный к Трое, исконно отражающий столкновения родосцев с соседями — анатолийцами, в особенности с жителями страны Лукка в ахейское время. Но тут же за историей плаванья Беллерофонта в Ликию (Лукку) встает еще более ранний пласт преданий — это рассказы о царе Пройте (Προῖτος — «говорящее» имя-титул, подобное имени Приама, ср. фриг. proitavos «предводитель»), которому приписывалось путешествие в Ликию и привод ликийского войска, отвоевавшего для Пройта царство у его брата, аргосца Акрисия (Apd. II,2,1). По преданию, вместе с этим войском из Ликии явились некие киклопы, построившие для Пройта крепости в Микенах и Тиринфе, а в первых к тому же воздвигнувшие знаменитые Львиные ворота (Strab. VIII,6,11; Paus. II,16,5; 25,7). Поскольку на северо-востоке Пелопоннеса, вблизи Тиринфа, действительно встречаются анатолийские топонимы, заставляющие предполагать здесь один из лувийских локальных ареалов на территории материковой Греции [Гиндин, 1967, с. 120], можно думать, что эта легенда правдиво отразила раннее присутствие анатолийцев в этих местах и вклад, внесенный ими в возвышение будущих ахейских центров [Цымбурский, 1987в, с. 134].
Так, в рамках одного легендарного цикла под одним и тем же именем ликийцев (анат. Lukkā) фигурируют и лувийцы в Греции периода средней бронзы, и жители страны Лукка, противоборствующие вождям Аххиявы, обосновавшимся на Родосе, и предки реальных фамилий из современной Гомеру Ликии. Непрерывность этнического развития от лувийцев, освоивших юг Анатолии в конце III тысячелетия до н. э., до исторических ликийцев как бы отражается в постоянстве этнического имени, конкретный исторический смысл которого на протяжении всего этого ряда легенд меняется достаточно очевидным образом для специалиста-историка, хотя он, судя по всему, оставался одним и тем же для греков гомеровского времени. Поэтому, пытаясь определить причины несоразмерно большой роли ликийцев в «Илиаде», следует выяснить, какие именно хронологические пласты в эволюции ликийской темы отразились в различных ликийских эпизодах гомеровского рассказа.
3
Отправным пунктом в нашем анализе явится тот факт, что в «Илиаде», никак не соприкасаясь между собой, действуют две группы ликийцев. С одной из них, предводимой Сарпедоном и Главком, казалось бы, все просто: они пришли на помощь Трое из далекой Ликии на юго-западе Малой Азии (II,876 и сл.). Со второй же группой все сложнее и загадочнее. Это — выходцы из г. Зелеи на северной окраине Троады (на границе ее с Вифинией). Они впервые появляются в «Троянском каталоге» из II песни «Илиады» и сразу же притягивают к себе внимание тем, как вводит их поэт. Мы помним, что в этом «Каталоге» жители «владений Приама» предстают разделенными на отдельные отряды, возглавляемые собственными предводителями, причем общее нейтральное имя «троянцы» сохраняется за уроженцами Илиона. В «Каталоге» (II,816 и сл.) читаем: «Троянцами предводительствовал… Гектор Приамид… дарданцами же начальствовал… сын Анхиза Эней… те же, что владели Адрастеей… их вели Адраст и Амфий» и т. д. В таком окружении неожиданно звучат слова (II,824 и сл.): «Те же, что населяли Зелею у подножия Иды, богатые, пьющие черную воду Айсепа, троянцы, их вел славный сын Ликаона Пандар». Итак, в «Каталоге» появляются два отряда, особо обозначенные как «троянцы» среди множества троянских дружин.
Это явление было легко замечено схолиастами. Так, в схолиях А (к Il. V,211) у этникона Τρῶϵς выделяются три значения; общее название всех жителей Троады и два специальных — определения героев из Илиона и из Зелеи. Но если трактовка жителей троянской столицы как «троянцев по преимуществу» вполне понятна и в особых пояснениях не нуждается, то о зелейцах, окраинном племени Троады, этого сказать нельзя. Вчитываясь в текст Гомера, мы видим, что такое обозначение зелейцев встречается и в других случаях, причем в устах зелейского предводителя Пандара. Так, по словам этого героя (V, 197–200), его отец Ликаон велел ему «предводительствовать троянцами в жестоких битвах», хотя речь идет всего лишь о зелейском отряде. Далее Пандар сообщает (V.210 и сл.), что «повел в прекрасный Илион троянцев, неся радость божественному Гектору», — как если бы сам Гектор возглавлял на войне не троянцев, а какой-то иной народ! Схолиасты хорошо уловили в этих контекстах противоречие и попытались его разрешить. В схолиях А к II. V.200, где Пандар «предводительствует троянцами», сказано: «Ибо населяющие Зелею под Идой… назывались (или „звали себя“, как можно перевести глагольную форму ἐλέγοντο) троянцами»; ниже к V.211 указывается: «Некоторые в неведении, что и подвластные Пандару называются (или „зовут себя“ — λέγονται) троянцами». Комментаторы здесь стоят на правильном пути, видя в этом навязчивом Τρῶϵς применительно к зелейцам механически перенесенное в эпос Гомера устоявшееся название, может быть, даже самоназвание племени. Но здесь возникает новый вопрос, на который схолиасты нам уже не ответят: а как такое самоназвание могло возникнуть? Ведь функции подобных имен состоят в том, чтобы выделить племя из более широкой совокупности этносов, на фоне которых оно себя воспринимает, при помощи индивидуальной метки-характеристики. Но как же можно себя выделить среди жителей Троады, назвавшись троянцами? Это явный абсурд.
Далее в «Илиаде» с зелейцами связывается и второй парадокс. Пандар в поэме неотделим от Троады, он пешком пришел в Илион из Зелеи (V.204), а после войны намерен вернуться в этот город (IV, 121). Однако, ничего не говоря ни о каких его связях за пределами Троады, Гомер упорно именует его столь недалекую от Илиона родину Ликией. Вспомнив о своем покровителе Аполлоне, Пандар восклицает (V.104): «Если воистину подвигнул владыка, сын Зевса, меня, пришедшего из Ликии (Λυκίηϑϵν)», Эней же в беседе с этим героем замечает (V,173): «Ни один муж не поспорит здесь (т. е. в Илионе) с тобой, да и никто не назовется лучше тебя в Ликии». Схолиасты тут же указывают читателям, чтобы те не думали о южной Ликии. Выражение Λυκίηϑϵν поясняется словами (Schol. A ad Il. V,105): «Ибо он из Троянской Ликии». И далее: «[Это выражение может значить] „из ликийской земли“, над которой царствовал Сарпедон. Но есть и другой город в Троаде, над которым царствовал Пандар». Также и слова (V,173) об отсутствии в Ликии равных Пандару поясняются в схолии замечанием: «потому что поэт говорит о Троянской Ликии» (см. также ссылку Папе и Бензелера на схолию к Il. IV,88, где Зелея называется Малой Ликией [Pape, Benseler, 1959, т. 2, с. 822]). Обе загадки, относящиеся к этой местности, — загадку второй Ликии и загадку «других троянцев» — суммирует схолия B (к Il. II,827), говоря о зелейцах, что поэт «их страну зовет Ликией, а их самих троянцами» (ср. у Евстафия к тем же стихам: «а называются подданные Пандара зелейцами и ликийцами»).
Хотя сам Гомер ни разу впрямую не именует отряд Пандара «ликийским», но название Троянской Ликии, естественно, побудило Страбона и идущего за ним Евстафия к мысли о пребывании в Троаде некой части ликийского этноса. Поэтому первый пишет о «подвластных Пандару ликийцах, которых (поэт) также называет троянцами» (XIII,1,7), а несколько раньше тонко замечает, что «двоякость ликийцев вызывает предположение об одном и том же племени и что либо троянские [ликийцы], либо те, которые вблизи Карии, выслали других в качестве колонистов» (XII,8,4). Евстафий же выделяет отголоски ликийского этнонима в разных контекстах, относящихся к Пандару: в имени его отца Ликаона (Λυκάων), и в эпиклезе Аполлона, к которому взывает Пандар (Λυκηγϵνής) (коммент. к Il. II,824). Но об этой эпиклезе мы еще поговорим подробнее.
В литературе по Гомеру и по этногенезу Анатолии удовлетворительного разъяснения загадок Троянской Ликии мы не находим. Мнение авторов, видящих здесь поэтическую вольность — перенос части ликийских героев Гомером с юга на север и поселение их вблизи Илиона [Kretschmer, 1896, с. 189, 371; Nilsson, 1933, с. 261; Carpenter, 1956, с. 66 и сл.], никак не мотивирует странного самообозначения их в эпосе именем троянцев. Можно указать и на различение ликийцев-троянцев и ликийцев с юга посредством употребления слов со значением «иноземец, нетроянец» от основы ἄλλο- из и.-е. *ali̯o- «иной». Если в «Илиаде» о Сарпедоне говорится (XVI,550): «Он был… опорой города, хотя и был чужеземцем (ἀλλοδαπός)», то Пандар, беседуя с Энеем, восклицает (V.214): «Тотчас пусть мне срубит голову муж чужеземный (ἀλλότριος φώς)», чем подчеркивается связь Энея и Пандара как соседей по Троаде. Тоньше подошли к проблеме троянской Ликии У. фон Виламовиц-Мёллендорф, писавший о частях древнего ликийского (мы бы сказали «лувийского») этноса как в Пропонтиде, так и на юго-западе Анатолии [Wilamowitz-Moellendorff, 1903, с. 585 и сл.], и Э. Бете. Последний предполагал в зелейских ликийцах местное племя, название которого запечатлелось в эпической формуле-воззвании «троянцы, и ликийцы, и дарданцы», якобы первоначально относившейся лишь к жителям охваченной войной Троады и лишь вторично, по мере разрастания эпоса и включения в него ликийцев Сарпедона и Главка, обращенной к этому народу [Bethe, 1927, с. 114 и сл]. В подтверждение этой проницательной гипотезы Бете мы можем сослаться на такие контексты, как дважды повторенное в сцене ранения Менелая выражение-клише, словно ставящее знак равенства между троянским и ликийским происхождением Пандара: «… кого поразил, спустив стрелу, некий искусный стрелок из троянцев или ликийцев, себе на славу, нам на скорбь» (IV, 196 и сл., 206 сл.); также на строки (VI.77 и сл.): «Эней и Гектор, на вас самая большая забота о троянцах и ликийцах». Маловероятно, чтобы на двух троянских вождей возлагалась забота о пришлом и вполне самостоятельном войске Сарпедона и Главка, и, напротив, весьма правдоподобно, что речь идет о двух соседних троянских племенах, которые в равной мере зовут себя у Гомера Τρῶϵς (ср. примечательный перевод этого места у Гнедича: «… на вас бремя забот о народе троянском»). Но в битве за тело Сарпедона (XVI,564) видную роль играет дружина погибшего, и попарная группировка племен «троянцы и ликийцы, мирмидонцы и ахейцы» явно выдает стереотипность, формульность устоявшегося в традиции сочетания имен троянцев и ликийцев (зелейцы), в которое на этот раз подставляются пришлые ликийцы-термилы с юга.
В результате мы приходим к важному выводу: факты гомеровского эпоса позволяют думать, что жители Зелеи, воспринимаясь окружающими племенами как лукка, называли сами себя троянцами. Этот вывод заставляет относиться к ним как к исторической реальности, этносу, родственному южным лукка — ликийцам и ликаонам, но в силу каких-то обстоятельств осевшему на северо-западе Анатолии. Можно думать, что имя троянцев характеризовало их в собственном самосознании, выделяя не среди троянцев-соседей, а по отношению к массиву южных сородичей. Ибо для того, чтобы называть себя троянцами среди троянцев, надо себя воспринимать на некоем нетроянском этническом фоне, надо факт своего оседания в Троаде воспринимать как событие, решающее для своего самоопределения — акт выделения из мира, с которым новообразованный этнос продолжает себя соотносить, но уже издалека.
Как же здесь появилось это племя? Кажется очень спорной встречающаяся в литературе гипотеза о зелейской Ликии как о результате инфильтрации в Троаду с юга Анатолии [Meyer, 1928, с. 301; Kretschmer, 1954, с. 24] (ср. [Гиндин, 1981, с. 167]). Если речь идет о сухопутном переселении из лувийских областей, то непонятны ни пути, ни причины миграции, которая оторвала бы часть лукка от их сородичей и погнала далеко на север через области, заселенные множеством западноанатолийских народностей (не говоря о том, что для попадания в Зелею пришлось бы насквозь пройти всю Троаду!). Так как Зелея лежала на р. Айсеп в 80 стадиях, или 15,6 км, от ее устья (Strab. XIII,1,10), сюда в принципе можно было проникнуть со стороны Пропонтиды. Но главный вопрос — зачем? — все равно остается без ответа. Этот город не был морским портом и не контролировал ни в какой мере путей по Геллеспонту, поддерживать же отсюда хоть какие-то связи с племенами лукка на юге было бы исключительно сложно. У. Лиф, отмечая, что с юга Зелея была окаймлена отрогами Иды, не без основания полагает, что обитатели этого города в их внешних сношениях всецело зависели и от северных, и от южных соседей [Leaf, 1912, с. 189]. Трудно найти в Троаде более неудачное и менее удобное место для поселения здесь в хеттскую эпоху народа из южных областей, имеющего, судя по всему, значительные интересы в Эгейском бассейне.
Видимо, к этой проблеме следует подойти иначе. Приглядевшись к топономастике зелейских окрестностей, мы обнаруживаем здесь архаичные хетто-лувийские, а точнее, лувийские формы. Таково название гористой местности рядом с Зелеей Πειρωσσός (Strab. XIII, 1,17), прямо соответствующее лув. Pirwašša «Посвященный Пирве», почитавшемуся на скалах богу, также хет. — лув. peru-, pirwa «скала» и т. д. (см. ниже). Гомеровский эпитет зелейцев ἄφνϵιοι (Τρῶϵς) «богатые (троянцы)» (Il. II,825) Страбон (XIII,1,9) толкует как отголосок регионального названия Ἀφνειοί «Афнеи», родственного названию соседствующего с Зелеей озера Ἀφνιτίς. Такое толкование вполне правдоподобно, если иметь в виду давно доказанное заимствование греч. ἄφϵνος «богатство, изобилие» из хет.-лув. ḫappina-, ср. хет. ḫappinant- «богатство», ḫapnezzi «богатый» [Heubeck, 1961, с. 70; Гиндин, 1967, с. 167] — формы, родственные и лат. ops, opes «богатство, сила» и т. д. Имя Афнеи «Богатые», а также обозначение Афнитиды — «Изобильного» озера могут быть образованиями, созданными в языке троянских лукка. Более того, Αφυιτίς может быть прямо сопоставлено с хет. ḫapnezzi «богатый», где суффикс — e/izzi происходит из и.-е. *-iti̯o-. Это означало бы, что в троянском гидрониме отразилась ранняя хетто-лувийская (или просто лувийская) форма *ḫapniti, предшествующая хеттской спирантизации зубных перед -i/-ja (ср. лув. Tiwat при хет. Šiwat «Бог Солнца», лув. -ti, -nti — окончания 3-го лица ед. и мн. числа при хет. -zi/-nzi).
С другой стороны, важно осмыслить случаи, когда топонимы, прослеживаемые вблизи Зелеи и заведомо не являющиеся хетто-лувийскими, находят прямые параллели в ономастике внутренних районов Малой Азии. В этом можно видеть свидетельство раннего прохождения родственных зелейцам лувийцев через северную Троаду. Мы видели, что название р. Айсеп, на которой стояла Зелея, восходит к фрак. *Ais-apos «Быстрая река». В свое время Б. Розенкранц сопоставлял с древнеевропейскими гидронимическими основами Eis-/Is- < и.-е. *Ḫeis-/Ḫis- «быстрый» и Ap-/Ab- «вода» хеттское название реки Ḫiššaš-ḫapaš, протекавшей, согласно источникам, где-то к северо-западу от Хаттусаса [Rosenkranz, 1966, с. 126]. Однако при этом следует обратить внимание, что единственным известным цельноформульным соответствием к хет. Ḫiššaš-ḫapaš является название троянского Айсепа, построенное из тех же самых основ: *Ḫeis-Ḫepos [Цымбурский, 1988, с. 60]. Поскольку основа *H(e)is-«быстрый» более не представлена в хетто-лувийской гидронимике, в Ḫiššaš-ḫapaš можно предполагать либо кальку с фрако-троянского гидронима, либо очень раннее заимствование, восходящее ко времени до падения индоевропейских ларингалов во фракийском.
Далее, один из авторов данной книги давно подметил, что основа Ida < и.-е. *u̯idhu̯ā «лес, лесистая гора» (см. выше), отраженная в названии троянской Иды, горного хребта, к которому прилегала Зелея, представлена во множестве западноанатолийских имен. Из их семантики видно, что Ида мыслилась в этом ареале как одушевленная, священная гора: ср. ликийское личное имя Iδα-τυης < *Ida-duwa «Положенный, Данный Идой», при лув. tuwa, лик. -duwe «класть, основывать», кар. Iδα-γυγος < *lda-ḫuḫḫa, вероятно, «Имеющий предка с Иды» (так называемый тип имен бахуврихи), ср. хет. ḫuḫḫa, лув. иер. ḫuḫa> лик. kuga «дед»; ликийское женское имя Iδα-ροη < *lda-ruwa, где, как предполагается, отразилось имя лувийского бога Ruwa-/Runta-, имеющего признаки лесного демона; карийское местное название Ἰδάρνα < *Ida-arna «Идейский источник», ср. хет-лув. arinna «источник» и т. д. ([Гиндин, 1967, с. 136 и сл.] с гипотезой о принадлежности этой ономастической основы в Западной Анатолии к праликийскому или пракарийскому диалекту). В той же работе перенос названия Иды на высочайшую гору Крита был связан с проникновением лувийских племен на остров. Впрочем, надо подчеркнуть, что на Крите это название, судя по кносским личным именам ахейского времени KN V 60 wi-da-jo· = Ἰδαῖος, ΚΝ В 799 wi-du-ro [Ventris, Chadwick, 1959, c. 427] (при ликийском названии острова Idyris, памфилийском названии реки и города Iδυρος <*Id(o)-ura «Великая Ида») и др. и по позднейшим формам в критских надписях Ϝίδα, Βίδα, произносилось с четко артикулируемым начальным w-. Между тем в позднейших западно- и южноанатолийских формах этот звук постоянно отпадает, что соответствует его неустойчивой и слабой артикуляции в диалектах Фракии.
Образ Иды как «великой» горы, с которой происходят предки, чье название соединяется с именами богов и т. п., очень хорошо согласуется с древними троянскими поверьями об Иде как обиталище Великой Матери богов и ее хтонических спутников Идейских Дактилей (Strab. Х,3,22), а также Идейского Зевса. Конечно, для носителей поздних хетто-лувийских диалектов образы троянской и критской Иды уже могли слиться в едином представлении о священной лесистой вершине. Но следы поселения племен лукка в предгорьях Иды в Троаде, на Айсепе, а также то обстоятельство, что при первом же вступлении лувийцев на землю Анатолии, задолго до их появления на Крите, новая земля должна была сразу же запечатлеться в их сознании лесистыми громадами Иды и связанными с ней мифами, — все это побуждает причислить «идейские» имена и топонимы в Южной и Западной Анатолии к троянским отголоскам в традиции здешних народов.
Племена, оставившие на берегах Мраморного моря названия гор Пейросса и озера Афнитиды и, с другой стороны, унесшие с собой на юг и в глубь полуострова образ священной горы Иды и, вероятно, кальку с названия омывающего эту гору Айсепа, мы вправе отождествить с лувийцами, миновавшими эти места на пути с преданатолийской прародины к историческим местам обитания. По-видимому, часть этого древнего миграционного потока составляли также предки будущих троянских ликийцев, достигшие Зелеи по долине Айсепа, двигаясь со стороны Пропонтиды и лежащей за ней Эгейской Фракии. В то время как основная масса мигрировавших лувийцев обогнула хребты Иды, устремившись в Илионскую долину и отсюда в течение десятилетий медленно продвигаясь на юг и на запад, осколок их остался на севере на берегах «Изобильного» озера, в «Винодельной», судя по ее фракийскому названию, Зелее, где склоны Иды предоставляли прекрасные места для пастбищ, а высившиеся отроги обеспечивали убежище на случай войны. Осознавая свое все нараставшее отдаление от родственных этносов, это племя, в глазах соседей обособившееся в некую Малую, Троянскую Ликию, нарекло себя троянцами, ознаменовав тем, особенность своей исторической судьбы. Но что же дальше случилось с этим народом? Исчез ли он бесследно, растворившись в прочих троянских племенах, или, сохранив свою самобытность, он в какой-то момент вдруг появляется на исторической сцене, со своей традицией и языком?
4
Гадая о судьбе этих полулегендарных «ликийцев Пандара», мы вдруг вспоминаем, что в эллинистическое время в «большой», южной Ликии существовало святилище этого героя, причем Страбон (XIV,3,5) упоминает о нем в весьма многозначительном контексте, описывая окрестности ликийской столицы — г. Ксанфа. Рядом с этой столицей в г. Патаре находился культовый центр Аполлона. Неподалеку, в 60 стадиях (менее 11 км) стоял храм матери этого бога Лето, и здесь же, по соседству, явно входя в единый сакральный комплекс с храмами Аполлона и его матери, в г. Пинаре отправлялся культ Пандара. Страбон напрасно сомневается в тождестве этого южноликийского героя гомеровскому стрелку из Троянской Ликии, которому сам Аполлон вручил чудесный лук (Il. II,827). Существует ряд указаний на то, что город Пандара в Трое мыслился как место особо ревностного служения Аполлону. В основном мы их рассмотрим ниже, когда будем говорить о связи проблем троянских ликийцев и культа ликийского Аполлона. Но уже здесь можно привести схолию А к Il. IV, 103, где говорится: «Ликия под Идой в древности называлась Зелеей, поскольку в ней сильно почитался Аполлон» (попытка объяснить фракийское название города по созвучию с греч. ζηλόω «ревновать, ревностно почитать»). Или схолию В к Il. IV, 101, где по поводу намерения Пандара в случае удачного выстрела в Менелая принести Аполлону жертву в Зелее схолиаст подчеркивает: «Ибо самое истинное святилище Аполлона в Ликии», имея в виду, конечно, Троянскую Ликию под Идой. Пандар, почитавшийся в южной Ликии в трех-четырех часах ходьбы от Патарского храма Аполлона, — это, без сомнения, тот же самый зелейский любимец божества. Но каким образом установилась эта связь между «малой» и «большой» Ликией, если, как мы видели, переселение южных ликийцев в Зелею очень маловероятно?
Почти 100 лет тому назад в небольшой, но очень емкой статье М. Майер, отметив, что Пандар в Западной Анатолии очень рано превращается в ипостась Аполлона (отсюда прозвище последнего в Лидии Ἀπόλλων ἐν Πάνδοις «Аполлон в Пандах», некоем предполагаемом культовом месте, не поддающемся точной локализации), попытался проследить связи для имени этого героя в древних мифологиях Эгеиды. Оказалось, что этот персонаж с трикстерскими чертами (вероломство, похвальба, скупость, заставляющая его пешком идти в Илион на войну, жалея лошадей, эффектные на вид выстрелы, однако часто не попадающие в цель) может быть сопоставлен с мифическим хитрецом и мошенником Пандареем, якобы унесшим в Лидию золотую собаку критского Зевса. Но по наблюдениям Майера, в греческих мифах Пандарей часто смешивается и контаминируется с аттическим героем Пандионом [Mayer, 1892]. Такой контаминацией, в частности, объясняется возникновение в греческом мире легенды, возводящей ликийцев к Лику, сыну Пандиона, хотя Греция знает множество иных героев с «волчьим» именем Лик, годных на роль ликийского эпонима. Выбор в предки ликийцев Пандионова сына мотивирован сближением имен Пандиона и Пандарея-Пандара, исконно связанного с Лидией и с областями к северу от нее.
В таком случае мы можем по-новому осмыслить донесенную Геродотом (I,173) легенду о том, что население Ликии будто бы состояло из двух разновременных групп иммигрантов. Первую составляли приведенные сюда в глубокой древности Сарпедоном термилы (Τϵρμίλοι или Τρϵμίλοι), которых легко отождествить с носителями так называемого ликийского языка А, обозначающими свою страну в надписях именем trm̃mis, а себя — trm̃mile. Позднее, согласно Геродоту, явилась вторая группа пришельцев, которую и возглавил Лик, сын Пандиона. Историк полагает, что от этого героя и пошло название Λυκία (на самом деле это греческая адаптационная передача известного с хеттских времен анатолийского названия области Lukkā). Но если здесь Пандион лишь другое имя для Пандарея-Пандара, оказывается, что Геродот на самой ликийской земле противопоставляет те же две группы ликийцев, о которых говорит Гомер: народ Сарпедона и народ Пандара! Не отразились ли в этой легенде события, результатом которых стало введение культа Пандара в долине Ксанфа? Отзвук тех же событий мы, вероятно, находим у Геродота и двумя главками далее (I,176), где, излагая полуфольклорный эпизод массового самоубийства жителей Ксанфа, окруженных в их городе персидским полководцем Гарпагом, рассказчик добавляет: «Ведь нынешние ликийцы, называющие себя ксанфийцами, по большей части пришельцы, кроме 80 семейств; эти же самые 80 семейств в то время оказались в чужих краях и таким образом спаслись». Этот пассаж имеет явный оттенок этиологической легенды, объясняющей наличие в ликийской столице двух этносоциальных групп: одной, представленной 80 древними фамилиями с некими связями в чужих краях, и другой, будто бы позднейшей, пришлой. Не могут ли это быть те самые группы, которые по-иному противопоставляет приведенная выше первая легенда, различающая в Ликии «народ Сарпедона» и «народ Пандара»?
Такая гипотеза получает серьезную поддержку в данных анатолийского языкознания. Как известно, к концу V в. до н. э. помимо многочисленных памятников на ликийском А, языке «термильского» этноса, в Ликии относятся два памятника на особом языке лувийской группы, обозначаемом как ликийский Б или милийский (TL 44 c — d; 55). Исследователи отмечают его особую архаичность, подчеркивая, что «в большинстве случаев ликийский Б… стоит ближе к лувийскому, нежели к ликийскому А» [Нойман, 1980, с. 328]. Иногда в нем усматривают просто консервативно-поэтический язык тех же ликийцев-термилов, по Ф. Кенигу — их «гомеровский язык» (см. [Нойман, 1980, с. 329]). Но едва ли это правильно, ибо в таком случае трудно было бы объяснить возникновение знаменитого текста стелы из Ксанфа TL44, где после небольшой греческой заставки дается билингвистическое изложение, сперва на ликийском А, затем на ликийском Б, ряда событий 430–412 гг. до н. э., в частности, похода ликийцев вместе с сатрапом Тиссаферном на подавление восстания греков-ионийцев против Персидской державы. При этом обе части выдержаны в торжественном поэтическом стиле, испытавшем сильное влияние греческих мифов, особенно Троянского цикла: прославляемые герои уподобляются Гераклу (hericle), Ахиллу (haclaze) и воспетому Гомером великому ликийцу Сарпедону (zrppeduni). Билингвистический характер текста и стилистическая близость обеих его частей, выдающая способность обоих языков выступать в качестве языков риторики и высокой поэзии, говорят скорее в пользу сосуществования в Ксанфе в V в. до н. э. двух различных, лувийских по происхождению этносов, из которых один сохранил в языке гораздо больше архаизмов, восходящих к древнему лувийскому языковому состоянию.
Тем замечательнее тот факт, что в части, составленной на ликийском Б, прямо называется язык надписи, определяемый словом trujeli, т. е. «по-труйски», «на языке племени или страны Truja» (TL 44, с 32–34). Этот термин позволяет констатировать наличие в указанное время в Ксанфе особой «труйской» этнической группы, отличающейся от говорящих на ликийском А термилов. Название «труйского» этноса давно и многократно сопоставлялось с названием Трои [Шеворошкин, 1965, с. 304 и сл.; Ševoroškin, 1968, с. 469 и сл.; Иванов, 1977, с. 5]. Правда, это сближение всегда толковалось как довод в пользу лувийского происхождения названия Трои (впрочем, ср. [Гиндин, 1967, с. 142; Гиндин, 1981, с. 158]). Но теперь мы можем оценить его иначе.
В массе анатолийских имен, родственных греч. Τροίη, каковы ликийский и карийский антропонимы Τρυσης, Τρυσαδας, ликийское местное название Τρυσα, название святилища Τρυσϵῖς и т. д. (см. выше), отражена, как и во фрак. Thrausi, иллир. Trosius и т. д., целостная ономастическая основа *Trou̯s- с s — расширителем, ставшим ее неотъемлемой частью. Выражение же trujeli предполагает основу *Tru(j)- без -s. Такая основа также представлена в Анатолии, но в очень немногих формах и, что самое главное, сплошь вторично образованных от названия исторической Трои. Механизм возникновения этих форм наглядно демонстрирует хеттское название Трои T(a)ruiša, возникающее путем переразложения из *Trou̯sja. Сюда же относятся вифин. Τροιαληνοί [Detschew, 1976, с. 527], т. е. «жители окрестностей Трои», троян. Τρωιλος — имя, носимое одним из сыновей Приама, собственно, «Троянец», и карийское личное имя Τρυωλης [Zgusta, 1964, с. 526], вероятно с той же внутренней формой. Собственно, мы имеем в этих случаях дело с вариантами одного и того же образования *Trou̯il-/*Trou̯i̯al- (сюда же, возможно, относится этр. trujals) от названия Трои со значением «троянские, троянцы», возникшими, по-видимому, так же, как и хет. Taruiša, с выделением -s в качестве адъективного суффикса. В тот же ряд входит и лик. Б trujeli (также в TL 44 с 58–60 trujele в контексте, где речь идет о некоем обращении к «труйцам»), которое точно так же, если не рассматривать его как некий уникум, должно указывать в сторону Трои на северо-западе полуострова.
Поэтому в работах авторов данной книги [Цымбурский, 1984; Гиндин, 1986; Цымбурский, 1987] была выдвинута гипотеза о том, что подобное обозначение носителями ликийского Б этого своего языка может говорить о приходе данного этноса в окрестности Ксанфа из Северо-Западной Анатолии, со стороны Троады и их тождестве второй группе ликийцев, по Геродоту, явившейся в страну, уже до того заселенную термилами (носителями ликийского А). С появлением здесь этого народа в Пинаре вводится культ Пандара, тождественного тому Пандиону, которого греки считали прародителем этой части ликийцев. В подтверждение последней мысли можно сослаться на своеобразный троянский колорит, который приобрела в эллинистическое время локальная мифология окрестностей Пинары, где находился храм Пандара. По Страбону (XIV,3,5), к этим местам привязывалось действие мифа о битве Беллерофонта с чудовищной трехглавой Химерой, вскормленной героем Амисодаром, согласно «Илиаде» (XVI,328). В эвгемеризированной версии этого мифа у Плутарха (De virt. mulier. 9) говорится об украшенном звериными мордами корабле, на котором приплывает из Зелеи вторгающийся в Ликию и опустошающий ее Амисодар. Такая версия с высокой вероятностью инспирирована зелейскими традициями пинарского храма Пандара, а может быть, прямо несет в себе отголоски вступления в эту область ликийцев-«труйцев».
В конечном счете перед нами открывается возможность прямого сопоставления выражения trujeli в тексте на ликийском Б с гом. Τρῶϵς применительно к героям из Зелеи. Подкрепление этому мы усматриваем в результатах исследований Л. С. Баюн, выявившей ряд вероятных заимствований во фракийском именно из ликийского Б, а кроме того, установившей для глагольной морфологии этого языка черту — противопоставление редуплицированных основ настоящего времени простым основам прошедшего, — отделяющую его от других хетто-лувийских языков и сближающую с языками греко-индоиранской общности [Баюн, 1984]. Эта особенность языка «труйцев» является аргументом в пользу длительной задержки данного племени на северо-западной окраине Малой Азии, где и могли на протяжении второй половины III и всего II тысячелетий до н. э. осуществляться контакты их диалекта с некоторыми из диалектов указанной общности, прежде всего с греческим. Это, разумеется, не исключает возможности контактов в преданатолийский период уже расчлененной на диалекты лувийской языковой общности с языками так называемой аугментной зоны (греческий, фригийский, индоиранские языки).
В поддержку гипотезы имеются и другие доводы. Легко заметить, насколько слова гомеровского Сарпедона о своей родине, «Ликии на бурном Ксанфе» (Il. V.479), перекликаются с образом Троянской долины, замыкаемой на севере Малой Ликией, а на юге омываемой троянским Ксанфом-Скамандром (Strab. XIII,1,33). Известно, что крупнейшая река южной Ликии Ксанф и стоящий на ней одноименный город имеют в ликийском А совсем иное название, arn̄na < хет.-лув. arinna «источник» [Гиндин, 1967, с. 93 и сл.]. Кроме того, зафиксировано еще старое наименование-эпитет этой реки Σίβρος, вариант Σίρβις (Strab. XIV,3,6; St. Byz. s.v. Τρϵμίλη), которое со ссылками на стих уроженца Ликии поэта Паниасия «на Сибре, серебряной реке» сближают либо с термином для серебра: ассир. sarpu, араб, zarif, ст.-слав. СЪРЕБРО, др.-прусск. siraplis и проч. [Фасмер, т. 3, с. 606; Иванов, 1983, с. 104], либо с хет. šuppi. арм. surb «чистый», др.-инд. šubhra «блестящий» [Kretschmer, 1939, с. 257; Гиндин, 1981, с. 121]. В любом случае позднейшее (впрочем, известное уже Гомеру в VIII в. до н. э., см. Il. II,877 и др.) название этой реки Ксанф при (до)греч. ξανϑός «золотистый», этр. zamϑi «золото» представляет точный смысловой эквивалент к наименованию «Сибр» и одновременно очень четкую троянско-ликийскую гидронимическую изоглоссу, наглядность которой позволила уже в 1981 г. одному из авторов данной работы [Гиндин, 1981, с. 121] высказать догадку о переименовании реки (и города) Аринны-Сибра в Ксанф вследствие некой инфильтрации в Ликию с северо-запада, из Троады. Там же факт этого переименования был сопоставлен со свидетельством Геродота о преобладании среди жителей Ксанфа каких-то «пришельцев». Сейчас мы можем прямо отождествить этих пришельцев, принесших с собой троянский гидроним, с жителями Ксанфа, говорившими на языке trujeli, исконно — зелейскими Τρῶϵς.
Имеющиеся факты складываются в законченную картину: по-видимому, после более чем тысячелетнего обитания в Троаде зелейские лукка, сохранившиеся здесь от времен первого вступления лувийцев на землю Анатолии, где-то на рубеже II–I тысячелетий до н. э., теснимые новыми балканскими переселенцами, были вынуждены опять тронуться в путь. Они шли на юг, ибо ориентиром для них была южная Ликия, хеттская Лукка. Они пытались найти пристанище в стране своих южных сородичей. Трудно сказать, как конкретно сложилась их судьба на юге, но, судя по тому, что еще в V в. до н. э. они не растворились среди термилов, сохраняя особое имя и язык, их, скорее всего, приняли здесь как чужаков, и они были вынуждены утверждать себя на правах особых, «других ликийцев», «ликийцев второй волны», отзвуки чего сохранились в упомянутом рассказе Геродота. Детали изложенной выше концепции идентичности троянских ликийцев и лувийцев клинописных текстов (в реконструкции «луккийцев»), другими словами, гипотезы о присутствии лувийцев в гомеровской Трое и соответственно в Трое археологической со всеми необходимыми текстами, включая многочисленные схолии к «Илиаде», изложены авторами в более ранних работах [Цымбурский, 1987, гл. 2; Гиндин, 1990].
5
В работе В. Л. Цымбурского [Цымбурский, 1984], где впервые был поставлен вопрос о тождестве исторических носителей ликийского языка Б с полулегендарными троянскими ликийцами Пандара, одновременно была выдвинута гипотеза об особой роли данного этноса в складывании культа так называемого «ликийского Аполлона» (Ἀπόλλων Λύκιος).
Роль Аполлона в сюжете «Илиады» велика. Этот бог враждебен ахейцам, он сеет болезни в стане Агамемнона, ссорит того с Ахиллом, защищает Энея от Диомеда, уводит Ахилла обманом от Гектора. Он — убийца Патрокла, а в перспективе и самого Ахилла, для которого он «самый ненавистный из богов» (Il. XXII,15). Почему Аполлону выпала такая роль в греко-троянской распре?
Еще К. Мюллер отмечал универсальную для греческих мифов об Аполлоне трактовку этого бога как пришельца, приходящего в Грецию откуда-то с севера, и на этом основании предполагал его дорийское происхождение [Müller, 1844, с. 202 и сл.]. Подтверждение такой концепции можно усматривать в негативных свидетельствах текстов линейного письма Б, где ни разу не встречается имя этого бога [Ventris, Chadwick, 1959, с. 126], но, к сожалению, эти тексты ничего не говорят о религиозной ситуации в Центральной Греции позднемикенского времени, в частности в Дельфах, уже бывших в то время крупным культовым центром [Desborough, 1964, с. 43 и сл., 123 и сл.]. Иначе, нежели Мюллер, подошел к генезису образа Аполлона У. фон Виламовиц-Мёллендорф, отталкивавшийся в первую очередь от трактовки этого бога у Гомера. Аполлон защищает от греков малоазийский город Трою, поэтому не может ли он быть исконно малоазийским богом? Хотя Виламовиц колебался в отношении эпиклез бога Λύκιος «Ликийский» или «Волчий» и Λυκηγϵνής (ввиду того, что народ, известный грекам под именем ликийцев, сам себя называл термилами), но в то же время допускал существование некоего древнего ликийского этноса, вторично отождествленного с термилами, богом которого мог быть первоначально Аполлон [Wilamowitz-Moellendorff, 1903].
Дешифровка хеттской клинописи и иероглифики, а также изучение памятников ликийского А и Б, лидийского и других позднеанатолийских языков дали материал для проверки гипотезы Виламовица. В 1930-х годах Б. Грозный, выделив в иероглифической надписи из Эмир-Гази комплекс знаков, чередующийся с идеограммой, напоминавший ворота, сделал смелый шаг: он попробовал прочитать это слово как теоним Apulunas, производя последний от вавил. abullu «ворота», что подкреплялось ссылками на древность функций Аполлона как «Уличного» (Ἀγυιεύς) и «Дверного» (θυραῖος) бога [Hrozný, 1937, с. 406 и сл.; 424 и сл.]. Но гипотеза о месопотамском происхождении теонима сильно пошатнулась, когда Э. Ларош, пересмотрев чтения Грозного, убедительно отверг и фонетическую интерпретацию знаков и сходство идеограммы с воротами [Laroche, 1954, с. 113; Frisk, т. 1, с. 125; Chantraine, с. 98]. Сейчас с уверенностью можно утверждать, что ни один источник не дает намека на почитание Аполлона в хетто-лувийских областях Анатолии (ср. [Гиндин, 1977а, с. 105]). Среди массы теофорных личных имен хеттской эпохи нет ни одного, которое бы заключало в себе этот теоним. Получившая довольно широкое признание гипотеза Р. Барнетта о родстве эпиклезы Аполлона Δελφίνιος с именем хатто-хеттского бога плодородия DTelipinuš ([Barnett, 1956, с. 219; Huxley, 1961, с. 25; Топоров, 1975, с. 38; Гиндин, 1977а, с. 109 и сл.], последний с анализом механизмов притяжения имени Дельфиния к названию Дельф) лишь указывает на вероятность контаминации Аполлона в сознании греков с анатолийским богом, ничего не говоря ни о том, где и когда произошла эта контаминация, ни о генезисе самого образа Аполлона.
Даже в позднеанатолийское время мы не находим туземных личных имен, образованных от этого теонима. Ликийское Pulenjda, род. пад. Pulenjdah (TL 6), явно передает греческое Απολλωνίδης, а сидетское poloniupordors «Аполлоний, сын Аполлодора» [Нойман, 1976, с. 333] своим разнобоем при передаче одной и той же теофорной основы в составе двух разных греческих личных имен прямо указывает на восприятие их местным населением в качестве лишенных внутренней формы звуковых комплексов, из которых для составителей надписи не вычленяется имя «своего», знакомого божества. Даже попытки увидеть Аполлона в боге-спутнике лидийской Артемиды +λdans, якобы читающемся *Pldans [Frisk, т. 1, с. 124], были неоспоримо отклонены А. Хойбеком, доказавшим родство имени этого бога с лид. κοαλδϵῖν «царствовать» (Hes.) и соответственно его произношение Kwldans «Владыка, Царь» [Heubeck, 1959, с. 16 и сл.].
На фоне подобных данных, похоже не оставляющих Аполлону места в хетто-лувийском мире, особняком стоят факты, относящиеся к Троаде, которая всегда пребывала от этого мира несколько в стороне, как в языковом, так и в культурном плане больше ориентируясь на Балканы. В договоре Муватталиса с Алаксандусом из Илиона-Вилусы, в том месте, где боги призываются в свидетели договора, читаем [Friedrich, 1930, с. 80]: ne-pí-iš te-ká-na IMMEŠ-aš al-[pu-uš… hu-u-m]a-an-te-e[š] ŠA KUR URUU-lu-ša DU. KI. K[AL.B]AD D[….D(?)]ap-pa-li-u-na-aš DINGIRMEŠ LUMEŠ SALMEŠ… — «Небо и Земля, Ветры, Обла[ка…боги в]се из страны Вилуса: Грозовой Бог Военного Стана, бог [….бог…] Аппалиунас, боги мужские и женские…». Еще в 1931 г. Э. Форрер выделил из этого ряда имя до того неизвестного бога Appaliunaš и фонетически безупречно сблизил его с греч. Ἀπόλλων [Forrer, 1931, с. 141 и сл.], ср. дор., памф. Ἀπέλλων, Кипр, a-p-e-i-lo-ni [Masson, 1961, № 215] < *Apeli̯ōn, также фесс. Ἀπλουν [Frisk, т. 1, с. 124; Chantraine, с. 98]. Это сопоставление, скептически встреченное Ф. Зоммером из-за поврежденности или даже отсутствия детерминатива «божества» перед именем Аппалиуна [Sommer, 1937, с. 176 и сл.], было подхвачено и развито П. Кречмером [Kretschmer, 1936, с. 250; Kretschmer, 1954, с. 20] и сочувственно отмечено Ларошем, Хойбеком и Фриском [Laroche, 1947, с. 80; Heubeck, 1959, с. 19; Frisk, т. 1, с. 124] (см. также [Гиндин, 1977б] в связи с гипотезой Виламовица о малоазийской родине Аполлона). На самом деле отсутствие детерминатива не является для данного сближения таким уж серьезным препятствием, как думал Зоммер, ибо Appaliunaš в XIV–XIII вв. до н. э. еще могло фигурировать как эпитет, определяющий стоящее впереди, в поврежденном месте, основное имя бога, ср. греческие параллели вроде имен Зевса-Минотавра или Аполлона-Гиацинта (на подобную возможность независимо друг от друга указали А. А. Королев и Л. С. Баюн при обсуждении кандидатской диссертации Цымбурского в 1987 г.).
Примечательны схождения между контекстом, окружающим имя Аппалиунаса в договоре, и ролью Аполлона в троянских сказаниях, а также археологическими свидетельствами, относящимися к эпохе Трои VI. Перед Аппалиунасом в перечне богов Вилусы стоит на первом месте соединяющий атмосферные функции с военно-сторожевыми Грозовой Бог Военного Стана (DU KI.KAL BAD). Одному из авторов данной книги приходилось писать о точном соответствии такого образа главного вилусского бога с гомеровским изображением в «Илиаде» хранящего Илион Ареса, летающего в небе вместе с грозовыми облаками (V.864 и сл.) [Цымбурский, 1990б, с. 52]. Нельзя не заметить явный параллелизм между соседством Грозового Бога Военного Стана с Аппалиунасом в тексте договора и гомеровской сценой, когда Арес вызывается на защиту Илиона против ахейцев не кем иным, как Аполлоном (V.454 и сл.). Если место Аппалиунаса в договоре, видимо, должно отражать его охранительные функции по отношению к Вилусе [Sommer, 1937, с. 177], то у Гомера Аполлон прямо рисуется защитником подступов к Илиону. Этого бога «заботит стена хорошо воздвигнутого города» (XXI,516): охраняя эту стену, он трижды сбрасывает вступающего на нее Патрокла (XVI,702). Наконец, сцена с убийством Ахилла в Скейских воротах выдает функцию «Дверного» Аполлона как бога-хранителя городских ворот. Мы уже отмечали, что в этом эпизоде преломилось воспоминание о хорошо прослеживаемом по данным археологии культе бога ворот в Трое VI. Однако точное подобие сооружений перед южными воротами в честь этого бога каменным столбам, в историческое время ставившимся перед входами во имя Аполлона, в сопоставлении с ролью Аппалиунаса в пантеоне Вилусы позволяет сформулировать более сильный вывод: вся эта совокупность археологических, исторических и эпико-легендарных свидетельств позволяет говорить о Троаде II тысячелетия до н. э. как о единственном месте в Анатолии, где для данного времени прослеживается почитание Аполлона. Гомеровский образ этого бога как хранителя Илиона, давший толчок гипотезе Виламовица, может быть объяснен совсем иначе. Аполлон защищает этот город не потому, что он вообще малоазийский бог (напротив, хетто-лувийской Анатолии он вполне чужд), но потому, что он древний бог-владыка (ἄναξ) обращенной к Балканам Троады.
Этот вывод не противоречит ни Версиям о «приходе» Аполлона в Грецию с севера, ни отражению этого теонима в близкородственном греческому фригийском языке (ср. словосочетание apelan mekas в надписи из так называемого «города Мидаса» [Brixe, Lejeune, 1984, с. 25, М-05]) и в древнемакедонском названии месяца Апеллея (Ἀπϵλλαῖος). Реконструируемая по лингвистическим данным для конца III — начала II тысячелетия до н. э. тесная близость протомакедонских, протофригийских и части протогреческих племен, тех, что были предками будущих ионийцев, дорийцев и носителей аркадокипрского диалекта [Гиндин, Цымбурский, 1991], позволяет считать эти племена уже в то время охваченными культом Аполлона, тогда как протоэолийская ветвь ранних греков, по-видимому сыгравшая большую роль в складывании ахейско-микенской государственности, оказалась в общем чужда почитанию этого божества. Наиболее убедительная этимология имени Аполлона также говорит в пользу зарождения данного культа в Юго-Восточной Европе на стыке племен греко-македоно-фригийской общности с племенами древнеевропейского ареала: ср. греческое личное имя Ἀπϵλλῆς, (ολιγ-)ηπϵλής «(Мало-)Сильный», далее иллирийский антропоним Τϵυτί-απλος «Сила Племени», др.-англ. afol «сила», германский вотив deabus Aflims «Мощным Богиням» [Kretschmer, 1924, с. 242; Mayer, 1959, с. 9]. Очень рано этот культ утвердился в Троаде, где функции Аполлона характеризуются как большим разнообразием, так и принципиальной принадлежностью к единой, а именно охранительной сфере: он защитник стен и ворот города, покровитель стрелков, он же и пастух стад Лаомедонта, и истребитель мышей в Троаде, чем мотивируется его эпиклеза Сминфей (Σμινϑϵύς), т. е. «Мышиный» (Il. I,39; ср. Schol. А к этому стиху); и он же — целитель, пекущийся о здоровье троянцев и их союзников, врачующий раны Энея и Главка (Il. V.445 и сл.; XVI,527 и сл.). Проще сказать, что он всецело патронирует эту область: ее города, ее жителей, ее стада, ее посевы.
Для эллинистического времени Страбон (XIII,2,5) пишет об исключительном почитании Аполлона в окрестностях Трои, в чем и впрямь легко убеждает разительная скученность его храмов на этой небольшой территории. Один его храм Гомер упоминает на акрополе Илиона, так называемом Пергаме (Il. V.445); на юге почитался Аполлон Киллей со святилищем в Килле; в III в. до н. э. в вотиве из Лидии упомянут Аполлон Πιτυαηνός [Detschew, 1976, с. 372], бог города Питии на северо-западной окраине Троады. Похоже, что различные этнотерриториальные группы на троянской земле ставили Аполлону отдельные святилища как собственному своему покровителю — обстоятельство, лишний раз говорящее о восприятии поселяющимися здесь этносами этого бога в роли «хозяина» всей здешней земли.
Удивительно, что разгадку предания о «ликийском» Аполлоне мы тоже находим в Троаде. Выше уже приводились слова схолиастов о «самом истинном храме Аполлона» в Троянской Ликии и ревностном почитании этого бога зелейцами. Для нас особенно важен микроконтекст молитвы Пандара Аполлону перед его выстрелом в Менелая: Λυκηγϵνέι κλυτοτόξῳ «Ликегену, славному луком» (IV,101,119). Анализируя это место, следует постоянно иметь в виду, что эпитет Λυκηγϵνής ни разу не употребляется в греческой словесности вне связи с ситуацией молитвы Пандара: все прочие контексты — это комментарии к данному эпизоду «Илиады». Евстафий (в коммент. к Il. IV,101), приводя попытки толкования эпиклезы в смысле «светородный» (как в Et. Magn.) или «сын волчицы» (Ael. Nat. anim. Х,26), сам предпочитает иное объяснение, указывая: «А Λυκηγϵνής — это по мифу вроде как Λυκιη-γϵνής, т. е. “рожденный в Ликии” — или в большой, согласно некоторым, или в малой, которой правил Пандар… по которой отец Пандара называется Ликаон и в которую после родов удалилась Лето, спасаясь от ревности Геры»; ср. его же замечание к Il. II,827: «Зелейцы Пандара называются ликийцами, потому и Ликаон их вождь, и Аполлон там почитается Ликеген». Схолиасты же, в отличие от Евстафия, не оставляют сомнений в том, какая из двух Ликий имеется в виду. Так, в схолиях к IV песни «Илиады», ст. 101, список А дает: «Λυκηγένϵι — по Троянской Ликии, из которой Пандар», а список В уточняет: «[поэт] его (Пандара) наполняет гордыней, считая бога его земляком» — и тут же приводит рассказ о рождении бога в Ликии, т. е., конечно, в Зелее.
Думается, схолиасты совершенно справедливо связывают уникальность эпитета с уникальностью ситуации и через ситуацию объясняют смысл слова. Ведь молитвы героев всегда имеют у Гомера четкую прагматическую структуру. Правящий в Пеласгическом Аргосе Ахилл молится Пеласгскому Зевсу (XVI,233 и сл.); Хрис просит Аполлона о наказании похитителей своей дочери, обращаясь к нему как к защитнику святилища Хрисы (I,37 и сл.). Когда раненный в Трое южный ликиец Главк зовет на помощь Аполлона, «пребывающего в Трое или в тучном народе Ликии» (XVI,514 и сл.), из этого ясно, что к гомеровскому времени, когда, судя по именованию р. Аринны Ксанфом, «труйское» племя уже утвердилось в Ликии, туда же проник и сближающий Ликию с Троей культ Аполлона. Воззвание к богу «светородному» или «рожденному волчицей» (если не иметь в виду тотемных или квазитотемных ассоциаций, вызываемых осмыслением имени ликийцев как «волчьего» племени) непонятно в своей уникальности, неотделимости от эпизода молитвы зелейца. Напротив, при понимании Λυκηγένϵι как «рожденному в (Троянской) Ликии» все остановится ясно — стрелок молится перед выстрелом богу, «славному луком»; житель Малой Ликии обращается к богу-соотечественнику, рожденному в этом городе на троянской земле. Кажется весьма правдоподобным, что миф о рождении Аполлона в Ликии — это исконно троянский миф, имеющий в виду город на Айсепе…
Эта мысль подкрепляется и другими фактами. Выделяемая в Λυκηγϵνής основа Λυκη- не отражает греческого названия Ликии, но точно соответствует той форме, что представлена в хет. Lukkā, пережиточно в греч. Λυκαονία, Λυκάονϵς из *Luka-wana «уроженцы страны или народа Lukā» и в глубокой ретроспективе тождественна племенному имени лувийцев. В имени царя Малой Ликии Λυκάων мы имеем то же самое лувийское образование *Luka-wana, распространявшееся по Анатолии и Южным Балканам вместе с миграциями лувийских племен. Идентичное имя — Ликаон носит в «Илиаде» и другой персонаж — младший брат Александра-Париса, рожденный Приамом от Лаотои (XXI,85–88), дочери царя лелегов из г. Педаса (контекст, насыщенный анатолийскими ономастическими элементами, сведенными вместе в едином сюжете; этот герой, в реконструкции *Luka-wana, рождается от местного «владыки» *Prijama, соединяющегося с женщиной из племени «чужаков» — *Lulaḫḫe, заселяющих местность *Pedašša). Не исключено, что лелеги на юге области представляют реликт тех же племен, которые на севере ее оставили след в топономастике Троянской Ликии. С этим южным Ликаоном в «Илиаде» связаны мотивы переодевания, травестизма: в доспехе Ликаона выступает Парис (III,333), образ Ликаона принимает, вещая его голосом, Аполлон (XX,81). Последняя сцена явно не случайна, учитывая троянский культ Аполлона, «рожденного в стране или народе Luka». Более того, напрашивается предположение о лув. *Luka-wana, отраженном в имени и мифического зелейского царя, и героя — инкарнации бога, как о раннем троянском эпитете самого Аполлона, послужившем прообразом архаичной греческой кальки Λυκη-γϵνής.
Полная эквивалентность в географических рамках Троады понятий Ликия и Зелея, мощно воздействовавшая на узус Гомера, заставляет видеть во фракийском эпитете Аполлона Ζϵλαηνός точное реальное соответствие к троян.-лув. *Luka-wana (греч. Λυκη-γϵνής) «Бог из области Luka (т. е. Зелея)». Доказанная Л. А. Гиндиным [Гиндин, 1981, с. 34] правомерность генетического отождествления для многих случаев лувийского «суффикса происхождения» -wana и широко представленного во Фракии и Северо-Западной Анатолии суффикса с аналогичной семантикой -ηνός, -ανός (ср. зияние в формах типа Ζϵλαηνός, Πιτυαηνός, заставляющее реконструировать между гласными слабый звук -w-, препятствующий их слиянию) приводит к реконструкции двух, фракийского и лувийского, наименований Аполлона как бога Троянской Ликии, образованных соответственно от фракийского и лувийского названий этого сакрального центра: фрак. *Dzelja-wana ~ лув. *Luka-wana.
Гомеровский эпос обнаруживает приобщение троянских лукка к почитанию Аполлона вместе со всеми жителями Троады, наряду с наметившимся здесь притяжением образов Аполлона и Пандара. С другой стороны, в нем показывается сценой воззвания южного ликийца Главка к Аполлону, что перенос названия Ксанфа в «большую» Ликию, синхронизированный нами с прибытием туда почитавших Пандара «труйцев», и утверждение в Патаре рядом с г. Ксанфом религии Аполлона к середине VIII в. до н. э. должны были произойти, возможно, в одно и то же время. Ценное свидетельство, обнаруживающее особые отношения ксанфийцев к Аполлону, дает открытая в 1973 г. в Ксанфе греко-ликийско-арамейская трилингва, где греческое имя Απολλόδοτος «Данный Аполлоном» глоссируется в ликийской части формой Natrbbijẽmi. В этой форме -bbijěmi, пассивное причастие от хет. pije- «давать», соответствует греч.-δότος, а имя Аполлона заменено местным теонимом Natri со значением «Вождь» [Carruba, 1977, с. 282 и сл.], ср. хет. naj- «вести», лик. Б nenije, др.-инд. nayati «вести», netra «предводитель» [Королев, 1976, с. 86]. Греческий Аполлон воспринимался в Ксанфе как другое имя для ликийского Бога-Вождя, подобно тому как римляне отождествляли свою Юнону с греческой Герой, Минерву с Афиной и т. п. При этом нельзя пройти мимо важнейшей детали: в апеллативном значении слово natri «вождь» до сих пор засвидетельствовано только в ликийском Б — в «труйской» части надписи TL44. Особенно знаменательно, что в строках из этой надписи (TL44 с 33 и сл., где речь непосредственно идет о сооружении стелы, содержащей текст на языке trujeli) инициатором этого торжественного акта назван именно natri. Неясно, идет ли в этом месте речь о земном правителе или об изъявляющем свою волю божестве, но в любом случае высока вероятность того, что приравненный к Аполлону Бог-Вождь изначально именовался словом из лексикона «труйцев», которые принесли его культ на юг вместе с почитанием своего предка Пандара, и лишь вторично этот теоним был заимствован ликийским А. Иными словами, синкретизм Аполлона и Натри оформился еще в Зелее, и за Аполлоном, «рожденным в Ликии», для зелейских троянцев скрывался тот же Натри. Если наши выводы правдоподобны, прибывшая из Трои «вторая волна» ликийцев, утвердив в долине Ксанфа новые традиции, мифологические образы, местные названия, сыграла важную роль в культурной истории Ликии.
6
Среди топонимов, связанных с окрестностями Троянской Ликии, особый интерес представляет уже упоминавшееся название нагорья Пейросса (Πϵιρωσσός) в непосредственном соседстве с Зелеей. Согласно Страбону (XIII,1,17), на Пейроссе устраивались традиционные охоты лидийских, а позднее — подражавших им персидских царей. Это несколько озадачивает, ибо Пейросс лежит на крайнем севере Троады, в предельном удалении от исконно лидийских территорий. Следовательно, за лидийскими царскими охотами в этих местах проступает какая-то самобытная древняя традиция, продолжавшаяся в роду этих поздних наследников хетто-лувийской культуры.
Еще любопытнее то, что в Илиаде мы встречаемся с явным эпонимом Пейросса — героем по имени Пейрос (Πϵίρως или Πϵίροος). В первый раз он появляется в «Троянском каталоге» (Il. II,844 и сл.) в качестве товарища и спутника вождя фракийской дружины Акаманта. Оба они вместе названы предводителями «всех фракийцев, которых быстротекущий Геллеспонт внутри замыкает», т. е. обитателей фракийских областей, лежащих к западу от этого пролива. Идущее вторым имя Пейроса получает усилительный эпитет ἥρως «герой»: «Акамант и Пейрос-герой». Любопытно, что в данном месте это слово появляется единственный раз на оба каталога из II песни «Илиады»: «Троянский» и «Каталог кораблей». Евстафий, комментируя ст. 844, отмечает внутреннее созвучие, соединяющее оба слова, — Πϵίροος ἥρως.
О Пейросе упоминается еще раз в IV песни (ст. 516–538), где рисуется гибель этого воина. Здесь указывается его патроним Имбрасид (Ἰμβρασίδης) (по нему можно восстановить имя его отца — Имбрас или Имбрасий) и сообщается, что в Трою он прибыл из г. Эноса в устье Гебра. «Острым камнем» повергает он наземь элейского вождя Диора и добивает его копьем, но тут же сам оказывается сражен двоюродным братом Диомеда этолийцем Тоантом. Задумавшись над гибелью Пейроса, гомеровед мог бы отметить, что камень не такое орудие, которое Гомер легко вкладывает в руки проходных, второстепенных персонажей. Камнями бьются Агамемнон, Патрокл, сам Диомед (XI,265; XVI,587, 739; V,308 и сл.); ударами каменных глыб обмениваются в своих поединках Гектор и Аякс (VII,263 и сл., XIV,409 и сл.); Гектор метит камнем в брата Аякса Тевкра (VIII,321 и сл.), Эней — в Ахилла (XX,285 и сл.). Все это элита гомеровского мира, лучшие среди героев. В их ряд плохо вписывается Пейрос Имбрасид, вступающий в битву лишь один раз, но запоминающийся именно в качестве камнеметателя.
У имени Пейроса, встречающегося в списках «Илиады» в написаниях Πϵίρως и Πϵίροος, нет надежной этимологии. А его негреческий характер виден уже из его странного склонения. Евстафий (Schol. ad Il. II,844), исходя из формы Πϵίρως, думал, что оно должно склоняться по типу имен с исходом на — ω, т. е. иметь генитив Πϵίρωος. Но на самом деле в XX песни (ст. 484), где речь заходит о сыне Пейроса Ригме, мы находим форму генитива Πϵίρϵως; с разночтением Πϵίρϵω. Оба варианта не соответствуют именительному падежу, какое бы написание последнего ни считать правильным. В целом это имя, как не вписывающееся ни в один из типов греческого склонения, выглядит в греческом языке плохо адаптированным заимствованием. Зато мы уже знаем, что оно превосходно соотносится с топономастическим контекстом Троады.
В. Георгиев, рассматривая имя Пейроса как царское имя и постулируя для него соответствующую семантику, предполагал в нем основу *peru̯o- «первый, лучший; вождь» [Georgiev, 1981, с. 15], ср. слав, pьrvъ, др.-инд. pūrvas, тох. В parvesse «первый» при тох. А parvat «старейший», др.-англ. forwost «предводитель» [Фасмер, т. 3, с. 235]. Но Георгиев не заметил связи данного имени с троянским топонимом. Приняв же эту связь, замечаем, что та же основа *peru̯o- хорошо прослеживается в местных названиях Фракии и далее в догреческой топонимике и мифологической ономастике более южных районов Балкан, однако семантику ее приходится трактовать по-иному. Так, сам Георгиев в разное время правильно объяснил фракийские топонимы Perinthus в Пропонтиде и Phorynna в среднем течении Стримона. Ход его рассуждений следующий. Поскольку название Перинт относилось, по Диодору (XVI,76), к городу на высокой горе над морем, а название Форюнна территориально отождествимо с нынешней гористой местностью Перин (из слав. perynь «гора, холм»), то Георгиев восстановил древнейшие формы Perunto- и Peruna. Из них первую он сблизил с др.-инд. parvata «гора» из peru̯ṇto-, а вторую — с родственным хет. pirwa, peruna «скала» и со слав, perynь (Георгиев, 1967, с. 15 и сл.; Георгиев, 1977, с. 89, 161].
К этим основам легко можно привести ряд догреческих соответствий. Таково название реки Πϵῖρος (из *Peru̯os) в Ахайе (Strab. VIII,7,4), каковую славяне позднее прозвали Каменицей [Vasmer, 1970, с. 135]; далее, источник Πϵιρήνη, по-дорийски Πϵιράνα (из *Peru̯ana), в Коринфе, струившийся на самой вершине возносившейся над этим городом огромной горы Акрокоринф (Strab. VIII,6,21): по преданию, возле этого источника истребитель чудовищ конник Беллерофонт поймал себе крылатого коня Пегаса. Эпонимом этого источника был мифический Πϵιρήν (из *Peru̯an), брат Беллерофонта, по Аполлодору (II,3,1), убитый этим героем [Цымбурский, 1987в]. Родственную форму находим в Аркадии — в имени некоего Пейранта (Πϵίρας, -ντος из *Peru̯ant-), загадочного персонажа, от которого река Стикс будто бы родила страшную «змеедеву» Ехидну (Paus. VIII, 18,2 со ссылкой на Эпименида Критского). Все эти наименования горных потоков и связанных с горами мифологических существ, продолжающие праформы *Peru̯os, *Peru̯ana, *Peru̯ant-, сопоставимы с фракийскими топонимическими образованиями *Peruna, *Perunto-, выявленными и интерпретированными Георгиевым. Все они, по-видимому, должны быть отнесены к серии индоевропейских обозначений для горы, камня, горного леса от основ *per-u̯-/*per-ku-, частично рассмотренных выше в главе 5 в связи с названием троянской Перкоты.
Как известно, от тех же основ в индоевропейских языках образуется имя обитающего на скалах и горах бога, часто представляемого в виде всадника: таков хетто-лувийский конный бог Pirwa, чье имя в композитах выступает в форме Peru(n)ta- [Goetze, 1954, с. 356; Laroche, 1966, с. 288], грозовые боги балтийцев и славян — лит. Perkúnas, лтш. Perkons, слав. Perunъ, древнеиндийский бог дождя Parjanya и т. д. [Pokorny, 1959, с. 822; Mayer, 1951, с. 76 и сл.; Иванов, 1958; Иванов, Топоров, 1974]. В 70-х годах после работ одного из авторов данной книги (см. первую публикацию [Гиндин, 1973, с. 155 и сл.]) этот ряд теонимов был пополнен найденными в окрестностях Варны и опубликованными в 1960 г. М. Мирчевым вотивами фракийскому богу-всаднику Хэросу, собственно, «Богу-Герою»; Πϵρκῳ, Ἥρῳ, Ἥρωϵι. Πϵρκωνει [Mihailov, 1970, Ms 283, 283 bis]. Сейчас эти вотивы единодушно толкуются фракологами в смысле «Хэросу — Богу Дуба» и «Хэросу — Богу Грома» ([Гиндин, 1978, с. 134 и сл.] с историей вопроса; ср. [Георгиев, 1977, с. 61; Топоров, 1977, с. 57]). Теперь к фракийским продолжениям тех же родственных основ должно быть отнесено и имя камнеметателя Пейроса (из *Peru̯os), эпонима гор на севере Троады. (Об отношении между этой фигурой и фракийским Хэросом см. [Цымбурский, 1990б].)
На фоне изложенных соображений еще нагляднее выступает фонетическая безупречность соответствия имени гомеровского мифического фракийца Πϵίρως и хеттского бога Pirwaš. Со стороны семантики фигура повергающего врагов камнем Пейроса, эпонима троянского нагорья Пейросса, идеально опосредует связь между понятием горы, камня и образом разящего героя или бога (см. [Imparati, 1977] о связи культа Пирвы со скалами). Название нагорья Πϵιρωσσός, выступавшего как место традиционных (сакральных?) охот лидийских царей, поздних носителей хетто-лувийских традиций, восходя к праформе *Peru̯ossos или *Peru̯assos «гористая местность» или, скорее, «местность, посвященная Пейросу (Пирве)», как мы уже говорили, точно соответствует лувийскому образованию Pi-ir-wa-ša- = Pirwašša «принадлежащее Пирве» [Otten, 1951, с. 68; Laroche, 1959, с. 127].
Но кроме того, уникальность сочетания эпитета ἥρως с именем Пейроса в каталогах из II песни «Илиады» привлекает внимание к полной аналогии между оборотом Πϵίρως ἥρως в ст. 844 и посвящениями Хэросу Перку и Хэросу Перкону в приведенных позднейших фракийских вотивах из района Варны. Мы не будем здесь вдаваться в давнюю дискуссию о соотношении между именем фракийского бога и греческим словом ἥρως «герой». Некоторые ученые видят в имени Хэроса-Героя позднюю эллинизацию некоего фракийского теонима [Detschew, 1976, с. 200; Casson, 1926, с. 248 и сл.]. Но авторы наиболее авторитетных этимологических словарей греческого языка Я. Фриск и П. Шантрен отмечают этимологическую неясность самого греческого слова и даже допускают, особенно Шантрен, возможность его заимствования из какого-то соседнего языка [Frisk, т. 1, с. 644; Chantraine, с. 417]. Таким языком, по нашему мнению, вполне мог быть фракийский — догреческий. Как бы то ни было, у нас нет оснований отбрасывать с порога мысль о том, что за гомеровским фонетически выделенным именованием Пейроса «героем» может стоять отголосок фракийского двухкомпонентного теонима вроде Πϵίρως Ἥρως, аналогичного именам Хэроса Перка и Хэроса Перкона.
В литературе обращалось внимание на то, что образ бога грозы в хеттской Анатолии II и начала I тысячелетия до н. э. по имени Tarḫu или Tarḫunt, собственно, «Победитель, Герой», от глагола tarḫ- «побеждать», мог быть вторичным, заменившим в этой роли более древнюю фигуру Пирвы, родственную балтийским и славянским богам-громовержцам, древнеиндийскому богу дождя Парджанье и т. д. [Топоров, 1977, с. 54]. Между тем фракийские имена из районов, прилегающих к Эгейскому морю, Τορκους, Τορκιων и т. д., особенно Τορκου-παιβης «Сын Торку», указывают на то, что в какую-то эпоху хетто-лувийский культ громовержца как бога-героя достиг Фракии [Гиндин, 1981, с. 36 и сл.]. Поэтому достаточно правдоподобной кажется мысль о том, что под воздействием именно анатолийского импульса на самой фракийской земле мог оформиться культ Хэроса, т. е. «Героя», вобравший в себя традиции почитания бога грома — Перка/Перкона. Тогда на юге Фракии, а равно и в прилегающей Северо-Западной Анатолии, в районе лувийской Зелеи, почитание Пейроса, resp. Пирвы Хэроса, камнеметателя, бога нагорий и, вероятно, покровителя царских охот, т. е. конника, проливает свет на начальные стадии данного процесса во фракийской, а по аналогии и в хетто-лувийской религии (подробнее см. [Цымбурский, 1984а; 1987; 1990б]).
7
Особо следует задержаться на патрониме Пейроса Имбрасид. Как бы ни звучало имя его отца — Имбрас или Имбрасий — похоже, оно не имеет соответствий во Фракии. Зато у него масса параллелей в позднеанатолийской ономастике Карии и Ликии: Ιμβρας, Ιμβρασις, Ιμβρασιος и т. д. Один из авторов книги, проанализировав эти поздние образования от основы Iμβρα-, вернулся к догадке А. Гётце об отражении в ней лув. imm(a)ra «поле, степь, сельская местность», тождественного хет. kim(a)ra с тем же значением и выступающего в именах типа Immara-ziti «Человек (Бога) Поля» [Гиндин, 1981, с. 106 и сл.] (см. также [Goetze, 1954а, с. 75 и сл.]).
Выделение лувийских истоков у патронима «фракийца» Пейроса позволяет наметить для формы Имбрасид в данном микроконтексте по крайней мере два уровня интерпретации — в зависимости от того, видеть ли в Пейросе только фракийского вождя или принимать в расчет его генетические связи с анатолийским Пирвой. В первом случае в троянском окружении бросается в глаза тождество предполагаемого имени отца Пейроса эпиклезе Ἴμβρασος, с вариантом Ἴμβραμος (Eusth. ad Il. XIV.281; St. Byz. s.v. Ἴμβρος), под которой карийцы почитали Гермеса, чей культовый центр находился на острове Имбросе вблизи побережья Троады. С названием того же священного острова связывалось карийское прозвище Геры и Артемиды — Имбрасия [Laumonier, 1958, с. 21, 697 и сл., 704, 706]. Образование патронима при имени мифического вождя эгейских фракийцев от формы, чуждой фракийской антропонимике, но идентичной имени карийского Гермеса, весьма примечательно. Этот факт заманчиво сопоставить со словами Геродота (V,7) о фракийских царях: «отдельно от других граждан почитают Гермеса больше всех богов и клянутся только им и говорят про себя, что рождены они от Гермеса (γϵγονέναι ἀπό Ἑρμέω ἑωυτούς)». Происхождение этого сепаратного родового культа фракийских царей остается темным (см. [Златковская, 1971, с. 161 и сл.] о неудаче попытки П. Пердризе обосновать его северодунайский, гетский характер). Имя Пейроса Имбрасида из Эноса заставляет думать, что этим богом-прародителем династии мог считаться именно карийский Гермес Имбрас. Эта догадка подтверждается культом Гермеса в Эносе, на родине Пейроса, засвидетельствованным изображениями этого бога на эносских монетах и побудившим О. Группе еще в начале века связать патроним Пейроса с карийским почитанием Гермеса Имбраса [Gruppe, 1906, с. 1332]. В связи с оборотом Πϵιρως ἥρως можно вспомнить, что в Эносе, судя по памятникам из этого города, как раз сосуществовали культы Гермеса и Хэроса [Casson, 1926, с. 258 и сл.].
Парадоксальным образом все эти обстоятельства побуждают вновь вспомнить о гипотезе Георгиева, возводившего имя Пейроса к *peru̯os «первый». Кажется правдоподобным, что представление о происхождении царской фамилии от Гермеса должно было выразиться в сказании о зачатии от этого бога, царя-родоначальника династии, и что гомеровский образ Пейроса Имбрасида мог восходить к легенде о первом царе, зачатом от бога Имбраса. Поэтому и с самим именем Пейроса (*Peru̯os) фракийцами вполне могла связываться идея первенства, по крайней мере в ключе народной этимологии. На этом уровне данный образ представляет еще одно свидетельство известных фрако-карийских культовых связей. В историческую эпоху Имброс, будучи, по Стефану Византийскому, «островом Фракии», оставался карийским сакральным центром. В то же время во Фракии Зевса и Геру почитали под прозвищем Καρι-στορηνοί, образованным от топонима Kari-storon [Detschew, 1976, с. 230], толкуемого как «место, область (= русск. “сторона”) карийцев» [Jokl, 1929, с. 297; Гиндин, 1967, с. 109].
Но если не упускать из вида историческое тождество Пейроса и Пирвы, эпитет Имбрасид может обрести в хетто-лувийском мире и более глубокие связи. Ибо формально прозвища Гермеса Имбраса и богинь Имбрасий могут быть прямо возведены к лувийским именам божеств сельской местности, степи DImmaršija, DINGIR MEŠ Imrašši, что хорошо отвечало бы и функциям греческих божеств, получивших эти эпитеты: скотоводческим у Гермеса, охотничьим у Артемиды (ср. [Гиндин, 1981, с. 108 и сл.]). Тогда осмысление этих богов как обитателей Имброса было бы аналогично прослеженному ниже превращению Аполлона Киллея, т. е. «Бога Двора, Входа», в бога троянской Киллы. При этом сама местность с ее названием как бы символизирует атрибут бога: Килла — священный двор, Имброс — посвященную богам пустошь. Интересно, что Энос, «родина» Пейроса Имбрасида, судя по его монетам с изображением на одной стороне Гермеса, а на другой — Пана, выступал средоточием культов именно сельских, полевых богов (см. [Casson, 1926, с. 258 и сл.], там же о редкости свидетельства почитания Пана во Фракии).
Думается, мы можем даже указать среди лувийских теонимов такой, который был способен послужить прямым прообразом для имени героя-камнеметателя из Эноса. Это встречающееся в ряде лувийских ритуалов имя особого Бога Грозы Полей (immarašša(n) DIM). Например, в тексте KUB XXXV,54, И, 35–37 о совершающем обряд сказано, что он нечто раскрошил для Бога Грозы Полей (imrašša DIM-unti), а потом это же дал Богу Грозы Полей (immaraššan DIM-ti) (см. [Laroche, 1959, с. 154; Миттельбергер, 1980, с. 285]). Появляющееся в лувийских текстах обозначение свойств и вещей этого бога (см., например, KUB XXV.54; III,7) immarašša-DIM-aššanza, когда все словосочетание в целом оформляется суффиксом прилагательного -ašš(i), показывает, что для лувийцев слова, входящие в состав теонима, уже давно слились в единое сложное имя, вроде греческого Диоскуры, букв. «Зевса отроки». Имя этого бога появляется и в хеттских текстах: так, в перечне имен разных божеств на «языке людей» и «языке богов» (KUB VIII, 41,11) сказано, что, будучи среди богов Богом Грозы Поля (gimraš DISKUR-a), среди людей он зовется «Человеком Дома Бога Грозы») (DISKUR-naš LÚ[E-ŠU]), по Вяч. Вс. Иванову — «Советником Бога Грома» [Иванов, 1977а, с. 43]. Иначе говоря, в хеттском пантеоне он выступал сподвижником верховного громовержца. Э. Ларош, отмечая широкую сочетаемость имени этого бога в хеттских текстах с именами лувийских богов, писал о его лувийском происхождении [Laroche, 1947а, с. 212]. Это значило бы, что изначально слово «Полевой» в составе его имени имело форму лувийского прилагательного imm(a)rašši или immarašša(n), а не хеттского родительного падежа kimraš. Хотя для исторического времени идеограмма DIM или DIŠKUR должна была читаться как TTarḫunt-, однако реконструируемый процесс замещения Пирвы Богом-Героем Тархунтом в роли Бога Грозы позволяет допустить для имени Бога Грозы Полей изначальное звучание вроде *Pirwas Imraššis, сохраненное в Троаде в прозвании Пейроса Имбрасида.
Наш анализ дает новые данные о лувийцах на берегах Фракийского моря. Несомненно, что лувийцам имя Пирвы было хорошо знакомо. Об этом говорит не только упоминавшаяся лувийская форма Pirwašša, идентичная названию троянского Пейросса, но и тот факт, что в Хаттусасе, хотя Пирва и причислялся официально к богам древнехеттской столицы Канеса, песнопения в его честь исполнялись как «по-канесийски» (kanešumnili), так и «по-лувийски» (luwili) [Otten, 1951, с. 68]. Это обстоятельство может интерпретироваться двояко: либо как отражающее слияние в Хаттусасе двух разных — канесийского и лувийского — культов этого древнего бога хетто-лувийских народов, либо — чего также нельзя вполне исключить — как указание на то, что в самом Канесе Пирва мог выступать в начале II тысячелетия до н. э. как бог лувийцев [Цымбурский, 19876, с. 64; Цымбурский, 19906, с. 54] (см. [Mellaart, 1981, с. 142] — о том, что область расселения лувийцев простиралась фактически до территории Канеса). Во всяком случае, троянские и эгеофракийские пережитки почитания Пирвы ясно связаны с ранней фазой лувийской истории. Ниже мы поговорим о лувийском пребывании в устье Гебра (в районе позднейшего Эноса) в связи с вероятным зарождением здесь предания о Сарпедоне с его «гибридным» фрако-лувийским именем. Связь между именем Пейроса и названием Пейросса как бы перекидывает мост между окрестностями Эноса и Троянской Ликией, соединяя культовой общностью эти два лувийских анклава.
В районах, примыкающих с северо-востока к Эгейскому бассейну, обнаруживаются все новые приметы глубоких контактов лувийцев с протофракийскими племенами. Показательно, что практически все известные хетто-лувийские образования от основ *peru-/*perku- имеют ясные соответствия во Фракии и в догреческой топономастике Балкан. Достаточно сравнить хет. peru, peruna «скала», хет.-лув. DPirwa, DPeru(n)ta- имя бога с раннефрак. *Peru̯os — именем героя, также топонимами *Peruna, *Perunto·, а далее с рефлексами догреческих основ *Peru̯o-s, *Peru̯ant-, Peru̯ānā. Точно так же с названием Пейросса (*Peru̯assa) можно сопоставить по типу образования как имя киликийской богини Πϵρασία, выступающее в арамейской надписи в виде PWSD/R и восходящее к *Piru̯assa [Hanfmann, Waldbaum, 1969, с. 267], т. е. «Горная», «Связанная со скалами», так и догреческий топоним в Фессалии Πϵιρασία (St. Byz. s.v.) из *Peru̯assia. Но если все хеттские и лувийские формы этой серии имеют фракийские и, шире, балканские аналоги, то обратное неверно: северофракийская эпиклеза Хэроса Перкона, не имея анатолийских соответствий, тяготеет к балтийскому ареалу. В восстанавливаемой оппозиции сев.-фрак. *Perkun-: южно-фрак. *Peru̯os ярко выражается историческое место древних диалектов Фракии: на пересечении древнеевропейских, в первую очередь балтийских, связей, видимо имеющих генетический характер, и очень глубоких ареальных и адстратных контактов с хетто-лувийскими языками, в первую очередь — с их лувийской ветвью.
Итак, лувийский Пирва, встающий за пришедшим от устья Гебра Пейросом Имбрасидом, должен рассматриваться в реконструкции как покровитель ранних племен лукка, осевших на севере Троады в середине III тысячелетия до н. э., продвинувшихся из Фракии и еще не до конца обособившихся от протофракийского культурного ареала.
8
В своеобычной судьбе троянских ликийцев преломилась та же схема, которая, по-видимому, может быть вскрыта в предыстории различных лувийских племен: пребывание в прибрежных областях Эгейской Фракии, затем переход проливов, более или менее длительная задержка на северо-западе Анатолии по соседству с Троей и последующее движение на юг и юго-восток, в материковые районы полуострова. Чрезвычайно интересно показать, как этот исконный исторический сюжет отозвался в гомеровском рассказе о другой группе ликийцев — пришедшей на помощь Трое дружине из «большой» Ликии во главе с Сарпедоном и Главком. Большинство авторов до сих пор считают древнейшей версией мифа о Сарпедоне ту, что отразилась у Гесиода (Schol. А, В к Il. XII,292) и Геродота (I,173), где этот герой изображался критянином, сыном Зевса и Европы, братом Миноса, после неудачной борьбы за власть уводящим племя термилов с острова в Ликию. Гомеровская же генеалогия Сарпедона, делающая его внуком Беллерофонта и двоюродным братом Главка, сына Гипполоха, считается вторичной, удовлетворяющей претензии ионийских Главкидов на глубокие анатолийские корни [Robert, 1881, с. 115 и сл.; Gruppe, 1906, с. 327; Wilamowitz-Moellendorff, 1916, с. 136; Malten, 1944]. Доля истины здесь есть: вводя сцену, где умирающий от раны Сарпедон передает власть над ликийцами Главку (XVI,492 и сл.), поэт прямо льстит чувствам своих меценатов. Но когда мы задумываемся над истоками преданий о Сарпедоне, защищающем Трою, проблема оказывается и интереснее, и сложнее.
Начать с того, что Σαρπηδών — не только героическое имя, это еще и местное название. На побережье Киликии высился мыс Сарпедон с одноименным городом и храмами Аполлона и Артемиды Сарпедонских (Strab. XIV,5,4; Diod. XXXII, 10). Но и на побережье Эгейской Фракии рядом с устьем Гебра тоже находилась гора Сарпедон с поселением и святилищем Посейдона (Hdt. VII,58; Ар. Rhod. 1,216; Strab. VII, фр. 51). Сравнивая описания двух мысов Сарпедонов, мы поражаемся не только близости реалий — огромное возвышение с храмом, имеющее признаки священного места, — но и устойчивому повторению применительно к этим весьма далеким друг от друга пунктам одних и тех же словосочетаний — Σαρπηδονίη ἄκρη «мыс Сарпедонский», Σαρπηδονίη πέτρη «скала Сарпедонская», Σαρ-πηδών ἀκτή «Сарпедонское взморье», как если бы в самом этом местном названии была скрыта лексема со значением «мыс, скала, возвышенность» и т. п., глоссируемая соответствующими греческими словами. Лексикограф Геродиан прямо пишет: «Сарпедон: или герой, или скала, или берег, или остров» — и приводит цитату из «Киприй», где говорится о мифических Горгонах, якобы живущих среди Океана на «Сарпедоне, острове скалистом» [Zwiecker, 1921, кол. 43; Bethe, 1922, с. 163].
Поэтому для данного названия семантически полностью оправдана этимология, предложенная Л. А. Гиндиным [Гиндин, 1981, с. 65 и сл.]. Конечный элемент -δών, представленный в ряде северобалканских топонимов, например Μακϵ-δονία, букв. «Высокогорная местность», ср. греч. μακρός «высокий, длинный», или Μυγ-δονία «Болотистая местность», ср. греч. μύχος «болото», может рассматриваться как фракийское отражение и.-е. *g’hdhom «земля», греч. χθών, др.-инд. kšam и т. д. [Гиндин, 1980, с. 180 и сл.] (ср. [Дуриданов, 1969, с. 60]). Начальная же часть Σαρπη- сопоставима с лув. šarpa/i, лик. hrppi «поверх», лид. śrfaśti(d) «верхний», хет. HUR SAG Šarpa «гора Высокая», расширенным вариантом основы, представленной в хет. šer «поверх». Значит, в названиях мысов во Фракии и Киликии, а также мифического скалистого острова в Океане заключено понятие «высокой земли», возвышенности.
Такая этимология имеет очень серьезные последствия для этно-исторической реконструкции. Ведь элемент -δων — чисто северобалканский, чуждый хетто-лувийским языкам, где и.-е. *dhg̑hom/g̑hdhom «земля» отражается иначе: хет. tekan, лув. иер. takami, лув. tijammi. Но точно так же основа sarpali- характерна именно для хетто-лувийских языков: даже простой корень *ser- не имеет ясных внешних связей, если не считать проблематичного сближения с греч. ρίον «мыс», возможно, из *srijo- [Heubeck, 1964], а расширенный вариант *sar-p- — образование чисто хетто-лувийское. Во Фракии оно обнаруживается на очень близком к Анатолии участке побережья вблизи устья Гебра. Мы уже убедились в том, что это место особо выделяется с точки зрения фрако-лувийских связей: отсюда в Троаду является герой Пейрос Имбрасид, чье имя связано с названием местности Пейросса в области троянских ликийцев, а образ происходит из самых глубин лувийской мифологии. Кроме того, в названии мыса, лежащего на том же побережье чуть западнее фракийского Сарпедона, Serrium, Σέρρϵιον, легко распознать параллельную к хет.-лув. sarpa- основу sarri с тем же значением «поверх»: лув. šarri, лик. hri, хет. ЛИ Šarija [Цымбурский, 1987б, с. 64]. Предполагаемое отражение основы *Sarp- (> *harpa с переходом s > h как в лик. A hrppi) в названии притока Гебра Ἁρπησσός, ср. карийский гидроним Ἅρπασος «Верхняя река» [Гиндин, 1981, с. 75], может быть только лувийским диалектным заимствованием во фракийском, ибо самому этому языку подобный фонетический переход чужд. Долина и устье Гебра отмечены лувийскими языковыми и мифологическими вкраплениями, среди которых должно найти себе место и название Сарпедон как интереснейший случай фрако-лувийского гибридного образования из двух основ, лувийской и фракийской, о чем впервые было сказано в работе [Цымбурский, 1987б, с. 67].
Где же складывался образ героя Сарпедона, как бы персонифицирующего земные возвышенности, «Высокую Землю»? Мы знаем, что само это имя — исконный топоним. Но именно поэтому критское происхождение героя очень маловероятно, ибо ни одна из двух частей его имени не находит параллелей в топономастике Крита. Да и появляется Сарпедон здесь уже в роли ликийского вождя. Скорее легенду о Сарпедоне-критянине следует объяснять, учитывая высочайший культурный авторитет всего критского в Юго-Западной Анатолии первой половины и середины II тысячелетия до н. э., когда какие-то группы лувийцев пытались утвердиться на «священном» острове [Meyer, 1928, с. 546; Huxley, 1961; Palmer, 1962; Гиндин, 1967, с. 108]. Версия Геродота восходит к преданию, отразившему возвратное движение в Анатолию лувийцев, вытесненных с острова так называемыми критскими минойцами. В Милете, основание которого приписывалось Сарпедону, древнейший слой имеет явные критские признаки, что обычно объясняется критской колонизацией в этих местах [Weickert, 1959, с. 183, 192]. Но точно так же эти критские выходцы в числе основателей Сарпедонова города могут быть отступающими с острова лувийцами. Как видно из структуры имени Сарпедона, оно возникло сперва в качестве топонима в местах интенсивных фрако-лувийских контактов, затем было перенесено на юг мигрирующими лувийскими этносами уже в двух функциях: топонимической и мифологического антропонима.
Следует иметь в виду, что в Анатолии эти функции, по-видимому, разъединены между собой. Гора Сарпедон в Киликии удалена от Ликии и Карии, где действует герой Сарпедон, и он с этой горой никак не связывается, разве что в позднем и весьма искусственном рассказе епископа Василия Селевкийского, у которого Сарпедон в поисках пропавшей сестры случайно забредает в Киликию. Но если на юге топоним и героический образ живут порознь друг от друга, то во Фракии дело обстоит иначе: в здешних преданиях слиты в единый комплекс образ горы и омонимичного ей героя, считавшегося здесь сыном Посейдона и братом мифического фракийского царя Полтия (Schol. Eur. Rhes. 29; Schol. Ap. Rhod. I,216). Важнейшим эпизодом этих преданий оказывается гибель героя от руки завоевателя Геракла во время плаванья того к берегам Трои. Об этом сообщает Аполлодор (II,5,9): «Он (Геракл) на Энийском побережье выстрелом из лука убил чинившего насилия Сарпедона, сына Посейдона и брата Полтия». Несколько иная версия в надписи IG XIV, 1293 (Marm. Farnes. А 82): «Геракл, выступив походом во Фракию, убил Диомеда и овладел фракийцами, а взяв Энос, заколол правителя Сарпедона». Итак, в тех местах, где, скорее всего, оформилась гибридная фрако-лувийская топонимическая лексема, мы находим в наиболее архаичном, прямо ориентированном на местный ландшафт варианте образ богатыря «Высокой Земли», считавшегося здесь, как и в Анатолии, сыном великого бога (последний на Гебре отождествлялся с Посейдоном, а в эллинизированной Ликии — с Зевсом).
Миф о поединке Сарпедона с Гераклом на берегу Фракийского моря находит отголосок в гомеровской сцене воинственной перебранки Сарпедона-ликийца с сыном Геракла родосцем Тлеполемом (Il. V.628 и сл.). Когда этот герой, осмеивая претензии Сарпедона на божественное происхождение, превозносит своего отца Геракла как разрушителя Илиона, Сарпедон убивает Гераклова сына (ср. Apd. II,5,9, где одоление Сарпедона-фракийца смыкается с появлением Геракла в Троаде). Тема «сравнения доблестей Геракла и Сарпедона» была очень популярна в позднейшее время в Ликии, где почти одновременно в конце V в. до н. э. она всплывает в речи грекоязычного ритора Николая из Миры [Zwiecker, 1921, кол. 37] и в «труйской» части стелы из Ксанфа (TL 44 d 6–7): zrppedunike qezm̃mi werikẽbeke χñtabã uweti — по наиболее убедительному толкованию [Баюн, 1990, с. 49], «род Сарпедонов, словно Геракл, изрекает распоряжение». По всей вероятности, идея со- и противопоставления этих имен пришла к обитателям Ликии из гомеровского эпоса. Но за самим этим гомеровским эпизодом виден старый сюжет победы Геракла над Сарпедоном, входивший в круг сказаний о первой, «Геракловой» Троянской войне, преданий, которые, как говорилось выше, могли в значительной степени оформиться еще в последние десятилетия расцвета Микен и послужить источником многих образов и мотивов, позднее включенных в рассказ о войне Агамемнона.
Ахейским грекам была хорошо известна, по-видимому, воспринятая из Анатолии лексема Сарпедон в топонимическом употреблении: она отражена в местном названии из окрестностей Пилоса sa-ra-pe-do, вариант sa-ra-pe-da (PY Er 02, Un 718 [Ventris, Chadwick, 1959, c. 408]), где начальный элемент Srape- должен представлять передачу анат. *sṛpi, ср. лик. hrpi, лид. śrfaśti со слоговым сонантом. В ту же эпоху могли возникнуть и два типа эпических сюжетов с участием Сарпедона, соответствующие двум направлениям восточной экспансии Аххиявы: песни, где родосский Тлеполем бился с Сарпедоном на берегах Родоса и Милаванды-Милета, и другие, в которых Геракл, плывя к городу Лаомедонта, сражал Сарпедона, персонифицирующего скалу и город на противолежащем побережье Фракии. Из сосуществования, взаимопритяжения и контаминации этих двух — эгеофракийского и родосско-ликийского — типов «сарпедоновских» песен следует исходить, объясняя генезис сказания о походе южного Сарпедона, Сарпедона-ликийца, на север в Троаду и его схватке под илионскими стенами с явившимся сюда же родосским царем, примкнувшим к войску Агамемнона. У Гомера ликийский Сарпедон противоборствует ахейцам Агамемнона в том же ареале, где в версиях более древних его фракийский тезка сражался с Гераклом.
Впрочем, тезка ли? Или скорее двойник, оставшийся в древних местах обитания лувийцев, которые здесь усвоили этот образ в забрали его с собой в Анатолию? Хотя нет надежных данных о почитании Сарпедона в самой Трое — впрочем, известно позднее упоминание Тертуллиана (De anim. 46) о будто бы существовавшем троянском его оракуле [Zwiecker, 1921, кол. 45], — традиция о его битвах в Трое не случайно вернула героя так близко к местам, где, вероятно, возникло само фрако-лувийское имя полубога «Высокой Земли». В своем саморазвитии предание бессознательно реконструирует свои истоки, возвращая образ на его родину.
То размежевание троянских и пришлых, южных ликийцев, которое дает Гомер, соответствует длившейся свыше тысячелетия эпохе, когда лукка, осевшие на периферии Трои, и основная масса лувийцев, ушедших на юг, разошлись, чтобы ко времени жизни Гомера снова сойтись на земле Ликии. При более глубокой реконструкции обе ликийские темы «Илиады» обнаруживают в основе своей реликты североэгейской, «паратроянской» фазы в предыстории обоих этносов, выступающих в середине I тысячелетия до н. э. как носители двух ликийских языков, А и Б.
9
Думается, в том же ключе следует рассматривать традицию о киликийских поселениях, будто бы существовавших в Трое во времена Приама. Мотивы, связанные с троянскими киликийцами, занимают видное место в композиции «Илиады». Достаточно сказать, что этими мотивами проникнута знаменитая сцена прощания Гектора с Андромахой из VI песни, ибо сама Андромаха, один из ярчайших женских образов у Гомера, по происхождению киликийская царевна, дочь царя Ээтиона, правившего в городе киликийцев Подплакийской Фиве. Весь диалог супругов построен на воспоминаниях о недавнем разрушении ахейцами Подплакийской Фивы, где погибли отец, мать и братья Андромахи, — и в равной мере на предчувствиях подобной же судьбы, грозящей Илиону и его правителям. Более того, поход на киликийские города предстает у Гомера своеобразным прологом сюжета «Илиады», поскольку именно в этом походе оказались в качестве добычи захвачены женщины — Хрисеида и Брисеида, из-за которых вспыхивает раздор между Агамемноном и Ахиллом. Таким образом, замышляя свой сюжет, Гомер отталкивался от более раннего сказания, повествующего о гибели некогда существовавших в Троаде городов, заселенных киликийским племенем.
Местные предания помещали эти города на юге области у берега Адромиттенского залива, и пишущие о них античные эрудиты, отмечая промежуточное положение этой северной Киликии между собственно Троей и Мисией, колеблются, не причислить ли троянских киликийцев к мисийцам (Schol. Eur. Rhes. 5). Страбон (XIII,1,60; XIV,5,2), локализуя это племя рядом с педасскими лелегами, приводит разноречивые мнения насчет его возможного родства с одноименным народом на юге Анатолии. Сам он решительно не согласен с авторами, видящими в здешних киликийцах переселенцев с юга, и, напротив, считает их троянским племенем, вытесненным отсюда после великой войны новопришлыми народами.
Нужно сказать, что мысль о происхождении жителей этих городов из исторической Киликии в свете современных данных должна быть отвергнута. В IX–VIII вв. до н. э., т. е. в эпоху, включающую время создания «Илиады», будущая Киликия была в основном населена хурритами и называлась в ассирийских документах страной Qawe или Q(u)we, нововавил. Ḫume. Народ же, который греки звали Κίλικϵς, а ассирийцы Ḫilaku или, в одной надписи IX в. до н. э., Ḫiluka, обитал к северу от этой страны, на территории Катаонии, скорее всего в верховьях Галиса, где, согласно Геродоту (1,72), киликийцы жили еще в V в. до н. э. [Kretschmer, 1933, с. 233 и сл.; Goetze, 1962, с. 54 и сл.; Houwink ten Cate, 1961, с. 17 и сл.]. Продвижение их на юг и превращение страны Кве в Киликию произошло лишь в начале VII в. до н. э. и ознаменовалось широкой «лувизацией» местной ономастики, что позволяет включить киликийцев в число позднелувийских народов [Goetze, 1962, с. 57].
Как же могут соотноситься между собой легендарные киликийцы эпохи Приама в Трое и реальные киликийцы IX–VIII вв. до н. э. в Катаонии? Хотя прямых подтверждений версии Страбона о приходе последних из Трои у нас нет, некоторые косвенные обстоятельства вызывают раздумье. На протяжении всей истории Хеттского царства киликийцы ни разу не упоминаются на этой территории, известной хеттам под названием Нижней страны, но появляются здесь спустя два с половиной века после гибели Хаттусаса. Эти 250 лет были заполнены движением по Анатолии миграционных волн, в основном с севера и северо-запада.
Структура этого племенного имени не совсем обычна для хетто-лувийских этнонимов. Этнонимические образования на -k более характерны для Северных Балкан, где некоторые имена представлены в дублетных вариантах, как с этим суффиксом, так и без него: ср. Θράϊκϵς < Traus-ik- при Thrausi; Δᾶκοι при более древнем варианте Δᾶοι < *Dhau̯o- «Волки, Волчье племя», ср. фриг. δᾶος «волк» по Гесихию, лат. Faunus — Волчье божество и пр.; ассир. Muš-ku при греч. Μυσοί; также эпиротский этноним Γρᾶϵς, откуда собирательное название северных греков Γραικοί ([Parlangeli, 1960, с. 310] с литературой). В хетто-лувийском регионе подобный тип коллективных имен известен в самом северном языке этой семьи, палайском, где в ритуальном тексте «Формула хлебов» при помощи суффикса -(i)k-образуются с окончанием множественного числа общего рода -eš названия групп пирующих богов Ilaliyantikeš, Uliliyantikeš, Gulzannikeš, а с окончанием того же числа среднего рода -a названия видов поедаемого богами мяса: huwašanika, ginuka < и.-е. *g̑enu-«колено» и т. д. [Камменхубер, 1980, с. 207 и сл.]. По типу образования имя киликийцев (Ḫilaku, Ḫiluka) явно тяготеет к северу или к северо-западу полуострова, откуда в XII в. до н. э. двинулись в глубь Анатолии племена Mušku; вспомним троянские легенды, рисующие своего рода симбиоз местных киликийцев с мисийцами.
Что же касается основы Ḫila-, то для нее можно предложить хорошую хетто-лувийскую этимологию, указав на хет. ḫila «двор, ограда», ḫilamar «дверной проход», лув. иер. ВОРОТА + lа-na, обычно читающееся *hilana, ср. ассир. bit ḫilani, заимствование, обозначающее тип ворот с портиком [Singer, 1975, с. 71 и сл.], наконец, лик. qla «храм, ограда храма» [Laroche, 1960, с. 183]. В хетто-лувийской ономастике эта основа очень популярна: от нее образуются топонимы URUḪila, URUḪilama [Tischler, с. 242], личные имена Ḫilija, Ḫilanni, композит Ḫela-DLAMA «Бог-Защитник Двора» [Laroche, 1966, с. 67], имена богов двора DḪilašši, DḪilaššiili [Laroche, 1947, с. 69], также DḪilan-zipa «Гений Входа» [Friedrich, т. 1, с. 69; Friedrich, 1926, с. 179 и сл.]. Для позднеанатолийского периода можно отметить соответствие ликийской эпиклезы богини Лето eni qlahi «Матерь Храма, Священной Ограды» хеттскому DḪilašši «Бог Двора, Ограды» [Houwink ten Cate, 1961, с. 93]. Продолжения этой основы находим в лик. Τροκον-γιλανις < *Tarḫunt-ḫilani, букв. «Человек Двора Тархунта (Бога Грозы)», в писид. Κϵλλιμωτας [Zgusta, 1964, с. 222] < *Ḫila-muwatta «Мощь Двора», где ко второй части ср. хет.-лув. muwa «мощь», muwattali «мощный». Точно так же имена Κιλλας, Κιλλα, распространенные по всей Западной и Южной Малой Азии от Мисии до Памфилии [Zgusta, 1964, с. 230], могут быть возведены к хет.-лув. Ḫilija, а за именами типа лик. Κιλυας, кар. Κιλλοη, килик. Κιλαβας встает праформа хет.-лув. *Ḫilawa > *Ḫiluwa. К этому массиву ранне- и позднеанатолийских форм естественно примыкает этникон Ḫila-k-/Ḫilu-k, который легко толкуется в значении «племя, живущее вблизи священной ограды, храма» или просто «племя, обитающее рядом с местом, называемым Ḫila».
Здесь результаты лингвистического анализа прямо смыкаются со свидетельствами троянской топономастики. Вглядываясь в строки Страбона, описывающие места обитания троянских киликийцев, мы понимаем причину уверенности географа в здешнем происхождении этого народа. По Страбону (XIII,1,63), киликийские города Лирнесс и Подплакийская Фива непосредственно соседствовали со святилищами Аполлона Киллой (Κίλλα) и Хрисой (Χρύση), составляющими единый сакральный центр северной Киликии. О том же говорит гомеровская молитва жреца Хриса к Аполлону (Il. I,37 и сл., 451 и сл.): «Сребролукий, ты, что обходишь Хрису и священную Киллу и мощно правишь Тенедом, о Сминфей!». Проступающая в этой молитве особая выделенность в данном комплексе «священной Киллы» подтверждается и тем, что, по Страбону (XIII,1,62; II,59), во всех упомянутых в молитве Хриса местах Аполлон еще в историческое время почитался под именем Киллейского (Κιλλαῖος) (ср., возможно, в линейном Б личное имя ki-ri-ja-i-jo PY An 519 [Ventris, Chadwick, 1973, с. 554]). Мимо киликийских городов струилась Киллейская река (Κιλλαῖος ποταμός), здесь же возвышалась Киллейская гора (Κιλλαῖον ὄρος) и был город Κίλλαιον (в Трое и на Лесбосе). Эпонимом этих мест была мифическая сестра и возлюбленная Приама Килла (Κίλλα), по легенде заживо им погребенная вместо обреченной оракулом на смерть Гекубы (Apd. III,12,3; Schol. Lycophr. 224, 319). Но был известен и мужской эпоним Κίλλας, древний царь этого края или, по другой версии, герой-возница лидийского Пелопса; его гробницу в эллинистическое время показывали приезжим как местную достопримечательность (Strab. XIII, 1,63; Paus. V,10,7). Имя местных киликийцев включается в сознании греков в тот же ряд имен, означая «народ, живущий рядом с Киллой». Потому-то Страбон, высказывающий догадку о царе Килле как родоначальнике и эпониме киликийцев, видит исток этого народа в Трое, а не на юге. Удвоенное l в Κίλλα по сравнению с этнонимом Κίλικϵς и областью Κιλικία не составляет проблемы, так как в греческих передачах анатолийских имен чередовалось неудвоенное и удвоенное λ (ср. исаврийское личное имя Γουλ(λ)ας от хеттской основы kula- [Houwink ten Cate, 1961, с. 151; Zgusta, 1964, с. 15] и др).
На этимологическом уровне тождество троян. Κίλικϵς и анат. Ḫilak(u) вытекает из допустимости идентификации мотивирующего троянский этникон названия Κίλλα в качестве обозначения священного места с хет. ḫila «двор», в том числе «двор храма», лик. qla «храм». Более того, прозвище Аполлона Κιλλαῖος точно сопоставимо с ликийским именованием Лето eni qlahi «Матерь Храма», а в ретроспективе и с хет. DḪilašši «Бог Ограды, Двора». Киликийцы в Трое — это действительно народ, получивший имя от топонима Ḫila- = Κίλλα, т. е. от своего Храма, сакрального Двора-ограды.
Могли ли хетты и лувийцы принести термин ḫila-, обозначающий как огражденное пространство между домом и внешним миром, так и самое ограду и в равной мере проход из внешнего мира внутрь дома (ср. родство индоевропейских названий для «двора» и «двери»), со своей предананатолийской прародины? Надежной этимологии у слов ḫila, ḫilana, ḫilamar пока нет. О. Герни, ссылаясь на чтение одной таблички из Мари XVIII в. до н. э. (ARM I, 3, 10), считает, что ассир. (bit) ḫilani могло бытовать в Сирии еще до появления здесь хеттов, иными словами, что вся эта группа слов представляет неиндоевропейские культурные термины [Герни, 1987, с. 186]. Но другие авторы либо оспаривают это чтение формы из Мари (в самом деле, довольно испорченной) по эпиграфическим соображениям [Renger, 1972, с. 405; Tischler, с. 244; Singer, 1975, с. 69), либо — в случае его справедливости — ставят под сомнение исконную связь сирийского термина с хет. ḫila, ḫilamar [Güterbock, 1972]. С другой стороны, хет. ḫilamar, род. пад. ḫilamnaš, принадлежит к очень древнему типу индоевропейских гетероклитических имен с чередованием суффиксов -mer/-men, ср. греч. λύμαρ/λύματος «нечистоты», лат. femur/feminis «бедро». Сомнительно, чтобы этой моделью могло быть охвачено неиндоевропейское заимствование.
Хотя мнение Страбона о непосредственном уходе киликийцев в Памфилию из Троады и опровергается показаниями ассирийских источников, в одном великий географ прав: перед нами еще одно лувийское племя или группа племен, следы которых ведут в глубь Анатолии из Троады.
10
В недавнее время К. Уоткинс обратил внимание на еще одно свидетельство троянского наследия в лувийской традиции, на этот раз доставляемое письменным источником хеттского времени. Речь идет о тексте KBo IV,11,45–46, содержащем описание ритуала, в ходе которого жрец произносит сакральные формулы на лувийском языке. Во время принесения жертвы богу Šuwašuna он произносил, в частности, следующую фразу (стк. 46): aḫ-ḫa-ta-ta a-la-ti α-ú-i-en-ta ú-i-lu-ša?-ti. Даем транслитерацию по Ларошу [Laroche, 1959, с. 164], который вслед за Б. Розенкранцем принял чтение ú-i-lu-ša-ti [Rosenkranz, 1952, с. 32] вместо ú-i-lu-ga-ti, как ранее читал Т. Боссерт [Bossert, 1946, с. 105 и сл.]. Действительно, клинописные знаки для ša и ga очень сходны, что вполне оправдывает конъектуру Розенкранца и Лароша. В интервью 1985 г. итальянскому журналисту М. Конти К. Уоткинс дал для этой фразы перевод: «Когда из высокой Вилусы пришли», предположив, будто речь идет о солдатах, возвратившихся из похода. Развивая свою мысль, ученый, судя по изложению журналиста, выражал убежденность в том, что в Вилусе, идентичной греческому Илиону, говорили на «близкородственном хеттскому языке с большим влиянием греческого» [Conti, 1985]. Позже Уоткинс более точно и аргументировано изложил свою гипотезу уже в научных изданиях (см. [Watkins, 1986, с. 58 и сл.; Watkins, 1987, с. 424 и сл.]). Он предлагает рассмотреть данную строку в качестве начальной из лувийского эпоса о городе Вилуса, вкрапленную в хеттский текст. Помимо ярких поэтических признаков строку отличает полное семантическое и формальное совпадение лувийского сочетания alati… Wilusati с гомеровской формулой (ϝ)ίλιος αἰπϵινή «высокий Илион» (И. XIII,773; IX,419, 686; XV,215, 558; XVII,328); Уоткинсом указывается еще другой лувийский контекст, свидетельствующий о формульности и лувийского выражения. В связи с изложенным вопрос Уоткинса: «Не идет ли речь об общей поэтической традиции для обоих языков и культур?» — вызывает законный интерес.
О греческих элементах в Илионе мы упоминали в гл. 5. По поводу же интерпретации Уоткинса надо сказать следующее. Гипотеза о солдатах и вообще о некоем походе лувийцев в Вилусу никак не поддерживается контекстом и кажется излишней. Слово ala/i неоднократно упоминается в лувийских текстах, в том числе в связи с добычей соли. П. Мериджи допускал для него значение «море» [Meriggi, 1957, с. 215] (ср. [Laroche, 1959, с. 25 и сл.]), и тогда эта строка переводилась бы: «Когда пришли (не обязательно “вернулись”!) из Вилусы, с моря». Но как бы ни было заманчиво такое понимание, перспективнее кажется в толковании термина ala/i пойти иным путем, опираясь на употребление омонимичной лексемы в памятниках лувийской иероглифики в контекстах типа ĩ-wa ká-la-n Iá-s-ti-wa-su-s ktu-ta — «Эту ala поставил Астивасу». Мериджи отмечает, что в таких контекстах ala было бы легче всего перевести как «скала, камень» [Meriggi, 1967, с. 11 и сл.]. Если сходное значение «скала, гора» мы примем для ala/i в клинописном лувийском, то восстанавливаемое сочетание *u̯ilušaš alaš «Вилуса-гора» поразит нас точным соответствием сочетаниям вроде Ἴλου ὄρος «Илова гора» в Лидии, Ἰλίου ὄρος «Илион-гора» (Пелопоннес), Ἴλίου αἰπύ «Илион высокий» (Троада) и т. п. Поэтому как параллели в лувийской иероглифике, так и общефилологические соображения заставляют нас предположить перевод этой ритуальной формулы, достаточно близкий к переводу Уоткинса, но, думается, более точный: «Когда пришли они от Вилусы-горы» (некоторые специфические детали см. [Гиндин, 1990, с. 61 и сл.; Gindin; Гиндин, 1993]).
Нельзя переоценить важности привлеченного Уоткинсом лувийского ритуального контекста с мотивом «прихода от Вилусы» для исследования двуединой проблемы: как значения Трои в истории лувийцев, так и места последних в троянской истории С мнением о доминировании лувийцев во II тысячелетии до н. э. в составе населения Троады согласиться невозможно. Мы не находим здесь массивного лувийского топономастического слоя, который неизбежно возник бы в подобном случае. Топономастика Трои имеет в основном явный раннефракийский характер. Археологически Троя этого времени также не имеет ничего общего с лувийскими районами Анатолии. И в то же время данные традиции в совокупности с лингвистическим материалом позволяют думать, что в эту эпоху лувийская речь, причем в достаточно архаичных ее формах, звучала на крайнем севере области, в Троянской Ликии, равно как и на юге, в городах троянских киликийцев и, возможно, в «лелегском» Педасе. Все лувийцы прошли или через Трою, или мимо Трои, и лувийские вкрапления в «Приамовой» Троаде — это остатки племен, ушедших «от Вилусы-горы» в конце III тысячелетия до н. э.
Подведем итоги. Контакты лувийских и раннефракийских племен на троянской территории сперва выступали прямым продолжением аналогичных контактов в Юго-Восточной Европе и далее, по мере выхода лувийцев к Эгейскому морю и Пропонтиде, в прибрежных областях Эгейской Фракии (особенно в этом плане примечательны долина и устье Гебра). Мы отмечали, что в III тысячелетии до н. э. Троада входила вместе с раннефракийским регионом в единый огромный очаг индоевропейских культур. В числе их находились и культуры ранних лувийцев, переход которых через проливы первоначально вовсе не носил характера радикального обособления от этого «очагового» ареала, но скорее выглядел сравнительно небольшим сдвигом в его пределах. В какое-то время (вероятно, в эпоху Трои II) лувийская речь могла быть в Троаде достаточно престижна: наследием этой эпохи остался царский титул *Prijama, может быть, название акрополя-Пергама и т. д. Затем последовало перемещение основной массы местных лувийцев в более южные области, возможно, под давлением раннефракийских соседей, подобно тому как позднее лувийцы были вытеснены минойцами с Крита к своим историческим соплеменникам.
Первоначально общим наименованием лувийских племен и заселяемой ими страны было Luk(k)ā. Ономастические реликты лувийского («лукийского») пребывания на Крите и в некоторых областях Балканского полуострова позволяют утверждать, что именно как сообщество племен Lukā лувийцы были изначально восприняты греками. В дальнейшем, с середины II тысячелетия до н. э., когда крупнейшими противоборствующими и одновременно взаимодействующими этнокультурными комплексами на юге и юго-западе Анатолии в полосе от Киликии до Герма становятся, с одной стороны, греки Аххиявы, а с другой — лувийцы, имя Λύκιοι приобретает исключительный удельный вес в греческих преданиях и эпических песнях как знак всего этого противостоящего ахейцам мира. Ликийская тема в греческой культуре сложилась под определяющим воздействием контактов греков с лувийцами по всей прибрежной полосе лувийских территорий, хотя она включает и более ранние слои, отражающие столкновения с представителями лувийских племен на Балканах в начале и первой половине того же тысячелетия. Не исключено, что зелейские ликийцы обязаны своим появлением и несоразмерно большой ролью на синхронном уровне гомеровского текста уходящей в тысячелетнюю глубину, к концу III тысячелетия до н. э., памяти о доисторических лувийцах (Lukā) в Трое II.
Глава 7 Хетты в Троянских сказаниях
1
Для полного понимания принципов взаимодействия гомеровской сюжетики с легендарной историей анатолийских народов недостаточно рассмотреть такие случаи, когда легенда и Гомер как бы естественно стремятся друг другу навстречу. Нам нужно осмыслить и противоположные случаи, когда сюжет, за которым может стоять интереснейшая страница малоазийской истории, оказывается за пределами интересов поэта, отзываясь в его строках в лучшем случае беглой, глухой реминисценцией. Почему это так происходит, мы попробуем понять на примере одного темного контекста в «Одиссее», загадка которого как бы завещана Страбоном антиковедению нового времени.
Это строки (519–521 XI песни) из рассказа о путешествии Одиссея в загробное царство, когда он, утешая скорбящего по земной жизни Ахилла, рассказывает тому о подвигах его сына Неоптолема. Здесь-то и звучат слова: «Я не вспомню и не назову всех поименно, скольких воинов он истребил, обороняя аргивян. Но какого Телефида, героя Эврипида, он умертвил медью! И многие вокруг того спутники-кетейцы погибли из-за женских даров». Легко заметить, как изысканно построен контекст в греческом оригинале: ἕταροι Κήτϵιοι… κτϵίνοντο — «спутники-кетейцы… погибли», где повторы фонем k и t подчеркивают и обыгрывают название впервые упоминаемого Гомером народа. Но Страбон (XIII,1,69) правильно уловил некую темноту и недосказанность в этих строках: «Поэт только до определенной степени помнит эту историю… скорее загадывая нам загадку, чем говоря нечто ясное: ведь мы не знаем, ни кого должно понимать под какими-то “кетейцами”, ни что [под выражением] “из-за женских даров (γυναίων εἵνϵκα δώρων)’’».
Нельзя сказать, чтобы традиция и впрямь не давала Страбону ответа на последний его вопрос. Скорее сам великий географ по каким-то мотивам игнорировал этот ответ, бросив там же презрительное замечание в адрес комментаторов, которые, привлекая мифологические побасенки (μυθάρια), больше пустословят, чем решают проблему. Можно быть в относительной уверенности, что упоминаемые «побасенки» — это прежде всего рассказ о хранившейся в Илионе золотой лозе, полученной Лаомедонтом от Зевса в возмещение за взятого на Олимп царевича Ганимеда. Этот мотив преломился в строках из «Малой Илиады», приписывавшейся поэту Лесху из Митилены (Schol. Eur. Tro. 822): «Виноградная лоза, которую Кронид послал в воздаяние за его (Лаомедонта) чадо, покрытая прекрасными золотыми листьями и гроздьями: изготовив их, Гефест ее дал отцу Зевсу, а тот послал Лаомедонту за Ганимеда». Эта золотая лоза — ключевой образ предания о кетейцах. Евстафий и схолиасты (к Od. XI,520), поясняя слова Гомера о «женских дарах», сообщают, что Приам подарил ее своей сестре Астиохе, матери царя кетейцев Эврипила, которая за подарок послала сына на гибельную для него войну. По другой приводимой там же версии, подкуплена была не мать, а жена Эврипила.
Итак, за какие «женские дары» гибли кетейцы, древние понимали достаточно ясно. В то же время представления о самих кетейцах были очень туманными. Правда, Страбон (XIII, 1,70) связал их имя с названием речушки Κήτϵιος в долине Каика вблизи Пергама, а Евстафий (там же) прямо донес мнения об их тождестве с древними пергамлянами — гипотеза, в новое время подкрепляемая найденной в Пергаме монетой с надписью ΚΗΤΕΙΟΣ. Но сверх того об этом невесть куда пропавшем с малоазийской карты народе ничего не было известно, и бытовали лишь отраженные у Евстафия и схолиастов (там же) догадки о происхождении его имени от κῆτος «морское чудище, кит», якобы в ознаменование гигантского роста (ср. в словаре Гесихия под словом Κήτϵιος: «род в Мисии, [названы так] по притоку реки Каика. Или [в смысле] “большие”, μεγάλοι»).
Напротив, ученые ΧΙΧ—ΧΧ вв., оставив в стороне миф о «женских дарах», вплотную занялись именем каикских кетейцев. Началось с того, что У. Гладстон, знаменитый политический деятель, одновременно бывший большим поклонником и другом Г. Шлимана, в одной из своих книг по гомеровскому вопросу, достаточно дилетантских по методике, но не лишенных здравых и остроумных наблюдений, впервые сопоставил кетейцев с известными в ту пору только из Библии хеттами, или «сынами Хета». Он же возвел к имени кетейцев-хеттов и название города Κήτιον/Κίτιον на Кипре, откуда идет библейское название Кипра Kittim [Gladstone, 1876, с. 173 и сл., 178]. Позднее А. фон Гутшмид сюда же присоединил название Кетиды (Κητίς или Κιητίς), области в Киликии, и, наконец, в 1927 г. П. Кречмер выступил с развернутым обоснованием возможности отражения имени хеттов во всей этой серии топонимов ([Kretschmer, 1927, с. 8]; там же ссылка на Гутшмида).
Но еще задолго до Кречмера основоположник хеттологии А. Сейс связал идею Гладстона с культурно-историческими свидетельствами движения хеттов на запад Малой Азии. Этому ученому принадлежит наблюдение, тонко раскрывающее специфику претворения истории в соответствии с мифо-эпическим каноном: он показал, что миф об амазонках — народе женщин, распространившем свою власть на всю Анатолию от Каппадокии до Эфеса и Смирны и вторгавшемся в Сирию, совпадает с историческими путями расселения хеттов. Более того, как подметил Сейс, один из крупнейших хеттских городов вблизи Богазкёя лежал совсем недалеко от легендарной «долины амазонок» Темискиры на р. Термодонт, соединяясь с этой долиной водным путем [Sayce, 1888, с. 78] (ср. [Garstang, 1929, с. 73]). Ученый еще не знал, что этот город окажется столицей Хеттского царства — Хаттусасом. Источником мифа об амазонках Сейс, а за ним Дж. Гарстанг и Ш. Пикар считали знакомство греков в Малой Азии с культовыми женскими общинами, наподобие общины Артемиды Эфесской, восходящими к хеттской эпохе, оберегавшими вооруженной силой святилища своих божеств, особенно часто — Великой Богини-Матери, и по своей многочисленности и иерархической организованности вполне способными производить впечатление самостоятельных государств [Sayce, 1888, с. 79; Picard, 1940, с. 270 и сл.; Garstang, 1929, с. 86].
Круг возможных предпосылок для сближения хеттов с амазонками был значительно расширен В. Леонхардом [Leonhard, 1911, с. 99 и сл.], указавшим прежде всего на обычную иконографию хеттов без бород и в длинных, как бы женских одеждах. Любопытно, что аналогичную догадку относительно происхождения мифа об амазонках из-за встречи греков в древности с неким воинственным народом, носившим длинные одежды и сбривавшим бороды, высказывал еще античный толкователь мифов Палефат в трактате «О невероятном» (De incred. 32). Далее, к таким же предпосылкам принадлежат и хетто-хурритские изображения женских или женоподобно-двуполых военных божеств, например скачущей на коне богини Иштар [Cavaignac, 1950, с. 48 и сл.; Иванов, 1977, с. 15 и сл.; Гиндин, 1983, с. 33; Gindin, 1990 с литературой]. Здесь надо вспомнить и другие хеттские образы, которые в восприятии греков могли быть притянуты к тому же мифу. Такова, например, странная фигура воина с округлой грудью на косяке ворот в Хаттусасе, рельеф, который легко, хотя, возможно, ошибочно, воспринимается как изображение женщины в кольчуге [Герни, 1987, с. 177]; или длинная процессия женских божеств, шествующих за верховной богиней навстречу мужским божествам на стене святилища в Язылыкая, — картина, истолкованная уже в 1839 г. открывшим это святилище Ш. Тексье как сцена встречи амазонок с пафлагонцами [Герни, 1987, с. 175]. Кстати, Э. Мейер усматривал в этой сцене отголосок ритуала, перекликающегося с «амазоническим» мифом [Meyer, 1914, с. 91]. Сюда же следует присоединить и свидетельства, говорящие об исключительно высоком статусе хеттских цариц, подобно жене Хаттусилиса III Пудухепе, имевших собственный двор и оказывавших глубокое влияние на все стороны государственной политики, об отдельных дворцах царя и царицы, особых «троне царствования» и «троне царицынствования» и т. д. [Герни, 1987, с. 62, 91; Ардзинба, 1982, с. 141 и сл.]. Все эти факторы вместе взятые могли участвовать в кристаллизации мифа, ставшего в Малой Азии I тысячелетия до н. э. формой сохранения в коллективной памяти информации о хеттской государственности и культуре.
Хорошо известные случаи отнесения страны амазонок и к иным регионам — от Фракии до северопричерноморских скифских степей и предгорий Кавказа — могут объясняться по-разному, в зависимости от взгляда ученых на соотношение истории и мифа. Либо миф о «народе женщин», возникший на малоазийской почве и отразивший уникальный исторический опыт, в дальнейшем переродился в чисто фольклорную схему, либо, наоборот, «царство женщин», исконно представлявшее один из фольклорных «миров навыворот», вроде мира людей с песьими головами или мира воюющих с журавлями пигмеев, благодаря своеобразию культурной реальности, с которой греки столкнулись в Анатолии, оказалось спроецировано ими в историческое прошлое, где вторично приобрело условный прототип в виде Хеттского царства. Для нас сейчас несуществен выбор между этими интерпретациями. Важно лишь, что сопоставление сказаний о нашествиях амазонок со свидетельствами хеттских документов и находками хеттских памятников в Западной Анатолии создает наглядную картину проникновения последних в этот регион и живого участия в фамильных распрях, междоусобицах и прочих его проблемах.
Вписавшееся в этот контекст и не представлявшее особых трудностей с формальной стороны сближение имен кетейцев и хеттов, прежде чем один из авторов данной книги посвятил этому доклад [Гиндин, 1978а] и специальную статью [Гиндин, 1983], было принято рядом крупных специалистов по истории древней Малой Азии [Sayce, 1888, с. 120; Garstang, 1929, с. 172; Hansen, 1947, с. 8; Дьяконов, 1968, с. 117; Иванов, 1977, с. 18]. Тем не менее в проблеме кетейцев по-прежнему много неясностей, и не случайно в некоторых авторитетных справочных изданиях гипотеза Гладстона-Кречмера отвергается как невероятная (см. [Kleine Pauly, т. 3, с. 206]). Историки, даже сочувственно относящиеся к ней, выражают удивление по поводу локализации кетейцев так близко к Трое и так далеко к западу от Хеттского царства [Дьяконов, 1968, с. 117] — удивление, особенно оправданное в свете раскопок Блегена, не обнаруживших никаких следов хеттского пребывания в Троаде. Со своей стороны, филолог должен заметить, что практически все авторы, занимавшиеся кетейцами в течение 100 лет после Гладстона, совершенно выпустили из виду ту часть гомеровского сообщения, которая содержит упоминание о «женских дарах». Смысл этого мотива остается неясным; по сути, обсуждается лишь созвучие имен, не проясняющее эпического контекста и не находящее в нем содержательной поддержки. Не предпринималось попыток реконструировать эпическую традицию о кетейцах, без чего совершенно невозможно представить, как рисовался в воображении греков этот народ во времена возникновения троянских сказаний. Для этого явно недостаточно гомеровского упоминания и лаконичных свидетельств мифографов, например, Аполлодора (Ep. V.12) о явившемся под предводительством Эврипила большом войске из Мисии.
Наконец, есть еще один исключительно важный аспект проблемы, который нельзя упускать из вида. Дело в том, что в современной Гомеру Малой Азии имя хеттов отнюдь не было мертвым, безвозвратно ушедшим в прошлое. Как раз после гибели Хеттской империи мелкие царства и княжества, возникавшие на ее руинах, особенно охотно претендовали на имя «страны Хатти». Так, с XII по VIII в. до н. э. «великим царством Хатти» именовало себя царство Мелид в Восточной Анатолии (хет. Малдия). В примыкавших к нему владениях Куммухе (греч. Κομμαγηνή) и Гургуме правители принимали древнехеттские имена Суппилулиумас, Хаттусилис и Мутал (Муватталис). В Северной Сирии со «страной Хатти» отождествлялся прежде всего Кархемыш. Но южнее его, на реке Оронте (хет. Аранта), лежало царство Унки, также присвоившее себе второе имя Хаттина, и его владетели с гордостью носили имена Супаллума (т. е. Суппилулиумас) и Лубарна (др.-хет. Лабарнас) (см. [Meyer, 1931, с. 346, 371 и сл., 380, 421 и сл.; Olmstead, 1960, с. 94, 124; Дьяконов, 1968, с. 129 и сл., 235 и сл.]).
Для ассирийцев и урартов в начале I тысячелетия до н. э. жители областей к западу от Евфрата все еще продолжали оставаться «хеттами». Для этого имелись вполне законные основания. Еще в XIV в. до н. э. Суппилулиумас, вторгшись в Сирию и покорив Кархемыш и Алеппо, посадил в них на царство своих сыновей Пияссили и Телепину [Meyer, 1931, с. 369, 372; Герни, 1987, с. 30]. С тех пор в Сирии правили хеттские династии, состоявшие в родстве с царями Хаттусаса и после крушения этой столицы по праву, хотя и не по реальным возможностям, считавшие себя наследниками империи. Во второй половине 80-х годов экспедиция Г. Гауптманна во время раскопок в Лидаре, вблизи древнего Кархемыша, обнаружила печати кархемышских царей — потомков Суппилулиумаса I, правивших в конце XIII — начале XII в. до н. э.: Талми-Тешупа, бывшего современником последнего хеттского царя Суппилулиумаса II, а также сына Талми-Тешупа — Куци-Тешупа. Похоже, что эта династия сумела пережить разорение Кархемыша «народами моря» и после 1200 г. до н. э. сохранила власть в этом регионе [Mellink, 1987, с. 9]. К ареалу малых «хеттских» государств принадлежала и область К(и)етида в Киликии, простиравшаяся на побережье между мысами Анемурием и Сарпедоном и далее до р. Каликадна (Ptol. V,7,2).
Впрочем, в эллинистическое время монеты с названием этой области и ее жителей — «киетов» (Κιητῶν) обнаруживаются и во внутренних частях полуострова, в том числе в Коммагене (хет. Куммуха) (см. [Ruge, 1921, кол. 380 и сл.]). Правда, название Кетиды представляет известное затруднение: оно может быть идентифицировано с египетским обозначением области на юге Анатолии Ḳdj, упоминаемой в надписях Рамсеса II, посвященных Кадешской битве, где обитатели этой области выступали союзниками или вассалами Муватталиса [Leonhard, 1911, с. 171]. Обращает на себя внимание, что начальный звук этого топонима передается египтянами совсем иначе, чем в обозначении страны Хатти — Ht; [Breasted, т. 3, с. 136; Gardiner, 1960, с. 57 и сл.]. Поэтому видеть в наименовании страны Кеди или Кети отражение имени хеттов можно лишь при одном условии: допустив, что в этом случае имела место некая промежуточная туземная адаптация данной формы, когда хеттский ларингал был заменен заднеязычным звуком, как в греческих передачах малоазийских имен, вроде Κίλικϵς «киликийцы» при позднехет. Ḫilaku и т. д. [Гиндин, 1967, с. 147 и сл.; Гиндин, 1981, с. 41, 79]. Тогда египетские факты оказываются сходны с ситуацией в древнееврейском, в который имя хеттов вошло параллельно как в звучании Hittim, так и в прошедшей через греческое посредничество и обретшей специфическое значение форме Kittim (ср. [Иванов, 1977, с. 18]). При жизни Гомера, на которую вполне могло прийтись сокрушение ассирийцами Кархемыша (717 г. до н. э.), и юг и восток Анатолии еще были, с точки зрения малоазийских жителей, в значительной степени «хеттским» регионом.
Поэтому по справедливости привлекает внимание созвучие имен эпического кетейца Эврипила и правившего в Тиане во времена Тиглатпаласара III (745–727 гг. до н. э.) царя, имя которого по-ассирийски записывается как Urballa, а в хеттской иероглифике как Warpalawas или Urpalawas [Laroche, 1960, с. 177; Laroche, 1966, с. 205]. Этимологически оно, по-видимому, восходит к хет.-лув. warpalis «мощный» [Хазарадзе, 1974, с. 16]. Существенно, что Тиана (хет. Туванува), как и Кархемыш, принадлежит к немногим областям, где традиции хеттской государственности без перерывов существовали со времен империи до гомеровской эпохи (VIII в. до н. э.), когда их продолжателем мог выступить упомянутый Варпалавас, бывший с достаточным правдоподобием современником Гомера и ранних поэтов-кикликов (он упоминается как данник Тиглатпаласара под 739 г. до н. э. [Olmstead, 1960, с. 189]). От этого царя дошел ряд надписей, в частности, надпись в построенном им святилище вблизи Тианы (совр. Ивриз), в котором о боге Тархунте, покровителе царя Тианы, как некогда великих хеттских царей, сказано: «Это Тархунтово величество Варпалаваса…» [Meriggi, 1967, с. 15]. О могуществе Варпалаваса свидетельствует и то, что в его власти были местные правители; один из них, по имени Тархунассис, оставил довольно длинную надпись, повествующую о его верности Варпалавасу и о том, каких наград он за эту верность удостоился [Meriggi, 1967, с. 100 и сл.]. Любопытно отмечаемое Мериджи тождество имен этого вассала Варпалаваса и того Тархунассиса, который спустя немного времени при Саргоне II (722–705 гг. до н. э.) воцарился в Мелиде, «великом царстве Хатти». Перекличка имен упомянутого Гомером и воспетого в киклическом эпосе кетейского царя Εὐρύπυλος и правившего в хеттском регионе Малой Азии во время создания этого эпоса влиятельного Варпалаваса заставляет поставить вопрос: если эпические кетейцы — это хетты, то какие хетты — народ XIII или VIII в. до н. э.? В последнем случае греческие аэды по иронии истории донесли бы до нас не имя и образ великой державы как таковой, а скорее самообозначение народцев и правителей, эпигонски притязавших, с большими или меньшими правами, на ее наследие. А если кетейцы — это в самом деле хетты времен империи, следует ли считать их появление в эпосе лишь смутным воспоминанием о ней, произвольно перенесенным на Каик, поближе к местам героических событий, или есть основания в самом деле предполагать хеттское участие в Троянской войне?
На протяжении ряда лет авторы данной книги, то порознь, то объединяя свои усилия, работали над различными сторонами «кетейской проблемы». Думается, к настоящему времени они в состоянии предложить ответ, разрешающий значительную часть отмеченных неясностей и затруднений.
2
В работах Л. А. Гиндина [Гиндин, 1978а; 1983; Gindin, 1990] была впервые предпринята попытка выявить как мифологические, так и реально-исторические аспекты в предании о кетейском царе, идущем на войну за «женские дары». Дело в том, что формула γυναίων εἵνϵκα δώρων — «ради женских даров» в «Одиссее» кроме XI песни, ст. 521 встречается еще один раз (XII,246 и сл.), где об участнике Фиванской войны аргосском герое Амфиарае сказано: «Не достиг порога зрелости, но погиб в Фивах из-за женских даров». Показательно, что здесь эти слова соотносятся с той самой легендой, на которую проницательный Евстафий, комментируя упоминание о кетейцах, указал, как на точную аналогию к истории Эврипила и Астиохи. Вот его замечание к Od. XI,519: «Следует знать, что не только для вышеназванной Астиохи подарок оказался сильнее родного сына, но и для Эрифилы сильнее мужа — прекрасного Амфиарая» (ἰστέον δὲ ὅτι οὐ μόνον ἐπὶ τῆ δϵδηλωμένη Ἀστυόχη δῶρον ἴσχυσϵ κατὰ φίλου παιδός, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ Ἐριφύλη κατὰ ἀνδρὸς τοῦ καλοῦ Ἀμφιάρϵω). Исходной точкой развития сюжета и здесь является подношение подарка женщине — жене воина предводителем одной из воюющих сторон: Полиник, борющийся за власть в Фивах с братом, другим сыном царя Эдипа, дарит жене Амфиарая Эрифиле золотое ожерелье фиванской прародительницы Гармонии, а за это Эрифила отправляет Амфиарая против его воли на Фиванскую войну, где, как он предвидит, его ждет гибель (Apd. III,6,2). Знаменательна вторая фаза того же сюжета. Спустя много лет Эрифила посылает своего сына Алкмеона на вторую Фиванскую войну («поход эпигонов»), приняв от сына Полиника в дополнение к ожерелью Гармонии ее пеплос; вернувшийся с войны Алкмеон убивает мать, мстя ей за смерть отца, и скитается, гонимый Эриниями (Apd. III,7,2).
Очевидно уникальное сходство этого фивано-аргосского мифа со сказанием о кетейце Эврипиле вплоть до того, что донесенные Евстафием две версии, рисующие подкупленную царицу то матерью, то женой героя, прямо соответствуют двум частям истории Эрифилы — преступлениям против мужа и сына. Но одновременно аргосский рассказ, вершинной точкой которого становится «убийство сыном матери из мести за погубленного ею отца» ясно соотносится с микенской «Орестеей». Поэтому можно думать, что, изображая душу Эрифилы в числе других знаменитых женщин, которых Одиссей встречает в загробном мире, поэт, говоря от имени Одиссея о «ненавистной Эрифиле, принявшей драгоценное золото за своего мужа» (XI,326 и сл.), стремился напоминанием о трагедии Амфиарая подготовить слушателя к развернуто излагаемой чуть ниже (XI,385 и сл.) истории Агамемнона, убитого женой и отомщенного сыном [Гиндин, 1983, с. 34]. Кстати, если следовать непосредственно течению рассказа Одиссея, игнорируя перерыв в нем, занявший почти 50 строк, то оказывается, что тень Агамемнона появляется сразу же после слов об Эрифиле.
Возвратимся к изоморфизму кетейского и аргосского сюжетов. Помимо тождества резюмирующей их формулы «гибели из-за женских даров» этот изоморфизм еще усиливается практически полной омофонией звуковых комплексов Εὐρύπυλος — Ἐριφύλη. Эта омофония окончательно утверждает в мысли об исторической связи данных мифов. На какой почве — малоазийской или грекобалканской — мог возникнуть прообраз этих сказаний? Имя Эрифилы в Греции уникально, а Эврипил («Широковратный») — одно из самых популярных героических имен (всего в преданиях насчитывается до 15 Эврипилов). Если принять допущение, что Эрифила — это имя плохо, натянуто этимологизируется из греческого корнеслова, как «Вносящая вражду в род» — исходно звалась *Ἐριφύλλη «Многолиственная» [Грейвс, 1992, с. 287], то это могло бы быть свидетельством первичности малоазийского мифа перед беотийским. Потому что тогда имя Эрифилы представляло бы явную звуковую адаптацию того же, видимо, негреческого прототипа, что скрывается за именем кетейского царя, — адаптацию, некогда подсказанную мифом о полученной в дар царицею золотой лозе. Вместе с тем в осмыслении имени царя кетейцев как «Широковратного» можно усмотреть не только приспособление к популярной ономастической модели, но и, к примеру, отзвук реального впечатления от мощных ворот хеттских крепостей, вроде Хаттусаса с его женоподобным хранителем-воином. Характерно имя распоряжающейся жизнью кетейского царя Астиохи, т. е. «Градодержицы», в то же время по звучанию удивительно напоминающее хур. aštuḫḫe, прилагательное от ašte «женщина», ср. словосочетание DINGIR MEŠ-na aštuḫḫe-na «женские божества» в хурритских текстах из хеттской столицы [Laroche, 1978, с. 62 и сл.].
Наконец, существует одно ценнейшее свидетельство, наталкивающее на мысль о возможности для анатолийских греков прямо связать тему «воина, идущего на смерть из-за даров, получаемых его женой или матерью», с кругом ассоциаций, возбуждаемых именем кетейцев-хеттов. В § 42 «Хеттских законов» мы находим указание: (48) ták-ku an-tu-uḫ-ša-an ku-iš-ki ku-uš-ša-ni-i-e-iz-zi na-aš la-aḫ-ḫa pa-i/z-z/i (49) na-aš a-ki ták-ku ku-uš-ša-an pi-i̯a-an nu Ú.UL šar-ni-ik-zi (50) ták-ku ku-uš-ša-an-še-it Ú.UL pi-ia-an I SAG.DU pa-a-i (51) ku-uš-ša-an-na 12 GÍN KÙ.BABBAR pa-a-i U ŠA SAL ku-uš-ša-an 6 GÍN K[(Ù BAB)] BAR pa-a-i — «(48) если мужчину кто-нибудь нанимает и тот в поход идет (49) и он гибнет, если плата дана, тогда он (наниматель) [ничего] и не возмещает. (50) Но если его плата не дана, то [наниматель] дает одну голову [раба] (51) [и] плату 12 сиклей серебра дает и плату женщины (ŠА SAL kuššan; в версии KBo IV, 10 вариант SAL-aš kuššani «в уплату [для] женщины» 6 сиклей серебра дает») (транскрипция текста по [Friedrich, 1959, с. 30]). Итак, речь идет о возмещении не выплаченной покойному наемной платы с добавлением штрафа, причем часть дополнительно взимаемой суммы обозначена как «плата женщины». Что здесь имеется в виду? Фридрих без особой уверенности предполагал участие неких женщин в походе [Friedrich, 1959, с. 98], В. Н. Топоров мельком упомянул то же место в связи с мифами об амазонках [Топоров, 1975, с. 36 и сл.]. Другой издатель текста, Ф. Импарати, нашла это место очень темным и высказала мысль о компенсации за некую невыполненную работу, которая должна была выполняться погибшим совместно с женщиной (?) [Imparati, 1964, с. 61, 228 и сл.]. Мы же, исходя из контекста закона и из последовательности узаконенных выплат вообще, считаем, что здесь имеется в виду единовременная компенсация женщине, состоявшей в родственных отношениях с погибшим, в первую очередь его жене. Однако, поскольку последняя в законах специально обозначается идеограммой DAM-ŠU «жена его» (§ 31 и др.), можно думать, что в интересующем нас параграфе законодатель стремился выразить более общее отношение: «мужчина — женщина его семьи (жена, мать, сестра)».
Такая интерпретация вполне согласуется с существующими представлениями о правах женщин в хеттском обществе. С современной точки зрения «плата женщине» из § 42 выглядит чем-то вроде пособия по случаю потери кормильца. Ясно, однако, что установление, по которому в случае гибели воина женщинам из его семьи выдавалось возмещение, в глазах патриархально настроенных греков с их развитым институтом военного наемничества легко могло обернуться идеей «материальной заинтересованности» жен, как и вообще женщин-домочадцев, в гибели своих мужчин. Насколько это близко к сюжету, когда мать или жена за золото побуждает сына или мужа идти на войну и там погибать!
К этому сближению гомеровской формулы в содержательном и формальном отношении с § 42 «Хеттских законов», развитому в указанных публикациях Л. А. Гиндина, следует прибавить и данные из § 171 тех же законов, возможно проясняющие уникальную власть Астиохи над сыном. В § 171 говорится о праве матери отвергнуть и изгнать сына: (3) Ták-ku an-na-[aš] TÚG-ZU IBILA-ši e-di na-a-i nu-za-kán DUMUMEŠ-ŠU pa-ra-a (4) šu-ú-i-iz-zi — «(3) если мать выносит сыну наружу свои (или “его”) одежды, то сыновей своих (4) отвергает» (текст по [Friedrich, 1959, с. 76]). После этого, приходя в дом, отвергнутый сын должен был совершать специальные ритуальные процедуры, восстанавливающие его в сыновнем статусе [Imparati, 1964, с. 157, 159]. Вне зависимости от того, видеть ли здесь пережиток матриархата или отражение ситуации, когда хеттская женщина в отсутствие хозяина заступала на его место [Imparati, 1964, с. 301], очевидно, что в хеттской семье мать обладала возможностями сакрального влияния на сына.
Сопоставление с хеттскими законами еще больше утверждает в мысли о малоазийских истоках сюжета, вторично инфильтровавшегося в Фиванский цикл, кстати, параллельно со становлением экстравагантных преданий об амазонках в Фивах. Любопытно, что родоначальницей этих амазонок считалась Гармония, чей наряд приобрела, распорядившись судьбой мужа и сына, Эрифила (см. Ap. Rhod. II,990 и схолии к этому месту). Однако если в аргосско-беотийской легенде «женские дары» получили форму, определяемую местным мифологическим контекстом, то образ золотого винограда не вышел за пределы Северо-Западной Анатолии, как бы сроднившись с историей погибших под троянскими стенами кетейцев с Каика.
3
Какими виделись эти загадочные союзники Трои древнейшим греческим сказителям? Для ответа на этот вопрос необходим достаточно развернутый текст, который принадлежал бы если не к самой погибшей киклической традиции, то хотя бы к числу ее эллинистических продолжений. Он давал бы понять, пусть сквозь призму разнообразных авторских домыслов, как эта традиция, опираясь на запас мотивов и представлений, идущих из догомеровских времен, могла трактовать эпизод прихода Эврипила с кетейцами в Трою. У нас имеется лишь один, притом весьма поздний, текст, отвечающий этим требованиям, — это созданные в III–IV вв. после утраты киклических поэм «Постгомерики» Квинта Смирнского (Quintus Smyrneus «Posthomerica»), детально исследованные в текстологическом и литературно-историческом ключе Ф. Вианом [Vian, 1959; 1959а]. Впервые значение «Постгомерик» для восстановления традиции о кетейцах отмечено в работах В. Л. Цымбурского [Цымбурский, 1986; 1987].
Выявив ряд примеров отступлений Квинта от известных по пересказам Аполлодора и Прокла киклических фабул, Виан отверг гипотезу об этом поэте как о скрупулезном реставраторе киклического корпуса. Но зато раскрылась большая начитанность Квинта в грекоязычной литературе о Троянской войне, его избирательный подход к традиции и, наряду с этим, стремление опереться на апробированный предшественниками материал, сводимый им в целостную эпическую картину последних дней битвы за Трою. Так, разбросанные по разным киклическим поэмам истории трех пришлых героев, пытающихся сокрушить ахейскую крепость и спасти Илион, — амазонки Пентесилеи, эфиопа Мемнона и кетейца Эврипила, слагаются в «Постгомериках» в единый триптих. Не исключено, что поэт при этом учел концепцию «Илиады», где также последовательно видим трех ахейских героев — Диомеда, Патрокла и Ахилла, безуспешно рвущихся к Илиону. Как и у Гомера, у Квинта третья фаза (появление кетейцев) оказывается самой напряженной — у Гомера потому, что в это время Ахилл вступает в бой, а у Квинта, наоборот, оттого, что греки в это время остаются без Ахилла. О немалой изобретательности поэта говорит введенный им и незнакомый кикликам яркий эпизод высадки прибывшего на войну Неоптолема в Трое в тот самый момент, когда торжествующий Эврипил приступает к разрушению ахейских укреплений (VII,412 и сл.).
Если Пентесилее и Мемнону в «Постгомериках» посвящается по одной песни (соответственно I и III), то Эврипилу целых три (VI–VIII, погребение описывается в начале песни IX). Интерес к нему возбуждается прежде всего тем, что поэт изображает кетейского вождя последней, зато величайшей надеждой троянцев. Боги посылают его «жаждущим… в качестве великого оплота против бед» (VI,119 и сл.); народ ликует при его вступлении в Илион (мотив, повторяющийся в нарастающей степени в рассказах о каждом из трех последних союзников троянцев), а встречающий его Александр-Парис провозглашает (VI,306 и сл.): «Я думаю, ты один можешь защитить гибнущий город». Прибывшие кетейцы характеризуются как «воины… искусные в битве, многочисленные, все, что обитали у текучих вод длинного Каика, доверяясь мощным копьям» (VI,121 и сл.), — определение необычное, будто речь идет о большом военном лагере, пребывающем в постоянной боевой готовности.
Нагнетанию напряжения служит многократно повторяемый мотив гибели, казалось бы неотвратимо встающей перед ахейцами, ср., например, об ахейцах: «они быстро погибли бы под руками врагов» (VI,503 и сл.); «троянцы быстро сожгли бы корабли» (VI,644); о «городе» ахейцев: «уже предстояло ему погибнуть под руками Эврипида и сровняться с землей» (VII.417 и сл.)· Подобные пассажи, во многом представляющие дань поэта-стилизатора условностям повествовательной техники эпоса, не так уж несущественны для задач реконструкции, как может показаться. Квинт явно следует за кикликами, у которых Эврипил также выступал последним чужеземным защитником Илиона. Можно сказать с определенностью, что гибель Эврипила в традиции означала полную обреченность города, чья судьба в последний раз испытывалась в борьбе ахейцев с кетейским воинством.
Картина приема Эврипила в поэме изобилует деталями, которых нет в предшествующих эпизодах с Пентесилеей и Мемноном. Так, после пира Эврипил не уходит с прочими кетейцами на ночь в особый покой для гостей, но почивает в палатах Александра-Париса, уступающего их кетейскому царю (VI, 185 и сл.). Когда Эврипил выступает на поле боя, с ним движется специально созданная отборная дружина, куда входят Александр-Парис с несколькими братьями, «дарданец» Эней, «лучший из пафлагонцев» Айтик и гомеровский близнец Гектора Полидамант, т. е. сплошь предводители и лучшие воины племен, окружающих Трою. По этому поводу стоит вспомнить слова из договора хеттского царя Суппилулиумаса I с местным правителем Хуканасом: «Когда я, Солнце, с войском пойду на битву… или я пойду на страну, город врага, ты же пойдешь вместе со мной, и если там ты будешь мне телохранителем, будешь Солнце беречь как свою собственную голову…» [Friedrich, 1930, с. 114 и сл.; Ардзинба, 1987, с. 102]. Кроме того, при Эврипиле находятся особые прислужники: когда камень Идоменея выбивает копье из рук кетейского царя, тот не нагибается за копьем, но ему сразу же подносят новое (VI,590 и сл.). Это не совсем обычная черта, ибо оказание таких услуг, как держание наготове оружия, «не оскверненного» падением на землю, похоже, не входило в функции гомеровских дружинников-гетайров, бьющихся рядом с предводителем и в случае ранения выносящих его из битвы. Зато данная сцена могла бы привести на память процедуру поднесения царю ритуально чистого копья, неоднократно встречающуюся в изложениях хеттских царских обрядов, когда царя сопровождают специальные копьеносцы [Ардзинба, 1982, с. 29 и сл., 113, 148].
Эпизод вступления Неоптолема в бой содержит яркое описание поистине благоговейного трепета, каким троянцы окружают Эврипила и его спутников. Особенно показательны строки (VII,530 и сл.): «Как малые дети у колен своего отца дрожат перед молнией великого Зевса… так троянские сыны среди мужей кетейских вокруг великого царя увидели как бы чудовищного Ахилла, его самого и его доспехи. Но скрывали в груди болезненное оцепенение, чтобы жестокий страх не вошел в душу кетейцев и владыки Эврипила». Мистический ужас при виде воскресшего Ахилла не так властен над троянцами, как боязнь лишиться своих заступников.
На этом контексте нужно остановиться подробнее. Во-первых, внимания заслуживает словосочетание «великий царь» (μέγας βασιλεύς) применительно к Эврипилу. Незнакомое Гомеру, это выражение фиксируется с V в. до н. э. у Геродота (I,188) и в «Персах» Эсхила (ст. 24) как титул персидского царя и в этой функции должно трактоваться в качестве кальки с перс, xšayaϑiya vazrka, за которым в свою очередь встает давняя восточная традиция титулования наиболее могущественных венценосцев — хет. LUGAL GAL, акк. šarru dannu и т. п. В дальнейшем оно выступает обозначением ряда крупных эллинистических монархов, представляя для греков формулу, соотносящуюся с восточными традициями абсолютной царской власти. Любопытно, однако, что достаточно рано, в том же V в. до н. э., оно появляется и в контекстах, не имеющих отношения к персидским царям, например, у Пиндара (Οl. VII,34) как эпитет Зевса — «великого царя» олимпийских богов. Употребление этого выражения у Квинта Смирнского, поэта, ориентированного на Троянский цикл и относящего формулу «великий царь» в своем эпосе исключительно к кетейскому царю (тем самым трактуя вождя «прикаикского племени» по аналогии с величайшими восточными владыками), конечно же, для Анатолии XIII в. до н. э. заставляет вспомнить прежде всего хет. LUGAL GAL.
Внимательнее следует присмотреться и к обороту «троянские сыны среди мужей кетейских». Сами по себе формульные сочетания слов «сыны» и «мужи» с этниконами стандартны и в целом синонимичны (о гом. υἷϵς Ἀχαιῶν «сыны Ахейцев» как точном аналоге к акк. mâr Bâbili «сыны Вавилона», др.-евр. Išr̕ l umzr̕ «сыновья Израиля», хет. DUMU МЕŠ URUḪatti «сыны страны Хатти» см. [Иванов, 1977, с. 19 и сл.] с гипотезой о греческой кальке с хеттского или с семитского образца). Однако у Квинта эти формулы оказываются контрастно соположены, и в конструкции Τρωιοὶ υἷϵς ἐν ἀνδράσιν Κητϵίοισιν у слов «сыны» и «мужи» оживает их прямой смысл: кетейцы — «мужи», т. е. взрослые мужчины, троянцы — «сыны», т. е. дети, «чада». Эта лексическая оппозиция подкрепляется предшествующим картинным сравнением троянцев с малыми детьми среди высокорослых кетейцев у колен отца — кетейского «великого царя». (Вспомним бытовавшую мысль о гигантском росте кетейцев, стимулируемую сближением их имени с названием для морского чудища, «кита».) Такое сравнение сильно напоминает характерное для древневосточного искусства нарушение пропорций при сопоставлении фигуры бога или царя соответственно с изображениями смертных или подданных. Можно привести аналогичный пример из литературы — описание в вавилонском эпосе выхода Энкиду на поединок с Гильгамешем (пер. И. М. Дьяконова): «Народ к нему толпой теснится / Мужи вокруг него собралися / Как слабые ребята, целуют ему ноги» [ППДВ, с. 174].
Присмотримся еще к одной детали, не сразу бросающейся в глаза, но на самом деле исключительно важной. В «Илиаде» все формулы, описывающие союз защитников Трои, — «троянцы и союзники», «троянцы и ликийцы и дарданцы», «троянцы и дарданцы и союзники» и т. д. — всегда без исключения имеют на первом месте имя троянцев. Это понятно. Против Трои направлено нашествие греков, и на троянцев ложится основная тяжесть войны. Они — стержень союзного войска; исчезновение их из повествования немыслимо, тогда как даже самые значительные из союзников, например ликийцы, могут невесть куда пропадать из рассказа на протяжении ряда песен, в общем, малозаметно для слушателя. Такому узусу сплошь и рядом следует и автор «Постгомерик»: в этой поэме помимо гомеровской формулы «троянцы и дарданцы» (III,167) употребляются также собственно квинтовские обороты — Τρώων Αἰθιόπων τϵ «троянцев и эфиопов» (II,467) или Τρῶας ὅμως Λυκίοισι «троянцев вместе с ликийцами» (III,270). Но с появлением на сцене кетейцев положение радикально меняется. Это находит выражение в использовании совершенно невозможной у Гомера формулы Κήτϵιοι Τρῶϵς τϵ «кетейцы и троянцы», где «кетейцы» оказываются впереди: «вкушали пищу под стеною высокой кетейцы и троянцы» (VI, 168 и сл.) или «ночи и дни бились кетейцы и троянцы с воинственными аргивянами» (VII, 148 и сл.). Легко видно, что эта формула с уникальным для троянского эпоса порядком этнических имен вводится отнюдь не ради метра: ведь гипотетическая формула *Τρῶϵς Κήτϵιοι τϵ со стереотипным порядком, отвечающим гомеровскому узусу, заняла бы ровно столько же места в стихе. Значит, дело не в размере. Причины, подтолкнувшие нашего автора или его источник к этой новации, — сугубо семантические, содержательные, связанные с тем, что в союзе кетейцев и Трои кетейцам принадлежит главенство, а троянцы с их появлением отступают на второй план, отдавшись под покровительство «великого царя».
Тех черт традиции, которые восстанавливаются на основании «Постгомерик», с присоединением мотива гибели воинов за «женские дары», не нашедшего отражения в этой поэме, кажется, вполне достаточно для ответа на вопрос Страбона о том, кого следует понимать под кетейцами. До Квинта Смирнского дошла традиция о носителях этого имени как о народе, мощью своей намного превосходившем племена Западной Анатолии, как о царстве на малоазийской земле, сравнимом, судя по титулованию его правителей, с персидской державой и эллинистическими монархиями, как о самой значительной силе в этом регионе, которая могла бы в XIII в. до н. э. взять под защиту Трою против натиска ахейцев.
Встающие из различных источников разрозненные мотивы: подношение царю нового копья взамен оброненного наземь, дружина из местных царьков в роли телохранителей — у Квинта; главное, тема «женских даров» у самого Гомера, с ее прообразом в хеттском законодательстве, — подкрепляют то же впечатление: речь идет не о хеттах VIII в. до н. э. из Кархемыша, Мелида или Хаттины-Унки, а о хеттах XIII в. до н. э., о воинах Хеттской империи.
4
Могли ли во времена Троянской войны вдалеке от Хаттусаса на территории будущей Мисии существовать крупные поселения хеттов? Для начала укажем на одну особенность всех топонимов, в которых, по Кречмеру, могло отразиться имя этого народа: все они — и на Каике, и на Кипре, и в Киликии — обнаруживаются вдалеке от хеттской метрополии, на периферии мира, знакомого хеттам. Но как раз это обстоятельство очень хорошо отвечает известной топономастической закономерности, заключающейся в том, что топонимы, производные от названия некоего народа, племени, обычно прослеживаются не в основных местах его обитания, где его имя не может служить выделению какой-то конкретной точки на местности, но лишь там, где этот народ бывает представлен спорадическими вкраплениями в иные этноязыковые массивы [Дьяконов, 1968, с. 16, 198; Никонов, 1965, с. 40]. Тогда в глазах местных жителей оказываются отмеченными места, связанные с пребыванием пришельцев — иногда даже очень недолгим.
А как обстояло дело на северо-западе Анатолии, в долине Каика? Вернемся еще раз к тексту KUB XXIII, 13, отразившему неудачное вторжение царя Аххиявы в Страну реки Сеха. Когда мы писали выше (гл. 2) о перекличке этого текста с «Псевдо-Илиадой», начальной фазой Троянской войны, и в частности о значении этой переклички для отождествления р. Сеха с Каиком, мы намеренно отложили на будущее комментарий к заключительной части этого текста. Теперь для такого комментария пришло время. По словам Тудхалияса, «царь страны Аххиява отступил назад (или — “держал оборону”), когда же он отступил назад (или “держал оборону”), пришел я, Великий царь…» Если сопоставить эти строки с началом рассказа, где устами жителей этой страны (или скорее ее царя) утверждается, что до сих пор их (на собственной земле) не побеждал оружием ни один хеттский царь, становится ясно, что цель повествования — прославить Тудхалияса как впервые в истории пришедшего на берега р. Сеха, чтобы силой оружия низложить нелояльного местного царя и посадить на его престол своего ставленника (I DU-naradu).
Итак, на вопрос, могли ли хетты появиться в долине Каика, мы должны ответить однозначно: они не только могли, но в самом деле победоносно вступили сюда в годы, предшествовавшие Троянской войне. Спросим-далее, кто вынудил царя Аххиявы к отступлению из Страны реки Сехи. Некоторые исследователи приписывают эту победу исключительно самим обитателям данной страны [Sommer, 1932, с. 315; Page, 1959, с. 29; Борухович, 1964, с. 97]. Другие допускают в качестве возможной причины для его отхода приближение войска Тудхалияса [Lloyd, Mellaart, 1955, с. 83]; таково же мнение Кроссланда, согласно Пейджу [Page, 1959, с. 28]. В то же время среди версий «Псевдо-Илиады», рисующих, как мы помним, картину битвы ахейцев с прикаикскими племенами, предводимыми царем Телефом, притягивают внимание рассказы Филострата и Цеца. В них отражен нетривиальный мотив вступления в эту битву некоего женского войска на колесницах. Так, Филострат пишет (Heroic. III,34): «…и мисийские женщины на колесницах сражались вместе с мужчинами, точно амазонки, и предводительствовала этим конным войском жена Телефа Гиера». Далее этот автор связывает с воспоминаниями о каикской амазономахии известный в античности (см. Paus. VII,5,11) культ Агамемнона — защитника от амазонок — на горячих ключах между Смирной и Клазоменами. Очень близок к филостратовскому вариант Цеца (Antehom. 275 и сл.). Однако можно усомниться в том, что Цец непосредственно использовал в качестве источника текст Филострата, поскольку у византийского компилятора, повествующего о ранении Телефа и гибели Гиеры, отсутствует чрезвычайно эффектная филостратовская концовка: напуганные криком, поднятым воительницами над убитой Гиерой, кони мечутся и вместе с амазонками тонут в прибрежных болотах. Скорее в литературе бытовало несколько версий этого оригинального предания, смысл которого представляется совершенно ясным. Где в истории мы видим вступление хеттов в страну, только что испытавшую нашествие царя Аххиявы, там в легенде находим вмешательство войска амазонок в борьбу ахейцев с народом царя Телефа.
Хочется подчеркнуть, что хотя традиция постоянно трактует кетейца Эврипила как сына мифического Телефа, тем не менее сам Телеф никогда не называется царем племени кетейцев. Его подданные, противостоящие ахейцам в «Псевдо-Илиаде», — это всегда либо мисийцы, либо тевтры, т. е. в глазах греков естественные обитатели долины Каика, Мисии или Тевтрании. Лишь Эврипил оказывается вождем неизвестно откуда появившихся здесь кетейцев, вовсе исчезнувших из Северо-Западной Анатолии во времена, последовавшие за Троянской войной. Но интересно сообщение в схолиях к Od. XI,521: «лучше толковать так, что кетейцы — мисийское племя… ведь Телеф был царем Мисии. И Алкей говорит “кетеец” вместо “мисиец” (φησὶ τὸν Κήτϵιον ἀντὶ τοῦ Μυσόν)».
Алкей был уроженцем Лесбоса, острова, соседствовавшего с Мисией, древней Страной реки Сеха, и, как мы помним, известного еще хеттам под именем Лацпы. Приведенная схолиастом алкеевская глосса явно говорит о том глубоком впечатлении, которое произвела на греков встреча в этом регионе с контингентом кетейцев-хеттов, чье имя они поэтически распространяли на всю страну даже тогда, когда реальных хеттов в ней давно уже не осталось. Параллелью здесь опять же может быть библейское употребление названия Киттима: восходя к обозначению одного города на Кипре, куда хетты вторгались в XIII в. до н. э., оно в древнееврейском стало наименованием не только для Кипра, но шире — для островов и прибрежных стран Средиземноморья (Числ. 24,24), о чем специально писал Иосиф Флавий (Ant. iud. I,6,1).
Но если думать, что накануне Троянской войны хетты могли контролировать область, непосредственно прилегающую с юга к Троаде, спрашивается, как они должны были отнестись к массовому появлению ахейцев на малоазийском побережье Фракийского моря? Вспоминая историю взаимоотношений хеттов с Вилусой на протяжении всего XIII в. до н. э., мы видим недвусмысленную заинтересованность хатусасских правителей, начиная с Муватталиса, в судьбе этого обособленного северо-западного царства, выражающуюся, в частности, как подметил Шахермейр, в упорных попытках вывести Вилусу из-под влияния Аххиявы [Schachermeyr, 1986, с. 293 и сл.]. Представим основные события этой истории, рассмотренные нами выше. Первая ее страница — это вооруженное вмешательство «Солнца» Муватталиса в большую войну или междоусобицу, охватившую Вилусу, и вручение им власти над этой страной Алаксандусу, сыну Кукунниса. Видимо, в благодарность тот подписывает договор, где в число потенциальных общих врагов, против которых он обещает выступить Муватталису на помощь, включается и враг с запада, эвфемистическое указание на Аххияву (согласно Хайнхольд-Крамер [Heinhold-Krahmer, 1977, с. 167]).
От этого договора не слишком далеко должна была отстоять во времени упоминаемая в «Письме о Тавакалавасе» война между хеттами и Аххиявой из-за Вилусы, по-видимому, не принесшая хеттам сколько-нибудь значительных плодов. С достаточной осторожностью можно было бы высказать гипотезу о чрезвычайно мифологизированном отражении этой войны также и в троянских сказаниях греков. Как мы видели выше, античность стереотипно возводила имя кетейцев к κῆτος, обозначению «чудища, кита». Эта народная этимология может получить особый смысл, если мы будем иметь в виду, что κῆτος — это название также и для того мифического чудовища, «Посейдонова зверя», с которым вступает под стенами Илиона в смертельный бой Геракл, после победы в свою очередь приводящий войско из Микен на завоевание и разграбление сокрушенного Посейдоном (т. е. землетрясением) города (ср. Il. XX, 145 — боги садятся «на возведенную кругом стену божественного Геракла, высокую, ибо сделали ее троянцы и Афина Паллада, чтобы он ускользал от Кита, когда тот кидался за ним от побережья на долину»). Не может ли эта битва микенского воителя с Троянским Китом за Илион представлять реминисценцию первых столкновений, в том числе из-за Вилусы-Илиона, именно с хеттами, в эпосе о троянском походе Агамемнона приобретшими уже облик кетейского племени? Впервые мысль об отражении в образе «кита», атакующего многократно Трою и побежденного Гераклом, воспоминаний о Хеттской империи была высказана В. Э. Орлом на семинаре по античной балканистике в Институте славяноведения и балканистики в конце 70-х годов. Кстати, в этом случае появление легенды, связующей в один событийный и временной узел «гнев Посейдона» и «первую (Гераклову) Троянскую войну», как мы уже говорили, забегая вперед, в третьей главе, подтвердило бы реально-исторический синхронизм событий, относящихся к воцарению Алаксандуса и попытке включения Вилусы в сферу влияния Хеттского царства, с землетрясением, по Блегену, положившим около 1300 г. до н. э. конец «Лаомедонтовой Трое». «Война из-за Вилусы», отраженная в «Письме о Тавакалавасе», оказалась бы реальным прообразом походов Геракла в Троаду. Интересно, что о сохранении в названии Троянского Кита имени некоего правителя, собиравшего с Трои дань, впервые заговорил уже упоминавшийся автор Палефат (De incred. 37).
Следующее важнейшее звено в истории связей Хаттусаса и Вилусы (Вилусии) — это вступление последней в середине столетия в антихеттскую конфедерацию Ассуву, разгромленную Тудхалиясом. Не исключено, что именно после этой победы Тудхалияс вновь попробовал установить протекторат над непокорным малым царством, посадив в нем на трон своего сателлита Валму, как то некогда сделал Муватталис в отношении Алаксандуса. Но вилусцы изгоняют Валму. Тот бежит в Милаванду, и Тудхалияс, призывая правителя Милаванды оказывать изгнаннику всяческую поддержку, начинает строить новые планы насчет «наведения порядка» в Вилусе («Письмо в Милаванду»).
Специалистами по истории древней Малой Азии много раз высказывались соображения о возможности сопоставить хеттский поход против Ассувы (Азии) с рассказом гомеровского Приама (Il. III,187 и сл.), вспоминающего о своем совместном выступлении с фригийским войском вождей Отрея и Мигдона к р. Сангарис в день, когда туда «пришли амазонки, подобные мужам» (см. [Garstang, 1929, с. 172; Garstang, Gurney, 1959, с. 107; Дьяконов, 1968, с. 114, 118; Гиндин, 1981, с. 149]). Протекающий по Вифинии и Фригии Сангарис в XIII в. до н. э. вполне мог служить естественной водной преградой между подвластными хеттам внутренними районами полуострова и сохранившими относительную независимость малыми государствами в северо-западном его углу. В своих истоках текущий на север Сангарис почти смыкается с текущим на запад Термом, как мы помним, ставшим в XIII в. до н. э. барьером на пути распространявшейся с юга микенской колонизации.
Из этого рассказа не видно, чем закончилась битва на Сангарисе. Но схолии к «Александре» Ликофрона (ст. 69), а также Цец в своих «Антегомериках» (ст. 22–23) уверенно говорят о приходящемся на временной промежуток между походами Геракла и Агамемнона покорении города победившими амазонками. (Цец называет их Σκυθόμητρϵς, т. е. «имеющими скифских матерей».) Об этом не говорится у Гомера, предполагать же для схолиастов в данном случае возможность далеко заходящего вымысла «из ничего» было бы откровенной гиперкритикой. Скорее мы имеем здесь относительно позднюю фиксацию архаичного предания, соответствующего появлению Вилусы и Труисы в перечне побежденных Тудхалиясом членов Ассувы.
Правильное понимание истории Троады накануне гибели Трои VIIa во многом должно зависеть от хронологического соотношения двух рассмотренных выше текстов из анналов хеттских царей — KUB XXIII,11–12, посвященного победе над Ассувой, включая Вилусию и Страну реки Сеха, и KUB XXIII,13, повествующего о вступлении хеттов также в Страну реки Сеха.
Выше, в главе 3, мы уже показали шаткость позиции авторов, которые пытаются отодвинуть разгром Ассувы в XV в. до н. э. и тем самым разделить рассматриваемые два текста чуть ли не двумя столетиями. На самом деле датировка обоих этих документов приходится на 30–40 лет, охватывающих царствование Тудхалияса IV, и, может быть, если принимать конъектуру Гютербока (против который мы высказались в гл. 2) — последние годы Хаттусилиса III.
Р. Раношек, впервые показавший тематическую, а скорее всего, и временную близость рассказов, заключенных в этих текстах, считал историю занятия хеттами Страны реки Сеха хронологически предшествующей войне с Ассувой [Ranoszek 1934, с. 53, 74]: На первый взгляд это вполне соответствует горделивым заявлениям царя данной страны о своем народе как о не потерпевшем ни разу поражения от хеттских царей, заявлениям, казалось бы, невозможным после разгрома Ассувы. Интерпретация Раношека не противоречит и упоминавшейся гипотезе Гютербока, относящего поход в Страну реки Сеха к правлению Хаттусилиса III, отца Тудхалияса. Получалось бы, что хотя сам Тудхалияс или его отец ввел сюда войска и отдал страну под власть своего сателлита, тем не менее она вскорости вновь отложилась от хеттов, влилась в состав Ассувы и разделила ее судьбу.
Но ничто на самом деле не мешает допустить для этих эпизодов и обратную последовательность. При этом мы выигрываем то, что сразу объясняются слова о царе Страны реки Сеха, который якобы «опять, во второй раз согрешил»: первый его грех и составляло бы участие в замыслах Ассувы. Как отмечалось выше, разгромив силы Ассувы, хетты не смогли закрепить успеха, а об оккупации побежденных областей и говорить не приходилось, иначе Тудхалиясу не пришлось бы, согласно KUB XXIII,12, уже на следующий год устраивать в те же области второй поход, подавляя мятеж претендующего на восстановление Ассувы вождя Кукуллиса (по Дьяконову — Кукунниса II). Понятным становится и то, почему исторически оправданные слова царя Страны реки Сеха о непобедимости своего народа могли составить его «второй грех». Несмотря на поражение Ассувы, он, пользуясь тем, что хеттские войска не доходили до его страны, нагло заявлял, будто не считает себя побежденным. Тогда победа над Ассувой и облегченное неудачной экспедицией царя Аххиявы занятие Страны реки Сеха соотносились бы в анналах примерно так же, как в легенде соотносятся троянско-фригийское выступление против амазонок, представляющее для Приама и его слушателей уже отдаленное, хотя все еще живое воспоминание, и, с другой стороны, непосредственно переходящие в Троянскую войну события «Псевдо-Илиады».
Утверждение хеттов на Каике означало развернувшееся их наступление на регион, ограниченный водами Сангариса и Герма, и представляло прямую угрозу для Троады, поскольку к ее южным рубежам теперь вплотную подступала Хеттская империя. Это обстоятельство могло быть как-то связано и с событиями, о которых говорит «Письмо в Милаванду»: отказом вилусцев принять в цари Валму и заявлением Тудхалияса о намерении силой вмешаться в вилусские дела. Изгнание Валму давало предлог для такого вмешательства, а покорение Страны реки Сеха создавало для него благоприятные условия. В таком случае второй, неизмеримо более массовый натиск греков пришелся бы на время наибольшего ухудшения отношений между Хаттусасом и Илионом-Вилусой (ср. меткие слова Страбона о невозможности для амазонок стать на сторону Трои, воевавшей против них вместе с фригийцами, — XII,3,24).
Разумеется, это лишь гипотеза, ибо факты, донесенные хеттскими источниками, допускают и иную группировку. Однако нельзя отрицать, что все свидетельства, дошедшие от времени Тудхалияса IV, выражают определившийся к его времени взгляд на Вилусу/Вилусию как на страну мятежную, склонную и во внешних военных мероприятиях, и во внутренних решениях проводить курс, враждебный интересам Хеттской державы. Как же могли владыки Хаттусаса отнестись к Троянской войне? Самостоятельная и сильная Вилуса была явной помехой для их планов, но тем более претила им со времен Муватталиса возможность превращения Вилусы в ахейский плацдарм на побережье Анатолии. При таких предпосылках трудно для них представить более адекватный отклик на Троянскую войну, чем тот, который отразили эпические сказания греков, а именно выжидание на Каике в течение многих лет (пока пришельцы жгли и опустошали Троаду, истекая в то же время кровью в борьбе с идущими ей на помощь союзниками, включая бывших участников Ассувы) и вступление в этот регион хеттов свежими силами, когда обе стороны были истощены борьбой. По сути, это было повторением сценария, оправдавшего себя в Стране реки Сеха. Прибывшее свежее войско сбрасывало в море обессиленную ахейскую рать и принимало измученную Трою под власть «великого царя». Не к этому ли все идет и в эпосе, когда обосновавшийся в покоях Александра-Париса Эврипид в окружении царьков-телохранителей хочет приступить к сокрушению ахейского лагеря?
Но в Троянской войне на Трою обрушилось, как мы склонны думать, уже не отборное войско микенского царя, а полчища балканских греков, теряющих пристанище у себя на родине и рвущихся к новым берегам. И если хетты из долины Каика в самом деле пытались в это время вмешаться в судьбу Трои VIIa и войско их, пусть лишь на малом участке малоазийской земли, вступило в противоборство с этой лавиной, то нельзя исключить, что конец очередного города на Гиссарлыкском холме и впрямь мог отозваться во многих хеттских семействах скорбью — и выдачей положенной по закону «платой женщине»!
5
Не покажется ли нам теперь сказание о каикских кетейцах своего рода эпической хроникой событий, происходивших в этих местах в последние десятилетия и годы существования «Приамовой Трои», — хроникой, в которой мифопоэтический момент, не играя, особой конструктивной роли, сведен к минимуму, если не изглажен вовсе? Но если такое представление возникнет, то оно будет глубоко ошибочным. Дело даже не в том, что некоторые события, исключительно важные с «хеттской» точки зрения, каков, к примеру, эпизод с Валму, не находят ни малейшего отклика в легенде. Существеннее присутствие в последней деталей, которые могут быть объяснены не с точки зрения «позитивной» истории, но только с позиций герменевтики мифа. К таким деталям принадлежит мотив золотого винограда Астиохи.
Объяснив, каким образом из реальных воспоминаний о хеттах мог быть дедуцирован мотив «женских даров», мы отнюдь еще не подошли к пониманию того, почему эти дары, в одном культурном контексте, беотийском, обернувшиеся предметами туалета Гармонии, в другом, западноанатолийском, приобрели образ золотой виноградной лозы, за которую умирает царь кетейцев. Пытаясь осмыслить причины такой рецепции этого мотива в сознании малоазийских греков, мы прежде всего должны отметить глубокую изолированность истории Эврипила и Астиохи в преданиях Северо-Западной Анатолии. Здесь не прослеживается местной традиции об Эврипиле, за исключением попытки поставить его в отцовские отношения к герою Грину, эпониму города Гринея вблизи Пергама (Serv. Ecl. VI.72). Такая попытка интересна тем, что одновременно гринейская легенда возводила название города к имени некой амазонки Грины (Serv. Aen. IV,345) и, следовательно, амазонка и кетеец здесь опять дублируют друг друга в параллельных этиологических версиях. Еще У. фон Виламовиц-Мёллендорф видел слабую укорененность Эврипила на западноанатолийской почве: отсюда его гипотеза о кетейце Эврипиле как о слепке с одноименного косского героя, для которого в свою очередь предполагалось фессалийское происхождение [Wilamowitz-Moellendorff, 1886, с. 51 и сл.]. Эта гипотеза и сейчас небезынтересна как попытка объяснить включение героя, гибнущего «из-за женских даров», в общегреческую героическую вереницу Эврипилов.
Как мы упоминали, греческий эпос считал Эврипила сыном героя «Псевдо-Илиады» мисийского царя Телефа, но на самом деле отношение образа Эврипила к мифологии Телефа неоднозначно. Известно, что эллинистические цари Пергама из династии Атталидов, считавшие Телефа своим предком, повелели изобразить его мифическую историю на знаменитом пергамском алтаре [Hansen, 1947, с. 8, 309 и сл.]. В то же время взгляд этих династов на Эврипила виден из свидетельства Павсания (III,26,9—10) о том, что в опекавшемся ими пергамском храме Асклепия, где богослужения начинались с восхвалений Телефа, не только никогда не пели об Эврипиле, но было под запретом даже его имя. Мотивировалось это ссылками на эпизод из «Малой Илиады», где Эврипил выступал убийцей Махаона, сына Асклепия. Но здесь неясно, что первично — киклический эпизод или то нежелание допускать Эврипила в родовую традицию пергамских «потомков Телефа», которое могло быть намного древнее воцарения Атталидов в этом городе. Как бы то ни было, своеобразное отношение к Эврипилу хорошо согласуется с этнической чужеродностью кетейцев на Каике. Но именно эта изолированность образа кетейского царя при некой подчеркнутой связи его с Телефом побуждает внимательнее присмотреться к мифологии Телефа, в поисках объяснений тому, что тема «даров женщине за гибнущего на войне мужа» на территории Мисии реализовалась в диковинном образе золотой грозди.
Как известно, почитание Телефа сближало Пелопоннес, конкретно Аркадию, с западом Малой Азии, а имя его может быть присоединено к серии других ономастических изоглосс, соединяющих эти области (в частности, см. [Гиндин, 1967, с. 103 и сл.] об аркадских топонимах, отражающих этническое имя Luk(k)ā — древнейшее обозначение лувийских племен). В аркадских мифах о Телефе наиболее яркими мотивами являются зачатие его матерью Авгой от Геракла и вскармливание подброшенного Телефа оленихой или львицей [Hamann, 1952; Hansen, 1947, с. 310], а также образ ковчега, в котором затворяют Авгу, а иногда и Телефа вместе с ней, бросая их в море (Strab. XIII,1,69; Hyg. fab. 99). При этом связь культов Телефа в Мисии и Аркадии осмысляется через плавание Телефа и его матери к мисийским берегам, где их якобы взял под защиту царь Тевтрант, передающий Телефу царство (Hyg. fab. 100; Apd. III,9,1).
Еще Вяч. Иванов, писавший о Телефе как о «дионисийском» герое, видел в его ковчеге символ плодородия, мотивируя эту догадку широкими типологическими параллелями вплоть до образа Ноя — насадителя виноградных лоз [Иванов, 1923, с. 66, 75, 123 и сл.]. Мысль Вяч. Иванова подкрепляется ролью, которая отводится алтарю Телефа в столь очевидной «дионисийской» драме, какой является перенесенная из Этолии в Аркадию история борьбы этолийских родов «винодела» Ойнея и «дикого» Агрия (по-видимому, перенос произошел одновременно с натурализацией в Аргосе культа Диомеда, причислявшегося к роду Ойнея). Ойней, первый этолийский распространитель виноградарства на Пелопоннесе, где Дионис известен уже в микенские времена (ср. теоним линейного Б di-wo-nu-so-jo в древнем Пилосе [Ventris, Chadwick, 1959, с. 127]), предстает адептом этого бога, а жена Ойнея Алфея превращается в возлюбленную Диониса (Apd. I,8,1). Сыновья Агрия гонят и убивают Ойнея, причем в Аркадии местом умерщвления мученика-виноградаря считался алтарь Телефа (Apd. I,8,6). Сближением этих фигур подтверждаются вегетативные функции аркадского и мисийского полубога. Впрочем, если Вяч. Иванову плавучий ковчег Телефа виделся чисто морским, эгейским образом, ведущим в своих связях к оплетенному лозами кораблю Диониса, то не меньше оснований говорить о воплощении в этом образе знакомой очень многим земледельческим культурам Средиземноморья вегетативной мифологемы «бога в сосуде» [Riemschneider, 1960].
Наблюдения Вяч. Иванова прямо подводят нас к известной этимологии П. Кречмера, сблизившего имя Τήλϵφος с хатто-хеттским именем бога плодородия DTelipi, вариант DTelipinu [Kretschmer, 1927, с. 13]. К сожалению, данная этимология, как бы призванная послужить толчком к сравнительному анализу образов, долгие годы оставалась на уровне сугубо формального сопоставления. Правда, сам Кречмер попытался ее усилить, окружив целой серией подобных же этимологий для имен мифологических персонажей, связанных с Телефом: таковы созвучия имен сына Телефа Тархонта (по схолиям к «Александре» Ликофрона, ст. 1249) и отца Телипина — малоазийского громовержца Тархунта или история бьющейся на колеснице жены Телефа Гиеры, т. е. «Священной», отождествленной с хеттской богиней Išhara. Последнее сближение по формальным причинам решительно отверг Э. Ларош [Laroche, 1947, с. 51]. Однако формальные критерии фонетических соответствий, думается, не могут быть определяющими в тех случаях, когда начинает явно действовать фактор адаптации малоазийского теонима к созвучному и семантически подходящему греческому слову (идентичный случай может представлять имя другой жены Телефа, «градодержицы» Астиохи, в звуковом облике которого проглядывает хетто-хурритское именование «женского божества»). Знаменательно, что у Филострата (Heroic. III,34) Протесилай вспоминает о Гиере как о «самой высокой из женщин, которых он видел, и самой красивой из всех, что приобрели славу красотой». Тем не менее в течение длительного времени отсутствовали какие-либо четкие доводы в пользу содержательной, функциональной близости образов Телипина и Телефа. Первый шаг в этом направлении был сделан Барнетом и вслед за ним Топоровым, выделившими общий мотив сокрытия божества в мифе о Телипине и в рассказе о рождении Телефа [Barnett, 1956, с. 218 и сл.; Топоров, 1975, с. 37]. Однако конкретные реализации этого мотива в случаях с прячущимися в потайное убежище гневным Телипином и с запираемым в ковчеге аркадским младенцем Телефом включены в слишком уж различающиеся контексты, не позволяющие без натяжек говорить об их генетическом тождестве.
Картина резко меняется, как только для сравнения с Телипином привлекается не аркадский, а мисийский Телеф из «Псевдо-Илиады». Легко обнаруживается, что легенда о вторжении ахейцев в Мисию с ее ясно различаемым реально-историческим прообразом в то же время с полным основанием может рассматриваться как пример эвгемеризации чисто мифологического героя, втянутого в историческое предание, излагаемое по мифо-ритуальному календарному канону. Роль, исполняемая в истории Телефа Ахиллом, объяснима в свете замечательной работы X. Хоммеля, показавшего, что даже в VII в. до н. э. этот персонаж, давно превратившийся в эпического героя и союзника Агамемнона, в ряде районов греческой Малой Азии по-прежнему выступал в своей исконной фессалийской функции одного из загробных демонов [Хоммель, 1981, с. 53 и сл.]. Эта изначальная функция Ахилла мотивирует представления греков о несомом им копье кентавра Хирона, амбивалентном «живом и мертвом» оружии, заключающем в себе как смерть, так и исцеление недугов. Телеф, пораженный этим копьем в бедро и страдающий незаживающей язвой — возможная метонимия ущемления в половой сфере, — был одной из самых популярных фигур Троянского цикла. Произведения на тему его страданий создали все три великих афинских трагика, но наибольший резонанс получила трагедия Еврипида. Ее постоянно цитирует в пародийных целях Аристофан (Ach. 440, 446,497,540, 543; Eq. 1240; Lys. 706 и др.; см. схолии к этим местам), у которого главным объектом осмеяния стал гротескный образ страждущего Телефа, обряжающегося в нищенские лохмотья и покидающего свою страну, отправляясь за море в Аргос. Таким же изображает его Аполлодор (Ер. III,20), а ритор Максим Тирский (Orat. I,10) упоминает нищенскую суму и рубище как постоянные атрибуты трагического Телефа.
Герой, до ранения представляемый воителем-богатырем, наводящим ужас на греков, достойным сыном Геракла (Diet. II,4), после удара Хиронова копья предстает в качестве притворяющегося нищим больного богача, о чем он сам восклицает у Еврипида (Eur. fr. 708): «Чем богатство мне поможет в болезни? Я предпочел бы иметь понемногу на каждый день и жить без страданий, чем болеть богатым». Явившись в Аргос, где к тому времени собираются греки, подготовившие новый поход против Трои, но не знающие туда пути (!), он грозит погубить сына Агамемнона, если Ахилл, в согласии с оракулом, не исцелит своим копьем его рану (Hyg. fab. 101). Наступает последний акт — умилостивление и лечение Телефа. Греки просят мисийского владыку показать им путь к Трое, на что он изъявляет свое согласие. Ахилл врачует его рану, посыпая ее ржавчиной со своего волшебного копья. Выздоровевший и отрекшийся от своего гнева, превратившийся в друга греков Телеф плывет на их кораблях в свое царство — с Пелопоннеса в Анатолию (повторяя путь, некогда проделанный им, по одной из версий, заточенным в ковчеге).
История Телефа, как она реконструируется по литературным источникам, несет в себе очевидные черты хорошо изученной архетипической мифологии исчезающего и возвращающегося бога плодородия, больного и исцеляемого, гневного и умилостивляемого, часто заточаемого в сосуд или ковчег и выходящего оттуда, нищего, оказывающегося богачом. Само ранение Телефа имеет характер поражения царя хтоническим демоном (каковым исконно являлся Ахилл по реконструкции Хоммеля), увлекающим героя за море к его пелопоннесским культовым местам, с последующим возвращением его, возрожденного, на престол. Не случайна инверсия традиции, которую находим в романе Дарета, где аркадянин Телеф и Ахилл с самого начала предстают не антагонистами, а парой ближайших друзей и именно Ахилл сажает Телефа на царство в Мисии. При этом главной заботой нового царя становится снабжение войска, идущего на Трою, продовольствием (см. Daret. XVI: «… [Ахилл] сказал, что тот (Телеф) много больше поможет войску, если обеспечит войску подвоз продовольствия»). В романе Диктиса (II,6) также читаем о продовольствии и обильных дарах, полученных исцелителями-греками от излеченного Телефа.
Что же получается при сопоставлении фабул, в которых участвуют хатто-хеттский Телипин и мисийский Телеф? Телипин — характерное исчезающее божество плодородия, в гневе на богов уносящее с собой в неведомые тайники вегетативную силу животных и растений, сытость богов и людей. Телеф — «исчезающий» герой, распоряжающийся продовольствием и богатствами, покидающий свое царство, будучи ранен в бедро (т. е., по-видимому, ущемлен в половой функции), охвачен гневом на греков. Телипина отыскивают боги, само же примирение его с богами рисуется как особое лечение, избавление от гнева, запираемого в магические сосуды. Гневный и больной Телеф сам ищет и находит нуждающихся в нем целителей-ахейцев, а лечение его обусловлено примирением сторон, заключением союза ахейцев с «хозяином» Мисии, ведающим путями и подступами к Трое. С восстанавливаемой ритуальной прагматикой мифа о Телипине, символизирующего прекращение раздора между богом и человеком, а также разлада в царском доме, особенно ссоры между царем и царицей [Ардзинба, 1982, с. 84], можно сравнить прорезающийся в версиях трагиков мотив союза Телефа с враждебной мужу Клитемнестрой, научающей пришельца шантажировать Агамемнона угрозой погубить младенца Ореста (Hyg. fab. 101). Все эти моменты естественно приводят нас к представлению о Телефе как о периферийной, западноанатолийской и южнобалканской ипостаси почитавшегося в Центральной Анатолии Телипина.
Только с учетом этой древней мифо-ритуальной канвы, по которой развивается история битвы с Телефом на Каике, мы сможем должным образом оценить ту деталь, что ранение героя в бедро ассоциируется с внезапным оплетанием в бою его ног виноградной лозой. Сообщение Аполлодора (Ер. III,17) «запутавшись в виноградной лозе, ранен в бок копьем» и патетическое восклицание Пиндара об Ахилле (Isthm. VIII.50 и сл.): «Кто мисийскую виноградную долину окровавил, забрызгав черной кровью Телефа» — позволяют реконструировать этот эпизод для «Киприй». От этой киклической поэмы, должно быть, отталкивался и автор романа Диктис Критский, рисующий бой и ранение Телефа в винограднике (Dict. II,3). Составитель же схолий к «Илиаде» (кодекс А к I,59), почти дословно воспроизведя сообщение Аполлодора, дополняет его интересным мотивом: «Ибо разгневался на него (Телефа) Дионис за то, что он отнимал у бога почести в свою пользу». Это соперничество Телефа и Диониса, а также дионисийские почести, воздаваемые Телефу, подтверждают вывод о Телефе-Телипине и далее перекликаются с аркадским мифом, где адепт Диониса, виноградарь Ойней, умерщвлялся на алтаре Телефа.
Наконец, бесценное воплощение того же мотива находим в «Александре» Ликофрона (ст. 204 и сл.), донесшей удивительную легенду, в основе которой прямо сомкнулись два упоминавшихся в нашей книге отождествления, выявленные филологами XX в.: Телипина с Телефом, по Кречмеру, и его же с эгейским богом Дельфинием [Barnett, 1956, с. 219 и сл.; Huxley, 1961, с. 25 и сл.; Гиндин, 1977, с. 105 и сл.]. Греки у Ликофрона по пророчеству Кассандры поплывут к Трое, «прославляя Вакха, которому некогда в пещерах Дельфиния… тайные возлияния совершит предводитель градоразрушительного войска (т. е. Агамемнон). А ему быструю благодарность воздавая за жертвы, божество… льва от трапезы удержит, пяту оплетя лозами, чтобы не погубил колос под корень режущим зубом и прожорливыми челюстями».
По Ликофрону, обуздание Телефа, уподобляемого некоему мифическому льву — истребителю посевов, совершается вследствие жертв, приносимых Дионису в святилище Дельфиния. Весь контекст проникнут взаимопритяжением этих трех мифологических имен. На поверхности лежит конфликт Телефа с Дионисом, вполне аналогичный, скажем, отношениям Диомеда и Ареса: сталкиваются функционально аналогичные образы, из которых один в рамках данной мифологии трактуется как бог, а другой — в качестве смертного. Далее, в тексте отражен синкретизм Диониса и Дельфиния, характеризующий религиозную ситуацию в Дельфах и, возможно, служащий свидетельством в пользу изначального отличия Дельфиния от Аполлона (см. [Иванов, 1923], глава «Дельфийские братья» с обзором традиции о Дионисе как о более древнем по сравнению с Аполлоном обитателе Дельф, особенно о «гробе Диониса» в Дельфах). Но в глубине повествования прочно связываются на уровне описываемого ритуала принимающий жертву в своем храме Дельфиний (Дионис) и укрощаемый Телеф, два эгейских отображения Телипина.
Надо полагать, в Западной Малой Азии и на юге Балкан мифология Телефа попадает в «зону притяжения» дионисийского культа. В отличие от центральноанатолийского Телипина Телеф в качестве атрибутов получает связь с виноградарством и соответственно виноградную лозу. Ситуация оплетания этой лозой (т. е. созревание винограда?) осмысливается как переломная в жизни Телефа. После пролития его крови на виноградную долину он переходит от богатства и здоровья к исчерпанию производительных сил и нищете, возможно отражающим наступление зимнего сезона (ср. упоминаемую в пересказе «Киприй» у Прокла непогоду, собственно, зимнее ненастье — χϵμών, обрушившееся на отплывающих из Мисии греков после ранения Телефа). Гневный и страдающий, Телеф скрывался в далекую страну за морем, чтобы в должный срок вернуться исцелившимся и умиротворенным.
На этот календарный циклический миф оказались спроецированы предания о походе Агамемнона в Мисию и о временно обосновавшихся на Каике кетейцах. Культ Телефа-Телипина имел во многом общеанатолийский характер (по Стефану Византийскому, «Телефов народ», Τηλέφιος δῆμος, существовал также и в Ликии). Это делало Телефа в равной мере и героем племен, живших на берегах Каика, священным предком позднейших царей Пергама, и предстателем Троады, единственно способным показать ахейцам путь к ней (ср. вазы VI и V вв. до н. э. с изображением Телефа, защищающего Илион вместе с Гектором [Robert, с. 1126 и сл.]), и покровителем вторгшихся сюда хеттов из войска Тудхалияса IV. В глазах малоазийских греков появление Эврипила с Каика воспринималось в естественной ретроспективе «Псевдо-Илиады», когда ахейцы вынуждены были отступить перед поддерживаемым амазонками народом Телефа». Поэтому греческие легенды без колебаний говорят о кетейском царе как о подлинном потомке Телефа.
Между тем местная традиция, обожествляя Телефа, по-видимому, относилась к Эврипилу с достаточной осторожностью. Обычай открывать служение в пергамском храме Асклепия хвалой Телефу объясняется глубоко раскрытой в исследовании В. Н. Топорова функциональной и концептуальной близостью мифологий Асклепия и Телипина [Топоров, 1975], выразившейся в Пергаме в переплетении культов, однако никогда не доходившем до полного их слияния. В этом отношении важно другое сообщение Павсания (V,13,3), который, рассказав о соседствующих в Олимпии святилище Зевса и участке, посвященном Пелопсу, и о запрете приносившим жертву Пелопсу без очищения входить в храм Зевса, добавляет: «То же самое происходит и в Пергаме на реке Каике с приносящими жертву Телефу — этим тоже нельзя до омовения входить к Асклепию». Ясно, что прославление Телефа совершалось помимо самого храма и на особом участке, находившемся рядом с ним. Эта неразрывность и вместе неотождествимость культов и позволяла со ссылкой на убийство Эврипилом сына Асклепия наложить запрет на имя кетейского царя, отторгнув его от пергамских потомков Телефа.
Между тем для греков в рассказе о гибели кетейцев под Илионом происходило совмещение двух смысловых планов. С одной стороны, с кетейцами прочно соединился миф о женщине, получающей плату за гибнущего воина, с другой — за эпизодом «кетейцы в Трое» вставали контуры «Псевдо-Илиады» с ее символикой виноградной лозы в качестве знака крови, проливаемой уходящим в потусторонний мир богом-царем, когда виноград оплетает ноги пораженного в бою Телефа. Думается, именно контаминацией, взаимоналожением этих двух планов создается образ «женских даров» в виде золотого винограда — подарка царице за жизнь уходящего на войну героя. Показательно, что версия «Малой Илиады», объясняя происхождение этой лозы, делает ее воздаянием за унесенного из мира людей царского сына Ганимеда, виночерпия богов. Золотая лоза осмысляется как цена жизни царя или царевича. Троянский царь получает ее в возмещение за сына — и соответственно покупает за нее жизнь сына Астиохи. Редко когда удается исследователю с такой очевидностью наблюдать саморазвитие мифа!
6
Эпическое претворение реального факта — появления хеттов по соседству с Троей в годы, предшествующие ее разорению греками, — проявляется не только в контаминации исторических и мифо-ритуальных мотивов, рождающих экзотические образы вроде золотого винограда Астиохи. Помимо этого, для генезиса легенды характерно мультиплицирование отражений одного и того же исторического события, когда оно, как бы записанное в различных «кодах», способно превратиться в несколько на первый взгляд разнородных и независимых друг от друга легендарных свидетельств. Так, поход Тудхалияса в Страну реки Сеха оказался запечатлен традицией греков в двух версиях: в то время как в «амазоническом коде» этому факту отвечает вмешательство женской конницы в битву ахейцев с мисийцами, в «кетейском коде» он зафиксирован как соотношение между отсутствием упоминаний о кетейцах на Каике ко времени «Псевдо-Илиады» и фиксацией здесь этого народа после нее.
Если мы рассмотрим под тем же углом зрения киклические рассказы о трех отрядах, пытавшихся отстоять Илион в его последние дни, то обнаружится, что первыми в этом ряду выступают амазонки во главе с царицей Пентесилеей, пришедшие со своей родины на Термодонте, а заключат ряд кетейцы, живущие на Каике, «доверяясь мощным копьям». Здесь легко распознать удвоение того же типа, который мы только что рассмотрели. Аналогия фигур Гиеры и Пентесилеи давно отмечалась исследователями киклического эпоса [Malten, 1913, кол. 1395]. Разница между кетейцами и воинством Пентесилеи в том, что первые, будучи носителями реального этнического имени хеттов, вторгаются из ближайшей к Трое области, подвластной этому царству, а полусказочные амазонки идут со стороны своей легендарной метрополии, реально со стороны древнего Хаттусаса. Если кетейцы могли попасть в Троянский цикл из легенд народов Мисии и Троады, то амазонки — характерное для собственно греческих сказаний условно-обобщенное воспоминание о древнем анатолийском царстве.
Между амазонками и кетейцами киклики, а за ними и Квинт Смирнский, выводят на сцену войско Мемнона, ярко выраженного «восточного» героя, представлявшегося то эфиопом, то египтянином, то ассирийцем. Еще Гладстон, ссылаясь на слова Одиссея о кетейце Эврипиле как о «красивейшем после Мемнона» (Od. XI,522), а также на картину Полиглота в Дельфах (Paus. Х,31,5), изображающую Мемнона опирающимся на плечо ликийца Сарпедона, высказал мысль о принадлежности Мемнона к анатолийскому, «хеттскому» в широком смысле кругу образов Троянского эпоса [Gladstone, 1876, с. 179]. Детально мысль о Мемноне как о божественном представителе хеттского мира развил Леонхард [Leonhard, 1911, с. 169], привлекший сообщения о погребении Мемнона в Северной Сирии в г. Палте на р. Баде (Strab. XV,3,2), а также о существовании святилища Мемнона на р. Оронте (Ps.-Oppian. Cyneg. II,152 и сл.). Кроме того, Мемнону приписывались восходящие к хеттской эпохе памятники скальной скульптуры вблизи Смирны (Hdt. II,106). Леонхард заключил, что греки не случайно помещали родину этого «египтянина» или «ассирийца» в тех сирийских областях, из-за которых некогда шла жестокая борьба между Египтом и хеттскими царями, стремившимися распространить свою власть за пределы Анатолии. Но Леонхард не учел одного немаловажного обстоятельства: все места в Сирии, соотносившиеся с именем Мемнона, для XIII в. до н. э. представляли отдаленнейшую периферию хеттского мира, зато для VIII в. до н. э. были его естественной и основной частью. Достаточно заметить, что «святилище Мемнона» на р. Оронте должно было прямо находиться на территории царства Хаттина (Унки). «Эфиоп» Мемнон по меркам Малой Азии гомеровского времени был очевидным «хеттом». Итак, отряд, в триаде последних союзников Илиона появляющийся после амазонок, но прежде кетейцев, — это снова хетты, но на этот раз не в качестве мифологизированной реминисценции (женское царство на Термодонте) или исторически точного свидетельства, прошедшего сквозь столетия (кетейцы на Каике). Теперь перед нами действительно посланцы позднехеттского мира, сведшегося к массе мелких царств и объединений на юго-востоке Малой Азии и на севере Сирии.
Что могло подтолкнуть греческих аэдов к включению этих мифических выходцев с Оронта не просто в число защитников Трои, но в одну группу с амазонками и кетейцами? Объяснить это будет трудно, если не предположить в основе этого мотива представление о некоем родстве поздних претендентов на хеттское имя с народом, вмешавшимся в Троянскую войну в последней ее фазе, тем самым, который в других версиях возникает то как амазонки, то как кетейцы. Позднехеттские мотивы в Троянском цикле, соответствующие претензиям малоазийских и сирийских государств на продолжение хеттских традиций, не позволяют просто пройти мимо созвучия имен Эврипила и властителя Тианы Варпалаваса. К тому же оно подкрепляется одной интересной реалией. В. Леонхард, обсуждая миф об Астиохе, указывал на отклик, который находит мотив золотой виноградной лозы в культуре киликийской Кетиды, где лоза изображалась на монетах ряда городов и, кроме того, хорошо прослеживается почитание бога с виноградной гроздью. Важнейшим памятником этого «кетейского культа» Леонхард по праву считал рельеф в Ивризе со сценой молитвы местного царя, протягивающего руки к богу, в чьей деснице зажата роскошная кисть винограда [Leonhard, 1911, с. 173] (также см. [Garstang, 1929, с. 165]). Мог ли предположить ученый, связавший эту сцену с мифом об Эврипиле, что молящимся царем здесь был «тезка» погибшего за «женские дары» кетейца Эврипила — тианский Варпалавас!
Поскольку правление этого царя приходилось на годы отчаянной борьбы поздних хеттов с наступающей Ассирией, заключенный в его имени звуковой комплекс W-r-p-l приводит на память также рассказ Арриана об амазонке Эврипиле (Εὐρυπύλη), некогда атаковавшей ассирийцев, живших на Евфрате и далее в глубине Месопотамии (FHG, III, с. 595, фр. 48). Эта битва амазонки с ассирийцами укрепляет в мысли, что «амазонический код» применительно к Малой Азии мог служить не только сохранению памяти о хеттах II тысячелетия до н. э. В отдельных случаях он облекал в привычную с точки зрения мифо-легендарного канона форму отклик на события, переживаемые позднехеттским регионом во времена Новоассирийского царства и великой греческой колонизации. В сказаниях греков возникает круг поддерживающих друг друга отождествлений: Эврипил — царь кетейцев (хеттов-амазонок) — Эврипила — царица амазонок (хеттов-кетейцев), где в глубине как невидимая центральная точка, без которой круг был бы невозможен, находится ни разу не заявленное открыто отождествление кетейцев и амазонок с одним и тем же народом. Поэтому привязка битв Эврипилы к северной окраине Ближнего Востока, т. е. к «мемноновским местам», придает особый оттенок гомеровским словам об Эврипиле, якобы сравнимом по красоте лишь с Мемноном.
Предание о последних пришедших из глубин Анатолии союзниках Илиона для греков, продвигавшихся в Киликию и Каппадокию и далее в Сирию, могло, как видно из истории Мемнона, связываться с открывавшимися перед ними на этом пути странами.
Нам кажется, моление Варпалаваса перед богом с виноградной гроздью само по себе ничего не объясняет в истории гибели Эврипила, в ее генезисе: ни происхождения темы «женских даров», ни появления кетейцев на Каике, ни того, почему лоза оказывалась ценой царской жизни. Для объяснения этих моментов надо в одном случае анализировать хеттский закон, в другом — анналы Тудхалияса IV, а в третьем — всматриваться в мифо-ритуальные пласты «Псевдо-Илиады». Но если еще в самом начале I тысячелетия до н. э. киликийский царь Аситавада в надписи из Кара-тепе возводил себя к «дому Мукса», хорошо знакомого греческим преданиям как лидийский выходец Мопс из Колофона, то нет ничего невероятного в том, что в VIII в. образ тианского Варпалаваса перед гроздью, сжимаемой богом, мог бы сближаться с уже оформившимся мифом о его омониме, сыне Телефа-Телипина, «великом царе» кетейцев, ушедшем за золотую лозу в безвозвратный поход на далекий северо-запад.
7
Теперь мы вправе задуматься над тем, случайно ли «кетейский» сюжет оказался за пределами творческих интересов Гомера и лишь мельком возникает в качестве темной аллюзии в «Одиссее». Рассмотренные в предыдущих главах факты подтверждают выдвинутый нами тезис о гомеровском эпосе как о памятнике этнокультурного пограничья, памятнике взаимодействия греков с их ближайшими соседями вдоль всего западного малоазийского побережья от Ликии до Троады. Гомер, несомненно, широко использует предания этих соседей. С особо обостренным интересом интегрирует он в здание «Илиады» мотивы местной традиции, в которых с точки зрения этих племен претворились их родовые судьбы и судьбы населенных ими территорий (отсюда — проблемы так называемого «согомеровского эпоса»).
Понятно, что тема кетейцев в данном плане не представляла большого интереса. Хеттское царство претворилось в греческих мифах не как великая держава, но как ирреальное, курьезное «воинство женщин», не находящее никакого продолжения в посттроянской истории, исчезающее для нее бесследно. «Кетейский» же отряд кратковременно, неизвестно откуда появляющийся в долине Каика, остается совершенно чужеродным явлением в истории Северо-Западной Анатолии, не объяснимым из этноисторических процессов, определяющих облик этого региона. Кетейцы не оставили здесь, в отличие от ликийцев и киликийцев, глубокого следа, а с племенами далеко на юге, которые могли еще в VIII в. до н. э. носить имя хеттов, Гомеру и его окружению не приходилось соприкасаться особенно тесно. Разумеется, рассказы об амазонках и о царице, губящей сына за золотой виноград, могли вызывать любопытство своей экзотикой, но как раз самоцельная экзотика нисколько не притягивает Гомера, пока он остается на реальной почве хорошо знакомой ему Западной Малой Азии. Другое дело — потусторонний мир «Одиссеи», но ведь и там поэт предпочитает передоверить рассказ хитроумному, а порой и лживому герою, сняв с себя ответственность за расписываемые им чудеса. По всем этим причинам кетейская тема (как и иные фольклорные отображения хеттского вмешательства в Троянскую войну) не обрела сколько-нибудь значительного места в структуре гомеровского замысла. Лишь в XI песни «Одиссеи» Гомер мимоходом, полунамеком обращается к этой теме, вводя мотив гибельных для царя-воителя «женских даров», звучащий, как и имя «ненавистной» Эрифилы, оправданным смысловым аккомпанементом трагедии Агамемнона.
Но и здесь поэт остался верен себе в своем бережном отношении к фольклорно-традиционному материалу, не всегда уже понятному ему в деталях.
Список сокращений
АБ-84 — Античная балканистика. Карпато-балканский регион в диахронии. Предварительные материалы к международному симпозиуму. М., 1984.
АБ-88 — Античная балканистика-6. Тезисы докладов. М., 1988.
БВКС — Балканы в контексте Средиземноморья. Проблемы реконструкции языка и культуры. Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. М., 1986.
БЛС — Балканский лингвистический сборник. М., 1977.
ВДИ — Вестник древней истории. М.
ВЯ — Вопросы языкознания. М.
ДЯМА — Древние языки Малой Азии. М., 1980.
ППДВ — Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973.
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1. М., 1974.
AJA — American journal of archaeology. Boston.
AnzAW — Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien. Philologisch-historische Klasse.
AO — Archiv Orientálni. Praha.
ARM — Dossin G. Archives royales de Mari. Vol. 1. P., 1950.
AS — Anatolian Studies.
BAMA — Bronze Age migrations in the Aegean. Proceedings of the First International Colloquium on Aegean prehistory. Duckworth, 1973.
BNF — Beiträge zur Namenforschung. Heidelberg.
BSL — Bulletin la Société de linguistique de Paris.
CAH — Cambridge Ancient history. 3 ed. Vol. 2. Pt. 1,2. Cambridge, 1973,1975.
CIE — Corpus inscriptionum etniscarum. Lipsiae.
CIG — Corpus inscriptionum graecarum. B.
CIL–Corpus inscriptionum latinarum. B.
EPB — L’ethnogenise des peuples balcaniques. Symposium international sur 1‘ethnogenèse des peuples balkaniques. Plovdiv, 23–28 avril, 1969. Sofia, 1971.
ERL — Reallexicon der Vorgeschichte. Hrsg. von M. Ebert Bd. 1-15. B., 1925–1932.
FGH — Jacoby F. Die Fragmente der griechischen Historiker. B.-Lpz., 1923.
FHG — Fragmenta historicorum graecorum. Collegit C. Müllerus. Vol. 1–5. P., 1841–1861.
G1 — Glotta. Göttingen.
GÄL — Griechenland, die Ägäis und die Levante während der «Dark Ages» vom 12. bis zum 9. Jh.v. Chr. — Akten des Symposions von Stift Zwettl, 11–14 Oktober, 1980. Wien, 1983.
GREC — The Greek renaissance of the eighth century B.C. — Tradition and innovation. Stockholm, 1983.
HSt — Harvard studies in classical philology. Cambridge (Mass.)
IF — Indogermanische Forschungen. B.
IG — Inscriptiones Graecae. B.
JCS — Journal of cuneiform studies. New Haven.
JHS — Journal of Hellenic studies. L.
JKF — Jahrbuch für kleinasiatische Forschungen. Heidelberg.
JNES — Journal of Near Eastern studies. Chicago.
KBo — Keilschrifttexte aus Boghazköi. Lpz., 1916.
KF — Kleinasiatische Forschungen. Weimar.
KUB — Keilschrifturkunden aus Boghazköi. В., 1921.
KZ — Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprache, begründet von A. Kuhn. Göttingen.
LB — Linguistique balkanique. Sofia.
MDOG — Mitteilungen der Deutschen Orient. Gesellschaft. B.
MSS — Münchener Studien zur Sprachwissenschaft.
OLZ — Orientalistische Literaturzeitung. Lpz.
PdP — Parola del Passato. Napoli.
RE — Realencyclopädie der classischen Altertumwissenschaft. Begr. von Pauly, neu hrsg. von G. Wissowa, K. Kroll u.a. Stuttgart, 1896 sqq.
REA — Revue des études anciennes. Bordeaux et Paris.
RHA — Revue hittite et asianique. P.
RhM — Rheinisches Museum für Philologie. Frankfurt-am-Main.
RLA — Reallexicon der Assyriologie. Bd. 1-… В., 1928—…
SMEA — Studi micenei ed egeo-anatolici. Roma.
TAPhA — Transactions and Proceedings of American Philological Association. Chico (Cal.).
ThLE — Thesaurus linguae etruscae. Vol. 1. Indice lessicale. Publ. da M. Pallottino. Roma. 1978.
TL (=TAM I) — Tituli Asiae Minoris. Vol. 1. Tituli Lyciae lingua lycia conscripti, ed. E. Kalinka. Wien, 1901.
TTW — Troy and the Trojan War. A symposium held at Bryn Mawr Colledge. October 1984. Ed. by M. Mellink. Bryn Mawr. 1986.
ZA — Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete. В.
Язык и диалекты
авест. — авестийский
акк. — аккадский
алб. — албанский
анат. — анатолийский
араб. — арабский
арм. — армянский
ассир. — ассирийский
аттич. — аттический
балт. — балтийский
вавил. — вавилонский
вифин. — вифинский
галльск. — галльский
герм. — германский
гом. — гомеровский
гот. — готский
греч. — греческий
догреч. — догреческий
дор. — дорийский
др.-англ. — древнеанглийский
др.-в.-нем. — древневерхненемецкий
др.-евр. — древнееврейский
др.-инд. — древнеиндийский
др.-ирл. — древнеирландский
др.-исл. — древнеисландский
др.-макед. — древнемакедонский
др.-прусск. — древнепрусский
др.-хет. — древнехеттский
егип. — египетский
и.-е. — индоевропейский
иллир. — иллирийский
ирл. — ирландский
исавр. — исаврийскнй
кар. — карийский
кельт. — кельтский
килик. — киликийский
килик.-исавр. — киликийско-исаврийский
кипр. — кипрский
лангоб. — лангобардсккй
лат. — латинский
лид. — лидийский
лик. — ликийский
лит. — литовский
лтш. — латышский
лув. — лувийский
мессап. — мессапский
микен. — микенский
нем. — немецкий
нововавил. — нововавилонский
осет. — осетинский
памф. — памфилийский
перс. — персидский
пилосск. — пилосский
писид. — писидийский
раннефрак. — раннефракийский
русск. — русский
самофрак. — самофракийский
сев-фрак. — северофракийский
сидет. — сидетский
слав. — славянский
слвц. — словацкий
ср.-в.-нем. — средневерхиенемецкий
ст.-слав. — старославянский
с.-х. — сербохорватский
тох. — тохарский
троян. — троянский
троян.-лув. — троянсколувийский
умбр. — умбрский
фесс. — фессалийский
фрак. — фракийский
фрак.-дак. — фракодакийский
фриг. — фригийский
хет. — хеттский
хет.-лув. — хетто-лувийский
этр. — этрусский
южнофрак. — южнофракийский
Литература
Айхенвальд и др., 1987 — Айхенвальд А. Ю., Баюн Л. С., Иванов Вяч. Вс. Материалы к реконструкции культурно-исторического процесса в древней Анатолии. III. — Надписи и языки древней Малой Азии, Кипра и античного Северного Причерноморья. М., 1987.
Альтман, 1936 — Альтман М. С. Пережитки родового строя в собственных именах у Гомера. Л., 1936.
Андреев, 1976 — Андреев Ю.В. Раннегреческий полис. Л., 1976.
Ардзинба, 1982 — Ардзинба В. Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. М., 1982.
Ардзинба, 1987 — Ардзинба В. Г. Хеттское царство. — Межгосударственные отношения и дипломатия на Древнем Востоке. М., 1987.
Баюн, 1984 — Баюн Л. С. Общелувийский глагольный тип (вопросы реконструкции). — Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984.
Баюн, 1987 — Баюн Л. С. Фрако-анатолийские языковые связи в сравнительно-исторической перспективе. — Античная балканистика. М„1987.
Баюн, 1989 — Баюн Л. С. Ликийцы в этнокультурной истории древней Анатолии. — Эпиграфические памятники и языки Древней Анатолии, Кипра и античного Северного Причерноморья. М., 1989.
Баюн, 1990 — Баюн Л. С. Ликийцы в этнокультурной истории древней Анатолии. — Эпиграфические памятники и языки древней Анатолии, Кипра и античного Северного Причерноморья. М., 1990.
Баюн, Дандамаев, 1983 — Баюн Л.С., Дандамаев М. А. [Рец. на: ] Ардзинба В. Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. — ВДИ. 1983, № 2.
Блаватская. 1966 — Блаватская Т. В. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. э. М., 1966.
Богатырев. Якобсон, 1971 — Богатырев П. Г., Якобсон Р. О. Фольклор как особая форма творчества. — Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М„1971.
Борухович, 1964 — Борухович В. Г. Ахейцы в Малой Азии. — ВДИ. 1964, № 3.
Борхес, 1989 — Борхес Х. Л. Проза разных лет. М„1989.
Венедиков, 1976 — Венедиков И. Траките и Илиадата. — Тракия 3. Пловдив, 1976.
Выготский, 1986 — Выготский Л. С. Психология искусства. М„1986.
Гамкрелидзе, Иванов. 1984 — Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ языка и протокультуры. Т. 1–2. Тб., 1984.
Георгиев, 1958 — Георгиев В. И. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. М., 1958.
Георгиев, 1967 — Георгиев В. И. Значеннето на съвременната топонимия за объяснението на древните географски названия. — Известия на Института за български език. 1967, т. 14.
Георгиев, 1977 — Георгиев В. И. Траките и техният език. София, 1977.
Георгиев, Мерперт, 1965 — Георгиев Г. И., Мерперт Н. Я. Раскопки многослойного поселения у села Езеро близ г. Нова-Загора в 1963 г. — Известия на Археологическия институт. 1965. т. 18.
Георгиев, Мерперт, 1973 — Георгиев Г. И., Мерперт Н. Я. Поселение Езеро и его место среди памятников раннего бронзового века Восточной Европы. — Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur. Bratislava, 1973.
Герни, 1987—Герни О. Хетты. Μ., 1987.
Герценберг. 1972 — Герценберг Л. Г. Морфологическая структура слова в древних индоиранских языках. Л., 1972.
Гиндин, 1967 — Гиндин Л А. Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова. М„1967.
Гиндин, 1972 — Гиндин Л. А. Некоторые ареальные характеристики хеттского. — Этимология. 1970. М., 1972.
Гиндин, 1973 — Гиндин Л. А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан (фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглоссы). Докт. дис. М., 1973.
Гиндин, 1974— Гиндин Л. А. Автореф. докт. дис. [Гиндин, 1973].
Гиндин, 1977 — Гиндин Л А. Лингвистический комментарий к упоминанию двух групп фракийских племен в «Илиаде». — БЛС.
Гиндин, 1977а — Гиндин Л А. Миф о поединке и мифология Аполлона (на материале I–III гомеровских гимнов). — Славянское и балканское языкознание. Античная балканистика и сравнительная грамматика. М., 1977.
Гиндин, 1978 — Гиндин Л А. К возможности реконструкции фракийского языка на материале греко-римских надписей *(Ἥρως) Πϵρκους resp. Πϵρκωνις. — ВДИ. 1978, № 5.
Гиндин, 1978а — Гиндин Л. А. Гом. Κήτϵιοι. — Античная балканистика-3. Предварительные материалы. М., 1978.
Гиндин, 1979 — Гиндин Л. А. Ритуально-мифологический смысл десятой песни «Одиссеи». — Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979.
Гиндин, 1980 — Гиндин Л. А. Элемент — δων, -δον в реликтовых языках Балканского полуострова. — Сборник в чест на академик Георгиев. София, 1980.
Гиндин, 1981 — Гиндин Л. А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан. София, 1981.
Гиндин, 1983 — Гиндин Л. А. Гом. Κήτειοι в конкретно-исторической интерпретации. — Славянское и балканское языкознание. Проблемы языковых контактов. М., 1983.
Гиндин, 1985 — Гиндин Л. А. Лингвофилологический анализ X песни «Одиссеи» и некоторые принципы гомеровской поэтики. — Античная культура и современная наука. М., 1985.
Гиндин, 1986 — Гиндин Л. А. Комментарий к свидетельству Геродота о ликийцах-ксанфиях (Hdt I,17б) и проблема ликийцев-троянцев «Илиады». — БВКС.
Гиндин, 1988 — Гиндин Л. А. Проблема славянизации карпато-балканского пространства в свете семантического анализа глаголов обитания у Прокопия Кесарийского. — ВДИ. 1988, № 2.
Гиндин, 1988а — Гиндин Л. А. Значение данных фракологии в комплекс проблем индоевропеистики, — Античная балканистика-6. Тезисы докладов. М., 1988.
Гиндин, 1990 — Гиндин Л А. Лувийцы в Трое (Опыт лингвофилологического анализа). — ВЯ. 1990, № 1.
Гиндин, 1991 — ГиндинЛА. Троянская война и Аххиява хеттских клинописных текстов. — ВДИ. 1991, № 3.
Гиндин, 1991а — ГиндинЛ.А. Единство сюжета «Илиады» Гомера и «Псевдо-Илиады» в свете хеттской и греческой письменных традиций. — Известия отделения литературы и языка АН СССР. 1991, т. 50, № 3.
Гиндин, 1993 — Гиндин Л. А. Население гомеровской Трои. Историко-филологические исследования по этнологии Древней Анатолии. М., 1993.
Гиндин, Цымбурский, 1984 — Гиндин Л. А., Цымбурский ВЛ. [Рец. на: ] Peruzzi Е. Myceneans in Early Latium. — ВЯ. 1984, № 1.
Гиндин, Цымбурский, 1986 — Гиндин ЛА., Цымбурский ВЛ. Античная версия исторического события, отраженная в KUB XXIII, 13. — ВДИ. 1986, № 1.
Гиндин, Цымбурский, 1991 — ГиндинЛ.А., Цымбурский ВЛ. Отражения индоевропейских лабиовелярных в древнемакедонском. — ВЯ. 1991. № 2.
Гордезиани, 1970 — Гордезиани Р. В. «Илиада» и вопросы истории и этногенеза древнейшего населения Эгеиды. Тб., 1970.
Гордезиани, 1978 — Гордезиани Р. В. Проблемы гомеровского эпоса. Тб., 1978.
Грейвс, 1992 — Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 1992.
Гринцер, 1974 — Гринцер П. А. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. М., 1974.
Джаукян, 1964 — Джаукян Г. Б. Хайасский язык и его отношение к индоевропейским языкам. Ер., 1964.
Джаукян, 1984 — Джаукян Г. Б. Фракийцы в Армении. — АБ-84.
Дуриданов, 1976 — Дуриданов И. Език на траките. София, 1976.
Дьяконов, 1968 — Дьяконов И. М. Предыстория армянского народа. Ер., 1968.
Дьяконов, 1980 — Дьяконов И. М. Хурритский язык и другие субстратные языки Малой Азии. — ДЯМА.
Дьяконов, 1980а — Дьяконов И. М. Фригийский язык. — ДЯМА.
Езеро, 1979 — Езеро. Раннебронзовото селище. София, 1979.
Елоева, 1984 — Елоева Ф. К. Этимология др. — греч. κρήνη. — АБ-84.
Зайцев, 1987 — Зайцев А. И. Лексико-стилистические особенности надписи на «Кубке Нестора» из Питекус. — Philologia classics. Вып. 3. Язык и стиль памятников античной литературы. Л., 1987.
Иванов, 1923 — Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923.
Иванов, 1958 — Иванов Вяч. Вс. К этимологии балтийского и славянского названий бога грома. — Вопросы славянского языкознания. Вып. 3. М., 1938.
Иванов, 1977 — Иванов Вяч. Вс. Древние культурные и языковые связи южнобалканского эгейского и малоазийского (анатолийского) ареалов. — БЛС.
Иванов, 1977а — Луна, упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии. Пер. с древнемалоазийских языков Вяч. Вс. Иванова. М., 1977.
Иванов, 1979 — Иванов Вяч. Вс. Чатал-Гююк и Балканы. Проблемы этнических связей и культурных контактов. — Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979.
Иванов, 1981 — Иванов Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки. М., 1981.
Иванов, 1983 — Иванов Вяч. Вс. История славянских и балканских названий металлов. М., 1983.
Иванов, Топоров, 1974 — Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
Казанскене, Казанский, 1986 — Предметно-понятийный словарь греческого языка. Крито-микенский период. Сост. В. П. Казанскене, Н. Н. Казанский. Л., 1986.
Казанский, 1989 — Казанский Н. Н. К этимологии теонима Гера. — Палеобалканистика и античность. М., 1989.
Калужская, Цымбурский, 1988 — Калужская И.А… Цымбурский В. Л. Некоторые северобалканские данные к предыстории греческого мифа об убийце Беллера. — Античная балканистика-6. Тезисы докладов. М., 1988.
Камменхубер, 1980 — Камменхубер А. Очерк палайской грамматики. — ДЯМА.
Келлерман, 1971 — Келлерман Г. М. Население гомеровской Трои по лингвистическим данным. — Всесоюзная сессия по древнему Востоку. Тезисы докладов. Тб., 1971.
Колобова, 1931 — Колобова К. М. Из истории раннегреческого общества (о. Родос, IX–VII вв. до н. э.). Л., 1951.
Королев, 1976 — Королев А. А. Хетто-лувийские языки. — Языки Азии и Африки. Т. 1. М., 1976.
Коростовцев, 1963 — Коростовцев М. А. Введение в египетскую филологию. М., 1963.
Ларош, 1980 — Ларош Э. Очерк лувийского языка. — ДЯМА.
Леви-Брюль, 1930 — Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Л., 1930.
Лосев, 1937 — Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.
Лосев. 1960 — Лосев А. Ф. Гомер. М., 1960.
Лосев, 1977 — Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977.
Лурье, 19S7 — Лурье С. Я. Язык и культура Микенской Греции. М.-Л… 1957.
Лурье, 1963 — Лурье С. Я. Микенские надписи и древний Восток. — Проблемы социально-экономической истории древнего мира. Сборник памяти академика А. И. Тюменева. М.-Л., 1963.
Маккуин, 1983 — Маккуин Дж. Г. Хетты и их современники в Малой Азии. М., 1983.
Мелетинскнй, 1963 — Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. М., 1963.
Мерперт. 1965 — Мерперт Н. Я. О связях Северного Причерноморья и Балкан в раннем бронзовом веке. — Краткие сообщения Института археологии АН СССР. М… 1965. № 105.
Мерперт, 1966 — Мерперт Н. Я. К вопросу о связях Анатолии и Фракии в раннем бронзовом веке. — Sbornik národního muzea v Praze. Vol. 20, № 1–2,1966.
Мерперт, 1969 — Мерперт Н. Я. Ранний бронзовый век Южной Болгарии. — Actes du I Congres international des études balkaniques et sud-est européennes. Vol. 2. Historique. Sofia, 1969.
Мерперт, 1988 — Мерперт Н. Я. [Рец. на: ] Korfman М. Demircihüyuk. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975–1978. Bd. 1. Mainz am Rhein, 1983. — Советская археология. 1988, № 2.
Мерперт, Черных, 1971 — Мерперт Н. Я., Черных Е. Н. Болгаро-советская экспедиция. — Археологические открытия 1971 года. М., 1972.
Мерперт, Черных, 1972 — Мерперт Н. Я., Черных Е. Н. Работы болгаро-советской экспедиции в 1972 г. — Археологические открытия 1972 года. М., 1973.
Миллер, Кузнецова, 1984 — Кузнецова Т. И., Миллер Τ.А. Античная эпическая историография: Геродот. Тит Ливий. М., 1984.
Миттельбергер, 1980 — Миттельбергер Г. Генитив и адъектив в анатолийских языках. — ДЯМ А.
Немировский, 1983 — Немировский А. И. Этруски. От мифа к истории. М., 1983.
Никонов, 1965 — Никонов В. А. Введение в топонимику. М., 1965.
Николов, 1986 — Николов Б. Фракийский клад из Рогозе на. — фракийский клад из Рогозена. София, 1986.
Нойман, 1976 — Нойман Г. К дешифровке сидетских надписей. — Тайны древних письмен: Проблемы дешифровки. М., 1976.
Нойман, 1980 — Нойман Г. Ливийский язык. — ДЯМА.
Поляков, 1990 — Поляков А. Н. Принципы просопографии у Плутарха. Автореф. канд. дис. М., 1990.
Полякова. 1983 — Полякова Г. Ф. От микенских дворцов к полису. — Античная Греция. Проблемы развития полиса. Т. 1. М., 1983.
Пропп, 1955 — Пропп В. Я. Русский героический эпос. Л., 1955.
Пропп, 1986 — Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л„1986.
Путилов. 1975 — Путилов Б. Н. Типология фольклорного историзма. — Типология народного эпоса. М., 1975.
Толстой, 1966 — Толстой И. И. Статьи о фольклоре. Л., 1966.
Топоров, 1975 — Топоров В. Н. К объяснению нескольких славянских слов мифологического характера в связи с возможными древними ближневосточными параллелями. — Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов. М., 1975.
Топоров, 1977 — Топоров В. Н. К древнебалканским связям в области языка и мифологии. — БЛС.
Топоров, 1977а — Топоров В. Н. К фракийско-балтийским языковым параллелям. II. — БЛС.
Топоров, Трубачев, 1962 — Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
Тройский, 1973 — Тройский И. М. Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973.
Тураев, 1937 — Тураев Б. А. История древнего Востока. Т. 2. Л., 1937.
Фасмер, т. 1–4 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Пер. с нем. и дополн. О. Н. Трубачева. Т. 1–4. Μ., 1964–1973.
Фол, 1986 — Фол А. Тракийският орфизъм. София, 1986.
Фридрих, 1952 — Фридрих И. Краткая грамматика хеттского языка. М., 1952.
Хазарадзе, 1974 — Хазарадзе Н. В. Этнические и политические объединения Восточной Малой Азии первой половины I тысячелетия до н. э. (Табал). Автореф. канд. дис. Тб., 1974.
Хоммель, 1981 — Хоммель X. Ахилл — бог. — ВДИ. 1981, № 1.
Цымбурский, 1984 — Цымбурский В. Л. Троянская Ликия и проблема этногенеза ликийцев. — Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Тезисы и доклады конференции. Ч. 1. М… 1984.
Цымбурский, 1984а — Цымбурский В. Л. Гом. Πϵίρως — фрак. Ἥρως — хет. Piru̯aš. — АБ-84.
Цымбурский. 1986 — Цымбурский В. Л. Еще о кетейцах и о женских дарах. — БВКС.
Цымбурский, 1986а — Цымбурский В. Л. [Рец. на: ] Немировский А. И. Этруски. От мифа к истории. — ВДИ. 1986, № 3.
Цымбурский, 1987 — Цымбурский В. Л. Гомеровский эпос и этногенез Северо-Западной Анатолии. Канд. дис. М., 1987.
Цымбурский, 1987а — Цымбурский В. Л. Автореф. канд. дис. [Цымбурский, 1987].
Цымбурский, 1987б — Цымбурский В. Л. [Рец. на: ] Гиндин Л. А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан. — LB. 1987, t. 30. № 1.
Цымбурский, 1987в — Цымбурский В. Л. Беллерофонт и Беллер. (Реминисценция древнебалканского мифа в греческой традиции). — Античная балканистика. М., 1987.
Цымбурский, 1987 г — Цымбурский ВЛ. «Миры» терминов «Троя» и «Илион» в гомеровском эпосе. — Комплексные методы в исторических исследованиях. Тезисы докладов и сообщений научного совещания. Москва, 3–5 февраля 1987 г. М., 1987.
Цымбурский. 1988 — Цымбурский В. Л. Фрако-хетто-лувийские формульные соответствия. — АБ-88.
Цымбурский, 1990 — Цымбурский В. Л. Александр — Алаксандус — Elaxsantre (к диахронной структуре мифа о Парисе). — Образ и смысл в античной культуре. М., 1990.
Цымбурский, 1990а — Цымбурский В. Л. Диомед в Троаде и во Фракии. (Поединок двух балканских божеств на последней странице истории ахейского мира.) — Bulgarian historical review. Sofia, 1990, № 3.
Цымбурский. 1994 — Цымбурский В. Л. Греки в походах «народов моря». Египетские маргиналии к теме Троянской войны. — Восток (Oriens). 1994, № 1.
Шеворошкин, 1965 — Шеворошкин В. В. Исследования по дешифровке карийских надписей. М., 1965.
Шопина, 1986 — Шопина Н. Р. Папирусное «содержание» трагедии «Александр» и ее место в творчестве Еврипида. — ВДИ. 1986, № 1.
Элиаде, 1987 — Элиаде М. Космос и история. М., 1987.
Akurgal, 1961 — Akurgal Е. Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander. B.. 1961.
Albright, 1950 — Albright W. F. Some oriental glosses on the Homeric Problem. — AJA. 1950, vol. 54.
Albright, 1975 — Albright W. F. Syria. The Philistines and Phoeniciae — CAH. Vol. 2,pt 2.
Altheim, 1931 — Altheim F. Messapus. — Archiv für Religionwissenschaft. Lpz.-B., 1931, Bd. 29.
Arbeitman, Rendsburg, 1981 — Arbeitman Y., Rendsburg G. Adana revised. 30 years later. — AO. 1981, L 49.
Arend, 1933 — Arend W. Die typischen Szenen bei Homer. B., 1933.
Astour, 1965 — Astour M. Hellenosemitica. Leiden, 1965.
Barnett, 1953 — Barnett R. D. Mopsos. — JHS. 1953, vol. 73.
Barnett, 19S6 — Barnett R. D. Ancient oriental influences on archaic Greece. — The Aegean and the Near East. Studies presented to H. Goldman. N.Y., 1956.
Barnett, 1975 — Barnett R. D. The Sea Peoples. — CAH. Vol. 2, pt 2.
Bartonek, 1966 — Bartonek A. Mycenean koine reconsidered. — Cambridge colloquium on Mycenean studies. Ed. L. R. Palmer and J. Chadwick. Cambridge, 1966.
Bartonek, 1973 — Bartonek A. The place of the Dorians in the Late Helladic world. — BAMA.
Berard, 1952 — Berard J. Les Hyksos et la legende d’Io. — Syria. P., 1952, t 29.
Bertman, 1966 — Bertman S. The Telemachy and the structural symmetry. — TAPhA. Chico (Cal.), 1966, vol. 97.
Bertman, 1968 — Bertman S. Structural symmetry at the end of the Odyssey. — Greek, Roman and Byzantine studies. Durham, 1968, vol. 9.
Bethe, t 1–3. — Bethe E. Homer. Dichtung und Sage. Bd. 1–3. B. — Lpz., 1914, 1922, 1927.
Bittel, 1956 — Bittel К. [Рец. на: ] Blegen C. W. Troy. Vol. 3: The sixth settlement. — Gnomon. München. 1956, Bd. 28.
Bittel, 1983 — Bittel K. Dia archäologische Situation in Kleinasien um 1200 v. Chr. und während der nachfolgenden vier Jahrhunderte. — GÄL.
Blegen, t. 1–4 — Blegen C. W. Troy, vol. 1–4. Princeton, 1950–1958.
Blegen, 1963 — Blegen C. W. Troy and the Troyans. N.Y., 1963.
Blegen, 1967 — Blegen C. W. The Mycenean Age. The Trojan war, the Dorian invasion and other problems. — Lectures in memory of Louise Taft Semple. 1 series. Princeton, 1967.
Blumenthal, 1930 — Blumenthal A. von. Hesychstudien. Stuttgart, 1930.
Bonfante, 1946 — Bonfante G. Who were the Philistines? — AJA. 1946, t.5.
Bossert, 1946 — Bossert H. Th. Asia. Istanbul, 1946.
Bowra, 1952 — Bowra C. M. Heroic poetry. L, 1952.
Bowra, 1955 — Bowra C. M. Homer and his forerunners. Edinburgh, 1955.
Bowra, 1972 — Bowra C. M. Homer. L., 1972.
Breasted, L 3–4 — Breasted J. H. Ancient records of Egypt. Vol. 3–4. Chicago, 1927.
Bredow, 1986 — Bredow I. von. Die thrakischen Namen bei Homer. — Acta centri historiae «Terra antiqua Balcanica». I. Sofia, 1986.
Brixhe, Lejeune — Brixhe C., Lejeune M. Corpus des inscriptions paleo-phrygiennes. T. 1–2. P., 1984.
Broneer, 1966 — Broneer O. The Cyclopean wall on the Isthums of Corinth and it’s bearing on Late Bronze Age chronology. — Hesperia. Princeton, 1966, vol. 35.
Broneer, 1968 — Broneer O. The Cyclopean wall on the Isthums of Corinth. Addendum. — Hesperia. Princeton, 1968, vol. 37.
Bryce, 1974 — Bryce T. R. The Lukka problem and possible solution. — JNES. 1974, vol. 33.
Büchner, Russo, 1955 — Büchner G., Russo C. F. La coppa di Nestore e un’inscrizione metrica di Pitecussa dell’ VIII secolo av. Cr. — Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morale storiche e filologiche. Ser. 8. Roma, 1955, t 10.
Buck, 1969 — Buck R. The Mycenean time of troubles. — Historia. Wiesbaden. 1969, vol. 18.
Bugge, 1892 — Bugge S. Beiträge zur etymologischen Erläuterung der albanesischen Sprache. — Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen. Göttingen, 1892, Bd. 18.
Burkert, 1984 — Burkert W. Die Orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und Literatur. Heidelberg, 1984.
Burr, 1944 — Burr V. ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Untersuchengen zur homerischen Schiffskatalog. Lpz., 1944.
Çabej, 1977 — Çabej E. Emri i Dardhanise dhe izoglozat shqiptaro-kelte. — Çabej E. Studime gjuhësore. Vol. 4. Prishtine, 1977.
Carpenter, 1956 — Carpenter R. Folk tale, fiction and saga in the Homeric epics. Berkeley — Los Angeles, 1956.
Carruba, 1964 — Carruba O. Aḫḫijawa e alti nomi di popoli e di paesi dell’ Anatolia occidentale. — Athenaeum. Pavia, 1964, t. 42.
Carruba, 1969 — Carruba O. Die Chronologie der hethitischen Texte und die hethitische Geschichte der Grossreichzeit. — Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft Stuttgart, 1969, Suppl. 1.
Carruba, 1971 — Carruba O. Hattusili II. — SMEA. 1971, fasc. 14.
Carruba, 1977 — Carruba О. Commentario alle trilingue licio-graeco-aramaico di Xanthos. — SMEA. 1977, fasc. 18.
Carruba, 1977a — Carruba O. Beiträge zur mittelhethitischen Geschichte: Die Tuthaliyas und die Arnuwandas. — SMEA. 1977, fasc. 18.
Casson, 1926 — Casson S. Macedonia, Thrace and Illyria. Their relations to the Greece from the earliest times down to the time of Philip son of Amyntas. L., 1926.
Cavaignac, 1933 — Cavaignac E. La lettre Tavagalava. — RHA. 1933, t. 3.
Cavaignac, 1950 — Cavaignac E. Hépat de Comana et les Amazones. — JKF. 1950, Bd. l,Hf. 1.
Chadwick, 1967 — Chadwick H. M. The heroic age. Cambridge, 1967.
Chadwick, 1968 — Chadwick J. The group sw in Mycenean. — Minos. Salamanca, 1968, vol. 9.
Chadwick, 1975 — Chadwick J. The prehistory of the Greek language. — CAH. Vol. 2. Pt. 2.
Chadwick, 1976 — Chadwick J. Who were the Dorians? — PdP. 1976, vol. 31.
Chadwick, 1976a — Chadwick J. The Mycenean world. Cambridge, 1976.
Chadwick, Baumbach, 1963 — Chadwick J., Baumbach L. The Mycenean Greek vocabulary. — Gl. 1963,1.41.
Chantraine — Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. T. 1–4. P., 1968–1980.
Chantraine, 1958 — Chantraine P. Grammaire homérique. T. 1. P., 1958.
Charbonnier, 1961 — Charbonnier G. Entretiens avec Claude Lévi-Strauss. P., 1961.
Childe, 1956 — Childe V. G. Anatolia and Thrace. Some Bronze Age relations. — AS. 1956, vol. 6.
Conti, 1985 — Conti M. Date retta a Omero (Le nuove scoperte su Troia). — Panorama. Milano, 25.04.1985.
Cook, 1975 — Cook J. M. Greek settlement in the Eastern Aegean and Asia Minor. — CAH. Vol. 2, pt. 2.
Cornelius, 1958 — Cornelius F. Geographie des Hethiterreiches. — Orientalia. Roma, 1958, vol. 27.
Cornelius, 1973 — Cornelius F. Geschichte der Hethiter. Darmstadt, 1973.
Čičikova, 1971 — Čičikova M. Sur la chronologic du Halstatten Thrace. — EPB.
Čop, 1971 — Čop B. Indogermanica minora, I. Sur les langues anatoliennes. Ljubljana, 1971.
Deger-Jalkotzy, 1983 — Deger-Jalkotzy S. Das Problem des «Handmade Burnished Ware». — GÄL.
Desborough, 1964 — Desborough V. R.d’A. The last Myceneans and their successors. Oxf., 1964.
Desborough, 1975 — Desborough V. R.d’A. The end of Mycenean civilization and the Dark Age. A. The archaeological background. — CAH. Vol. 2, pt. 1.
Detchew, 1952 — Detschew D. Die Charakteristik der thrakischen Sprache. Sofia, 1952.
Detschew, 1976 — Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1976.
Dimitrov, 1971 — Dimitrov D. Troja VII b 2 und die thrakischen und mösischen Stämme auf dem Balkan. — EPB.
Dörpfeld, 1902 — Dörpfeld W. Troja und Ilion. Bd. 1. Athen, 1902.
Dothan, 1983 — Dothan T. Some aspects of the appearance of the Sea Peoples and Philistines in Canaan. — GÄL.
Duridanov, 1969 — Duridanov I. Thrakisch-dakische Studien. Teil I. Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen. — LB. 1969, t. 13. № 2.
Durnford, 1975. — Durnford S. P. B. Luwian linguistics: Some etymological suggestions. — RHA. 1975, t. 33.
Easton, 1986 — Easton D. Has the Trojan War been found? — Antiquity. Gloucester, 1986, vol. 59.
Edgerton, Wilson, 1936 — Edgerton W., Wilson J. Historical records of Ramses III. The texts in Medinet Halu. Vol. 1–2. Chicago, 1936.
Eichner, 1983 — Eichner H. Etymologische Beiträge zum Lykischen der Trilingue vom Letoon bei Xanthos. — Orientalia. Roma, 1983, vol. 52.
Erbse, 1961 —Erbse H. Betrachtungen über das 5. Buch der Ilias. — RhM. 1961, Bd. 104.
Faulkner, 1975 — Faulkner R. O. From the inception of the nineteenth dynasty to the death of Ramesses III. — CAH. Vol. 2. Pt. 2.
Fenik, 1968 — Fenik В. Typical battle scenes in the Iliad. Studies in the narrative techniques of Homeric battle description. Wiesbaden, 1968.
Fick, 1905 — Fick A. Vorgriechische Ortsnamen als Quelle für die Vorgeschichte Griechenlands. Göttingen, 1905.
Finley, 1964 — Finley M. The Trojan war. — JHS. 1964, vol. 84.
Finley, 1978 — Finley J. H. Homer’s Odyssey. Cambridge, 1978.
Foner, 1924 — Forrer E. Vorhomerische Griechen in den Keilschriften von Boghazköl. — MDOG. 1924, Bd. 63.
Forrer, 1924a — Forrer E. Die Griechen in den Boghazköi-Texten. — О LZ. 1924, Jg. 27.
Forrer, 1928 — Forrer E. Aḫḫiyavā. — RLA. Bd. 1.
Forrer, 1928a — Forrer E. Arzawa. — RLA. Bd. 1.
Forrer, 1928b — ForrerE. Aššuwa. — RLA. Bd. 1.
Forrer, 1926–1929 — Forrer E. Forschungen, I, Hf. 1,2. B., 1926,1929.
Forrer, 1929a — Forrer E. Für die Griechen in den Boghazköi-Inschriften. — KF. 1929, Bd. 1, Hf. 2.
Forrer, 1930 — Forrer E. La découverte de la Grece Mycénienne dans les textes cuneiformes. — Revue des études grecques. P., 1930, t. 40.
Forrer, 1931 — Forrer E. Apollon, Vulcanus und die Kyklopen in den Boghazköi-Texten. — RHA. 1931. t. 1.
Forrer, 1936 — Forrer E. Eine Geschichte des Götterkönigtums aus dem Hatti-Reiche. — Mélanges Franz Cumont. Bruxelles, 1936.
French, Rutter, 1977 — French E., Rutter J. B. The handmade burnished ware of the Late Helladic III C period. — AJA. 1977, vol. 81.
Friedrich, t. 1–4 — Friedrich J. Hethitisches Wörterbuch. Hf. 1–4. Heidelberg, 1952–1954.
Friedrich. 1926 — Friedrich J. Zu AO 25.2. Aus dem Schrifttum. 2. Heft. — ZA. 1926, Bd. 37.
Friedrich, 1927 — Friedrich J. Werden in den hethitischen Keilschrifttezten die Griechen? — KF. 1927, Bd. 1, Hf. 2.
Friedrich, 1930 — Friedrich J. Staatsverträge des Hatti-Reiches in hethitischer Sprache, II. — Mitteilungen der Vorderasiatisch-Ägyptischen Gesellschaft. B. — Lpz., 1930, Bd. 34, Hf. 1.
Friedrich, 1959 — Friedrich J. Die hethitischen Gesetze. Leiden, 1959.
Fries, 1929 — Fries C. Homerische Beiträge. — RhM. 1929, Bd. 78.
Friis Johansen, 1961 — Friis Johansen К. Ajas und Hektor. Kopenhagen, 1961.
Frisk, t. 1,2 — Frisk Hj. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1,2. Heidelberg, 1960–1970.
Furumark, 1941 — Furumark A. The chronology of Mycenean pottery. Stockholm, 1941.
Gardiner, 1927 — Gardiner A. Egyptian grammar. Oxf., 1927.
Gardiner, I960 — Gardiner A. The Kadesh inscriptions of Ramesses II. Oxf., I960.
Garstang, 1929 — Garstang J. The Hittite empire. L., 1929.
Garstang, 1943 — Garstang J. Hittite military roads in Asia Minor. — AJA. 1943, vol. 47.
Garstang, Gurney, 1959 — Garstang J., Gurney О. The geography of the Hittite empire. L., 1959.
Georgacas, 1969 — Georgacas D. J. The name «Asia» for the continent: it’s history and origin. — Names. N.Y., 1969, vol. 17, № 1.
Georgiev, 1937 — Georgiev V. Die Träger der kretisch-mykenischer Kultur, ihre Herkunft und ihre Sprache, II. Urgriechen und Urillyrier (Thrako-Illyrier). — Годишник на Софийския университет. 1937, т. 23, № 4.
Georgiev, 1957 — Georgiev V. Zur altkleinasiatischen Hydronymie. — BNF. 1957, Bd. 8.
Georgiev, 1973 — Georgiev V. I. Die ethnischen Verhältnisse im alten Nordwestkleinasien. — LB. 1978, t. 16, fasc. 2.
Georgiev, 1981 — Georgiev V. I. Les noms des rois thraces et daces. — LB. 1981, t. 24, fasc. 1.
Gindin, 1978 — Gindin L. Thrace et Troie d’après les données linguistiques. — LB, 1978. t. 21, fasc. 1.
Gindin, 1990 — Gindin L. Keteioi (= Hittites) and Paiones (= Proto-Armenians) — allies of Troy. — Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian studies. Sofia, 1990.
Gindin — Gindin L. Troja, Thrakiens und die Völker Altanatoliens. Versuch einer historisch-philologischen Untersuchung. Innsbruck (in print).
Gladstone, 1876 — Gladstone W. E. Homeric synchronism. L., 1876.
Goetze, 1924 — Goetze A. Kleinasien zur Hethiterzeit — Orient und Antike. Heidelberg, 1924, Bd. 1.
Goetze, 1928 — Goetze A. Madduwattaš. Lpz., 1928.
Goetze, 1933 — Goetze A. Die Annalen des Muršiliš. Lpz., 1933.
Goetze, 1934 — Goetze А. [Рец. на: ] Sommer F. Die Aḫḫijawā-Urkunden. — Gnomon. München, 1934, Bd. 10.
Goetze, 1933 — Goetze A. Anatolian proper names from Cappadocia. — Language. Baltimore, 1953, vol. 29.
Goetze, 1954 — Goetze A. Some groups of ancient Anatolian proper names. — Language. Baltimore, 1954, vol. 30.
Goetze, 1934a — Goetze A. The linguistic continuity of Anatolia as shown by it’s proper names. — JCS·. 1954, vol. 8, № 2.
Goetze, 1957 — Goetze A. Kleinasien. München, 1957.
Goetze, 1962 — Goetze A. Cilicians. — JCS. 1962, vol. 16, № 2.
Goetze, 1975 — Goetze A. Anatolian from Shuppiluliamash to the Egyptian war of Muwattalish. — CAH. Vol. 2. Pt. 2.
Goldman, 1956 — Excavations at Gözlü Kule, Tarsus, v. 2. Princeton, 1956.
Gordesiani, 1986 — Gordesiani R. Kriterien der Sprachlichkeit und Mündlichkeit im Homerischen Epos. Frankfurt-am-Main u.a., 1986.
Groppe, 1906 — Gruppe O. Griechische Mythologie und Religionsgeschichte. Bd. 1–2. München, 1906.
Gusmani, 1964 — Gusmani R. Lydisches WUrterbuch. Heidelberg, 1964.
Gusmani, 1968 — Gusmani R. Il lessico ittito. Napoli, 1968.
Güterbock, 1967 — Güterbock H.G. The Hittite conquest of Cyprus reconsidered. — JNES. 1967, vol. 26.
Güterbock, 1967a — Güterbock H. Das dritte Monument am Karabel. — Istanbuler Mitteilungen. Tübingen, 1967, Bd. 17.
Güterbock, 1972 — Güterbock H. Hilamar. — RLA. Bd. 4. 1972.
Güterbock. 1983 — Güterbock H. The Aḫḫiyawa-problem reconsidered. — AJA. 1983, vol. 87.
Güterbock, 1984 — Güterbock H. Hittites and Akheans. — Proceedings of American philosophical society. Philadelphia, 1984, vol. 128.
Güterbock, 1986 — Güterbock H. Troy in Hittite texts? Wiluša, Aḫḫiyawa and Hittite history. — TTW.
Haas, 1953 — Haas O. Die vier längeren messapischen Inschriften. — Lingua Posnaniensis. 1953, t. 4.
Hainsworth, 1968 — Hainsworth J. B. The flexibility of the Homeric formula. Oxf., 1968.
Hamann, 1952 — Hamann R. Heracles findet Telephos. — Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst. 1952, № 8.
Hammond, 1972 — Hammond N. G. L. A history of Macedonia. Vol. 1. Oxf., 1972.
Hammond, 1973 — Hammond N. G. L. Grave circles in Albania and Macedonia. — BAMA.
Hammond, 1975 — Hammond N. G. L. The end of Mycenean civilization and the Dark Age. B. The literary tradition for the migrations. — CAH. Vol. 2. Pt. 2.
Hampl, 1962 — Hampl F. Die Ilias ist kein Geschichtsbuch. — Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. 1962, Bd. 7–8.
Hanfmann, Waldbaum, 1969 — Hanfmann M. A., Waldbaum J. C. Kybele and Artemis. — Archaeology. N.Y., 1969, vol. 22.
Hansen. 1947 — Hansen E. V. The Attalids of Pergamon. Ithaca, 1947.
Hansen. 1976 — Hansen P. A. Pithecusan humor. The interpretation of «Nestor’s cup» reconsidered. — Gl. 1976, Bd. 54.
Harmatta, 1968 — Harmatta J. Zur Aḫḫijawā-Frage. — Studia Mycenaea (Proceedings of the Mycenean symposium. Brno, April 1966). Brno, 1968.
Heinhold-Krahmer, 1977 — Heinhold-Krahmer S. Arzawa. Untersuchungen zur seiner Geschichte nach den hethitischen Quellen. Heidelberg, 1977.
Heinhold-Krahmer, 1983 — Heinhold-Krahmer S. Untersuchungen zu Piyamaradu. — Orientalia. Roma, 1983, vol. 52.
Helck, 1971 — Helck W. Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien in 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. Wiesbaden, 1971.
Helck, 1979 — Helck W. Die Beziehungen Ägyptens und Vorderasiens zur Ägais bis ins 7. Jahrhundert v. Chr. Darmstadt, 1979.
Heubeck, 1949 — Heubeck А. [Рец. на: ] Burr V. ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Gnomon. München, 1949, Bd. 21.
Heubeck, 1958 — Heubeck A. Zur inneren Form der Ilias. — Gymnasium. Heidelberg, 1958, Bd. 65.
Heubeck, 1959 — Heubeck A. Lydiaka. Untersuchungen zur Schrift, Sprache und Göttemamen der Lyder. Erlangen, 1959.
Heubeck, 1960 — Heubeck A. Betrachtungen zur Genesis des homerischen Epos. — Gilgameš et sa légende. P., 1960.
Heubeck, 1961 — Heubeck A. Praegraeca. Sprachliche Untersuchungen zur vorgriechisch-indogermanischen Substrat. Erlangen, 1961.
Heubeck, 1961a — Heubeck А. [Рец. на: ] Page D. L. History and the Homeric Iliad. — Gnomon. München, 1961, Bd. 33.
Heubeck, 1962 — Heubeck A. Kleinasiatisches. — Die Sprache. Wien, 1962, Bd. 8.
Heubeck, 1964 — Heubeck A. Idq. *ser- «oben»? — Orbis. Louvain, 1964,t.13.
Heubeck, 1974 — Heubeck A. Die homerische Frage. Darmstadt, 1974.
Heubeck, 1979 — Heubeck A. Schrift. — Archaeologia Homerica. Bd. 3. Кар. 10. Göttingen, 1979.
Hiller, 1972 — Hiller S. Studien zur Geographie des Reiches um Pylos nach den Mykenischen und Homerischen Texten. Wien, 1972.
Hiller, 1977 — Hiller S. Two Trojan wars? — 4-th International Colloquium on Aegean prehistory. Sheffield, 1977.
Hiller, 1983 — Hiller S. Possible historical reasons for the rediscovery of the Mycenean past in the age of Homer. — GREC.
Hirt, 1892 — Hirt H. Die Urheimat der Indogermanischen. — IF. 1892, Bd. 1.
Hodinott, 1981 — Hodinott R. F. The Thracians. L., 1981.
Hoekstra, 1965 — Hoekstra A. Homeric modifications of formulaic prototypes. Amsterdam, 1965.
Hoekstra, 1969 — Hoekstra A. The sub-epic stage of the formulaic tradition. Studies in the Homeric hymns to Apollo, to Aphrodite and to Demeter. Amsterdam, 1969.
Hoffner, 1982 — Heffner H. A. The Milawata Letter augmented and reinterpreted. — Archiv für Orientforschung. В., 1982, Bhf. 19.
Hölbl, 1983 — Hölbl G. Die historischen Aussagen der ägyptischen Seevölkerinschriften. — GÄL.
Houwink ten Cate, 1961 — Houwink ten Cate Ph. H. J. The Luwian population groups of Lycia and Cilicia aspera during the Hellenistic period. Leiden, 1961.
Houwink ten Cate, 1970 — Houwink ten Cate Ph. H. J. The records of the Early Hittite empire. Leiden. 1970.
Houwink ten Cate, 1973 — Houwink ten Cate Ph. H. J. Anatolian evidence for relations with the West in the Late Bronze Age. — BAMA.
Hrozný, 1929 — Hrozný В. Hethiter und Griechen. — AO. 1929. t 1.
Hrozný, 1937 — Hrozný В. Les inscriptions hittites hieroglyphiques. Liv. 3. Prague, 1937.
Huxley, 1956 — Huxley G. L. Mycenean decline and Homeric Catalogue of Ships. — Bulletin of the Institute of classical studies. L., 1956, vol. 3.
Huxley, 1960 — Huxley G. L. Achaeans and the Hittites. Oxf., 1960.
Huxley, 1961 — Huxley G. L. Crete and the Luwians. Oxf., 1961.
Huxley, 1969 — Huxley G. L. Greek epic poetry from Eumelos to Panyassis. L, 1969.
Imparati, 1964 — Imparati F. Le leggi ittite. Roma, 1964.
Ivanov, 1965 — Ivanov V. On the reflex of the Indo-European voiced palatal aspirate in Luwian. — Symbolae linguisticae in honorem G. Kurylowicz. Wrocław-Warszawa-Krakóv, 1965.
Johnston, 1983 — Johnston A. The extent and use of literacy: The archaeological evidence. — GREC.
Jokl. 1926 — Jokl N. Illyrier. — ERL 1926, Bd. 6.
Jokl, 1929 — Jokl N. Thraker. — ERL 1929, Bd. 13.
Jouan, 1966 — Jouan F. Euripide et les légendes des chants cypriens. P., 1966.
Kalicz, 1963 — Kalicz N. Die Pećeler (Badener) Kultur und Anatolien. Budapest, 1963.
Kammenhuber, 1968 — Kammenhuber A. Die Sprache des vorhellenistischen Kleinasiens in ihrer Bedeutung für die heutige Indogermanistik. — MSS. 1968, Hf. 24.
Kammenhuber, 1969 — Kammenhuber A. Die Sprachstufen des Hethitischen. — KZ. 1969, Bd. 83.
Kammenhuber, 1969a — Kammenhuber A. Konsequenzen aus neueren Datierungen hethitischen Texte: Pferdetrainungsanweisungen eine Erfindung der Hethiter. — Orientalia. Roma, 1969, vol. 38.
Kammenhuber, 1970 — Kammenhuber A. Die Vorgänger Šuppiluliumaš I. Untersuchungen zu einer neueren Geschichtsdarstellung H. Ottens. — Orientalia. Roma, 1970, vol. 39.
Kammenhuber, 1971 — Kammenhuber A. Das Verhältnis von Schriftductus zu Sprachstufe im Hethitischen. — MSS. 1971, Hf. 29.
Kammenhuber, 1976 — Kammenhuber A. Orakelpraxis, Träume und Vorzeichenschau bei den Hethitern. Heidelberg, 1976.
Kammenhuber, 1979 — Kammenhuber A. Probleme der Textdatierung in der Hethitologie. Heidelberg, 1979.
Karageorghis, 1963 — Karageorghis V. Fouilles de Kition. — Bulletin de correspondence hellenique. P., 1963, t. 83.
Katinčarov, 1972 — Katinčarov R. Habitations de l’ȃge du bronze moyen du tell de Nova Zagora (Bulgarie du Sud). — Tracia. Primus congressus studiorum Thracicorum. Serdicae, 1972.
Kirk, 1962 — Kirk GS- The songs of Homer. Cambridge, 1962.
Kirk, 1965 — Kirk G. S. Homer and the epic. Cambridge, 1965.
Kirk, 1975 — Kirk G. S. The Homeric Poems as history. — CAH. Vol. 2, pt 2.
Kitchen — Kitchen К. A. Ramessides inscriptions. Vol. 1–6. Oxf., 1968–1983.
Kleine Pauly, t. 1–5. — Der kleine Pauly. Lexicon der Antike. Bd. 1–5. Stuttgart, 1964–1975.
Korostovtsev, 1973 — Korostovtsev M. Grammaire du néoégyptien. Moscou, 1973.
Krähe, 1925 — Krähe H. Die alten balkanillyrischen geographischen Namen. Heidelberg, 1925.
Krähe, 1929 — Krähe H. Lexicon altillyrischer Personennamen. Heidelberg, 1929.
Krähe, 1955 — Krähe H. Die Sprache der Illyrier. Wiesbaden, 1955.
Kretschmer, 1896 — Kretschmer P. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen, 1896.
Kretschmer, 1924—KretschmerP. Alakšanduš, König von Viluša. — Gl. 1924, Bd. 13.
Kretschmer, 1925 — Kretschmer P. Das nt-suffix. — Gl, 1925, Bd. 14.
Kretschmer, 1927 — Kretschmer P. Literaturbericht für das Jahr 1924, Griechisch. — Gl. 1927, Bd. 15.
Kretschmer, 1927a — Kretschmer P. Der Name der Lykier und andere kleinasiatische Völkernamen. — KF. 1927, Bd. 1, Hf. 1.
Kretschmer, 1927b — Kretschmer P. Mythische Namen. 17. Hipta. — Gl. 1927,Bd. 15.
Kretschmer, 1930 — Kretschmer P. Zur Frage der griechischen Namen in den hethitischen Texten. — Gl. 1930, Bd. 18.
Kretschmer, 1933 — Kretschmer P. Die Hypachäer. — Gl. 1933, Bd. 21.
Kretschmer, 1934 — Kretschmer P. Nordische Lehnwörter im Altgriechischen. — Gl. 1934, Bd. 22.
Kretschmer, 1936 — Kretschmer P. Nochmals die Hypachäer und Alakšanduš. — Gl. 1936, Bd. 24.
Kretschmer, 1936a — Kretschmer P. Zum Balkan-Skytischen. — Gl. 1936, Bd. 24.
Kretschmer, 1939 — Kretschmer P. Die Stellung der lykischen Sprache, I. — Gl. 1939, Bd. 28.
Kretschmer, 1940 — Kretschmer P. Die vorgriechischen Sprach- und Volksschichten. — Gl. 1940, Bd. 28.
Kretschmer, 1943 — Kretschmer P. Die vorgriechischen Sprach- und Volksschichten, II. — Gl. 1943, Bd. 30.
Kretschmer, 1954 — Kretschmer P. Achäer in Kleinasien zur Hethiterzeit. — Gl. 1954, Bd. 33.
Krischer, 1971 — Krischer T. Formalekonventionen der Homerischen Epic. München. 1971.
Kullmann, 1960 — Kullmann W. Die Quellen der Ilias. Wiesbaden, 1960.
Landau, 1958 — Landau O. Mykenisch-griechische Personennamen. Göteborg, 1958.
Laroche, 1947 — Laroche E. Recherches sur les noms des dieux hittites. P., 1947.
Laroche, 1947a — Laroche E. Hattic deities and their epithets. — JCS. 1947, vol. 1.
Laroche, 1954 — Laroche E. Etudes sur les hieroglyphes hittites. — Syria. P., 1954, t. 31.
Laroche, 1957 — Laroche E. Notes de toponymie anatolienne. — ΜΝΗΜΗΣ XAPIN. Gedenkschrift für P. Kretschmer. Bd. 2. Wien, 1957.
Laroche, 1958 — Laroche E. Comparaison du louvite et du lycien. — BSL. 1958, t 53.
Laroche, 1958a — Laroche E. Etudes sur les hieroglyphes hittites, 6. Adana et les Danouniens. — Syria. P., 1958, t. 35.
Laroche, 1959 — Laroche E. Dictionnaire de la langue louvite. P., 1959.
Laroche, 1960 — Laroche E. Les hieroglyphes hittites. T. 1. P., 1960.
Laroche, 1960a — Laroche E. Comparaison du louvite et du lycien, II. — BSL. 1960, t. 55.
Laroche, 1963 — Laroche E. [Рец. на: ] Güterbock H.G., Olten H. Keilschrifttexte aus Boghaz-köi XI. — OLZ. 1963, Jg. 58.
Laroche, 1963a — Laroche E. Etudes lexicales et étymologiques sur le hittite. — BSL. 1963, t. 58.
Laroche, 1966 — Laroche E. Les noms des hittites. P., 1966.
Laroche, 1967 — Laroche E. Comparaison du louvite et du lycien. III. — BSL. 1967, t 62.
Laroche, 1978 — Laroche E. Glossaire de la langue hourrite. Pt. 1. P., 1978.
Laumonier, 1958 — Laumonier A. Les cultes indigenes en Carie. P., 1958.
Leaf, 1912 — Leaf W. Troy. A study in Homeric geography. L., 1912.
Lehmann, 1979 — Lehmann G. A. Die Šikalāju — ein neues Zeugnis zu den «Seevölker» — Heerfahrten im späten 13. Jh. v. Chr. (RS 34.129). — Ugarit-Forschungen. Neukirchen — Vluyn, 1979, Bd. 11.
Lehmann, 1983 — Lehmann G. S. Zum Auftreten von «Seevölker»-Gruppen im östlichen Mittelmeerraum — eine Zeichenbilanz. — GÄL.
Leonhard, 1911 — Leonhard W. Hettiter und Amazonen. Die griechische Tradition über die «Chatti» und ein Versuch zu ihrer historischen Verwertung. Lpz.—B., 1911.
Lesky, 1967 — Lesky A. Homeros. Stuttgart, 1967.
Lewartowski, 1989 — Lewartowski V. The decline of the Mycenean civilisation. Wrocław, 1989.
Lloyd, 1956 — Lloyd S. Early Anatolia. Harmondsworth, 1956.
Lloyd, Mellaart. 1955 — Lloyd S., Mellaart J. Beycesultan excavations: First preliminary report — AS. 1955, vol. 5.
Lochner-Hüttenbach, 1960 — Lochner-Hüttenbach F. Die Pelasger. Wien, 1960.
Lohmann, 1970 — Lohmann D. Die Kompositionen der Reden in der Ilias. В., 1970.
Lord, 1953—Lord A. B. Homer's originality: Oral dictated texts. — TAPha. 1953, vol. 84.
Lord, 1968 — Lord A. The singer of tales. N.Y., 1968.
Lord, 1970 — Lord A. Tradition and the oral poet: Homer, Huso and Avdo Medjedović. — Atti del convegno intemazionale sul tema: la poesia epica e la sua formazione. Roma, 1970.
Luce, 1975 — Luce J. V. Homer and the heroic age. L., 1975.
Luckenbill, 1913 — Luckenbill D. D. Jadanan and Javan. — ZA. 1913, Bd. 28.
Macqueen, 1968 — Macqueen J. B. Geography and history in Western Asia Minor. — AS. 1968, vol. 18.
Malten, 1913 — Malten L. Hiera. — RE. 1913, Hbd. 16.
Malten, 1944 — Malten L. Homer und die lykischen Fürsten. — Hermes. B., 1944, Bd. 79.
Masson, 1961 — Masson O. Les inscriptions chypriotes syllabiques. P., 1961.
Masson, 1967 — Masson E. Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec. P., 1967.
Matz, 1956 — Matz F Kreta — Mykene — Troja. Berlin — Darmstadt — Wien, 1956.
Matz, 1965 — Matz F. Kreta und Frühes Griechenland. Baden-Baden, 1965.
Mayer, 1892 — Mayer M. Mythistorica. Megarische Sagen. — Hermes. B., 1892, Bd. 27.
Mayer, 1957 — Mayer A. Zwei Inselnamen in der Adria, I. Kerkyra. — KZ. 1957, t. 70.
Mayer, t. 1,2 — Mayer A. Die Sprache der alien Illyrier. Bd. 1,2. Wien, 1957, 1959.
Mee, 1978 — Mee Ch. Aegean trade and settlement in Anatolia in the second millenium B.C. — AS. 1978, vol. 28.
Mellaart, 1958 — Mellaart J. The end of the Early Bronze Age in Anatolia and the Aegean. — AJA. 1958, vol. 62.
Mellaart, I960 — Mellaart J. Anatolia and the Balkans. — Antiquity. Gloucester, 1960, vol. 24.
Mellaart, 1968 — Mellaart J. Anatolian trade with Europe and Anatolian geography and culture provinces in the Late Bronze Age. — AS. 1968. vol. 18.
Mellaart. 1971 — Mellaart J. Prehistory of Anatolia and its relations with the Balkans. — EPB.
Mellaart, 1981 — Mellaart J. Anatolia and the Indo-Europeans. — Journal of Indo-European studies. Hattiesburg (Miss.), 1981, t. 9—10.
Mellink, 1973— Mellink MJ. Archaeology in Asia Minor. — AJA. 1973, vol. 77.
Mellink, 1976 — Mellink MJ. Archaeology in Asia Minor. — AJA. 1976, vol. 80.
Mellink, 1983 — Mellink M. Archaeological comment on Aḫḫiyawa-Achaians in Western Anatolia. — AJA. 1983, vol. 87.
Mellink, 1987 — Mellink M. Archaeology in Anatolia. — AJA. 1987, vol. 91.
Meriggi, 1957 — Meriggi P. Zum Luwischen. — Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 1957. Bd. 53.
Meriggi, 1967 — Meriggi P. Manuale di eteo geroglifico. PL 2. Testi. Ser. 1. R., 1967.
Mertens, 1960 — Mertens P. Les peuples de la mer. — Chronique d’Egypte. P., 1960, vol. 35.
Metzger, 1965 — Metzger M. Sur la date du graffite de la coupe de Nestor. — REA. 1965. t. 67.
Meyer, 1877 — Meyer E. Geschichte von Troas. Lpz., 1877.
Meyer, 1914 —Meyer E. Reich und Kulturder Chetiter. B., 1914.
Meyer. 1928,1931 — Meyer E. Geschichte des Altertums. Bd. 2. T. 1,2. B., 1928,1931.
Mihailov, L 1–4 — Mihailov G. Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae. Vol. 1–4. Serdicae, 1956–1961.
Mihailov, 1970 — Mihailov G. Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae. Vol. 1. Serdicae, 1970.
Mihailov, 1985 — Mihailov G. Homère com me source historique et les études thraces. — LB. 1985, vol. 28, fasc. 3.
Morpurgo, 1958 — Morpurgo A. Δάμμαρ in miceneo. — PdP. 1958, vol. 13.
Morpurgo, 1963 — Morpurgo A. Myceneae graecitatis lexicon. Romae, 1963.
Muhly, 1974 — Muhly J. D. Hittites and Achaeans: Aḫḫiyawa redomitus. — Historia. Wiesbaden, 1974, Bd. 23.
Müller, 1844 — Müller K.O. Geschichten Hellenischer Stämme und Städte. Bd. 2. Breslau, 1844.
Mylonas, 1964 — Mylonas G. E. Priam’s Troy and the date of its fall. — Hesperia. Princeton, 1964, vol. 33.
Mylonas, 1966 — Mylonas G. E. Mycenae and the Mycenean age. Princeton, 1966.
Myres, 1932 — MyresJ. The last book of the Iliad. — JHS. l932,vol.52.
Myres, 1952— Myres J. The pattern of the Odyssey. — JHS. 1952, vol. 72.
Neumann, 1961 — Neumann G. Untersuchungen zum Weiterleben hethitischen und luwischen Sprachgutes in hellenistischer und römischer Zeit. Wiesbaden, 1961.
Neumann, 1969 — Neumann G. Lykish. — Handbuch der Orientalistik. Bd. 2. Lf. 2: Altklein-asiatische Sprachen. Leiden — Köln, 1969.
Nilsson, 1933 — Nilsson M. P. Homer und Mycenae. L., 1933.
Nilsson, 1955 — Nilsson M.P. Geschichte der griechischen Religion. Bd. 1. München, 1955.
Notopoulos, 1962 — Notopoulos J. A. The Homeric hymns as oral poetry. — American journal of philology. Baltimore, 1962. vol. 83.
Nylander, 1963 — Nylander C. The fall of Troy. — Antiquity. Gloucester, 1963, vol. 27.
Olmstead, 1960 — Olmstead A T. History of Assyria. Chicago, 1960.
Otten, 1951 — Otten H. Pirwa — der Gott auf dem Pferd. — JKF. 1951, Bd. 2.
Otten, 1957 — Otten H. Zusätzliche Lesungen zum Alakšandu-Vortrag. — Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. B., 1957, vol. 5.
Otten, 1961 — Otten H. Zur Lokalisierung von Arzava und Lukka. — JCS. 1961. vol. 15.
Otten. 1963 — Otten H. Neue Quellen zum Ausklang des hetlischen Reiches. — MDOG. 1963. vol. 94.
Otten. 1968 — Otten H. Die hethitischen historischen Quellen und die altorientalische Chronologie. — Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz). Geists- und Sozialwissenschaftliche Klasse. 1968, № 3.
Otten, 1969 — Otten H. Sprachliche Stellung und Datierung des Madduwatta-Textes. — Studien zu den Boghazköi-Texten. Wiesbaden, 1969, H. 11.
Otten, 1975 — Otten H. Puduhepa. Mainz. 1975.
Otten, 1983 — Otten H. Die letzte Phase des Hethitischen Grossreiches nach den Texten. — GÄL.
Otten, 1986 — Otten H. Das hethitische Königshaus im 15. Jahrundert v. Chr. — AnzAW. 1986. Bd. 123.
Özgüs, 1977 — Özgüs T. Masat-Höyük. Ankara, 1977.
Page, 1959 — Page D. L. History and the Homeric Iliad. Berkeley — Los Angeles, 1959.
Page, 1973 — Page D. L. Folktales in Homer’s Odyssey. Cambridge (Mass.), 1973.
Palmer, 1962 — Palmer L. R. Myceneans and Minoans. N.Y., 1962.
Palmer, 1969 — Palmer L. R. The interpretation of Mycenean Greek texts. Oxf., 1969.
Pape, Benseler, 1959 — Pape W., Benseler G. Wörterbuch der griechischen Eigennamen. Bd. 1–2. Graz, 1959.
Pareti, 1926 — Pareti L. Le origini etrusche. Firenze, 1926.
Parker, 1957 — Parker RA. The lunar dates of Thutmose III and Ramesses II. — JNES. 1957, vol. 16.
Parlangeli, 1960 — Parlangeli O. Studi messapici. Milano, 1960.
Parry, 1928 — Parry M. L’épithète traditionelle dans Homère. P., 1928.
Parry, 1930, 1932 — Parry M. Studies in the epic technique of oral verse making, I–II. — HSt. 1930, vol. 41; 1932, vol. 43.
Parry, 1972 — Parry A. Language and characterization in Homer. — HSt. 1972, vol. 76.
Pfiffing, 1975 — Pfiffing AJ. Religio etrusca. Graz, 1975.
Picard, 1940 — Picard Ch. L’Ephésia, les Amazones et les abeilles. — REA. 1940,142.
Podzuweit, 1979 — Podzuweit Chr. Trojanische Gefässformen der Frühbronzezeit in Anatolien, der Ägäis und angrenzenden Gebieten. Mainz, 1979.
Podzuweit, 1982 — Podzuweit Chr. Die Mykenische Welt und Troja. — Südosteuropa zwischen 1600. und 1000. v. Chr. B., 1982.
Pokorny, 1959 — Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I. Bem-München, 1959.
Powell, 1973 — Powell T. G. E. [Выступ, в дискус.] Migration in explanation of culture change. — BAMA.
Ranoszek, 1934 — Ranoszek R. Kronika króla hetyckiego Tuthalijasa (IV). — Rocznik orientalistyczny. Warszawa et al., 1934, t 9.
Renger, 1972 — Renger J. Hilani (bit.). — RLA. Bd. 4. 1972.
Riemschneider, 1960 — Riemschneider M. Der Gott im Fass. — Acta antiqua Academiae scientiarum Hunaricae. Budapest, 1960. t 8.
Riemschneider, 1973 — Riemschneider M. Ruhmreiches Rhodos. Lpz., 1973.
Robert — Robert C. Die griechische Heldensage. Bd. 1–3. B., 1921–1926.
Robert, 1881 — Robert C. Bild and Lied. B.. 1881.
Robert, 1901 — Robert C. Studien zur Ilias. B., 1901.
Rosenkranz, 1952 — Rosenkranz B. Beiträge zur Erforschung des Luvischen. Wiesbaden, 1952.
Rosenkranz, 1966 — Rosenkranz B. Fluss- und Gewässernamen in Anatolien. — BNF. Neue Folge. 1966, Bd. 1.
Rubinson, 1975 — Rubinson Z. The Dorian invasion again. — PdP. 1975, vol. 30.
Ruge, 1921 — Ruge W. K(i)etis. — RE. 1921,Hbd.21.
Ruijgh, 1985 — Ruijgh C. F. Le mycénien et Homère. — Linear В; A 1984 survey. Louvain à-la-Neuve, 1985.
Russo, 1966 — Russo J. A. The structural formula in Homeric verse. — Yale Classical studies. 1966, vol. 20.
Rüter, Matthiesen, 1968 — Rüter K., Matthiesen K. Zur Nestorbecher von Pithekussai. — Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bonn, 1968, Bd. 2. № 1.
Rutter, 1975 — Rutter J. В. Ceramic evidence for northern intruders in Southern Greece at the beginning of the Late Helladic III C period. — AJA. 1975, vol. 79.
Rutter, 1976 — Rutter J. В. «Non-Mycenean» pottery: A reply to Gisela Walberg. — AJA. 1976, L 80.
Sacconi, 1969 — Sacconi A. Gli Achei in età micenea ed in Omero. — Živa antica. Skopje, 1969, god. 19, sv. 1.
Säflund, 1957 — Säflund G. Über den Ursprung der Etrusker. — Historia. Wiesbaden, 1957, Bd. 6.
Sandars, 1978 — Sandars N. K. The Sea Peoples. Warriors of the Ancient Mediterranean. L., 1978.
Sayce, 1888—Sayce A. H The Hittites. The story of a forgotten empire. L., 1888.
Schachermeyr, 1929 — Schachermeyr F. Etruskische Frühgeschichte. B. — Lpz., 1929.
Schachermeyr, 1935 — Schachermeyr F. Hethiter und Achäer. — MDOG. 1935, Bd. 9, Hf. 1–2.
Schachermeyr, 1950 — Schachermeyr F. Poseidon und die Entstehung des griechischen Götterglaubens. Bern, 1950.
Schachermeyr, 1954 — Schachermeyr F. Prähistorische Kulture Griechenlands. — RE. 1954, Hbd.44.
Schachermeyr, 1958 — Schachermeyr F. Zur Frage der Lokalisierung von Achiawa. — Minoica. Festschrift zum 80. Geburtstag, von J. Sundwall. B., 1958.
Schachermeyr, 1960 — Schachermeyr F. Griechische Geschichte. Stuttgart, 1960.
Schachermeyr, 1962 — Schachermeyr F. Luwier auf Kreta? — Kadmos. B., 1962, Bd. 1.
Schachermeyr, 1976–1982 — Schachermeyr F. Die ägäische Frühzeit Bd. 2. Wien, 1976; Bd. 4. Wien, 1980; Bd. 5. Wien, 1982.
Schachermeyr, 1983 — Schachermeyr F. Die griechische Rückerinnenmgen im Lichte neuer Forschungen. Wien, 1983.
Schachermeyr, 1983a — Schachermeyr F. Die Zeit der Wanderungen im Spiegel ihrer Keramik. — GÄL.
Schachermeyr, 1984 — Schachermeyr F. Griechische Frühgeschichte. Wien, 1984.
Schachermeyr, 1986 — Schachermeyr F. Mykene und das Hethiterreich. Wien, 1986.
Schadewaldt, 1938 — Schadewaldt W. Iliasstudien. Lpz., 1938.
Schadewaldt, 1944 — Schadewaldt W. Von Homers Welt und Werk. Lpz., 1944.
Schadewaldt, 1965 — Schadewaldt W. Von Homers Welt und Werk. Stuttgart, 1965.
Schadewaldt, 1975 — Schadewaldt W. Der Aufbau der Ilias. Frankfurt am Main, 1975.
Schmitt, 1967 — Schmitt R. Dichtung und Dichtersprache der indogermanischer Zeit. Wiesbaden, 1967.
Schuchardt, 1940 — Schuchardt K. Wer hat Troia I gegründet? B., 1940.
Schuchardt, 1941 — Schuchardt K. Alteuropa. B., 1941.
Schwyzer, 1939 — Schwyzer E. Griechische Grammatik. Bd. 1. München, 1939.
Ševoroškin, 1968 — Ševoroškin V. Zur hethitisch-luwischen Lexik. — Orbis. Louvain, 1968, t. 17.
Shipp, 1972 — Shipp G. F. Studies in the language of Homer. Cambridge, 1972.
Singer, 1975 — Singer I. Hittite hilammar and Hieroglyphic Luwian *ḫilana. — ZA. 1975, Bd. 65.
Singer, 1983 — Singer I. Western Anatolia in the thirteenth century. — AS. 1983, vol. 33.
Snell, 1953 — Snell B. Homer und die Entstehung des geschichtlichen Bewustseins bei den Griechen. — Varia variorum: Festschrift für K. Reinhardt. Münster-Köln, 1953.
Sommer, 1932 — Sommer F. Die Aḫḫijawa-Urkunden. München, 1932.
Sommer, 1934 — Sommer F. Aḫḫijavāfrage und Sprachwissenschaft. München, 1934.
Sommer, 1937 — Sommer F Aḫḫijava und kein Ende? — IF. 1937, Bd. 55.
Stählin, 1923 — Stählin F. Der geometrische Stil in der Ilias. — Philologus. Lpz., 1923, Bd. 78.
Steiner, 1962 — Steiner G. Neue Alašija-Texte. — Kadmos. B., 1962, t. 1.
Steiner, 1964 — Steiner G. Die Aḫḫijawa-Frage heute. — Saeculum. Freiburg, 1964, Bd. 15, № 4.
Strassburger, 1972 — Strassburger H. Homer und die Geschichtsschreibung. Heidelberg, 1972.
Strobel, 1976 — Strobel A. Der spätbronzezeitliche Seevölkersturm. B., 1976.
Stubbings, 1973 — Stubbings F. H. The rise of Mycenean civilization. — CAH. Vol. 2, PL 1.
Stubbings, 1975 — Stubbings F. The recession of Mycenean civilisation. — CAH. Vol. 2, PL 2.
Szemerényi, 1957 — Szemerényi О. The Greek nouns in — ϵυς. -ΜΝΗΜΝΣ ΧΑΡΙΝ. Gedenkschrift für P. Kretschmer. Bd. 2. Wien, 1957.
Tischler — Tischler J. Hethitisches etymologisches Glossar. Innsbruck, 1977—…
Tomaschek, 1980 — Tomaschek W. Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung. Wien, 1980 (paginatia varia).
Toporov, 1990 — Toporov V. N. The Thracian horseman in an Indo-European perspective. — Orpheus, Journal of Indo-European, Paleo-Balkan and Thracian Studies. Sofia, 1990.
Toynbee, 1950 — Toynbee A. J. Greek historical thought. N.Y., 1950.
Van Brock, 1959 — Van Brock N. Substitution rituelle. — RHA. 1959, t/ 17.
Vasmer, 1970 — Vasmer M. Die Slaven in Griechenland. Lpz., 1970.
Vaux, 1969 — Vaux R. de. La Phénicie et les peuples de la mer. — Melanges offerts à Maurice Dunand. T. 1. Beyrouth, 1969.
Ventris, Chadwick, 1959 — Ventris M. Chadwick J. Documents in Mycenean Greek. Cambridge, 1959.
Ventris, Chadwick, 1973 — Ventris M.. Chadwick J. Documents in Mycenean Greek. 2-nd ed. Cambridge, 1973.
Vermeule. 1964 — Vermeule E. Greece in the Bronze Age. Chicago. 1964.
Vetter, 1948 — Vetter E. Die etruskische Personennamen leϑe, leϑi, leϑia und die Namen unfreier oder halbfreier Personen bei den Etruskern. — Jahreshefte des Österreichischen Archäeologischen Instituts in Wien. 1948, Bd. 37.
Vian, 1959 — Vian F. Recherches sur les «Posthomerica» de Quintus de Smyrne. P., 1959.
Vian, 1959a — Vian F. Historic de la tradition manuscripte de Quintus de Smyrne. P., 1959.
Wainwright 1952 — Wainwright G. A. Asiatic Keftiou. — AJA. 1952, vol. 56.
Wainwright, 1963 — Wainwright G. A. A Teukrian at Salamis. — JHS. 1963, vol. 83.
Walberg. 1976 — Walberg G. Northern Intruders in Мус. III С? — AJA. 1976, vol. 80.
Watkins, 1976 — Watkins C. Observations on the Nestor’s cup inscription. — HSt 1976, vol. 80.
Watkins, 1986 — Watkins C. The language of the Trojans. — TTW.
Watkins, 1987 — Watkins C. Questions linguistiques palaites et louvites cuneiformes. -Hethitica. Louvain â-la-Neuve. 1987, t. 8.
Webster, 1964— Webster I. B. L. From Mycenae to Homer. L., 1964.
Weickert, 1959 — Weickert C. Neue Ausgrabungen in Milet. — Neue deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient. B., 1959.
Weippert, 1981 — Weippert M. Kreta. — RLA. Bd. 6, Lief 3–4. 1981.
Whitman, 1958 — Whitman C. H. Homer and the heroic poetry. Cambridge, 1958.
Wiesner, 1963 — WiesnerJ. Die Thraker. Stuttgart, 1963.
Wilamowitz-Moellendorff, 1886 — Wilamowitz-Moellendorf U. von. Isyllos von Epidauros. B., 1886.
Wilamowitz-Moellendorff, 1895 — Wilamowitz-Moellendorf U. von. Euripides. Herakles. Bd. 1. B., 1895.
Wilamowitz-Moellendorff, 1903 — Wilamowitz-Moellendorf U. von. Apollon. — Hermes. B., 1903, Bd. 38.
Wilamowitz-Moellendorff, 1916 — Wilamowitz-Moellendorf U. von. Die Ilias und Homer. В., 1916·.
Wilamowitz-Moellendorff, 1924 — Wilamowitz-Moellendorf U. von. Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos. Bd. 2. В., 1924.
Wood, 1985 — Wood M. In search of the Trojan war. L., 1985.
Zgusta, 1964 — Zgusta L. Kleinasiatische Personennamen. Prag, 1964.
Zgusta, 1984 — Zgusta L. Kleinasiatische Ortsnamen. Heidelberg, 1984.
Zwiecker, 1921 — Zwiecker J. Sarpedon. — RE. 2-te Reihe. 1921, Hbd. 3.
Summary
In their book, Homer and History of the Eastern Mediterranean, L. A. Gindin and V. L. Tsymburski suggest their own reconstruction of historical actualities underlying the myths concerning the great military expedition of the Achaean Greeks against the Trojan capital, Ilios. The authors combine traditional methods of historical analysis with the available archaeological data and profound research of the linguistic relicts which shed light on the early ethnical history of Troy.
In the introductory Chapter 1, History Belongs to a Poet, the authors explain their attitude towards the Homeric question in its two main issues: both concerning the genesis of the poems and their historical value for a researcher. The opinion is expressed according to which each of the three rival trends in Homerology (namely, analyticism, unitarianism and the point of view regarding the Homeric poems as a traditional kind of oral epos) reflects one actual corresponding aspect of the genesis of «The Iliad» and «The Odyssey». Thus, the folkloristic school of Homerology exposes characteristic features of the formulaic technique used by Homer in his versification, ranging from standard word combinations (or set expressions) to the repertory of traditional images and scenes. Analyticism reveals strife between different versions and variants in the pre-Homeric tradition; the strife that had been integrated by the Poet’s artistic intention — perhaps to the point of merger of the earlier epic portions into his discourse. Lastly, Unitarian approach explains the systems of images and plots of «The Iliad» and «The Odyssey» from the viewpoint of integrity of the Poet’s conception which is in many respects unique for ancient epic. This conception is determined by the two topics which coexist in either of the Homeric epics: the declared topic of a hero’s fate (e.g. fate of Achilles or Odysseus), and the implicit topic of the heroic epoch nearing its end. The most complicated and diverse interrelations of metaphorical and metaphysical nature are established between the two abovementioned topics in the discourse; as a result of this, the Homeric relation obtains the multitude of functional dimensions. Each of the delineated three trends in Homerology sees in the concept of «Homeric historicism» somewhat different meaning. For a supporter of the folkloristic school, historicism of Homer lies primarily in his use of the formulae/clichés which preserve some or other actualities of the long-gone past. For an analyst (meaning here a follower of the analytical school) the said historicism is in the dynamics of the interacting and developing earlier versions whose vague shapes can be discerned behind the Homeric text; in the dynamics reflecting those of history itself. Lastly, an Unitarian sees the Homeric historicism in the artistic skill using which the Poet reconstructs image of the epoch as of a space of time permeated with a single meaning, connected with a singe action that prevails over diversity of individual plots and stories.
In the Part 1, The Aegean and the Trojan War (Chapters 2 to 4), the authors seek to determine the true meaning of those developments which had come into Greek tradition under the name of the Trojan War in the context of the Late Bronze history of Asia minor and the Eastern Mediterranean — so far as that history can be reconstructed on the basis of the Hittite, Greek (Mycenaean) and Egyptian written records.
The Second Chapter, Hittite Evidence on the Achaeans in Anatolia of the 15–13 Centuries B.C., offers an analysis of the Hittite written sources mentioning the land of Aḫḫijawā; the authors see in the latter Mycenaean Greece including its Anatolian territorial possessions. Now that the works of H. Otten, A. Kammenhuber and F. Schachermeyr are available, the earliest of those documents (the so-called «Text Concerning Madduwatas») can be dated back to the end of the 15 century B.C., and the latest records (fragments of the time of Tuthalijas IV) to 1250–1220 B.C. The authors argue that the influence of Aḫḫijawā in Asia Minor was decisively getting stronger in the second half of the 14 century B.C. — after Mursilis II defeated the kingdom of Arzawa that had been the biggest state in the Western Anatolia. The heyday of Aḫḫijawā’s power came in the early 13 century B.C., when Hattusilis III in the «Letter Concerning Tawagalawas» addresses the king of Aḫḫijawā as an equal (if not regarding the latter as a stronger partner) and expresses in humble terms his regret for their contention of late and for the war waged to capture the city of Wiluša. He also names the city of Milawa(n)da (Miletus) in Asia Minor an Achaean possession.
Under the rule of Tuthalijas IV (the second half of the 13 century B.C.) the political picture undergoes major changes. Since that time the king of Aḫḫijawā is expunged from the document listing the «great kings», and the ruler of Milawa(n)da is regarded as a subject of the Hittite king; moreover all the dealings with that ruler are conducted without the prior consent of Aḫḫijawā. It is quite evident that certain developments taking in the Achaean metropolis of the Balkan Peninsula were apt to undermine the Achaean Greeks’ position in Asia Minor. The text KUB XIII, 13 is dated to that epoch. It informs us of the defeat suffered by the king of Aḫḫijawā in the Seha River Country (later Mysia) — this fact exactly corresponds to Greek tradition relating the inauspicious beginning of the Trojan war when invading by mistake Mysia instead of Troad, the Achaeans had been repelled by local population (a «Pseudo-Iliad» of a sort!). Using this evidence, we can correlate historical prototype of the Trojan war with certain crises of Greek history of the second half oft the 13 century B.C.
In Chapter 3, Wiluša-Ilios and Truiša-Troy, the authors follow the example of many scholars in identifying the Hittite period toponyms of Asia Minor — Wiluša and T(a)ruiša — with the Homeric Ilios and Troy. They also support this identification with a number of new arguments. Thus, the book demonstrates that the most important developments in interrelations between the Hittite kingdom and Aḫḫijawā in the late 14 and early 13 centuries B.C. were centred round Wiluša, the city viewed by Achaean kings as almost a part of the Greek world. It must be stressed that the overriding points of those interrelations came to be the extremely strong influence exerted by Aḫḫijawā in the Western Anatolia of the early 13 century B.C., as well as the power vacuum evident there by the end of the century, i.e. by the time of the Trojan war. That political vacuum was primarily due to the crisis suffered by Aḫḫijawā and to the inimical attitude towards the Hittites assumed by the natives of the Western Anatolia. The latter can largely be identified with the tribes referred to by Homer as the allies of Ilios in its struggle against the Achaeans. Besides that, the authors seek to substantiate a supposition that some personae featuring in the Trojan cycle epics — Agamemnon, Alexander/Paris, et al. — could have had their prototypes at a much earlier period of history (at the turn of the 14 and 13 centuries B.C.). By the time of the Trojan war they must have become vague figures of the past whose legendary deeds got later mixed with memories of the crucial epoch of the Mycenaean Greece.
In Chapter 4, The Achaeans, the Sea Peoples and the Heracleidae (The Fall of the Mycenaean Greece and Destruction of Troy), that crisis (the Hittite records imply its actual presence) is connected with the invasion of Greece ca 1240 B.C. by tribes from the northwestern Balkans which put an end to the era of Achaean supremacy. The authors refuse to accept the hypothesis of Schachermeyr and some other scholars, according to which, for several subsequent centuries, Greece was ruled by those northerners. Identifying the invasion in question with the «first coming of the Heracleidae» — Greek tradition dates it to the time of the Trojan war — Gindin and Tsymburski are inclined to give credence to (hat tradition when it informs us of an epidemic which had made the vast majority of the intruders withdraw and return to the north, and of their further unsuccessful attempts to invade Peloponnesus again. Archaeological evidence for the subsequent decades shows the picture of the Greeks’ massive influx into the littoral regions, islands and Asia Minor. The Trojan war which, almost immediately following the crisis in Greece, had destroyed the Troy VIIa is viewed as an attempt of the Mycenaean kings to enhance their prestige by making that massive exodus from Greece look like a solid military enterprise. Invasion of Egypt during the Pharaon Memeptah’s reign became a part of that expedition: the troops of the Sea Peoples were composed mainly of the Achaeans who joined the Western Balkanian forces and Troy’s neighbours, the Tyrsenians — ancestors of the Etruscans (vague memories of that attack against Egypt are to be found in Greek legends which date it to the time immediately after the burning of Troy). In the authors’ opinion, the Achaean migrations of that time were an actual combination of aggression and flight from ancestral homes which was reflected in the Trojan cycle myths resulting in a tangle of heroic and tragic motifs where no triumphant note of the victors can be discerned — that gives us the idea of the doomed Achaean world whose decline ensued after the great war.
In Part 2, Who Inhabited Troy? ethnolinguistic composition of Trojan population is being reconstructed — mainly that of the Troy VIIa («the Priam’s Troy»); i.e. of the peoples who were trying to resist the Achaean invaders.
While writing Chapter 5, Thrace and Troad, the authors were largely drawing on materials of L. A. Gindin’s book, The Oldest Onomasticon of the Eastern Balkans (Sofia, 1981). This chapter contains an onomastic survey of the Homeric Troad made in the form of a sui generis guide book which gives a description of the area. It becomes evident that the overwhelming majority of Trojan place-names from «The Iliad» are of archaic Thracian origin; many of them have their direct namesakes on the shores of neighbouring Thrace separated from Troad by the sea which was called in antiquity the Thracian Sea. Possessions of the Trojan rulers — as they were depicted in «The Iliad» — included a certain part of the Thracian littoral together with the city of Sestos. The Trojan nobles, according to Homerus, enjoy close relationship with the Thracian kings via conjugal ties; and during the Trojan war the latter help their neighbours and relations of Ilios. Some of the Trojan names of Thracian origin (e.g. the names of Wiluša-Ilios and Truiša-Troy) go back as far as the middle — if not the first half — of the 2nd millenium B.C. These conclusions are corroborated by the archaeological data according to which, in the 3rd millenium B.C., Troy was a part of the proto-Thracian cultural area.
As for the «Laomedon’s» Troy VI and «Priam’s» Troy VIIa (18–13 centuries B.C.), there seems to have seen a strong Greek-oriented ruling stratum in the city that exerted considerable cultural influence. However, even if we are to openly admit that Greek rulers could appear in Ilios in the beginning of the 2nd millenium B.C., the bulk of Troad’s population was composed of early Thracian ethnic elements whose influence on ethnolinguistic aspect of those who fought the Achaeans during the Trojan war was the strongest.
In Chapter 6, The Luwians at Troy, the authors substantiate their hypothesis concerning the survival of certain parts of the early Luwian tribes which still existed in Homeric Troy; their forefathers during the epoch of Troy II (2600–2300 B.C.) were moving southward from the city, to the place of historic abode of the Luwians. It seems probable that during the pre-Anatolian period of their history, those tribes (after they had come from the area of Black Sea steppes lying northwest of the Balkans) coexisted for some time with proto-Thracian ethnic units within the Eastern Balkan area. Therefore we have every right to consider the so-called proto-Thracian antiquities as the proto-Indo-European ones. The mysterious Lycians from the region of Zeleja (or «Trojan Lycia») are first to be mentioned among the relict early Luwian tribes of Troad. The ancient designation of that locality, *Luka, reflected in the local name of Apollo (Λυκη-γϵνής) in connection with the myth about his having been bom in Zeleja, is identical to the designation of a Luwian region in the south of die Hittite period Anatolia, Lukka. In a deeper perspective, the term is cognate to the name of the entire area of dwelling of the historical Luwians, Luwija. Self-designation of the Trojan Lycians attested by Homer, Τρῶϵς, exactly corresponds to the late name of one of the two Lycia’s languages (the so-called Lycian B), trujeli (that name was unlike those of other, southern, Luwian ethnic units). This fact makes one view the speakers of Lycian В as the Tread’s Lycians who moved south in the early 1st millenium B.C. That tribe had possible played an important part in the spread of Apollo’s cult in Lycia. Apollo’s name is attested for the 2nd millenium B.C. only in Wiluša-Ilios; according to Homer, he was also worshipped in the neighbouring Zeleja.
Other Luwian tribes had had a Trojan phase in their prehistory as well. Thus, the name of Sarpedon, the hero-protector of the people speaking Lucian A language, derives from the name of a headland situated in the south of Aegean Thracia, opposite Tread. Homeric figure of Sarpedon fighting the Achaeans for Troy returns this image to its historical and geographic origins. Another Luwian tribe, Cilicians, is known to Homer as a people that once inhabited the south of Troad. The authors explain their name as a derivative of their sanctuary’s name Κίλλα < Hitt.-Luw. ḫila «courtyard»; cf. Lyc. qla «temple’s fence». Luwian archaic terms of special kind are represented by the name of the mountain near Trojan Lycia Πϵιρωσσός, and the figure of its eponym mentioned by Homer — that of the supposedly coming from Thracia stone-throwing hero Πϵίρως; the terms in question continue the Hittite-Luwian series: Hitt.-Luw. pirwa «rock», Pirwa, name of the god worshipped on the rocks, Luw. Pirwašša «something belonging to Pirwa». Undoubtedly, the Luwians who came to Anatolia from the north in the 3rd millenium B.C. left a noticeable trace in Tread’s tradition (e.g. the name-title Πρίαμος < Luw. prijama «the first, the best»), and it is likely that a certain remainder of the Luwians still lived to the epoch of the Troian war in the northern and southern periphery of the area — in the Trojan Lycia and in settlements of the Trojan Cilicians whence comes the Homeric heroine Andromache.
Chapter 7, The Hittites in the Trojan Myths of Greeks, occupies in this part of the book a special place, since the Hittites have not been inhabitants of Troad. However, Greek tradition which places in Mysia (in Caicos) during the time immediately following the events of the «Pseudo-Iliad» the powerful people of the Ceteans/Keteioi (Κήτϵιοι), fully corresponds to the evidence of the Hittite annals concerning Hittite army’s entry in the River Seha Country from where Aḫḫijawā’s king had just been ousted. Homer’s words (Od. XI,519–521) concerning the Ceteans coming at the close of the war to Troy’s help and perishing «because of the women’s gifts» remarkably tally with the prescription of Hittite law about a «payment to a woman» (ŠA SAL kuššan) which was given to a widow of a killed mercenary. In Posthomerica by Quintus of Smyrna (that writing reflects the cyclical tradition) the Ceteans emerge as a powerful people ruled by the «great king» (μέγας βασιλϵύς = Hitt. LUGAL GAL). The Ceteans appearing on stage, the Trojans as Greeks’ adversaries fade into the background. It is not impossible that tradition about the Ceteans reflects an unsuccessful attempt of the Hittites to affect the course of the Trojan war at its final stage.
However, this historical reminiscence is complicated by mythological motifs whose provenance is to be sought in Asia Minor. Thus, tradition makes the Cetean king Eurypylus a son of the Mysian demigod Telephus who was a hero participating in the events of «Pseudo-Iliad». Telephus while fighting the Achaeans gets his feet entangled in a vine and being severely wounded in the thigh, flees overseas to Greece to show the Greeks the way to Troy in exchange for their healing his wound. The above story is doublessly a Greek revision of the Western Anatolian version of the Hattie and Hittite myth about the fertility god Telepi/Telepinus who shuns the world, sick and getting healed, furious and then placated. Under the influence of this calendar myth intruding in the historical legend, the «women’s gifts» for which the Ceteans-Hittites perish, turn into the fabulous golden grapevine which had supposedly been presented by Priam to the Cetean queen and became the bane of Eurypylus. The memory about the fighting between the Greeks and their fell Hittite foes (cf. the story of Hercules fighting the κῆτος-monster) merges with the motifs which had come to Greeks from traditions of the peoples of Asia Minor living near Troy.
Примечания
1
В последние годы Г. Оттен, опираясь на тексты KUB XXXIV, 40, II, 8-16 и KBo XVI, 25 +… IV, 15, показал, что раньше, в XV в. до н. э., хеттский престол занимал еще один царь с тем же именем, поэтому Муватталис, сын Мурсилиса II, должен бы считаться Муватталисом II [Otten, 1986, с. 28 и сл.].
(обратно)2
Устаревшую транслитерацию Брестеда мы заменяем на более новую, типа той, что принята в работе [Коросговцев, 1963].
(обратно)
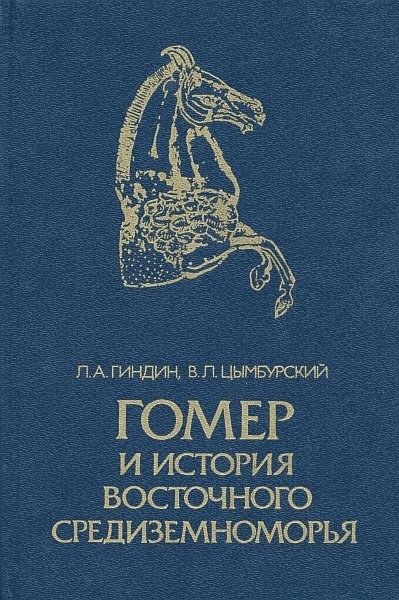



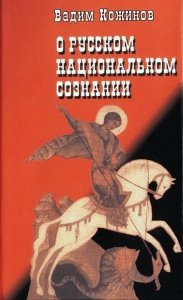

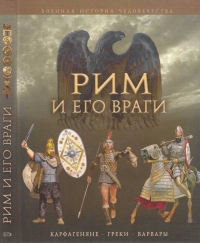
Комментарии к книге «Гомер и история Восточного Средиземноморья», Леонид Александрович Гиндин
Всего 0 комментариев