Леонид Сергеевич Васильев Проблемы генезиса китайского государства
М.: Наука, 1983
Глава первая. Сущность проблематики
Может показаться, что генезис государства - вопрос в науке, во всяком случае в марксистском обществоведении, давно и хорошо известный и в принципе решенный. Однако при углубленном подходе с учетом последних достижений науки эту проблему нельзя назвать простой и ясной. Напротив, чем глубже погружаешься в нее, тем более сложной и противоречивой она оказывается, тем больших усилий требует не только для своего окончательного решения (об этом пока нет речи), но даже и для правильного ее понимания, для проникновения в ее суть. К такому выводу подводит вся совокупность материалов, накопленных наукой за последнее столетие, особенно в XX в., причем имеются в виду как многочисленные фактические данные, касающиеся образа жизни, уровня производства и культуры, характера социально-политической структуры различных первобытных, предгосударственных и раннегосударственных образований древности и современности, так и исследования, посвященные интерпретации этих данных.
Факт и его интерпретация - основы, на которых стоит наука, причем одно зависит от другого: накопление фактов требует их интерпретации; интерпретация позволяет лучше усваивать новые факты, вписывающиеся в созданную схему. Здесь есть своя логика, своя внутренняя динамика: факты постоянно прибавляются; все возрастающая сумма все более разнообразных данных приходит в противоречие со схемой и требует новой интерпретации, модернизированной схемы, учитывающей отклонения и разночтения и могущей на некоторое время служить основой для дальнейшего накопления и осмысления все новых и новых фактов. Этот элементарный эвристический постулат едва ли нуждается в развернутой аргументации: сила и убедительность его наглядно демонстрируются любой из многих отраслей современной науки. Не является исключением и история.
Справедливость высказанного тезиса лучше всего, пожалуй, подтверждается недавней дискуссией об «азиатском» способе производства, которая в 60-70-х годах вновь обратила внимание. специалистов на многие слабости существующей в марксистской историографии жесткой однолинейной пятичленной схемы формаций, в частности, на то, что подавляющее большинство не столько даже азиатских, сколько неевропейских[1] докапиталистических обществ весьма резко, начиная с фундаментальных параметров структуры, не соответствуют тем эталонам «рабовладельческого» и «феодального» способов производства, которые на протяжении вот уже свыше полувека считаются у нас основой для интерпретации фактов из истории докапиталистической эпохи. Неудовлетворительность этих эталонов в ходе дискуссии стала очевидной для всех, как противников, так и сторонников пятичленной схемы. Разница была лишь в том, что первые пытались ее отвергнуть, заменив новым вариантом, тогда как последние стремились как-то подправить прежние построения - прежде всего за счет максимального расширения их внутренней емкости[2]. Существенно поколебав пятичленную схему, дискуссия пока не привела к замене ее новой, более предпочтительной с точки зрения удовлетворительной интерпретации фактов. Но тем не менее она много сделала для этого, прежде всего тем, что привлекла внимание к идее Маркса об «азиатском» способе производства.
К. Маркс об «азиатском» способе производства и восточном государстве
Термин «азиатский способ производства» введен в обществоведение К. Марксом почти полтора века назад. Условность его несомненна - особенно сегодня, когда наука шагнула далеко вперед и обнаружила структуры, аналогичные древнеазиатским, почти в любой части земного шарад Но дело далеко не в термине, появление которого во времена Маркса было логичным и вполне оправданным: материал о восточной общине и восточном деспотизме в те времена черпался наукой в основном из истории стран Азии. Дело в сути проблемы. Что имел в виду Маркс, когда он ввел в науку такой термин? На какие данные он при этом опирался, какие выводы делал?
Как в ходе дискуссии, так и после нее в нашей стране и за рубежом было опубликовано немало специальных трудов, включая объемистые монографические исследования, авторы которых ставили своей целью подытожить и проанализировать идеи Маркса по всем упомянутым вопросам (см. [60; 70; 155; 156; 180; 240; 254; 255]). В них и во многих иных работах уделено большое внимание выяснению сути концепции Маркса как в связи с особенностями развития выделенных им «азиатских», «восточных» обществ, так и вообще в связи с подходом его к анализу неразвитых общественных структур.
Маркс был далеко не первым, кто обратил внимание на особенности азиатских структур. Идея о существовании восточного деспотизма, принципиально отличного от форм политической организации в Европе, была отчетливо выражена уже в «Политике» Аристотеля [6, с. 136-137]. Изданные в средневековой Европе в XIII в. сочинения Аристотеля способствовали распространению понятия «деспотия» в политической мысли той эпохи, а в XIV в. была сформулирована и концепция «азиатского деспотизма», которая связывалась с отсутствием частной собственности и правовых гарантий. Символом такого рода структуры уже с XVI в. стала считаться Османская империя с абсолютной властью султана (см. [240, с. 6-7]). Начиная с XVII в. все чаще посещавшие страны Востока путешественники, миссионеры и купцы обращали внимание на специфику этих стран, сводившуюся прежде всего к сильной роли центральной власти (восточный деспотизм), абсолютному преобладанию государственной и отсутствию частной (во всяком случае сравнимой с европейской раннекапиталистической) собственности, раболепию подданных перед властителем, низших перед высшими, застойности, косности и т. п. Правда, по мере накопления материала картина восточного общества становилась все более сложной и противоречивой. Наряду с застойностью вырисовывалась стабильность централизованной администрации, с косностью - строгий моральный стандарт, с деспотизмом — институты, направленные на ограничение произвола власти. Все более сложными оказывались производственные отношения и связанные с ними отношения собственности. Естественно, что это вызывало у европейцев потребность разобраться в противоречивой информации и как-то оценить характер азиатского общества, воспринимавшегося в XVIII и даже в XIX в. еще в виде сравнительно однородной, внутренне недифференцированной «восточной» структуры.
Анализ сведений о восточных обществах привел уже в XVIII в. к появлению как резкой критики (Ш.-Л. Монтескье, Д. Дефо), так и апологетики (Вольтер, Ф. Кенэ) восточных порядков [60, с. 83—93; 180, с. 40 и сл.]. Знаменитый политэконом А. Смит, вскрывший разницу между рентой собственника и налогом государства, обратил внимание на отсутствие на Востоке различий между ними и пришел к выводу, что там суверен относится к земле одновременно как собственник и как представитель публичной власти, не отделяя одно от другого [67, с. 495, 525, 583; 180, с. 39]. Наконец, вершиной анализа восточных структур в домарксовый период явились на рубеже XVIII—XIX вв. работы Гегеля, лучше других вскрывшего основы восточного деспотизма, обратившего внимание на механизм власти и феномен всеобщего бесправия, на высшие регулирующе-контролирующие и организаторские функции государства и всей системы администрации в Азии, в частности в Китае [28, с. 96—207].
Разумеется, первые работы о Востоке содержали немало ошибок и явных упрощений. Но существенно, что главное в специфике восточных обществ в них было подмечено в основном верно, так что в дальнейшем на протяжении долгих десятилетий, даже веков вновь накапливавшиеся факты сравнительно непротиворечиво вписывались в сложившиеся представления. Пожалуй, только с начала XX в. лавина новых материалов из истории неевропейских народов превратила эти представления о Востоке в сильно устаревшие, хотя и далеко не потерявшие своего значения.
Маркс был знаком с историей Востока и исследованиями по его структуре, причем его острый аналитический ум легко уловил суть проблематики: Восток для него был наиболее ранним и примитивным вариантом развития докапиталистических обществ, причем вариантом хотя и существенно отличным, но в то же время вполне сопоставимым с выделенными им двумя другими — античным и феодальным. «В общих чертах,— писал он в предисловии к "Критике политической экономии",— азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации» [1, с. 7].
В этой хорошо известной цитате упомянуты, одна за Другой в определенной последовательности четыре стадии социально-экономического развития, а слово «формация» употреблено в непривычном для нас, расширительном значении. Вообще "следует напомнить, что Маркс не сформулировал законченную теорию формаций — пятичленная схема их была создана после него. Но весь контекст его работ дает основания для вывода, что четвертую из указанных стадий следует вычленить как единицу более высокого таксономического порядка, тогда как первые три могут быть поставлены рядом друг с другом. Это подтверждается и той схемой, которая сложилась к концу его жизни, «когда стали проясняться в науке контуры "доисторической" организации» [8, с. 72]; она была составлена из двух основных формаций — первичной (архаической, первобытнообщинной) и вторичной, уже знакомой с социальными антагонизмами, в рамки которой Маркс включал все выделенные им четыре способа производства. Важно отметить, однако, что в единой вторичной формации Маркс видел две «крупные формы», докапиталистическую и капиталистическую, первая из которых как раз и членилась на три части в соответствии с формулой о «прогрессивных эпохах экономической общественной формации» - азиатской, античной, феодальной (см. [8, с. 73; 63, с. 70]).
Итак, Маркс знал о восточном обществе, был знаком, правда из вторых рук, с его структурой и нашел ей место в своей общей генеральной схеме истории общества. Но не остановился на этом. В насыщенной глубокими и интересными сопоставлениями работе «Формы, предшествующие капиталистическому производству» он дал специальный сравнительный анализ всех трех докапиталистических форм. Изучение упомянутой работы, являющейся лабораторией мысли исследователя, показывает,что по многим основным параметрам — по характеру собственности, соединения производителя со средствами труда, роли внешней (внеобщинной) власти в процессе производства и т.п.— три формы сильно различались между собой [26]. Существенно подчеркнуть, что эти различия были, по мысли Маркса, чисто структурными, т. е. внутренне детерминированными, связанными с присущей каждой форме имманентными специфическими особенностями, но отнюдь не с последовательностью их появления на свет, предполагающей вызревание более поздних из них на основе или из недр более ранних. Другими словами, не отрицая того очевидного факта, что азиатская, античная и германская формы были, по Марксу, зародышами трех прогрессивно-последовательных по отношению друг к другу способов производства, нельзя забывать о том, что эти формы он анализировал в плане параллельного их сопоставления и раскрытия специфики их развития ab ovo. И именно это дает основание видеть в указанных формах не только и не столько сменяющие друг друга стадии, сколько варианты единой докапиталистической макроструктуры, первой «крупной формы» вторичной формации[3].
Начиная свой анализ каждой из трех форм с клеточки общества — его общины, Маркс показал, каким образом сложились в античном и германском обществе присущие им отношения собственности и производства, как античная община привела к развитию рабовладения, а германская — феодализма. Оба способа производства, сложившиеся на основе этих двух сравнительно более поздних форм, второй и третьей, отличались разделением общества на антагонистические классы, в основе чего лежала частная собственность господствующих классов, рабовладельцев и феодалов. Анализ первой и наиболее ранней общины, азиатской, привел Маркса к несколько иным выводам.
Он обратил внимание на ее исключительную внутреннюю цельность, прочность и монолитность, свойственную именно ей слитность индивида с коллективом. Именно община как коллектив опосредует собой все то, чем владеет каждый в ее рамках. Отсюда специфическое положение индивида: участвуя в процессе производства в рамках общины, он (даже если имеет полученный от общины собственный надел) не отдаляется от коллектива и в силу этого никогда не становится собственником, оставаясь только владельцем обрабатываемого им надела и полученного им продукта. Собственность же, первоначально коллективная (общинная, племенная), с течением времени все более трансформируется в верховную собственность возвысившегося над общинами правителя, выступающего в качестве обоготворенного символа коллектива, его верховного повелителя, «связующего единства».
Встав над общинами, восточный деспот на правах «связующего единства» присваивает себе исключительное право распоряжаться совокупным продуктом коллектива. Выступая в качестве высшего управителя возникающего на этой основе административно-политического объединения, государства, деспот присваивает прибавочный продукт общины (или по крайней мере часть его) «как в виде дани», так и в форме совместных работ «для прославления единого начала — отчасти действительного деспота, отчасти воображаемого племенного существа, бога» [3, с. 464].
Отталкиваясь от произведенного анализа, Маркс реконструирует характер связи между общинами и их эксплуататорами, олицетворенными деспотом. Отрицая существование здесь какой-либо частной собственности, он выдвигает тезис, согласно которому «общины выступают лишь как наследственные вл¬дельцы» по отношению к связующему единству, верховному собственнику, именно в силу этой верховной собственности имевшему право на их прибавочный продукт [3, с. 463].
Итак, по Марксу, азиатская структура — биполярное единство общин и возвысившегося над ними государства, олицетворенного восточным деспотом. Внутренняя связь в такой структуре в принципе аналогична той, что и в двух остальных: эксплуатация господствующими верхами производителей с присвоением их прибавочного продукта и использованием их труда. Но существенна и разница: на верхнем полюсе стоят здесь не частные собственники типа рабовладельца или феодала, но олицетворенное деспотом (и предполагающее, естественно, существование административного аппарата) государство, взимающее с подданных (с общин) ренту-налог: «Если не частные земельные собственники, а государство непосредственно противостоит непосредственным производителям, как это. наблюдается в Азии, в качестве земельного собственника и вместе с тем суверена, то рента и налог совпадают, или, вернее, тогда не существует никакого налога, который был бы отличен от этой формы земельной ренты. При таких обстоятельствах отношение зависимости может иметь политически и экономически не более суровую форму, чем та, которая характеризует положение всех подданных по отношению к этому государству. Государство здесь — верховный собственник земли. Суверенитет здесь — земельная собственность, сконцентрированная в национальном масштабе. Но зато в этом случае не существует никакой частной земельной собственности, хотя существует как частное, так и общинное владение и пользование землей» [2, ч. II, с. 354][4].
Государство, о котором идет речь в приведенной цитате, возникает в условиях отсутствия частной собственности и противостоящего производителям класса частных собственников; оно складывается как результат объективной потребности коллектива (общин) в организации производства в крупных масштабах (в частности, Маркс имел в виду ирригацию). Очень важно обратить внимание именно на указанный аспект проблемы.
Показательно, что Маркс, давший миру образец классового анализа, вообще не применяет понятия «класс» по отношению к азиатским структурам. И это отнюдь не случайное умолчание; он просто не видит места для классов и тем более классовых антагонизмов в той структуре с ее отсутствием частной собственности, которая была им описана и которая, по его мнению, была присуща восточным обществам, причем не только древним. Подобный подход, однако, отнюдь не адекватен признанию бесклассовости азиатской структуры в полном смысле слова. Пусть классов нет, так как они не сложились и не могли возникнуть при отсутствии частной собственности. Но есть социальное и имущественное неравенство, есть социальный антагонизм, причем весьма и весьма суровые, подчас по своим проявлениям вопиющие, даже кое в чем несравнимые с европейскими классовыми. Я имею в виду восходящий к гегелевскому анализу восточных обществ тезис о «поголовном рабстве» на Востоке[3, с. 485].
Касаясь этой проблемы, Маркс подчеркивал, что отдельный человек, т. е. подданный восточного государства, существующий в рамках азиатской формы собственности, «никогда не становится собственником, а является только владельцем, он, по сути дела, сам — собственность, раб того, в ком олицетворено единство общины, и поэтому рабство не подрывает здесь условий труда и не видоизменяет существо отношения» [3, с. 482]. Очень важная, принципиальная мысль. Рабство в азиатском обществе не может активно и эффективно менять существо отношений, ибо для этого нет базы — частной собственности. Маркс особо настаивал на том, что рабство и крепостная зависимость, которые он обычно рассматривал как параллельные однопорядковые и сопоставимые явления, являются производными, никогда не первоначальными отношениями, что они представляют собой дальнейшие ступени «развития собственности, покоящейся на племенном строе», и «неизбежно изменяют все его формы», однако «меньше всего могут они это сделать при азиатской форме» [3, с. 482]. Иными словами, возникающие и при азиатской форме рабство и крепостничество не становятся доминирующим типом отношений.
Не рабы и не крепостные, а крестьяне-общинники были в восточном обществе основным эксплуатируемым и политически бесправным социальным слоем, причем степень их эксплуатации и бесправия могла быть сколь угодно большой. Следует особо отметить, что Маркс отнюдь не заблуждался на сей счет и не строил иллюзий в стиле Вольтера. Как раз напротив, он не раз клеймил деспотизм и произвол на Востоке, отмечал отсутствие там свободы личности с ее юридически гарантированными правами. И классическая фраза о «поголовном рабстве», несмотря на ее явную метафоричность, была точной и суровой оценкой социально-политической структуры - обществ Востока.
Таким образом, социальные антагонизмы Марксом отнюдь не игнорировались. Но он не считал их классовыми, во всяком случае в том смысле, как он обычно применял понятие «класс». Сущность таких антагонизмов, как и сущность эксплуатации в азиатских обществах, проявлялась во взаимоотношениях между государством и его аппаратом управления и принуждения, с одной стороны, и массами крестьян-общинников, т. е. основным контингентом подданных восточного государства — с другой. Но что же это в таком случае за государство, на какой основе оно возникло?
Подробно разбирая проблему общественных должностей в первобытных общинах, Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» обратил внимание на то, что именно носители такого рода должностей, использовавшие отправление своих общественно полезных и даже, я бы сказал, общественно необходимых функций подчас «в целях обогащения», были «облечены известными полномочиями» и являли собой «зачатки государственной власти». Развивая ту же мысль в полемике с Дюрингом, Энгельс писал: «Нам нет надобности выяснять здесь, каким образом эта все возраставшая самостоятельность общественных функций по отношению к обществу могла со временем вырасти в господство над обществом; каким образом первоначальный слуга общества, при благоприятных условиях, постепенно превращался в господина над ним; каким образом господин этот выступал, смотря по обстоятельствам, то как восточный деспот или сатрап, то как греческий родовой вождь, то как кельтский глава клана и т. д.; в какой мере он при этом превращении применял в конце концов также и насилие и каким образом, наконец, отдельные господствующие лица сплотились в господствующий класс. Нам важно только установить здесь, что в основе политического господства повсюду лежало отправление какой-либо общественной должностной функции и что это политическое господство оказывалось длительным лишь в том случае, когда оно эту свою общественную должностную функцию выполняло» [4, с. 184]. Подобное представление об истоках государственной власти и государства разделял и Маркс, не раз подчеркивавший общественно-должностные функции государства как организатора производства: «Общие для всех условия действительного присвоения посредством труда, ирригационные каналы, играющие очень важную роль у азиатских народов, средства сообщения и т. п. представляются в этом случае делом рук более высокого единого начала - деспотического правительства, витающего над мелкими общинами» [3, с. 464].
Изложенное позволяет заключить, что теория Маркса о характере восточного общества и государства выглядит примерно следующим образом. В условиях отсутствия частной собственности исполнение общественно необходимых социально-политических и производственно-технических функций вело к появлению слоя людей, поднявшихся над первобытными общинами. Опираясь на авторитет общественных должностей и на зарождавшийся аппарат власти, этот слой с течением времени становился все более могущественным и независимым от коллектива. Логическое развитие описываемого процесса вело к абсолютизации сакрализованной власти вождя, ставшего во главе иерархии управителей, превратившегося в обожествленного деспота, в символ разросшегося коллектива, в «связующее единство» складывающегося государства, наконец, в «верховного собственника».
Данные современных исследований убедительно свидетельствуют, что ранняя и в силу необходимости фрагментарная теория-схема Маркса оказалась в конечном счете много предпочтительней пришедшей ей на смену в XX в.[5] (речь идет об априорном постулировании структурообразующей функции рабовладения для всех древних и феодализма — для средневековых обществ в рамках пятичленной схемы формаций). Обратимся к анализу этих данных.
Генезис социальных связей. Реципрокность и редистрибуция
Современные социологи определяют общество как коллектив людей обоего пола, связанных общими потребностями и целями и взаимодействующих ради их удовлетворения [85, с. 2]. В конечном счете общество — это упорядочение, организация, система норм [235, с. 346—352]. Оно рождается в тесной связи с природой. Но как феномен не базируется на ней — скорее противостоит ей. Основа общества — культура. Однако культура — тоже социальный факт. Пытаясь выйти из создавшегося противоречия, известный современный антрополог К. Леви-Стросс предположил, что в качестве первоосновы социокультурного начала следует выделить сексуальное поведение. В отличие от других инстинктов, восходящих к биологическому, секс для своего удовлетворения требует двоих, что и создает условия для социализации: первоначальным социальным фактором был запрет инцеста ([193, с. 32]; см. также [83, с. 35—36]).
В этом он не был оригинальным. Многие специалисты, видели истоки социального в обуздании «зоологического индивидуализма» [64, с. 242; 72, с. 56; 237, с. 80]. Но Леви-Стросс пошел дальше других. Отказ от инцеста он связал со следующим важным социальным фактом — с обменом женщинами ([192, с. 113—114]; см. также [209, с. 332]), что создало условия для установления прочных связей по принципу «я — тебе, ты — мне» [189, с. 277; 193, с. 32]. Именно обмен женщинами вызвал к жизни фундаментальный принцип эквивалентного дара, который стал затем центральным пунктом всей дистрибутивной системы общества [83, с. 37] (подробнее см. [192; 185; 186; 217, с. 188—200]).
Опираясь на исследование М. Мосса о феномене дарообмена [212], Леви-Стросс увидел в такого рода коммуникации структурную основу культуры, ее код. Обмен дарами — основа кодифицированной нормы поведения, на базе которой со временем сложилась та система экспектаций с запретами и санкциями за их нарушение, которая жестко регулирует образ жизни индивида и общества. (Структурализм Леви-Стросса [190]. достаточно убедительно воссоздает механизм генезиса социокультурного импульса огромной силы. И хотя эта теория воспринимается отнюдь не безоговорочно, а подчас и критически [82, с. 131 и сл.; 146, с. 484—492], ее генеральный тезис о том, что инцест - табу и обмен женщинами явились первоосновой нового типа структуры, т. е. общества, заслуживает внимания. Сложившаяся на основе подобного рода обмена система брачных связей способствовала установлению нормативного родства, вследствие чего были определены старшинство поколений, брачные классы и в конечном счете возникли первые социально-родственные общности.
Наиболее ранние из них — их подчас именуют племенами, но правильнее употреблять термин «этническая общность» — обычно состояли из нескольких автономных локальных групп, состав которых не отличался стабильностью. Комплектовавшиеся из представителей двух или нескольких тотемических родов, члены которых имели право и были обязаны вступать в брачные отношения между собой, эти группы ныне неплохо изучены специалистами [157; 216]. Брачные связи в такой группе, состоявшей обычно из парных семей[6], строго регулировались принципом инцест-табу. Группа была структурно гибка и динамична, составляющие ее парные семьи и неженатые индивиды могли легко покидать ее и присоединяться к соседней, причем такой отсев происходил регулярно. Группа вообще могла легко распасться и затем возникнуть в новом составе — но при этом обязательно из числа членов данной этнической общности[7]. Время существования группы невелико — но обычно не менее чем год [141, с. 187]. Крепость союза брачной пары тоже не абсолютна. Разводы легки, причем существен сам принцип: женщина — равноправный партнер в браке, не обремененный заботами о воспитании потомства, которые лежали на плечах коллектива. Известны случаи, когда женщина вступала в брак на протяжении жизни 6—8 раз [72, с. 73].
Фундаментальный принцип локальной группы — ее эгалитарность. Все равны и равноправны, хотя ролевые функции, строго различавшие мужчин и женщин, старших и младших, взрослых, стариков и детей, всегда определяли известное неравенство в потреблении. Но это неравенство иного плана, генетически восходящее к неравенству, известному и в мире животных.
Социальные же права и обязанности эгалитарны. Все имеют равный голос. Каждый волен принять самостоятельное решение, вплоть до разрыва с группой. Никто ни над кем не довлеет, и ничье решение не обязательно для остальных. Разумеется, такой эгалитаризм не имеет ничего общего с демократизмом, т. е. правом на свободное и сознательное волеизъявление индивида. Во-первых, центробежной тенденции эгалитаризма противодействовала автоматическая солидарность в рамках данной этнической общности, за пределами которой индивид, как это хорошо показано В. Р. Кабо на примере австралийских аборигенов, практически не мыслил своего существования [38, с. 232—240]. Условия существования требовали жесткой конформности поведения, полного соответствия сложившимся экспектациям группы [143, с. 107—114; 160, с. 174], так что новации обычно бывали лишь ответом на изменившуюся ситуацию [215, с. 248—251][8]. Во-вторых, эгалитарность, как упоминалось, не была абсолютной. Обладавшие наибольшими потенциями и приносившие в группу наибольшее количество пищи заметно выделялись среди остальных.
Примером такого рода локальной группы могут служить формы социальной организации у индейцев намбиквара (район Амазонки), описанные в свое время К. Леви-Строссом, тогда еще начинающим антропологом. Группа, с которой он провел несколько недель, состояла из нескольких десятков человек, связанных родственными и брачными узами. Структурно группа была рыхла, в ней нередко случались интриги и конфликты, а в качестве медиатора выступал выборный лидер из числа охотников старшего поколения. Основные функции лидера — идти первым по военной тропе, выбирать стоянку, руководить сезонными работами, отвечать за порядок в группе, причем все эти функции он осуществлял, опираясь лишь на свой престиж, никаких иных рычагов власти у него не было. Вождь должен был все знать и уметь, но главное — быть щедрым. Все, что он имел или приобретал, вождь отдавал группе, получая взамен уважение и престиж. Кроме престижа на долю лидера выпадала одна, но существенная привилегия: право на нескольких жен — в отличие от других мужчин группы. Реализация такого права порой создавала половой дисбаланс, но группа мирилась с ним при условии, что аппетиты лидера были умеренными[9]. Важно отметить также, что далеко не всякий соглашался стать лидером. Одни стремились к этому, другие отказывались, если даже на них падал выбор [191].
Выводы Леви-Строаса подкрепляются рядом других данных [188, с. 106—115; 206, с. 73—75]. В обществах описанного типа еще нет лидеров с неограниченной наследственной властью. Вместо нее — эффективное общественное мнение с конформным осуждением и высмеиванием отклонений от нормы [258, с. 263], с состязаниями вместо суда (песни у эскимосов). Лидерство в таких группах является, функцией личных способностей, и принцип меритократии в этом смысле пока еще нерушим. И хотя описываемое общество содержит и даже поощряет индивидуальное неравенство — причем не только ролевых функций, но и способностей, возможностей индивида,— оно все-таки является эгалитарным. Для того чтобы это выглядело убедительней, обратим внимание на экономические основы его существования.
Среднее число членов локальной группы обычно около 25— 50 [150, с. 38; 188, с. 98; 238, с. 92—93; 250, с. 125]. Группа ведет полуоседлый либо бродячий образ жизни, изменяющийся в зависимости от зоны обитания, рода охоты и т. п., причем в любом случае она, как и соседние с ней группы данной этнической общности, привязана к определенной территории, к которой относится как к своей и в пределах которой перемещается [111, с. 187; 159, с. 434—436; 188, с. 98—99]. Плотность населения обычно низка — от 0,01 до 2 человек на квадратную милю [150, с. 28], так что бывает, что на территории, где охотится и собирает плоды данная группа и даже целая общность, урожай превышает ее потребности. Тогда подчас приглашаются для сбора плодов соседи, в том числе и из других общностей, как это бывает у шошонов и австралийцев [159, с. 435]. Обычно каждая группа находится на полном самообеспечении, иногда, однако, некоторые из них связаны регулярным обменом с соседями. Например, такие связи существовали между прибрежными и внутренними лесными группами андаманцев [188, с. 99]. Как же обеспечивает группа себя всем необходимым и какие нормы определяют практику добычи и потребления пищи?
Специальные исследования в области экономической антропологии (Б. Малиновский, М. Херсковиц, К. Поланьи, Д. Дальтон, Р. Ферс и др.) показали, что экономика и вообще хозяйственная структура примитивных и архаичных докапиталистических обществ строится на принципиально иной основе по сравнению с законами частнособственнического общества и тем более капиталистического рынка. Суть различий в том, что экономические отношения в древних обществах, о которых идет речь, не являют собой особую и тем более детерминирующую сферу, а погружены в социальные отношения, составляя вместе с ними как бы единое целое [65, с. 51, 56, 57; 119, с. 15; 151; 228, с. 65—66; 234, с. 11]. Подобная первобытная нерасчлененность придает примитивной структуре облик весьма своеобразного феномена. Здесь нет еще материальной заинтересованности, жажды наживы, стяжательства, стремления к увеличению потребления, к обогащению и т.п. В центре системы ценностей находится нечто иное: жажда престижа и уважения, авторитета и социального признания, достигнутых за счет отказа от излишних материальных благ, которые, будучи предоставлены другим, воспринимались как щедрый дар и реализовывались в рамках эгалитарного потребления. И эта система ценностей стимулируется сложившимися нормами, которые не только поощряют, но подчас прямо-таки обязывают удачливого охотника делиться своей добычей, подчеркивают его обязательства перед группой.
Дело в том, что система добычи пищи, ее распределения и потребления была основана на принципе уравнительности: каждый член группы имел право на часть продукта вне зависимости от того, принимал ли он участие в добыче, просто в силу его принадлежности к этой группе [66, с. 20—21]. Иначе первобытная группа не могла бы существовать. Добывание пищи было главным занятием группы: удачная охота означала обилие пищи (порой до 20—30 фунтов мяса на человека за сутки), причем продукт следовало быстро потребить, так как он в большинстве случаев не подлежал длительному хранению [129, с. 340—341; 142, с. 90; 188, с. 97]. Зато потом могли следовать долгие недели скудного, а то и полуголодного существования. Такой ритм был нормой, и именно он определял социальные стереотипы поведения.
Локальной группе принадлежала территория, по которой она перемещалась в поисках пищи. Добыча ее была всегда делом индивидуальным: орудия производства, оружие, инвентарь были в личной собственности индивидов. Женщины имели корзину, посуду, нож, одежду, люльку; мужчины — лук и стрелы, нож, капкан, сеть и т.п. [153, с. 371, 374; 188, с. 99]. Господствовал принцип, согласно которому все, что сделал человек и чем он пользуется, принадлежит ему, а что сверх этого — может быть доступно и другим [153, с. 372]. Вооруженный своими нехитрыми орудиями труда, каждый добывал пищу. И если исключить крайности (попытки отлынивания и беззаботности сурово карались презрением и насмешками, что было весьма суровой санкцией в коллективе, где престиж ценится и стоит столь высоко), каждый справлялся со своим делом в меру своих возможностей. Более того, каждый считал делом чести добиться максимально возможного и принести как можно больше. Но люди всегда различались не только силой, умом, ловкостью, опытом, но также и предприимчивостью, охотничьей удачей и т. п. Одни приносили больше, другие меньше. Естественно, что лучшие получали наибольшую долю престижа и уважения, именно они завоевывали авторитет в группе, из их числа выдвигались и избирались лидеры.
Итак, дистрибутивная система в группе предельно проста: каждый вносил в общий котел, сколько мог, и каждый черпал из него, сколько ему нужно (и сколько можно). Будучи системой взаимных коммуникаций, группа на практике осуществляла зафиксированный Леви-Строссом принцип эквивалента. Суть его в том, что тот, кто приносит и дает больше, больше и получает. Экономический аспект проявления этого генерального принципа К. Поланьи обозначил термином «реципрокность», что означает взаимообмен материальными благами, дарами, деятельностью и т. п. В системе реципрокного обмена принимали участие все. Однако не все в нем находились в одинаковом положении, причем именно разница таила в себе зародыш разложения эгалитарной структуры, которое было связано с появлением избыточного продукта.
Проблема избыточного продукта сложна. Об абсолютном избытке едва ли вообще может идти речь — говорить приходится только об относительном, т. е. о какой-то части продуктов и услуг, которую изымают из фонда потребления и направляют на определенные цели [225, с. 321—335]. Разумеется, это может быть осуществлено лишь тогда, когда коллектив обеспечен, как подчеркивал Ю. И. Семенов, минимально необходимым ему жизнеобеспечивающим продуктом [66, с. 22]. И хотя полное обеспечение такого рода возможно лишь после неолитической революции, т. е. перехода к регулярному производству пищи, земледелию и скотоводству, некоторый избыток мог спорадически возникать и в оптимальных экологических условиях существования групп охотников и собирателей.
Обычно каждый охотник, возвращаясь с добычей, обязан был делиться ею: он нес свою добычу открыто — это было делом чести, ибо охотничьи трофеи повышали престиж [182, с. 44]. Тот, кто оказывался случайным свидетелем его удачи, иногда имел право на четвертую часть добычи [159, с. 442— 443]. Подобные факты явственно свидетельствуют, что пища, добытая охотником, не принадлежала ему одному [182, с. 8]. Однако удачливый охотник не просто вносил свою долю, а как бы дарил ее коллективу. По меткому определению Г. Пирсона, такого рода «престижная экономика» хорошо вписывалась в социальную сеть и элиминировала те возможные осложнения, которые неминуемо возникали бы при отсутствии свободной циркуляции пищи [225, с. 337—338]. Это означало, что излишек пищи посредством механизма ее перераспределения автоматически преобразовывался в высоко ценившиеся социальные блага [153, с. 413], т. е. в престиж, обладание которым сулило немало потенций.
Индивидуальный акт добычи пищи и дарения ее группе с течением времени все более индивидуализировался, так что считалось само собой разумеющимся, что именно добывающий имеет право распорядиться своей добычей. Подразумевалось, что он отдаст ее, но отдаст именно как свой дар, в обмен за что приобретет престиж, накопление которого являет собой заметный шаг к привилегиям. Специалисты давно обратили внимание на то, что наличие избытка достаточно строго коррелируется с появлением привилегий [153, с. 403]. Неудивительно, что в обществах, где избыток был частым гостем, упрочивалось и приобретало силу традиции представление о привилегированном положении тех, кто обладал престижем. С переходом к регулярному производству пищи даже там, где не было оптимальных условий для производства зерна и где сельское хозяйство надолго застряло на этапе незернового (корне- и клубнеплодного) земледелия и ограниченного домашнего скотоводства (птица, собака, свинья), ситуация в указанном смысле стала меняться еще более интенсивно. Семьи, обладавшие материальным достатком, стремились обменять его на престиж, а добившиеся престижа стремились к привилегиям, к власти. Именно в этот момент возникали и конституировались первые устойчивые формы социального неравенства.
Ранние формы социального неравенства
На смену эгалитарному приходит общество, основанное на неравенстве в его простейшей модификации — ранговой, суть которой в том, что в рамках данной общности фиксируется ограниченное и достаточно строго определенное число позиций высокого статуса [133, с. 109—184], которые замещаются домогающимися их претендентами, причем успеха достигают те, кто отвечает комплексу различных критериев, включая возраст (поколение), положение в семейно-клановой группе, личные качества, престиж и активное участие в практике реципрокности в виде щедрых раздач. Претенденты, о которых идет речь, используют в качестве главного орудия достижения цели тот избыточный продукт, который оказывается в их руках, и это практически означает, что с помощью системы социальных рангов регулируется распределение излишков, по-прежнему поступающих в общий котел для совместного потребления, но теперь уже идущих туда в несколько иной форме. Иными словами, господствует все тот же фундаментальный принцип эквивалента, но древняя практика реципрокности трансформируется в специфическую систему перераспределения, редистрибуции. Согласно формулировке известного антрополога М. Фрида, путь от эгалитарного общества к ранговому представляет собой движение от реципрокности к редистрибуции [132, с. 719].
Разумеется, реципрокность при этом отнюдь не отмирает, оставаясь, как и ранее, генеральным принципом взаимоотношений. Новое же в том — согласно формулировке одного из корифеев экономической антропологии, К. Поланьи, введшего в науку оба рассматриваемых понятия,— что система редистрибуции возникает и существует параллельно с реципрокностью с того момента, когда средства коллектива начинают скапливаться в одном месте и в одних руках, т. е. когда появляется и развивается практика централизованного их перераспределения [227, с. 253], даже если речь идет о перераспределении продукта в рамках небольшой семейно-клановой группы, с чего, собственно, и берет свое начало возникновение регулярной редистрибуции.
В эгалитарном примитивном обществе собирателей и охотников проблемы редистрибуции не существовало: механизм реципрокности и традиция гарантировали обязательное коллективное потребление всего добытого продукта, даже если он был в избытке. В более развитом обществе производителей, земледельцев и скотоводов эта проблема не могла не возникнуть. Дело в том, что непрочные у собирателей парные семейные ячейки при переходе к оседлости и cистематическому производству пищи неизбежно трансформировались в более крепкие и достаточно многочисленные семьи, семейно-клановые микроструктуры, имевшие к тому же тенденцию к разрастанию в систему родственных кланов и субкланов. Группа близких родственников — потомков одной семейной пары, чаще всего по одной определенной линии, мужской или женской, — вместе с их брачными партнерами и детьми обычно являли собой низовую семейно-клановую ячейку, построенную по нормам строгой экзогамии[10].
Именно эти семейно-клановые группы стали первичной социальной ячейкой оседло-земледельческого (а позже и кочевого) общества. Как легко понять, внутренние связи их были неизмеримо теснее тех, что связывали между собой членов локальной группы. Неудивительно, что в новой ячейке сильней и много устойчивей была практически непоколебимая позиция ее главы. Главой группы обычно был отец-патриарх, имевший одну или нескольких жен и проживавший со своими детьми (часто тоже женатыми),братьями и другими родственниками и домочадцами в рамках единого общего домохозяйства, имевшего характер замкнутого компаунда[11]. На его территории каждая женщина с ее детьми имела свою хижину (комнату с кухней), хижины были и для мужчин, иногда отдельное жилище предоставлялось главе группы. Тут же располагались хозяйственные постройки, амбары, хлевы. Среднее число взрослых в компаунде, по некоторым подсчетам,— семнадцать человек [128, с. 30 и сл.].
Неравенство в подобной группе тщательно закамуфлировано: о каком, собственно, неравенстве может идти речь в рамках семьи, пусть даже большой? Но оно, тем не менее, уже очевидно: положение отца-патриарха много выше статуса остальных [239, с. 17, 64, 75—80]. Функции его частично те же, что и у лидера локальной группы: определение характера деятельности для всех, забота о благосостоянии коллектива, принятие решения при конфликтных ситуациях и т. п. Однако есть и новые заботы, требующие иных способностей и действий. Во-первых, к числу основных достоинств патриарха относятся не столько качества умелого и ловкого добытчика, сколько опыт знающего администратора и организатора, умеющего предвидеть ход событий и принять нужные меры, связанные с решением всего комплекса хозяйственных и социальных забот. Во-вторых, иной становится борьба за достижение и постоянное утверждение престижа. В рамках группы авторитет главы незыблем просто в силу того, что члены семьи отчетливо ощущают свое подчиненное и зависимое от патриарха положение, но зато на передний план выходит задача завоевания авторитета вне группы — в рамках общинной деревни. И вот как раз выполнение этой задачи наиболее наглядно отражает то неравенство — имущественное и социальное,— которое уже существует в ранних земледельческих коллективах.
Речь идет о господствующей системе распределения. Глава семейной группы — еще не собственник, не хозяин всего ее имущества, так как оно по-прежнему считается общим. Но в силу своего положения старшего, ответственного руководителя хозяйства и жизни группы он все более определенно приобретает права распорядителя и функции распределяющего. Именно от его авторитарного решения (в рамках семьи демократии столь же мало, как и эгалитаризма) зависит, кому и сколько выделить для потребления и что оставить в качестве запаса, для накопления и т. п. Он же определяет, как распорядиться излишками, использование которых тесно связано с взаимоотношениями в общине в целом.
Дело в том, что семейная группа не существует сама по себе, как то было с локальной. Она — часть общинной деревни, состоящей из нескольких таких групп, чаще всего родственных между собой (иногда община может состоять из двух или даже нескольких разных частей-кварталов, члены которых связаны брачными связями — двуклановое, многоклановое поселение). Будучи суммой, точнее, простейшей системой автономных семейных ячеек одного или нескольких разных кланов, поселение-община обычно значительно многочисленней группы собирателей, Однако и она имеет свои оптимальные размеры: в среднем 100—200, иногда несколько сотен жителей [188, с. 120; 198, с, 215].
Семейные группы-ячейки в общине автономны, каждая ведет свое хозяйство. И хотя проблема ресурсов еще не встает (земли хватает всем, как и прочих угодий и средств,которые являются общими), субъективные факторы, столь ощутимо проявившие себя в локальной группе, аналогичным образом сказываются и в рассматриваемом случае: одни группы многочисленнее и работоспособнее других, одни главы-патриархи умнее и опытнее остальных, что в конечном счете явственно сказывается на результатах. Одни группы оказываются зажиточнее и крупнее, другие — слабее, причем менее удачливые главы семей расплачиваются тем, что их группы становятся малочисленнее, так как на их долю либо не достается, либо достается меньше женщин (следовательно, меньше в них и детей). Словом, в рамках общины возникает неравенство между группами. Оно не в том, что одни сыты, другие голодны; последнее исключается традиционным механизмом реципрокности. Неравенство в том, что главы процветающих групп оказываются в силу присущих им функций редистрибуции распорядителями скопившегося в их хозяйствах немалого имущества, которое может быть использовано ими для увеличения их личного престижа, социального авторитета и в конечном счете административной власти. Это можно хорошо проследить на классическом примере папуасов Меланезии.
Земледельческая община папуасов чаще всего экзогамна и состоит из групп одного клана. Каждая группа в среднем насчитывает 20—40 человек [233, с. 196—199], причем неравенство между группами очень заметно: главы более зажиточных легче могли покупать себе по нескольку жен, а умножение их числа автоматически вело к дальнейшему увеличению зажиточности, так как жены были весьма продуктивной формой богатства, ибо они выращивали плоды и откармливали поросят. В результате у одних семей было по 30—40 свиней, а у других— считанные единицы. И хотя такие стада еще не рассматривались в качестве личной собственности патриарха и даже существовали нормы, согласно которым семье не следовало есть мясо собственных животных [7, с. 306], они тем не менее приносили их владельцам ощутимые дивиденды. Происходило это при помощи все того же генерального принципа реципрокности: щедро раздаривая мясо всех разом заколотых животных, богатый владелец их не только обеспечивал себе почетное право принять ответный дар при очередной такой же праздничной раздаче, но и приобретал тот самый высоко ценившийся и далеко не всем достававшийся престиж, который делал его «большим человеком» (биг-мэн — в описаниях этнографов).
У папуасов и вообще в Меланезии, где процесс становления администрации единоличного лидера общины еще не был завершен и где система лидерства напоминала олигархию,биг-мэны являли собой группу лиц, занимавших привилегированное положение в обществе. Привилегии же сводились к тому, что имеющие престиж не только задавали тон в общине, но и окружали себя группой преданных им и зависящих от них клиентов, которые приобретались посредством Щедрых угощений.
Система эквивалентного дара в земледельческих обществах более индивидуальна, нежели в локальных группах. Тот, кто дарит имущество другим, даже если это достояние не его лично, а всей группы, главой которой он является, чётко определяет протокол раздачи. Больший и лучший кусок получают равные ему, имеющие престиж, остальным достаются остатки [159, с. 395—396]. В материальном плане угощающий проигрывает: раздав мясо 30—40 свиней, он практически никогда не получит обратно в ходе раздач его соперников такого же количества — хотя бы потому, что далеко не все, принявшие участие в потреблении его мяса, в состоянии отплатить ему тем же. Специальное исследование показало, что разница здесь близка к соотношению 3:1 (племена пилага на Таити [153, с. 169—172]). Но именно такая разница создает как престиж донатора, так и отношения зависимости со стороны тех клиентов, кто принял дар и не возвратил эквивалент.
Итак, дарение возвышает, принятие дара принижает (подробнее см. [212]). Это значит, что в основе роста престижа, авторитета, власти лежит все та же материальная проза. Суть же специфики в том, что отношения такого рода не детерминируются еще экономической властью имущего, собственника. Съеденное стадо не принадлежит тому, кто им распорядился. Другими словами, базой социального возвышения служит не собственность, а право редистрибуции, т. е. распоряжения избыточным продуктом подчиненного данному лидеру коллектива. И именно это обстоятельство — основа основ процесса генезиса пполитической администрации, о котором идет речь.
Папуасский биг-мэн — своего рода кандидат в политические администраторы, в лидеры-старейшины общины, причем право стать им он доказывает в привычных традиционных понятиях реципрокности. Следующий шаг — появление общепризнанного и авторитетного общинного лидера. Из публикации Н. А. Бутинова явствует, что у папуасов общины, достигшие такого уровня, достаточно часто соседствуют с такими, где лидера еще нет [10, с. 120, 133 и сл.]. Как правило, развитые общинные структуры уже имеют своих глав-старейшин, иногда и нескольких.
Они обычно избирались: от личных качеств и компетенции вождя зависело многое, так что мнение должно было быть единодушным. В процессе выборов ведущую роль играли старшие, прежде всего главы семейных групп. Такой была, например, процедура избрания вождей у навахо [247, с. 146—148]. А в поселениях нигерийской общности нупе существовал административный совет из глав семей, который и избирал из числа своих членов старейшину общины [219, с. 300—304]. Но эти нормы относятся к наиболее ранним земледельческим структурам. Для более развитых характерно усложнение процедуры отбора кандидатов в лидеры, в них немалую роль играла система возрастных классов. У йоруба, например, в ряде случаев насчитывалось до пяти возрастных классов: юноши, прошедшие обряд инициации; зрелые мужчины; женатые; старшие из женатых (это практически все те же главы семейных групп); члены административного совета (из числа глав семейных групп). Старшие, т. е. члены двух высших возрастных классов, составляли уже, по существу, две социально привилегированные группы в данном обществе [199, с. 272—275].
Эти социальные ранги являлись еще функцией личных заслуг и достижений и не передавались по наследству, но их появление представляет собой важный шаг по пути становления привилегированных верхов. И снова важно подчеркнуть, что не имущественный статус, а личные достоинства и добытый посредством практики реципрокности и умелого использования права редистрибуции престиж были ключом к возвышению. Только это открывало дорогу к высшему классу-рангу и власти. Доказать свое право управлять другими можно было лишь в терминах престижа и авторитета, причем то и другое следовало спорадически подтверждать. Не имея в своем распоряжении никаких иных средств принуждения, лидер общины действовал в решении конфликтных и иных ситуаций, опираясь только на этот самый престиж. И, надо сказать, по меньшей мере на начальном этапе должность старейшины, главы общины, была связана скорее с расходами, чем с доходами: старейшина общины, обладая правом распоряжаться ее достоянием и
ее избыточным продуктом, в то же время должен был регулярно устраивать щедрые раздачи, когда наряду с общинными амбарами раскрывались и его собственные. Скуповатый старейшина не мог рассчитывать удержаться у власти, а иногда лишался и жизни [239, с. 92—93; 259, с. 71—72].Каждая из описанных выше земледельческих общин являла собой социальную ячейку, автономно существующую рядом с многими другими такими же, обычно связанными с ней родственными узами, не говоря уже о ритуальных контактах, спорадической взаимопомощи и т. п.[12]. Все они вместе создавали порой весьма крупную этническую структуру — общность, исчислявшуюся десятками, а то и сотнями тысяч людей, говорящих на одном, языке, отправляющих одни и те же обряды, знакомых с одними и теми же мифами и порой даже возводящих свое происхождение к одному и тому же тотемическому предку. Словом, речь идет о том, что в прошлом обычно именовали племенем — с той лишь разницей, что рассматриваемая ранняя общность еще не являлась политической[13] структурой.
На протяжении довольно долгого времени базовой формой первичной социально-политической интеграции надобщинного типа считалось именно племя, причем под этим термином имелась в виду и этническая общность, и политическая структура, которую увенчивал имевший административную власть вождь. Еще сравнительно недавно процесс становления политической администрации рассматривался в терминах и рамках именно племенной структуры [242]. Более того, даже один из теоретиков, чьи работы сыграли важную роль в ликвидации привычного и неточного представления о племени, Э. Сервис, в первой из своих обобщающих работ [244] включил племя в схему эволюционных этапов (группа — племя — чифдом — государство) и лишь в окончательном варианте своей теории решительно от этого отказался [245]. В последнее время, само понятие «племя» стало подвергаться резкому критическому пересмотру [221, с. 514—516]. Большую роль в этом сыграла разработка проблемы племени в трудах. М. Фрида [133; 134; 136].
Он обратил внимание на многочисленные данные о сегментарной структуре этнических общностей, лишенных стабильного политического лидерства [213]. Привычно именовавшиеся племенами, они являли собой аморфные образования, структурные связи в которых определяются двумя основными принципами: сегментацией и солидарностью. Сегментация — естественный процесс разрастания общности в благоприятных условиях обитания. Семейная ячейка распадается на несколько родственных групп, составляющих в сумме субклан; субкланы, входящие в данную общину, тоже разрастаются, что влечет отпочкование от материнской общины родственных ей дочерних. Развиваясь по законам цепной реакции, этот процесс, если он не приостанавливается воздействиями извне или иными сложностями (скажем, отсутствием благоприятных условий), приводит порой к расселению общности на широкой территории и к увеличению ее численности до десятков и сотен тысяч членов. Выдвигая принцип «солидарности», авторы имели в виду, что рассматриваемый процесс идет в рамках единой общности — что не исключает, впрочем, спорадической адаптации чужаков, особенно взятых в плен женщин. Солидарность, о которой идет речь, — механическая, восходящая к глубинной традиции, спаянная ритуальной нормой и единством культуры, языка, обычаев, мифов, тотемов и т. п.; она реализуется автоматически, но подчиняется законам энтропии: сила ее убывает с увеличением дистанции, как социально-родственной, так и территориальной (феномен убывающей этнической солидарности).
Сегментация и солидарность действуют достаточно гармонично, обеспечивая силы внутреннего сцепления в структуре по естественно логическому принципу: чем меньше ячейка, тем теснее сплоченность. В рамках семьи солидарность абсолютна, а внутренние конфликты гасятся силой авторитета ее главы. На уровне первичной сегментации в пределах субклана и тем более на уровне общины она меньше, что становится заметным в случае конфликтов, когда каждая семейная группа или субклан автоматически сплачиваются против обидчика. В результате создаются враждебные лагери, основанные исключительно на степени родственной близости по принципу убывающей солидарности (суть конфликта и степень вины той или другой стороны при этом не имеет серьезного и тем более решающего значения). Особенно сильно солидарность действует, когда данной общности угрожает соседняя.
Конкретный пример таких общностей — тив и нуэр северной Нигерии. Они многочисленны (сотни тысяч) и аморфны. В нормальной ситуации каждая община автономна и возглавляется старейшиной. Но коль скоро возникает конфликтная ситуация и тем более опасность извне, силы внутренней солидарности сегментов выходят наружу и быстро создают метаструктуру, сплачивающую всю общность по законам этноцентризма. Собственно, именно оппозиция создает структуру, а сила ее соответствует уровню оппозиции. Спаянная автоматической солидарностью, структура вызывает к жизни харизматического лидера, приобретающего на время опасности всеобщее признание и абсолютное право на руководство. Однако все это существует лишь постольку, поскольку общность находится в опасности» Когда оппозиция снимается, метаструктура распадается, а вчерашний общеплеменной лидер остается лишь главой своей общины [238, с. 93—96].
Итак, конституирующий импульс возникает лишь в экстраординарной ситуации. И только в том случае, если угроза извне окажется значительной и постоянной, этот импульс может стать достаточно сильным, чтобы стимулировать процесс стабилизации политической структуры с лидером во главе. В таком — и только в таком — случае может возникнуть племя как политическая структура. Создается, по словам М. Фрида, эффект трибализации.
Итак, по Фриду, племя как привычный феномен, воспринимаемый в виде политико-административной структуры, не является ни первичным, ни необходимым этапом интеграции[14]. Оно может возникнуть в результате эффекта трибализации под угрозой воздействия извне. Но такое воздействие может исходить только со стороны достаточно сильной и стабильной политической структуры, иначе оно не будет, долговременным. Следовательно, уже должны существовать политические структуры, достигшие определенного этапа интеграции иным способом. Но каким же? Что является причиной первичной (без импульсов извне) политической интеграции и каковы должны быть условия и обстоятельства,при которых общинные структуры в рамках рыхлой и аморфной этнической общности встанут на путь интеграции? Вопрос этот следует считать ключевым во всей проблематике генезиса государства, и к решению его мы теперь и обратимся.
Условия и обстоятельства генезиса надобщинных политических структур
Еще свыше ста лет назад Г. Мэн и JI. Г. Морган связали возникновение политической власти с вытеснением родовых связей территориальными. И хотя позже стало очевидным, что те и другие связи переплетались, сочетаясь с различными по характеру обязательствами, уже на уровне локальной группы [205, с. 391—394; 207, с. 14—16], в тезисе Мэна и Моргана есть определенный резон. Наблюдения социальных антропологов показывают, что именно объединение групп соседних общинных деревень в кусты-кластеры может вести к созданию надобщинной политической структуры, как это встречается на некоторых из Тробриандских (Тробриановых) островов. Лидер такого кластера на о-ве Северная Киривина избирался, например, из числа глав общин и пользовался среди них наивысшим престижем, имея к тому же некоторые привилегии и определенные рычаги власти. Лидеры кластеров щеголяли друг перед другом щедрыми раздачами, а острое соперничество между кластерами составляло основу политической жизни острова, приводя подчас к столкновениям и поглощению одних кластеров усиливавшимися за их счет другими [231].
Итак, объединение соседних общин под властью главы сильнейшей из них — реально фиксируемый путь возникновения надобщинных политических структур. Но какие условия способствовали этому процессу? Следует заметить, что, как показывают современные исследования, здесь играло свою роль сочетание многих условий и обязательств [75, с. 132—146; 133, с. 69— 70; 229, с. 16].
Исходным фактором первостепенной важности всегда была оптимальная экологическая среда. Экологический оптимум раньше и лучше всего проявил себя в долинах великих рек с плодородными почвами, и регулярными либо спорадическими разливами, удобрявшими почву илом. Связь между такими реками и возникновением древнейших очагов цивилизации была замечена и изучена давно и обстоятельно ([57]; см. также [5]), а тезис о необходимости искусственного регулирования водного режима как важной функции административной власти был сформулирован в свое время Марксом и позже даже гипертрофирован в отдельных работах [262]. Современные исследования свидетельствуют, что именно ирригационные инфраструктуры способствовали стабилизации политической власти [232, с. 178] и быстрому развитию возникавших на такой основе государств. Однако первичные надобщинные политические структуры, как о том писал А. М. Хазанов, могли возникать и в иных условиях [75, 135], хотя это, естественно, сказывалось на характере и темпах последующей их эволюции.
Фактор второй — производственный эффект, достигаемый в условиях экологического оптимума. Имеется в виду рациональное использование ресурсов, включая регулярный обмен продуктами между соседними общинами (скажем, земледельцами и скотоводами или жителями лесов), кооперацию и координацию труда и, как следствие всего этого, устойчивый и имеющий явную тенденцию к постоянному увеличению избыточный продукт.
Фактор третий — демографический оптимум, т. е. плотность населения. В благоприятных экологических и производственных условиях он приобретает некоторые новые свойства. Речь идет об усилении давления населения в центре зоны расселения, на что уже было обращено внимание специалистами [94, с. 137; 153, с. 397—398]. Возрастающему населению центра выход на периферию затруднен — соседние земли уже давно освоены дочерними общинами (а в случае с ирригационным хозяйством перемещение вообще может идти лишь вдоль реки, что еще более сужает возможности экстенсивного расселения). Создаваемый вследствие этого эффект социального окружения способствует увеличению плотности населения. Когда она достигает некоей критической точки, создается импульс, своего рода силовое поле, воздействие которого резко ускоряет процесс политической интеграции и уж во всяком случае способствует ему[15]. Центр зоны расселения в этом случае становится ареной ожесточенной борьбы, соперничества между амбициозными общинными лидерами.
Истоки такого соперничества, как было показано, уходят в глубь веков. Жажда престижа, неуемное стремление опередить других, добиться признания, авторитета и в конечном счете административной власти — сильнейший психологическо-поведенческий стереотип, экономической основой которого была престижная экономика с ее генеральными рычагами, реципрокностью и редистрибуцией. Отдавая, лидер получал; получая, он стремился к еще большему. Отсюда следовало, что стремящийся к увеличению престижа, авторитета и власти лидер должен был прежде всего обеспечить свою материальную базу или, выражаясь иначе, постоянно стремиться к максимизации экономической функции того коллектива, которым он руководит[16]. Субъективное стремление лидера совпадало с объективными потребностями увеличивающегося коллектива. Более того, осложнение демографической ситуации, достижение ею некоей критической точки просто требовали от лидера эффективных действий, направленных на увеличение производства и производительности труда в условиях некоторого ограничения территориальных ресурсов, окружения коллектива другими соперничающими группами и т. п. Подобное совпадение объективного давления и субъективных амбиций не могло не сыграть определенной роли в ускорении процесса возникновения надобщинной политической структуры.
Как конкретно мог начинаться такой процесс? Выше был описан феномен папуасского биг-мэна. Логически следующим шагом по этому пути был хорошо известный институт потлача, блистательно описанный Р. Бенедикт на примере индейцев квакиютлей уже довольно давно [88]. Суть его сводилась к спорадическим щедрым раздачам, праздничному потреблению либо даже разрушению и уничтожению материальных ценностей в большем количестве, нежели то мог бы себе позволить присутствующий при этом акте (или получающий дар) соперник, который затем, в свою очередь, пытался совершить то же самое. Экономическое содержание феномена потлача не ограничивалось восходящей к традициям прошлого реципрокностью и эквализацией потребления, оно имело более глубокий характер.
Как отмечал М. Харрис, столь, казалось бы, нерациональное потребление способствовало увеличению производства и стимулировало рост производительности труда [147, с. 119—121], т. е. отражало уже явственное стремление к максимизации экономической функции коллектива. Другими словами, силовое поле, созданное в результате взаимодействия экологического, производственного и демографического факторов, объективно требовало максимально рационального использования ресурсов с постоянным увеличением производительности труда для успешного существования увеличивающегося, уплотняющегося и усложняющегося по своей структуре коллектива, и в ответ на эти требования возникали определенные социальные формы их реализации.
Следует учесть, что совершающий обряд потлача старейшина уже не остается ни с чем, как папуасский биг-мэн после щедрой раздачи. Напротив, он сохраняет и быстро восстанавливает за счет стимулирования производства его подданных свои запасы, в качестве централизованного редистрибутора которых он выступает. Более того, сосредоточив в своих руках контроль за ресурсами и право централизованной редистрибуции совокупного продукта коллектива (в том числе право раздать или уничтожить его по своему усмотрению, но в конечном счете во имя блага и процветания коллектива), познав ключевую значимость максимизации экономической функции, которая одна только в ее внутреннем (усиление производительности труда своих) и внешнем (присоединение к своим чужих) аспектах способна предоставить во все увеличивающемся количестве желанный избыточный продукт, вождь получает объективную экономическую базу для успешного соперничества в борьбе за создание надобщинной политической структуры.
Соперничество на том этапе эволюции, о котором идет речь,— еще не война, ибо войны в собственном смысле этого слова являются функцией уже возникших централизованных политических структур [223]. Но оно уже является пробой сил. Более слабый вынужден уступить и подчиниться. Как писал Р. Карнейро, с ростом населения обостряется борьба за земли, причем захват вождем сильной деревни более слабых соседей с последующим присоединением их к себе как раз и приводит к возникновению сложной политической структуры [95, с. 207]. И хотя тезис Карнейро нуждается в уточнении в том смысле, что не всегда основные ресурсы, вокруг которых разгоралось соперничество, представляли собой земли — в Полинезии и Африке ими были люди [122, с. 194—196; 144, с. 12], — факт остается фактом: именно в ходе острой борьбы лидеров за контроль над ресурсами закладывались основы надобщинных структур.
О том, как выглядели самые примитивные надобщинные структуры, уже говорилось на примере соседских кустов-кластеров одного из Тробриандских островов. Пример несколько более продвинутого объединения (укрупненной центральной общины с поясом хуторов-хоумстедов на периферии) дает африканская общность яко. Центральное крупное поселение здесь насчитывает до 11 тыс. человек и состоит из нескольких кварталов, каждый из которых объединяет по нескольку клановых общностей, состоящих из субкланов и семейных групп. Кланы в квартале не обязательно родственны друг другу, администрация их состоит из группы лидеров и их помощников, образующих нечто вроде совета старших. Наиболее влиятельные из них входят в общинный совет (50 членов) во главе со старейшиной и 10 его помощниками-жрецами, причем старейшина уже освобожден от участия в производстве и существует за счет даров и подношений [130]. Аналогичные структуры, основанные на соседско-клановом принципе, довольно широко известны и в других районах Африки [61, с. 167 и сл.; 199, с. 275—282]. Лидеры в такого рода общине еще малочисленны и по большей части не освобождены от производственных дел целиком — кроме разве единственного из них, вождя-старейшины, как у яко. Власть их, включая и вождя, была выборной, опиралась на моральные нормы и авторитет. Но тем не менее это были уже административные руководители, деятельность которых по функциям и со-держанию отличалась от обычной деятельности общинников. От статуса такого рода старейшины до положения вождя протогосударства оставался один шаг. Как же он был сделан?
Суть шага, о котором идет речь, сводится к процессу институционализации власти и легитимации статуса политического лидера. О статусе и авторитете общинного старейшины уже упоминалось. Но как определить понятие «власть»? Классическим в социологии считается определение М. Вебера, которое вкратце сводится к возможности для субъекта власти (чаще всего единоличного лидера) осуществлять свою волю даже вопреки сопротивлению других — вне зависимости от того, на чем эта возможность основана [260, с. 152]. Имея в виду более частный случай, применимый к интересующей нас ситуации, С. Эйзенстадт предложил воспринимать власть как предприятие, ведущее к цели, разделяемой большинством [125, с. 52]. Такую цель, в свою очередь, можно расценить как естественное стремление общества к самосохранению, включая поддержание социального порядка внутри и защиту от угрозы извне. Есть и немало иных дефиниций, социологических и юридических [80, с. 4—13; 220, с. 76]. Они рассмотрены, в частности, в работах Н.М. Кейзерова [40] и Л. Е. Куббеля [49, с. 244—250]. Однако для нашего анализа достаточно обратить внимание именно на приведенные выше, так как подчеркнутые в них аспекты понятия «власть» были на данном этапе эволюции административной структуры общества особенно важны.
Власть общинного и даже надобщинного лидера-старейшины — это так называемая власть положения. Она еще не основана на принуждении или на собственности, весьма зыбка, и носителю ее нужно постоянно поддерживать свой статус и престиж, прежде всего, как говорилось, за счет щедрых раздач. Важнейшая функция такой власти — контроль над ресурсами и регулирование пользования ими (хотя остаются и другие, унаследованные от прошлого: обеспечение порядка, медиация, принятие необходимых решений, особенно в серьезных кризисных ситуациях и т. п.). Именно ее отправление становится главным и во многом определяет отношение к старейшине. Так, в африканской общности нупе старейшина формально считался хозяином земли: он торжественно вручал главам семейных групп их участки, за что получал от них небольшие подарки [219, с. 300—304].
Такие подарки — еще не дань, тем более не налог. Но они уже — символ власти старейшины, свидетельство признания его авторитета, его высшего права распоряжения общим достоянием. И хотя подарки еще не создают богатства, скорее напротив, все достояние старейшины, включая и его личные амбары, рассматривается общиной как нечто вроде страхового фонда коллектива [239, с. 87], власть и право редистрибуции вели к повышению статуса и престижа лидера. Более ощутимыми становились и его привилегии: бесспорное право на полигамию, на наиболее заметное в деревне строение, разного рода регалии, последнее слово в споре, главенствующее место в ритуале и т.п.
Должность лидера оставалась выборной. Право претендента на ее замещение обосновывалось личными заслугами и способностями и реализовывалось в рамках более или менее демократической процедуры, причем выбор основывался на критериях меритократии. Право на руководство, на власть, вкус которой еще только-только начал ощущаться, доказывалось пока еще в честном состязании, практика узурпации, насилия, обмана, интриг и т. п. сложилась много позже [259, с. 56—57]. Выявлению же личных достоинств — как и приобретению необходимых знаний, опыта, умения руководить людьми и принимать мудрые решения, не говоря уже о компетентности, справедливости и т. п.,— способствовала система социально-возрастных рангов. Пройдя за жизнь через 4—5 таких рангов, претендент вместе с возрастом и опытом получал благоприятные возможности выявить свои качества и доказать соответствие желаемой должности. Должность же была притягательной отнюдь не потому, что она сулила богатство. Притягателен был престиж. Он, и только он, создавал авторитет и приводил к власти. Власть же давала право руководить и распоряжаться достоянием коллектива, т. е. была высшим воплощением общепризнанной шкалы социальных ценностей.
Фундаментом власти лидера, как уже отмечалось, был избыточный продукт коллектива, высшее право распоряжаться которым превращало субъекта власти в активного участника процесса производства и системы производственных отношений. Однако этот политэкономический аспект его функций был обычно скрыт плотным покрывалом ритуально-мистического характера. В глазах даже небольшой надобщинной структуры старейшина в силу усложняющейся структуры их общества, многофункциональности его административной деятельности и вертикальной отдаленности его (посредством системы советов и групп старших) от рядовых членов коллектива приобретал мистический ореол сверхъестественного. Напомним, что старейшина у яко был первосвященником, а его десять помощников — жрецами. Воспринимая главу структуры в качестве не только административного лидера, но и жреца-первосвященника (что было обычным делом), остальные видели в нем человека необычного, отличающегося не просто высокими качествами, но генетическими связями с поддерживающими и избравшими именно его сакральными силами. Если учесть к тому же, что каждый старейшина принадлежал к какому-то из тотемических родов, возводивших свое происхождение к обожествляемому предку-покровителю, и что он занимал наиболее высокое социальное положение среди членов этого рода, то представление о сакральном характере власти вождя, о его божественном праве на власть, окажется логически и практически серьезно обоснованным.
Сакрализация должности была важным моментом институционализации и деперсонализации власти вождя, постепенного превращения его из личности в Символ. Еще в 1938 г. Г. Ландтман обратил внимание на то, что традиционное и постоянно поддерживавшееся практикой представление о сущности престижа и авторитета, о его сугубо личном и индивидуальном характере, со временем трансформировалось: престиж все чаще стал восприниматься как функция власть имущего, как свойство, имманентно присущее не только ему, но и всем членам его клана и семейной группы [182, с. 64—65]. И действительно, коль скоро лидер несет в себе частицу сакральной, благодати, логично экстраполировать это свойство на весь его корень, находящийся, как естественно предположить, под покровительством божественных сил, отмеченный их особым вниманием. Возникает представление о сакральной сверхъестественной силе типа полинезийской маны, т. е. божественной благодати, лежащей на причастных к верхам и представляющей собой прежде всего атрибут высокого рождения, хотя она может быть получена и в результате достигнутых успехов, например, удачливым воином ([140, с. 689—698; 239, с. 64]. Обладание сакральной благодатью переносилось, таким образом, на большую группу родственников, вследствие чего именно из нее рекрутировались кандидаты в лидеры или на высокую административную должность.
Разумеется, процесс шел достаточно медленно. Вначале появление и закрепление подобного рода привилегий встречали ожесточенное сопротивление других кланов и субкланов. И хотя внутренней экономической пружиной борьбы было стремление к равенству материальному (в том числе к праву на распределение избыточного продукта), внешне она выражалась и даже приобретала наиболее сильное общественное звучание в сфере ритуала, т. е. как раз там, где было наиболее уязвимое место привилегированного клана или субклана: отказ от участия в важном ритуале иных субкланов и кланов мог нанести серьезный удар по престижу и реальной власти лидера и его окружения [259, с. 67]. Соперничество подчас тянулось долго, но рано или поздно баланс сил все-таки устанавливался: начиная с определенного момента лидеры коллектива избирались именно из числа членов одного клана — первоначально, быть может, поочередно из представителей разных его ответвлений. Естественно, с этого момента в привилегированном клане кумулировались высший престиж и вся реальная власть, что, в свою очередь, способствовало увеличению его привилегированности. Естественно также и то, что все это вело к существенному изменению традиционной формы клана — вначале только и именно главного, правящего, привилегированного.
Прежде клан был суммой родственных семейных ячеек, главы которых были родственниками по одной линии (чаще всего отцовской); причем именно суммой, т. е. аморфным соединением равных ячеек. Разумеется, более многочисленные и зажиточные группы имели больше престижа и из их членов чаще выдвигались лидеры. Однако в пределах всей сегментарной общности, численно сколь угодно большой (вспомним тив и нуэр), общих лидеров не было. Власть любого из них кончалась пределами его общины. Естественно, что для надобщинной структуры этого было недостаточно. Вставший над общинами вождь нуждался в сильной социальной поддержке. Ее могли оказать ему прежде всего его группа, родня, клан. Однако в этом случае клан должен был стать иным, он должен был сконцентрироваться вокруг вождя, признав его своим формальным главой. Именно такая структура и возникла — прежде всего в клане вождя. Она получила наименование конического клана и отличалась от прежней строгой иерархией, основанной на принципах примогенитуры, т. е. наследования по старшинству в семье, и неравенства между главной и боковыми (коллатеральными) линиями, т. е. неравенства между семейными группами и линиями данного клана. Специально изучавший структуру и роль такого клана и назвавший его коническим П. Кирхгоф [178] своими исследованиями дал основания для вывода, что именно такой клан сыграл решающую роль в процессе институционализации власти лидера и трансформации всей структуры.
Вместе с коническим кланом возник и принцип наследования власти лидера. Должность вождя становилась наследственной в его главной линии [161, с. 457], и это легко понять. Случайности и споры, связанные с решением вопроса о преемственности власти и занятии вакантной должности лидера, бывали слишком частой причиной раздоров и нестабильности, что весьма болезненно ощущалось в непрочной еще надобщинной структуре. И хотя практика выбора достойного была освящена многотысячелетней традицией, жизнь требовала изменений. Становление деперсонализованной власти сакрального лидера неизбежно вело к возникновению и упорядочению процедуры ее наследования. Новый принцип наследования элиминировал главное, что было характерным в прошлом,— личные качества и достоинства претендента. Вместе с этим уходили в прошлое идеал меритократии и тесно связанная с ним более или менее демократическая процедура отбора. Зато в новых условиях недостаточная компетентность возможного наследника могла компенсироваться знанием и опытом тех, кто стоял рядом с ним [188, с. 132]. И преимущества были несомненны: деперсонализованная власть вождя стабилизировалась и приобретала значимость обожествленного символа.
Протогосударство-чифдом как ранняя политическая структура
Чифдом (от английского chief — вождь) — это промежуточный этап в процессе политической интеграции от догосударственных форм к государству и потому является универсальным феноменом, известным и земледельцам, и номадам (которые, дальше этого этапа и не шли [181]), древним и современным народам. Основная масса чифдом — образования вторичные, складывающиеся в значительной степени под воздействием со стороны более развитых структур (вспомним тезис М. Фрида о трибализации). Что же касается первичных, то их следует искать в глубокой древности или в замкнутых анклавах типа островов Полинезии. Полинезийские материалы особенно удобны для исследователя, и неудивительно, что эталон первичного чифдом отрабатывался именно на них.
Простое полинезийское чифдом — это территориально-кустовая система иерархически соподчиненных общин во главе с иерархически ранжированными лидерами. Критерием иерархии, основанной на принципах конического клана, является генеалогическая удаленность от главной линии старшего лидера, которая определяет ранг, старшинство, должность и авторитет. Внутренняя структура земледельческих поселений ориентирована на этот критерий, так что место каждой из группы соседних общин зависит от генеалогического старшинства возглавляющего ее старейшины. Сложившаяся на такой основе иерархическая структура еще очень нестабильна, динамична. Центральная власть слаба, а тенденция к автономии сильна, как и соперничество глав общин, создающее постоянную напряженность в чифдом. Главная функция центра — административно- экономическая, сводящаяся к обеспечению максимизации избыточного продукта, причем все большая его доля потребляется теперь непосредственно в самом центре, хотя заметная часть по-прежнему идет на раздачи, страховые запасы или на содержание участников коллективных работ (ирригация, строительство и т. п.). Другая важная функция центра — военная, сводящаяся к сохранению и укреплению чифдом за счет нейтрализации, а при случае и аннексии соседних общин или чифдом. Обычный состав простого полинезийского чифдом — около 3 тыс. человек [122, с. 170].
Полинезийский эталон не уникален. Нечто подобное можно найти у качинов в Бирме [138]. Но существеннее обратить внимание с этой точки зрения на древнейшие очаги мировой цивилизации, где такого рода структуры были бесспорно первичными. Иной характер материалов, однако, заставляет делать несколько иные акценты при анализе структуры, скажем, древнейших храмовых центров Месопотамии или Египта.
В шумерских материалах трудно найти данные о роли конического клана и родства. Но зато они многое говорят о роли храмового центра и его главы, соединявшего в себе функции светского вождя и первосвященника и являвшего собой нечто вроде «связующего единства» (лугаль или патеси). Шумерский храм действительно был и связующим центром этнически пестрого населения, и редистрибутивной базой коллектива, и сакральным интегрирующим его символом. Здесь размещались амбары и склады, отсюда исходили административные распоряжения и повседневные указания, в храм стекался избыточный продукт и в нем же принимались решения о его распределении, об обмене продуктами земледелия, скотоводства и нарождавшегося специализированного ремесла, о необходимых торговых операциях, совершавшихся от имени коллектива уполномоченными на то его представителями [79, с. 121—126; 245, с. 206-— 209; см. также 33].
Необходимо отметить, что развитие первичных чифдом Шумера с их высокоразвитой ирригацией и строгим централизованным контролем, с их огромными доходами, позволявшими вести широкое строительство и создавать основы впечатляющей урбанизации, следует считать исключением. Урбанизация стоит дорого и доступна далеко не всем первичным чифдом [232, с. 184]. Видимо даже древнеегипетские номы, которые функционально можно поставить рядом с древнейшими центрами Шумера, не были столь богатыми. Во всяком случае, специалисты обращают внимание на то, что развитое ирригационное хозяйство возникло в Египте не сразу, может быть, лишь с периода Среднего царства, тогда как древнейшие номы не были урбанизированными центрами [167, с. 216—217].
Выше говорилось о том комплексе условий и обстоятельств, которые сопутствовали процессу генезиса надобщинных структур. Нам неизвестно, как конкретно шел этот процесс на его ранней стадии в Шумере, Египте или Полинезии, но есть определенные основания считать, что он шел достаточно широким фронтом, охватывая заметную географическую зону, и, если, иметь в виду соперничающие друг с другом новообразования, с переменным успехом. Интеграция, как говорилось, создается в ходе соперничества и борьбы, и это было всеобщей нормой. Более того, в борьбу передовых общин и центров достаточно быстро втягивалась контактировавшая с ними периферия, причем нередко периферийные коллективы вступали с ранее возникшими и уже сформировавшимися чифдом в патронажно-клиентные, вассальные отношения [80, с. 228, 264]. В ходе различных по характеру взаимоотношений возникали как самостоятельные вторичные чифдом (эффект трибализации периферийных коллективов), так и более крупные и сложные составные чифдом. При этом появление сложных иерархически организованных составных чифдом было непосредственным результатом активизации военной функции.
В свое время были выдвинуты теории, авторы которых, как, например, Ф. Оппенгеймер, придавали военной функции гипертрофированное и самодовлеющее значение в процессе генезиса государства [222]. Но подобные теории не могли объяснить, откуда и за счет чего возникали те крупные организационные структуры, без которых просто невозможно вести большие и успешные войны. Неудивительно, что эти теории были отвергнуты [203]. Современные специалисты справедливо считают, что войны и завоевания — не причина, а следствие возникновения развитых политических структур [133, с. 216; 179, с. 45]. До того ни профессиональной дружины, ни дисциплины, ни субординации еще не существовало: военное дело как род занятий и форма организации является функцией централизации [223]. Но зато после возникновения развитой структуры война действительно выступает на передний план, становясь важным инструментом интеграции [75, с. 137—140; 94, с. 734; 95, с. 207— 208; 107, с. 10; 110, с. 186]. И только с этого момента вступают в силу закономерности, разработанные Ф. Оппенгеймером и другими сторонниками ведущей роли военной функции: именно в ходе столкновений сильный одолевал слабых, завоевывал и присоединял к себе соседей и тем способствовал расширению, процветанию и ускоренному развитию своей политической структуры, энергичными темпами превращавшейся в территориально значительное протогосударство. Именно таким был исторический процесс в древней Месопотамии и всей Западной Азии, равно как и в Египте, где независимые номы довольно быстро прекратили свое существование, оказавшись объединенными в рамках более крупных государственных образований. Еще более наглядно это видно на примере Полинезии, где завоевание и присоединение давали дополнительный доход на содержание дружины вождя [140, с. 697—698], а статус воина всегда был очень высок.
Словом, выдвижение на передний план военной функции на этапе уже простого чифдом было широко распространенным явлением[17]. Войны давали возможность сильнейшему проявить и доказать свою силу, именно в этом смысле они сыграли существенную роль, особенно заметную на этапе формирования крупных политических структур — сложных составных чифдом.
Разумеется, не все решалось войной. Военные успехи лишь помогали сильнейшему упрочить свое господство. Как отмечал в своих работах М. Харрис, могуществу военного лидера всегда должны были сопутствовать и другие факторы: рост плотности населения, интенсификация производства, укрепление сети редистрибуции, консолидация всей общности и т. п. [148, с. 76; 149, с. 92—102]. Но практически реализовывалось все это в конечном счете в форме увеличения и усложнения первоначального простого чифдом, на основе привычного уже механизма конического клана с характерным для него разрастанием и отпочкованием дочерних сегментов, соединявшихся в единое целое посредством иерархии линий. Механизм этот, функционировавший в той или иной форме и при развитии «в чистом виде» (т. е. без активного-военного фактора), и при завоеваниях либо возникновении вассальной зависимости присоединенных соседей, сводится к созданию многоступенчатой структуры, каждый уровень которой регулируется официально признанным старшинством линий (если имеется в виду один привилегированный клан) или субординацией кланов (если их несколько). Вот как это выглядело на примере Полинезии.
Община, возглавляемая старейшиной из числа глав наиболее знатных линий преобладающего в ней клана, входит наряду с другими такими же в куст-дистрикт, структурно близкий простому чифдом. Глава центрального поселения становится главой дистрикта, а его линия — одной из знатнейших; он носит наследственно высокий ранг-титул и имеет широкие полномочия, включая право мобилизации населения на общественные работы и взимания избыточного продукта. Наиболее знатный и сильный из числа таких региональных вождей — это и есть верховный вождь, глава всего сложного чифдом. Он обладает наивысшим рангом-титулом, наибольшими полномочиями и привилегиями, включая сакральные прерогативы. Верховный вождь осуществляет административные функции, опираясь на региональных вождей дистриктов и аппарат центра. Вожди, аппарат власти и приближенные верховного вождя постепенно конституируются в административно-управленческую элиту, особый высший слой, стоящий над массой производителей [122, с. 169].
Лейтмотивом эволюции всей структуры является тенденция к централизации, т. е. постепенный отказ от элементов привычной автономии общины в пользу дистрикта с его региональным вождем (обычно дистрикт объединяет этнически гомогенную общность даже в том случае, если она была присоединена силой к другой, этнически чуждой ей и господствующей). Региональные же дистрикты добровольно либо вынужденно отказываются от части своей самостоятельности в пользу всеобщего центра с его теперь уже значительным аппаратом управления. Видимо, примерно так обстояло дело и с древнейшими номами Египта. На определенном этапе развития эта же закономерность отчетливо прослеживается и в древнем Шумере: одни городские структуры подчиняют другие, возникают крупные надрегиональные объединения, вплоть до политической структуры Саргона аккадского. Еще один конкретный пример — индейцы кикатеки в доколумбовой Мезоамерике XV в.
Центром составного чифдом у них было большое поселение (5 тыс. человек) с верховным вождем и центральной администрацией, призванной управлять сложной и разветвленной структурой, основанной на ирригационном хозяйстве. На периферии структуры — несколько полуавтономных дистриктов типа простых чифдом, каждый из которых напоминал в миниатюре структуру в целом: его центром являлось укрупненное поселение с вождем, а периферией — округа из общинных деревень со старейшинами, несшими ответственность перед региональным вождем и его помощниками. Центральный аппарат и региональные управители следили за жизнью общин, руководили перераспределением земель, общественными работами, отвечали за ирригацию, взимали налоги, обеспечивали снабжением из казенных амбаров трудящихся на общественных работах, следили за добычей нужных ресурсов (например, соли), осуществляли ритуалы, культовые отправления и т. п. [164].
Примеры такого рода — число их легко умножить — свидетельствуют, что важнейшим условием нормального существования укрупненных структур была сильная центральная власть. Только она имела достаточно авторитета для того, чтобы сдерживать и гасить соперничество лидеров на общинном и надобщинном (региональном) уровнях, обуздывать сепаратистские центробежные тенденции и тем сохранять устойчивый баланс сил [108]. И если сила центра оказывалась недостаточной — структура довольно быстро разваливалась, хотя это не исключало возможности создания на ее основе (разумеется, теперь уже в несколько иной комбинации, с иными лидерами во главе) новой аналогичной структуры, опять-таки зависевшей от сохранения сильной и эффективной власти центра. Словом, доминанта совершенно ясная и однозначная: лидер, возглавивший сложную политическую структуру, не только прежде всего и главным образом старается всеми силами укрепить свою власть, но и просто не может действовать иначе. Какими же средствами можно укрепить такого рода власть в обществе, где принуждение и насилие еще не стало нормой (во всяком случае по отношению к самой структуре — иное дело по отношению к ее соперникам извне) и где все зиждется на авторитете вождя? Ответ прост: единственный, но вполне эффективный путь для этого — легитимация власти.
Естественный и наиболее обычный метод легитимации власти правителя — ее сакрализация [87, с. 4—7; 139, с. 8], темпы и степень которой прямо пропорциональны размеру и прочности данной структуры. Лидер должен выступать как носитель божественной благодати, харизмы, как могущественный посредник между небом и землей, миром живых и сверхъестественными силами, включая и давно умерших предков данной общности. Превращение вождя в полубога меньше всего определялось его амбициозными претензиями, стремлением к славе и возвеличению. Приобретение им божественного статуса было жизненно необходимо для сохранения и укрепления чифдом как политической структуры. Авторитарная власть вождя — при отсутствии формального закона и средств принуждения — представляла собой залог цементирования общности, всемерного укрепления тех интегрирующих импульсов, которые призваны противостоять принципу убывающей солидарности, ослабить привычные тенденции к автономии, обуздать честолюбивые сепаратистские устремления региональных лидеров и в конечном счете надежно скрепить воедино все сегменты и фрагменты гомогенной и тем более гетерогенной этнополитической структуры.
Легитимация власти, резко возвеличивавшая статус вождя, еще более обостряла борьбу за этот пост. Правда, нормы конического клана заметно уменьшали количество законных претендентов, но тем не менее реальную борьбу за кормило власти обычно вели не только почти все сыновья умершего правителя (право примогенитуры нередко было условным: при прочих равных обстоятельствах старший сын имел приоритет, но не более того; личные пристрастия отца, интриги его жен и многие привходящие обстоятельства обычно сводили этот приоритет на нет), но часто также и его братья, а то и кузены, дядья. Особенно часто соперничали между собой сыновья от разных жен, число которых нередко бывало немалым. Порой практика сводилась к тому, что они обязаны были в честных поединках уничтожать друг друга — и трон доставался победителю [245, с. 122]. При всем варварстве такого способа наследования в нем был немалый резон: освободившись от соперников, новый правитель чувствовал себя на троне много уверенней, чем это было бы при иных обстоятельствах, что было прежде всего в интересах самой структуры.
Были, естественно, и иные методы решения проблемы престолонаследия. У полинезийцев на Таити, например, сложилась эндогамная полукастовая корпорация высшей знати, в рамках которой знатность, титул и должность зависели от марьяжных комбинаций: статус ребенка, его мана, определялся суммой статусов его родителей [106, с. 453; 243, с. 277]. В общности йоруба на должность вождя шел конкурсный отбор, причем право избрать нового правителя из числа подходящих для этого кандидатов имел совет старейшин. Право же на наследование высшего поста в группе экити (подразделение общности йоруба) традиционно имели две линии клана, и старшие в клане строго следили за соблюдением очередности [199, с. 275— 284]. Сходный вариант — попеременное отправление власти представителями двух соперничавших кланов — был характерен, как о том писал Ю. В. Кнорозов, и для майя [42, с. 254].
Особое положение высшего правителя сказывалось и на всем характере комплектования кадров администраторов. Ведь обожествленный вождь — не только сакральный символ огромной интегрирующей силы. Он также является и высшей точкой отсчета всей возникающей в чифдом иерархии, отраженной в системе администрации и возникающих слоев-страт. Иерархический принцип делегирования власти сверху вниз с ограниченными полномочиями — нововведение чифдом как политической структуры — вызвал к жизни соответственные нормы комплектования администрации. Бесспорный приоритет при этом оказался за близкой клановой родней правителя, причем не только и не столько личные качества родственников, сколько степень родственной генеалогической близости стала теперь решающим критерием при присвоении ранга-титула и назначении на должность. Разумеется, свою долю получали и те выходцы из иных влиятельных кланов, чья сила позволяла им претендовать на определенные ранги-титулы и должности.
Выход на передний план генеалогической иерархии родства сильно изменил прежний характер ранговой системы, основанной на возрастных классах и лишь в ее высших звеньях связанной с должностями. В правящих верхах чифдом ранговая система приобретала облик лестницы рангов-титулов, которыми наделялись представители привилегированных кланов в зависимости уже не от их возраста или заслуг, а исключительно от их социального происхождения и — реже — положения. Возникал феномен родовой знати: ранг-титул, приобретенный в соответствии с прерогативами клана, мог передаваться по наследству, но только одному представителю следующего поколения. Все остальные вынуждены были довольствоваться более низким статусом [245, с. 150], причем такая норма распространялась как на коллатеральные кланы правящей линии, так и на иные влиятельные кланы, чьи представители в целях сохранения стабильности структуры инкорпорировались в систему администрации чифдом [259, с. 79]. При этом ранг-титул-должность-родство сливались воедино.
Следует обратить внимание на еще один феномен, связанный с организацией администрации в чифдом. Речь идет об апелляции лидера к поддержке аутсайдеров, т. е. выходцев из непривилегированного слоя, что играло подчас немалую роль в борьбе за сохранение баланса сил, особенно при ожесточенном соперничестве привилегированных кланов. Лидеры в таких случаях стремились связать себя с теми, кто готов был исполнять их волю и безоговорочно идентифицировать себя с ними, не претендуя в то же время на их должность [207, с. 108, 122]. Опора на неродственные кланы, равно как на аутсайдеров и слуг, иногда усиливала позиции вождя.
Важнейшей задачей правителя и его ближайших советников и помощников была организация нормального производственного процесса. Вождь был центром экономической структуры, к нему сходились нити управления производством (что особенно заметно в случае с ирригационным хозяйством), от него зависело принятие важных решений, связанных с расширением производства, освоением новых территорий, строительством крупных сооружений, накоплением запасов и использованием их в различных целях [245, с. 94, 151]. Его аппарат был призван обеспечить энергичное и эффективное осуществление принятых решений, контроль за деятельностью работающих должен был позаботиться о том, чтобы цель была достигнута, чтобы каждый делал свое дело и имел за это свой кусок, размер и качество которого теперь уже варьировали не столько в зависимости от пола, возраста и трудовых усилий индивида, сколько от качества его труда и от места его на иерархической лестнице. И хотя здесь уже не приходится говорить о равенстве, важно не впадать и в противоположную крайность: мы имеем дело еще не с эксплуатацией, а с разделением труда и функций между управителями и управляемыми, т. е. со взаимным обменом полезной деятельностью, без которой описываемое общество просто не смогло бы существовать. А так как различные виды труда и деятельности, естественно, неравноценны по своему качеству и общественной значимости, то неравенство в распределении закономерно и необходимо, оно является в конечном счете залогом стабильности всей структуры.
Неравенство не было еще слишком заметным. Стандарт жизни верхов не слишком отличался от обычного, во всяком случае вначале [248, с. 614]. Росло прежде всего неравенство статуса: различия в регалиях, украшениях, количестве жен, размере строения и т. п. Однако именно это неравенство как раз и создавало тот все более зримый и ощутимый разрыв между двумя основными слоями-стратами (причастными к власти управителями с их социальными и имущественными привилегиями и содержащими их производителями), который с течением времени все больше становился нормой, приобретал святость нерушимой традиции. Так, например, на Таити вождь чифдом осуществлял практику редистрибуции таким образом, что, по свидетельству специалистов, у него редко оставалось что-либо сверх самого необходимого для его существования. Зато он содержал обслуживавших его потребности ремесленников и слуг (не говоря о женах, детях и домочадцах) и, главное, был табуированной персоной: все, чего он касался, наполнялось маной и потому становилось запретным для остальных. Разрыв между ним и его подданными был гипертрофирован до того, что вождя носили только на носилках: нога его не должна была ступать на землю, по которой ходили обычные люди [245, с. 158—159]. Подобная практика, конечно, крайний случай, в котором сосредоточились и обожествление лидера, и его отрыв от остальных, но в ней есть элемент общей нормы: чем дальше, тем заметнее верхи и низы расходились на социальной лестнице такой политической структуры, как чифдом.
Заканчивая раздел, связанный с анализом феномена протогосударства, следует дать дефиницию. Чифдом — это основанная на нормах генеалогического родства, знакомая с социальным и имущественным неравенством, разделением труда и обменом деятельностью и возглавляемая сакрализованным лидером политическая структура, главной функцией которой является административно-экономическая, отражающая объективные потребности усложняющегося коллектива. Чифдом являет собой как раз тот этап, на котором правитель из слуги общества начинает становиться, выражаясь словами Ф. Энгельса [4, с. 184], господином над ним. И здесь стоит особо остановиться на том, что же было экономическим фундаментом его господства.
Власть-собственность и раннее государство
Ни собственности как политэкономической категории, ни представления о собственности в ранних обществах не существовало. Можно условно именовать «племенной» или «общинной» собственностью то, чем владели первобытные коллективы, что считалось принадлежащим им и использовалось ими в ходе их хозяйственной деятельности. Однако не следует забывать, что понятие даже такого рода собственности может быть правильно интерпретировано лишь в контексте исключительного права пользования как прерогативы данной группы — будь то территория со всеми ее ресурсами, добытый продукт или символы, включая имя, песню, танец, ритуал, миф. В любом случае дело практически сводится только к реальному владению [153, с. 319—350; 204, с. 131 и сл.]. «Мы владеем этим, и это — наше»,— только в таком аспекте складывались и закреплялись представления, позже легшие в основу того, что стало считаться и именоваться собственностью, причем подобному подходу не противоречило реально существовавшее индивидуальное пользование предметами обихода, личными вещами и орудиями, построенной для семьи хижиной или даже целым компаундом в общинном поселении. Словом, власть и владение, прежде всего и главным образом коллективное — вот основа присвоения, основа отношения человека к природным ресурсам. В современной науке эта концепция получила достаточно широкое распространение. И в отечественной историографии, где она долгое время сталкивалась с серьезным противодействием[18], уже ставится вопрос, что в ранних обществах о собственности можно говорить лишь как о том, чем люди владеют, и что экономической основой власти и привилегий правящих верхов является не собственность, как таковая (тем более частная), а контроль над ресурсами и производственным процессом, что отношения собственности в этом смысле и в таком случае, как отмечал применительно к раннесредневековой Европе А. Я. Гуревич,— в конечном счете лишь отношения власти [30, с. 215, 233].
Обычно специалисты по проблемам собственности ревниво упрекают друг друга в недооценке экономического содержания явления и придавании чрезмерно большого значения его юридической форме (см., например, [230, с. 26]). Но если подобный упрек имеет смысл применительно к высокоразвитой — буржуазной или античной — собственности, то он совершенно бессмыслен, когда речь идет о более ранних ее формах. При обращении к докапиталистическим (кроме античной) и тем более к ранним формам только что возникающей и оформляющейся собственности важно подчеркнуть как раз обратное: ее экономическое содержание и юридическую форму можно и должно рассматривать лишь в комплексе, как единое целое. И по содержанию и по форме такая собственность — именно владение и, как результат владения, власть — власть над ресурсами, вещами, символами, наконец, над людьми (вспомним тезис о «поголовном рабстве» — это именно та власть, которая равна собственности— «верховной собственности» по Марксу).
Вначале субъектом такой власти являлся лишь коллектив. От его имени реализовывал ее лидер, но с весьма ограниченными полномочиями. Позже позиция лидера укреплялась, институционализировалась, легитимировалась. Высшее право и обязанность редистрибуции, выпадавшие на долю лидера, постепенно, но неуклонно приближали его статус к статусу субъекта той власти, о которой идет речь,— власти-собственности. Вначале это был биг-мэн с его правом щедрых раздач группового имущества в целях увеличения личного престижа. Затем ему на смену пришел старейшина («хозяин земли»), раздававший наделы главам семейных групп и взимавший за это определенную плату. Следующая ступень — вождь чифдом (вначале простого, затем и сложного), в чью казну стекался широким потоком избыточный продукт коллектива, редистрибуция которого теперь уже почти целиком зависела от его усмотрения. Иными словами, усиление власти создавало эффект усиления позиции субъекта собственности, т. е.— в данном случае — высшего права и высшей обязанности определять регламент пользования всеобщим достоянием.
Итак, понятие собственности складывается сквозь призму представлений о функциях и прерогативах субъектов владения и власти. И возникает оно лишь в одной модификации — как собственность коллективная, на долю которой имеют право практически все (при всем с течением времени все более очевидно выявлявшемся неравенстве долей). Рассмотрим в качестве примера положение дел у африканцев ашанти. В протогосударстве ашанти вождь — сакральная фигура, уже претендовавшая на высшую собственность на землю и верховную власть в стране. В пределах региональных подразделений чифдом местные вожди тоже претендовали на авторитет власти и право собственности на земли своего владения. Старейшины общин, раздававшие участки, тоже имели определенные права на землю, не говоря уже об обрабатывавших участки крестьянах. Но все упомянутые и явно перекрывавшие друг друга владельческо-собственнические претензии никого не смущали [245, с. 133]. Да и не могли смущать, ибо были нормой: собственность еще не была частной, она была общей, коллективной, так что все, кто реально имел к ней отношение, т. е. мог и должен был распоряжаться ресурсами коллектива, от верховного вождя до домохозяина, действительно выступали как бы совладельцами. Каждый имел право на частицу общего достояния, и каждый имел от него свою долю.
Понятия власть и собственность еще нерасчленимы, они представляют единый феномен, власть-собственность: власть (владение) рождает понятие и представление о собственности, собственность рождается как функция владения и власти. Кто владел ресурсами коллектива — пахал, строил, организовывал, отвечал, заботился, руководил и т. п.,— тот и был субъектом собственности. Естественно, что со временем все большая доля власти-собственности концентрировалась наверху, а верховное владение и власть, верховная собственность по мере обожествления сакрального связующего единства, вождя, становились его атрибутом. Часть своей власти-собственности — с несколько ограниченными прерогативами — высший собственник делегировал вниз, на региональный уровень, а региональный вождь-администратор— на общинный. Разумеется, все это никак не меняло того, что крестьяне по-прежнему выступали в качестве основных владельцев своих общинных угодий, причем право быть совладельцем их оставалось за каждым, даже если он почему-либо покидал родные места [92, с. 79—80]. Но с течением времени общинникам со все большей степенью обязательности приходилось выплачивать администрации долю своего продукта (избыточный продукт) в виде взноса, который имел отчетливую тенденцию становиться не только достаточно весомым (обычно не меньше десятины), но и регулярным. Взнос этот все более очевидно принимал облик ренты-налога. Налога — потому что взимался центром для нужд структуры в целом, для содержания непроизводительных слоев-страт или производителей, занятых в неземледельческой сфере производства. Ренты — из-за того, что постепенно все определеннее кумулировавшаяся в верхах власть-собственность приобретала свое политэкономическое содержание: вчерашние распорядители, ведавшие редистрибуцией коллективного достояния, все более явственно превращались в субъектов не только власти, но и собственности (пока еще власти-собственности —не частной) и в качестве таковых приобретали право на свою долю реализации этой собственности, фактически же —на весомую часть результатов труда земледельцев.
Реализация ренты-налога имела различные формы — от отработок на храмовых землях древнего Шумера или Египта до взимания продуктового побора. Чаще всего в ранних обществах выделялись специальные участки земли, которые считались полями храма, божеств или правителя и на которых трудились либо все земледельцы, либо их представители в качестве выполнения важной общественно-значимой повинности. Сакрально-страховое предназначение урожая с таких полей[19] делало труд на них чем-то вроде праздника, причащения участников его к важному священнодействию — вне зависимости от того, что со временем страховая доля уменьшалась, а доля, приходившаяся на содержание непроизводительных слоев населения и структуры в целом, все возрастала. Практически это означало, что избыточный продукт земледельца, взимавшийся в виде ренты-налога, служил теперь для содержания иных слоев населения, а сам земледелец из сферы редистрибуции исключался. Однако он не становился лишь объектом эксплуатации, ибо продолжал действовать генеральный принцип реципрокности: земледелец отдавал свой труд и продукт, получая взамен гарантию нормального существования в рамках развитой структуры. В то же время для верхних слоев структуры все увеличивавшийся избыточный продукт становился материальной основой заметного улучшения жизненного стандарта и изменения всего образа жизни, включая характер потребления.
Речь идет о появлении и развитии должностного престижного потребления верхов, о постепенном скоплении наверху богатства и роскоши. Выше уже упоминалось, что внутренние закономерности развития протогосударства чифдом вели к возрастанию социальной дистанции между верхами и низами. Следствием этого как раз и было увеличение престижного потребления в верхах, а оно, в свою очередь, вело к еще большему разрыву между высшими слоями-стратами и основными производителями— общинниками. На определенном уровне такой разрыв становился критическим и резко изменял всю структуру общества, систему его клановых связей.
В простых и сложных этнически гетерогенных ранних политических образованиях (чифдом) должны были сосуществовать различные типы клановых связей, как более древние, аморфно-сегментарные, так и развитые, основанные на нормах конического клана. Естественно, они переплетались между собой, причем принципы конического клана, игравшие столь существенную роль в определении места человека на иерархической лестнице, явно доминировали и имели тенденцию к распространению хотя бы за счет постоянного разрастания линий, увеличения количества боковых ветвей. С умножением числа последних в нижней части структуры конического клана привычные связи начинали ослабевать и рваться, причем разрыв их происходил в той самой критической точке, где верхние страты отрывались от простых общинников. Это и понятно. Если для высших страт продолжала существовать и играть важную роль иерархическая субординация, а титул-ранг-должность каждого из представителей высших слоев по-прежнему зависел от степени генеалогического родства с правителем либо с тем или иным из глав привилегированных кланов, то на уровне простых крестьян такой счет родства уже терял свой смысл, ибо ничего им не давал (из чего, впрочем, отнюдь не следует, что о родстве и клановых связях забывали). В результате простолюдины постепенно начинали исключаться из практики счета родства [122, с. 19]. Но это как раз и означало, что вся система клановых связей, основанных на нормах конического клана, претерпевала тем самым важную качественную трансформацию: она практически замыкалась только наверху, так же как наверху сосредоточивалась теперь основная часть сферы редистрибуции. Низы исключались и из системы конического клана, и из сферы активного использования избыточного продукта. То и другое доставалось теперь преимущественно либо даже исключительно на долю верховных страт.
Таким образом, усугублявшийся разрыв в характере, формах и размерах потребления и в социальном статусе между низами и причастными к власти-собственности привилегированными верхами заметно менял облик структуры. По существу, именно это — во всяком случае в первую очередь и главным образом — означало, что на смену протогосударству-чифдом приходит новая и во многом принципиально иная административно-полити-ческая структура— раннее государство.
Следует сразу же сказать, что непроходимой грани между тем и другим нет. Протогосударство-чифдом, особенно в своей развитой сложной модификации, уже являет собой не только основу, но и реальную, модель, некоторое усовершенствование которой приводит к тому, что можно именовать ранним государством. Однако тем не менее различие между этими структурами есть, причем немалое, а кое в чем, как упоминалось, даже принципиальное. На нем следует остановиться специально, особенно имея в виду, что исследователи, обстоятельно изучавшие феномен чифдом [245] и раннего государства [109], обратили сравнительно мало внимания на их сопоставление, на выявление сходства и различий между ними.
Начать с того, что раннее государство — следующий после чифдом этап политической интеграции, и не только по сложности внутренней структуры, но и по размерам и иным параметрам. Оно представляет собой многочисленную структуру, объединяющую многие сотни тысяч, а то и миллионы этнически гетерогенных жителей (в чифдом, даже наиболее крупных и сложных, счет шел на десятки тысяч). Гетерогенность была свойственна и многим чифдом — некоторые из них, как в Африке, даже возникали на основе завоевания немногочисленной развитой группой скотоводов более отсталой и многочисленной земледельческой общности, результатом чего бывало сложение полукастовых структур, как это имело место в случае с бахима и баиру в Анколе [179, с. 43—45; 245, с. 117—122; 249]. Однако для раннего государства этническая гетерогенность — уже практически обязательная норма хотя бы потому, что значительная часть населения включалась в его состав в результате завоевания, аннексии, полудобровольного-полувынужденного присоединения к нему соседей (подобное бывало и в чифдом, но не всегда и не обязательно). Значительно крупнее и территория раннего государства, складывавшаяся в результате, все тех же захватов чужих земель.
Увеличение численности населения, этническая гетерогенность его, значительные территориальные пределы — все это вело к резкому усилению роли администрации, системы управления. Если в чифдом, особенно в сложном и развитом, уже существовал немалый административный аппарат, то в раннем государстве он становится намного сложнее, разветвленнее и совершеннее. Четко различаются три уровня администрации — высший общегосударственный, средний региональный и местный, причем на высшем уровне фиксируется более заметная, чем в чифдом, специализация административной деятельности (военачальники, жрецы, канцеляристы, главы ремесленных служб, администраторы широкого профиля и т. п.). Возникают контрольно-ревизорокие службы [105, с. 576—585]. Весьма важно, что центральная администрация уже вполне отчетливо тяготеет к внеклановой, надклановой основе, к использованию аутсайдеров [135, с. 36—37], тогда как на региональном и местном уровнях сила клановых связей сохраняется еще в значительной степени.
Развитие и усложнение социально-политической структуры сопровождались заметным усилением процесса разделения труда. Если освобожденные от сельскохозяйственного производства специалисты, включая мастеров-ремесленников, были уже и в чифдом, то в раннем государстве ремесленное производство расширялось и еще больше специализировалось. Наряду с кузнецами появлялись ювелиры и оружейники, мастера по изготовлению колесниц, строительству крупных сооружений, выделке искусных тканей и одежд, украшений и изысканной утвари и т. д. и т. п. Особую группу составляли довольно многочисленные чиновники, ведавшие делами редистрибуционного обмена и внешней торговли, которая была своего рода государственным поручением. Торговля такого типа обычно выливалась во внушительные экспедиции, а торговцы выступали в функции дипломатов, направлявшихся для налаживания связей с далекими соседями. Торговцы в обществе, о котором идет речь, были организаторами обмена, необходимого для нужд коллектива, и неудивительно, что их деятельность субсидировалась дворцом либо храмом [227, с. 12—25; 245, с. 302] .
Для раннего государства характерно урбанистическое строительство. Его политический центр являл собой крупное поселение с дворцами и храмами. На их сооружение, как и для строительства крепостей и дорог, каналов и дамб, гробниц и пирамид, уходило немало сил и средств. Известно, что для возведения этих и иных аналогичных им сооружений широко использовалась основанная на традиционном принципе реципрокности практика общественных работ. Мобилизовывались многие десятки тысяч людей, разумеется, в свободное от сельскохозяйственной страды время. Существенно заметить, что вопреки встречающимся еще кое-где представлениям работа на таких стройках отнюдь не воспринималась как каторга, во всяком случае на раннем этапе существования государства. Напротив, накоплено немало данных, которые свидетельствуют, что эти стройки, особенно имевшие ритуальное предназначение, сооружались с большим энтузиазмом, рассматривались как имеющие важное общественное значение[20].
Урбанизация, монументальное строительство, сооружение пышных храмов и дворцов, возникновение сложной иерархической лестницы слоев-страт, должностей й рангов — все это усиливало уже наметившуюся ранее тенденцию к престижному потреблению. В ранних государствах оно стало весьма заметным. Начиная с обожествленного лидера-правителя, (сына Неба, сына Солнца, сына богов и т. п.) и ниже, строго в соответствии с иерархией родства, должности, ранга, титула и т. п. такое потребление все заметнее давало себя знать. Роскошные одежды, богатые и редкие вещи, диковинки и драгоценности наполняли дворцы и храмы правителей, аристократов и жрецов. Этому соответствовали изысканная пища (обильные пиршества), искусно выделанные специалистами-ремесленниками предметы домашнего обихода и высококачественное оружие, богатые выезды, хорошо оснащенные хозяйства, включавшие сады и огороды, конюшни и псарни; не говоря уже о многочисленных женах, наложницах, детях, домочадцах, слугах и даже рабах, каждый из которых занимал свое строго определенное место в общей системе престижного потребления власть имущих. Разумеется, все это ложилось нелегким бременем на коллектив, особенно если учесть, что к высокому стандарту жизни стремились, как к эталону, и все те, кто рангом был ниже правителя и его приближенных.
Особо следует сказать о статусе чужаков в раннем государстве. Большинство их — если иметь в виду пленных иноплеменников— обычно инкорпорировалось и спустя некоторое время адаптировалось, практически уравниваясь в правах с остальными, как то бывало и в чифдом. Однако немалая и со временем все возраставшая часть их попадала в положение слуг и обслуживающего персонала власть имущих. Существенной роли в хозяйстве и тем более в социальной или социально-экономической жизни общества они не играли и никаких принципиальных изменений в структуру не вносили. Однако само появление в структуре раннего государства чужаков, имевших статус неполноправных либо бесправных, имело определенное значение для дальнейшего увеличения социальной дистанции между низами и верхами. Существенно также подчеркнуть, что раб-слуга как принадлежность хозяина, как преданное ему и существующее благодаря ему существо нередко становился клевретом, абсолютно подчинившим свою волю воле господина. Это было выгодно и удобно для тех, кто занимал заметный пост в системе администрации и кто мог таким образом опираться на беспрекословно преданных ему и ни на что особенно не претендующих лиц. Неудивительно, что из числа такого рода рабов-слуг выходили администраторы, в том числе и достаточно высокого ранга и широких полномочий.
Последнее, что очень важно отметить при характеристике тех нововведений, которые отличали раннее государство, как структуру,— это серьезные изменения в сфере религиозно-идеологической. Сакрализация правителя, хорошо известная на уровне чифдом, в раннем государстве была дополнена выработкой религиозной доктрины, освящавшей существующий строй в целом. Э. Сервис саркастически писал: «Как приятно сознавать, что боги нашей общности — величайшие в мире, что их представители на земле священны и что тем самым мы — избранный народ! И сколь очевидно удобны такие представления для правящей группы!» [245, с. 297].
Каковы конкретные модификации раннего государства? На начальном этапе оно являло собой достаточно прочную централизованную структуру, которая наиболее крепка была в обществах с ирригационным хозяйством. Показательный пример — государство инков в постклассический период (XV в.), накануне вторжения европейских завоевателей.
Во главе государства — обожествленный Инка, руководитель племени завоевателей, ставшего в государстве, население которого исчислялось миллионами, чем-то вроде касты, поставлявшей кадры администрации. Инки и вожди подчиненных народов представляли собой основу центрального и региональных аппаратов власти. На местном уровне главы общин давали задания и определяли объем работ для общинников — будь то обработка «полей Инки» или «полей Солнца» (на храмовые нужды), участие в стройках, забота о ламах (пастьба скота), работа в рудниках и т. п. Участвовавшие в общественных работах получали содержание из казенных амбаров. Во главе трудовых отрядов стояли руководители общин, в небольших отрядах (50 человек) они работали наравне с остальными, а в более крупных (500— 1000) занимались в основном организационными делами. Подобная работа в принципе воспринималась как момент действия механизма реципрокности: хорошо и активно потрудившись, ее участники получали щедрое угощение, не говоря уже о сознании выполненного общественного долга.
На уровне верхов действовал тот же механизм реципрокности: при дворе Инки спорадически собирали лидеров местных и региональных подразделений для длившегося порой несколько дней инструктажа, сопровождавшегося обильными раздачами даров, угощениями и пиршествами. На это — как и на содержание работающих на отработках — шла часть избыточного продукта; остальное тратилось на содержание административного аппарата, войска и иных слоев общества, включая ремесленников, жрецов и т. п. Что же касается общинников, то они существовали за счет земельных участков, обрабатывавшихся каждой семейной группой. Спорадически проводилось перераспределение таких участков, был и внутриобщинный страховой фонд: участок земли, обрабатывавшийся совместно и в пользу старых и слабых [218; 241].
Инкский эталон, видимо, достаточно характерен для ирригационных структур. Нечто подобное демонстрирует, в частности, и древнеегипетское общество. Но существовали и иные модификации раннего государства. Некоторые из них были связаны с возникновением системы уделов и с передачей удельной знати административных функций на региональном уровне. Система уделов, как это хорошо видно на примере Франкского государства или Киевской Руси, вела обычно к усилению центробежных тенденций и к возникновению эффекта феодальной раздробленности, подчас и к гибели централизованной структуры, во всяком случае на какое-то время, с последующим ее возрождением на несколько иной основе. Впрочем, подобное чередование централизации и децентрализации было достаточно общим и широко распространенным феноменом для раннего государства. Во всяком случае, его не избегали и те структуры, которые были основаны на ирригационном хозяйстве, как о том красноречиво свидетельствует история Древнего Египта.
Что же такое раннее государство как феномен, как стадия, этап политической интеграции? Прежде всего напомним, что эта структура существует в условиях, когда о развитой частной собственности еще нет речи, в чем она близка к протогосударству-чифдом. В ней те же два основных социальных слоя: сельскохозяйственные производители и администрация, хотя в отличие от чифдом возникает уже и немалое количество новых и численно весомых групп, оторванных от сельскохозяйственного производства и непричастных непосредственно к администрации (ремесленники различных категорий, слуги, обслуживающий большие хозяйства персонал, воины и т. п.). Если принять во внимание все эти, равно как и рассмотренные выше факторы, сближающие и отличающие раннее государство и чифдом, то дефиниция, которую следует дать раннему государству, будет звучать примерно так: раннее государство — это основанная на клановых и внеклановых связях, знакомая со специализацией производственной и административной деятельности многоступенчатая иерархическая политическая структура, главной функцией которой является централизованное управление крупным территориально-административным комплексом и обеспечение престижного потребления привилегированных верхов (управителей) за счет налогов и повинностей с производителей, причем отношения между верхами и низами по-прежнему основаны на принципах реципрокности и редистрибуции и легитимированы общепризнанной религиозно-идеологической доктриной.
Из определения видно, что верхи в раннем государстве уже не столько слуги общества, выполняющие необходимую и полезную административную функцию, сколько господа его, причем образ жизни и все стандарты их социального положения существенно отличают и даже противопоставляют их управляемым низам. В этом, пожалуй, главное отличие раннего государства от протогосударства-чифдом, где все упомянутые черты и признаки находятся еще в начальной стадии и не выражены достаточно четко. Однако нельзя забывать, что речь идет об обществе, еще не знакомом с частной собственностью. Безусловно, правящие слои раннего государства по образу жизни и общественно-экономическому положению, наконец, по выполняемым функциям уже достаточно близки к той группе, которую именуют господствующим классом, эксплуатирующим классом. Но при этом необходимо заметить, что антагонистические классы в точном политэкономическом смысле этого слова на той стадии развития общества, о которой идет речь, еще не сформировались. Их возникновение было тесно связано с очень важным и длительно протекавшим процессом приватизации, т. е. становления частной собственности. Остановимся на этом подробнее.
Государство и частная собственность
Собственно говоря, раннее государство, как и протогосударство-чифдом,— лишь переходные этапы единого общего процесса становления государства. И нас никак не должно смущать то немаловажное обстоятельство, что подавляющее большинство известных истории докапиталистических структур далее этого этапа в своем развитии не шло, что в немалом количестве случаев история фиксирует цикличное и даже регрессивное политическое развитие, результатом которого было возвращение более развитых структур к их более примитивным модификациям. Для нас важно наметить и выделить в их более или менее «чистом» виде именно этапы, стадии эволюции.
В рамках того пути развития, о котором идет речь (и по отношению к которому античность выглядит своеобразной мутацией[21], впрочем, со всеми весьма благоприятными следствиями, обычно сопутствующими удачной мутации, превращающими ее в начало нового и более рационального пути), раннегосударственные докапиталистические структуры эволюциониро-вали в направлении к более или менее развитым, тем, что обычно именуются государствами и отличаются прежде всего степенью развития новых элементов, фиксируемых уже на стадии раннего государства. Во-первых, это дальнейший отход от патриархально-клановых связей к территориально-административным с последующим разделением всей административно-территориальной общности на более или менее равнозначные подразделения, управляемые назначенными центром чиновниками, ответственными перед правителем. В случае с феодально-удельным путем развития можно говорить о трансформации структуры, опять-таки с явственной тенденцией превращения ее в централизованно-бюрократическую. Во-вторых, более углубленная разработка религиозно-этической доктрины (или выработка альтернативной теории) с обязательным приобщением к ее нормам всего населения [248, с. 615]. В-третьих, еще большее усложнение административного аппарата со специализацией функций чиновников не только на высшем, но и на среднем региональном уровне, с более явным противопоставлением верхов эксплуатируемым низам. Соответственно во все большей степени дает о себе знать тенденция к упорядочению основ управления, созданию устойчивых норм выработки и принятия решений, издания необходимых приказов и распоряжений, включая акты инвеституры, указы о мобилизации на общественные работы, на обслуживание военных кампаний и т. д. Впрочем, последний момент — рационализация администрации — имеет уже самое непосредственное отношение и к тому принципиально новому, чем государство отличается от раннего государства и протогосударства.
Касаясь рассматриваемых принципиальных различий, Э. Сервис выделил два основных — изменение размеров и степени сложности всей структуры (обстоятельство, которому он не придал особого значения, полагая его само собой разумеющимся,— в общем, это примерно та динамика эволюции, о которой только что шла речь) и становление системы принуждения и институционализованного закона [245, с. 296—307 и сл.]. Но он упустил из поля зрения еще один фактор важнейшей значимости— приватизацию. Обратим, однако, сначала внимание на те, которые он выделил.
Действительно, принуждение и закон в значительной степени делают государство качественно отличным от предшествовавших ему стадий-этапов. Разумеется, определенные формы закона и принуждения существуют и на этапе чифдом, и в раннем государстве, так что в этом смысле есть явная и постепенная преемственность. Новым же является выход на передний план абстрактно-безликой императивной сущности того и другого института.
Следует напомнить, что закон в форме определенного комплекса социальных и моральных норм, нарушение которых влечет за собой санкции коллектива, известен издревле, с момента введения первых табу (инцест-табу и др.). На ранних этапах социально-политической эволюции преобладали преимущественно моральные санкции (высмеивание с потерей престижа, бойкот, даже изгнание), позже усиливалась роль физических наказаний [258, с. 268]. Однако в любом случае медиация как важная функция группового, общинного и надобщинного лидера опиралась, прежде всего, если не исключительно, на его авторитет. Ни аппарата насилия, ни средств принуждения, ни кодифицированного закона у него еще не было. Возникновение всего этого шло на этапах чифдом и раннего государства в весьма своеобразной форме, не затрагивавшей суть традиционной, опиравшейся на авторитет нормы и в то же время способствовавшей выработке принципиально новых институтов — путем усиления сакрализации вождя.
Чрезвычайно важной функцией сакрального возвеличения лидера (начиная с этапа чифдом) было усиление значимости лидера как верховного медиатора. Медиативные функции в прошлом всегда наталкивались на силу автоматической солидарности клана, что весьма затрудняло поиски справедливого решения. И только сакрализация правителя, поставившая его как бы над кланами, способствовала усилению авторитета его слова, его функции медиатора в различных конфликтах. На практике это означало, что медиативные функции сакрализованного вождя уже нельзя было оспорить, что решение его было сакрально апробированной высшей волей, которая приобретала для его подданных силу нерушимого закона. Именно таким образом и рождался закон, сакрально-ритуальный контекст которого, как справедливо подчеркивал Э. Сервис [245, с. 296], никак не должен нас смущать. Действительно, первые законы и их системы опирались не на принуждение, а на сакральный авторитет, были законами не столько человеческими, сколько «божьими».
Но закон (пусть даже «божий»!), безликая и тем более сакральная сила которого абстрактна и неоспорима,— уже принуждение. Принуждение тем более действенное, что за ним стоит угроза сакральных сверхъестественных санкций за неповиновение, так что автоматическая солидарность коллектива виновного уже не спасет. И хотя ритуальная форма принуждения, авторизованная фигурой обожествленного вождя, еще не осознается как насилие, функция насилия уже возникает и, более того, служит важным элементом укрепления политической власти. Это, по выражению М. Годелье, своего рода «ненасильственная форма насилия» [139, с. 8]. Теперь уже не личный авторитет лидера группы либо общины, его всеми уважаемого и компетентного решения, а божественный авторитет маны, по воле богов концентрирующейся в фигуре вождя, — вот та сила, которая призвана обеспечить абсолютное и беспрекословное повиновение коллектива ставшим над ним слоям власть имущих во главе с сакрализованным правителем.
Что же касается принуждения и насилия как голой силы, то она тоже зарождается и развивается, как упоминалось, уже на этапах чифдом и раннего государства. Однако военная сила на этих этапах была направлена исключительно вовне структуры и функционировала во имя ее блага. Первые формы принуждения и насилия внутри структуры связаны с появлением в ее недрах— как следствие войн — пленных иноплеменников, получивших статус рабов. И хотя обычно представление о роли рабов и рабства в структурах, о которых идет речь, крайне гипертрофировано — во всяком случае в ряде работ советских авторов (см., например, [60]),— сущность появления в недрах раннего государства рабства как института с регулярным использованием труда рабов (скажем, в рудниках или на других тяжелых работах), в конечном счете сводится к появлению аппарата и функции централизованного принуждения и насилия в рамках структуры, внутри нее. Отсюда только шаг до достаточно широкого применения принуждения и насилия как по отношению к соперникам или проштрафившимся в ходе внутренних политических конфликтов и междоусобиц (особенно это заметно в феодально-удельных структурах), так и по отношению к невыполняющим или не вполне справляющимся с выполнением своих обязанностей крестьянам-общинникам.
Принуждение и насилие с течением времени становится важной, если не важнейшей функцией более или менее развитого государства, инструментом не только внешней, но и внутренней его политики — будь то усмирение непокорного либо взбунтовавшегося вассала, подавление недовольства какого-либо из этнических меньшинств, стремление заставить население принять новые непопулярные меры правительства, силовой способ решения напряженного социального кризиса. Принуждение и насилие являются также одним из важных орудий сохранения в структуре в целом устойчивого баланса сил, нарушение которого обычно ведет к дестабилизации, а то и к развалу всей структуры, что достаточно наглядно проявило себя еще на ста-дии чифдом и раннего государства [108, с. 189—192].
Кроме принуждения и насилия, помимо кодифицированного закона в государстве проявляет себя еще одна принципиально новая и крайне важная социальная и социально-экономическая сила — тенденция к приватизации, в конечном счете приводящая к появлению и распространению частной собственности, частнопредпринимательской деятельности, к развитию товарно-денежных отношений, становлению рынка и т. п.
Приватизация как определенная тенденция среди власть имущих в их борьбе за контроль над ресурсами фиксируется некоторыми исследователями, например М. Фридом, весьма рано, с момента появления стратифицированного общества [133, с. 191—196; 137]. И хотя подобные утверждения вызывают справедливые возражения [111, с. 7; 246, с. 27], в них есть некое рациональное зерно. Суть его в том, что причастность к власти-собственности ведет к постепенному превращению ее в нечто, имманентно присущее именно данному лицу — вначале как субъекту должности и высокого статуса, а затем и просто как субъекту личности. Естественное стремление высокопоставленного аристократа и сановника к приватизации еще не есть факт частной собственности— скорее стоит говорить о праве преимущественного и даже исключительного пользования непропорционально большой долей совокупного общественного продукта, ценным имуществом, услугами, почестями и т. п. Но это шаг к приватизации, и шаг довольно значительный. Некоторые специалисты полагают, что даже применительно к феодализму раннеевропейского типа бесполезно ставить вопрос о том, является ли манор частной собственностью или какой-то частью общей собственности, так как различия такого рода еще не возникли [92, с. 84].
Действительно, на этапе раннего государства таких различий еще нет, они только-только возникают, формируются, приобретают определенные очертания.
Формирование их шло одновременно по нескольким направлениям. Богатый аристократ или сановник, тем более удельный феодал в своем маноре, в своем уделе стремился превратить то, чем он управляет и владеет, в объект своей собственности. Это, разумеется, не так-то просто. Но практика показывает, что со временем лэндлорды — во всяком случае в раннефеодальной Европе — приобретали право исключительного распоряжения частью общей земли (например, выморочными землями), что создавало условия для возникновения феномена частной собственности по меньшей мере на часть их территории.
В то же время явную тенденцию к закреплению пожалованных им кормлений, бенефиций, ленов, икта и прочих должностных и служебных наделов проявляли те, кто их получал за свою военную либо гражданскую службу правителю или крупному феодалу. И хотя вопрос об успехе реализации такой тенденции зависел более от объективных причин (крепость власти центра ит.п.), чем от личных стремлений владельцев наделов, указанная тенденция так или иначе, рано или поздно, целиком либо частично реализовывалась, что также служило одним из путей приватизации.
Наконец, на грани между ранним и развитым государством обычно интенсивно разлагалась первобытная патриархально-клановая земледельческая община. Выделялись дворы-домохозяйства, ведущие собственное хозяйство, изменялась практика передела земли между ними. Часть хозяйств становилась зажиточной, другая нищала. Одни были вынуждены брать землю в аренду, идти в батраки. Другие предпочитали перебраться на новые земли и основать новую соседскую общину, взаимоотношения в которой уже строились не столько на патриархально-клановых, сколько на имущественных отношениях. Весь этот процесс тоже способствовал приватизации, рождал представление о том, что земельный участок может быть закреплен за семьей и отдан ей в длительное пользование. И дело, далеко не только в представлении, хотя оно многое значит как факт изменения характера земельных отношений. Дело в реальных сдвигах в формах землепользования в рамках общины (подробнее см. [59]).
Но приватизация отнюдь не сводится к возникновению частной земельной собственности — скорее она им венчается. Раньше и гораздо успешнее возникает скопление в руках индивидов материальных излишков, которые всеми правдами и неправдами пускаются в какой-то оборот, превращаются в товар. Разбогатевший за счет трофеев военачальник или рядовой воин; мелкий служака, нажившийся за счет обвешиваний и обмериваний при казенном складе; удачно обделывающий рядом с использованием государственного поручения свои собственные торговые дела чиновник-торговец; получающий большое число приватных заказов умелец-ремесленник — все они аккумулируют в своем личном хозяйстве немалые имущественные излишки, которые начинают все активнее циркулировать в обществе, все энергичнее обмениваться. Появляется немало товаров, возникает строго в соответствии с законами политэкономии всеобщий эквивалент— деньги. С появлением товарно-денежных отношений усиливается значение рынка, растет частнопредпринимательская деятельность и т. д.
Казалось бы, вот теперь уж, наконец, частная собственность выходит на передний план, ломает всю сложившуюся издревле структуру отношений и создает предпосылки для возникновения общества типа античного с его развитыми товарными отношениями и т. п. Но на самом деле все далеко не так просто. Описанный процесс идет не в вакууме. Если не говорить о европейском феодализме с его мощными античными правовыми, экономическими, социально-экономическими и иными традициями, сыгравшими явно решающую роль в его трансформации, то во всех остальных случаях рождавшуюся частную собственность встречала уже давно сложившаяся и весьма жесткая структура, которая привычно рассматривала несвязанные с властью-собственностью (или связанные со злоупотреблением ею) источники накопления богатств как приватные и в каком-то смысле незаконные, противоречащие норме и подрывающие интересы государства как централизованной структуры, экономическая основа которой базируется на редистрибуции избыточного продукта, на гарантированности поступлений дохода в казну. И ситуация, при которой даже часть такого дохода, минуя казну, попадает в частные руки, рассматривалась как угроза структуре. Отсюда — резкие выпады против стяжательства и стремления к усилению личного потребления, жесткий государственный контроль, строгая система централизованного регулирования частного сектора.
Государство в неевропейских докапиталистических структурах всегда стремилось к ограничению этого сектора путем контроля над ним, спорадических конфискаций имущества чрезмерно разбогатевших и т. п. [262, с. 72—80]. Возникавшие же в противовес силе государства корпорации ремесленников, торговцев и иных частных предпринимателей никогда не были достаточно влиятельны и эффективны, чтобы противостоять власти правителя, как то бывало с городами в средневековой Европе. Государство использовало их как инструмент своего контроля и в конечном счете подчиняло себе [262, с. 49, 50, 85—86]. При этом парадокс в том, что государство было одновременно и гарантом существования и процветания частного сектора в допущенных пределах. Коль скоро оно слабело и период процветания сменялся эпохой кризиса и дезинтеграции, едва ли не более всего страдал именно частный сектор [19, с. 51—53]. И напротив, когда кризис бывал преодолен и государство вновь становилось сильным, частный сектор опять получал возможность для своего расцвета, но снова лишь в тех пределах, которые допускались. Словом, сущность описанной ситуации сводится к тому, что частная собственность, как таковая, хотя она возникала на определенном этапе развития государства и даже временами процветала, достигая немалых успехов, в конечном счете так и не стала структурообразующей силой в обществе, о котором идет речь.
Структурообразующую роль в нем с самого возникновения ранних политических структур и во многих случаях вплоть до сегодняшнего дня играла и играет власть-собственность. Именно она превращает государство как институт (или как систему институтов) в главный субъект экономических отношений. Государство (в лице правящих верхов, субъектов власти-собственности, осуществляющих административно-экономические, в частности организационную и редистрибутивную функции) выступает как участник совокупного производства общества, и поэтому построенные на такой основе социально-экономические отношения, отношения производства и распределения, главными контрагентами в которых выступают, с одной стороны, производительное податное население, а с другой — государственный аппарат, являются своего рода государственным способом производства (на мой взгляд, именно это имелось в виду Марксом, когда он вводил понятие «азиатский» способ производства).
Система отношений, связанная с господством государственного способа производства, основана на власти-собственности и не обусловлена частной собственностью. На определенном этапе развития общества тенденция к приватизации вела к появлению в недрах структуры, о которой идет речь, частной собственности и соответственно частнособственнического способа производства в некоторых его модификациях и проявлениях. В зависимости от той или иной модификации с ним были связаны различные группы людей, отношения которых между собой, обусловленные и опосредствованные частной собственностью, имели четко выраженный классовый характер. Однако основой в рассматриваемой системе социальных связей продолжали оставаться генеральная связь «производитель — казна» и обусловленные именно этой связью производственные отношения[22].
Подводя итоги, следует заметить, что государство в докапиталистическом мире (за исключением античной и постренессансной Европы) развивалось по модели, весьма близкой к той, которую имел в виду Маркс в его анализе восточных обществ еще свыше века назад. Суть этой модели — в активной роли государства (в лице правителя, правящей верхушки и административного аппарата) в организации производства и редистрибуции избыточного продукта, экономической основой чего явля-лась власть-собственность («верховная собственность», по Марксу) при сравнительно незначительной и уж во всяком случае не первостепенной, не структурообразующей роли частной собственности. Иными словами, государство в обществе, о котором идет речь, — развитая социально-политическая структура с генеральной административно-экономической функцией (при наличии ряда других важных функций, включая военную, медиативную, интегрирующую, контролирующую), знакомая с социальным и имущественным неравенством; разделением труда, обменом деятельностью, наконец, с классами и даже с контролируемой центром частнопредпринимательской активностью. Использующее различные формы принуждения и насилия, кодифицированный закон и религиозно-этическую доктрину, способствующую легитимации и стабилизации институционализованной власти, государство как институт не только жизненно необходимо для нормального существования увеличившегося и усложнившегося общества, но и выступает как интегральная часть производственного процесса, как субъект производственных отношений, основанных на генеральном принципе реципрокности и отраженных в социальных связях «производитель— казна».
В заключение необходимо еще раз обратить внимание на то, что предлагаемая социологическая модель, основанная как на теории К. Маркса об «азиатском» способе производства, так и на многочисленных данных современной науки, находится в русле тех поисков, которые вот уже на протяжении десятилетий ведутся учеными-марксистами ряда стран, в том числе и едва ли не более всего советскими специалистами. Рассмотрение проблем формаций и первобытной общины в работах Ю. И. Семенова, введение понятия «государство-класс» М. А. Чешковым, анализ связи между властью и собственностью, данный А. Я. Гуревичем, разработка рядом авторов (например, Ю. М. Кобищановым и Е. М. Медведевым) концепции феодализма в древности, теория «рентной» докапиталистической формации В. П. Илюшечкина, многие статьи этнографов и философов (см., в частности, [36; 61; 63]) — все это, равно как и книги Ф. Текеи и других зарубежных марксистов, вносит немалый вклад в изучение многих спорных и неясных пока еще вопросов, решение которых позволит убедительно объяснить реалии исторического пути человечества, в первую очередь неевропейских обществ. Разумеется, каждый из специалистов идет своим путем, разрабатывает собственные идеи, но все их теории и концепции лежат в русле единого потока современной марксистской мысли. К их числу относится и изложенная выше схема исторического процесса, позволяющая объяснить факты истории древнекитайского общества, и в частности процесса генезиса китайского государства, описанию которого посвящены последующие главы книги.
Глава вторая. Ранние протогосударства в бассейне Хуанхе
Китай — страна непрерывной культурной традиции, практика тщательной письменной фиксации которой восходит к глубокой древности, являет собой на первый взгляд благодатную почву для изучения процесса генезиса первичных надобщинных образований и сложения ранних форм государства. Предыстория здесь весьма богато представлена археологическими памятниками, а по обилию письменных источников, подробно описывающих времена и события глубокой древности, Китай не имеет себе равных: ни в Месопотамии, ни в Древнем Египте, не говоря уже о Мезоамерике, Индии или Полинезии, нет и десятой доли подобного рода описаний. Но, если оставить в стороне археологию[23], это как раз тот случай, когда обилие данных, к тому же путаных, противоречивых, мифологически разукрашенных и дидактически обработанных, не только не облегчает задачу исследователя, но и кое в чем усложняет ее.
Дело в том, что среди китайских письменных памятников нет столь характерных для ближневосточной древности документов хозяйственной отчетности — эквивалентом их являются записи типа гаданий, инвеституры, краткой информации (надписи на костях и бронзе эпох Инь и Чжоу). Преобладают же сравнительно поздно составленные и тенденциозно обработанные тексты, в сообщениях которых о глубокой древности весьма непросто отделить реальный факт от вымысла. Вместе с тем и пройти мимо этих сообщений нельзя, ибо в них есть зерно истины. Вопрос в том, как установить факты, столь тщательно закамуфлированные красочными детализованными прибавлениями.
Легендарные предания о первых мудрых правителях Китая
Китайская историографическая традиция отличается как оригинальностью и устойчивостью принципиальных концепций, так и четкой прорисовкой иллюстрирующих их деталей, включая тщательно собранные мелочи, красочные описания и назидательные дидактические эпизоды. И коль скоро Китай — страна истории, где древность (и чем она глубже, тем в большей степени) всегда любили и почитали, то неудивительно, что деталями и красками весьма богаты многие описания, посвященные самым ранним периодам легендарной предыстории.
Отраженная в классическом труде Сыма Цяня «Исторические записки» («Ши цзи») историческая традиция исходит из того, что начиная с глубокой древности сменяли друг друга три этапа-варианта политической администрации: ди-дао (путь легендарных мудрецов), ван-дао (путь добродетельных легитимных правителей) и ба-дао (путь насилий и узурпации). Теория трех путей, вложенная Сыма Цянем в уста знаменитого реформатора Шан Яна [296, гл. 68, с. 765], интересна именно с точки зрения того, как представляли себе — и соответственно отразили в письменных памятниках — древнекитайские мыслители особенности социальной структуры и политической администрации в ранних обществах, а также динамику их эволюции. Не приходится говорить, что многие из этих представлений и описаний изложены в форме мифов и легенд.
Китайская мифология не менее других наполнена яркими образами, впечатляющими подвигами, красочными деталями. Однако мифопоэтическое наследие китайцев предстает перед нами в несколько ином виде, нежели у многих других народов, у которых процесс эволюции мифа шел по линии расцвечивания и героизации смутных сведений и скудных преданий о реальном историческом прошлом с его нелегкой борьбой человека с природой, группы с группой за место под солнцем и т. п. В Китае эволюция мифа, как на это обратил в свое время внимание, еще А. Масперо свыше полувека назад, сводилась к элиминированию из красочной традиции всего того, что могло показаться вздором, вымыслом и нелепостью конфуцианскому редактору. Такой процесс вел к сложной и многолинейной трансформации китайского мифа: древние предания превращались в миф, а затем мифы очищались от поэтического вымысла и приобретали облик полулегендарных повествований о великих и мудрых деятелях прошлого, которым приписывались совершенно конкретные и вполне реально обрамленные (без особых чудес и вымыслов) деяния ([210]; см. также [91, с. 372—373]).
Правда, исследование Б. Карлгрена показало, что трансформация касалась не всей мифологии, что во всех чжоуских текстах сохранились древние мифы, а в эпоху Хань их количество даже резко возросло, что было связано, в частности, с обогащением мифопоэтической традиции вследствие инкорпорирования в состав ханьского Китая многих новых народов с их культурными преданиями ([173, с. 344—350]; см. также [18, с. 232— 234]). Однако это никак не меняет того, что интересующие нас исторические предания прошли через двойную трансформацию и в очищенном от многих обычных признаков мифа виде вошли в исторические сочинения типа «Ши цзи».
Такая историзация (эвгемеризация) древнекитайского мифа в условиях классического китайского культа традиции и мудрости древних способствовала гипертрофированной аберрации восприятия: с веками изучения канонов в плоть и кровь вошла привычка воспринимать древних героев — начиная с Хуан-ди, легендарного первопредка китайцев [78, гл. 4], и во всяком случае с мудрого правителя Яо — в качестве реальных исторических персонажей. И с этой привычкой необходимо считаться, тем более что традиция начинает свой отсчет поколений и династий древнего Китая именно с Яо, правление которого воспринимается как эталон ди-дао.
Дидактическая историография конфуцианского толка берет начало с канонического трактата «Шу цзин» («Книга преданий», или просто «Книга»,— сама собой напрашивается параллель с Библией, хотя по характеру эти сочинения несопоставимы). «Шу цзин» состоит из нескольких частей, каждая из которых, подразделяясь на ряд глав, посвящена описанию того или иного из периодов китайской предыстории и ранней истории. Изложение в «Шу цзин» начинается с Яо — о более ранних героях и правителях в нем речи нет. Видимо, процесс трансформации мифов в период составления этого канона (середина I тысячелетия до н. э.) еще не закончился. Позже, в Хань, он нашел свое завершение в сводном труде Сыма Цяня, где изложение начинается уже не с Яо, а с Хуан-ди и где деяния древних героев-правителей, великих субъектов ди-дао, описываются в главе «У ди бэнь цзи» («Основные записи о деяниях первых пяти ди»). Остановимся на ее фабуле, основе предания.
Легендарный первопредок китайцев Хуан-ди (Желтый император) утвердился в Поднебесной, сменив правившего до него Шэньнуна. Он принес необходимые жертвы, усмирил недовольных, назначил помощников-управителей и уделил немалое внимание рациональному использованию ресурсов («своевременно сеял все злаки и травы, сажал деревья, приручал и разводил птиц, зверей, червей и бабочек... бережливо использовал воду, огонь, лес и другие богатства» [296, гл. 1, с. 30; 69, с. 134]). Подобно библейскому Иакову, Хуан-ди выступает в функции патриарха, истока разветвленной сети родственных кланов: «у Хуан-ди было двадцать пять сыновей, из которых четырнадцать... получили фамилии» [296, гл. 1, с. 30; 69, с. 135]. Иными словами, сыновья Хуан-ди оказались родоначальниками четырнадцати кланов протокитайцев. Преемником Хуан-ди стал его внук от второго сына — Чжуаньсюй, а преемником Чжуань- сюя — Ку, который был то ли внуком, то ли двоюродным племянником своего предшественника. После Ку к власти пришел Яо, его младший брат.
С Яо начинается новая эпоха. Деяния этого правителя подробно описаны в «Шу цзин» [333, т. 3, с. 39—78] и в «Ши цзи». Он воплощение добродетели и способностей. Его заслуги неисчислимы. Яо упорядочил летосчисление, объединил и привел к согласию народ, прислушивался к мнению людей при назначении помощников и, главное, демонстративно предпочел передать власть не сыну своему, в способностях которого сомневался, а мудрому и добродетельному Шуню, хорошо зарекомендовавшему себя почтительностью к родителям, умеренностью в образе жизни, исполнительностью и мудростью в административной деятельности. Получив в жены двух дочерей Яо, Шунь стал после его смерти полным правителем Поднебесной. Правда, он счел было себя обязанным по прошествии трехлетнего траура все-таки вернуть власть сыну Яо, но это не привело ни к чему хорошему, так что Шуню вновь пришлось взять власть на себя. Управляя Поднебесной, он урегулировал нормы отношений в семье, наладил порядок в администрации, определив сферу действий каждого из своих помощников, унифицировал регламент, знаки власти, ритуалы, учредил регулярные инспекции и разделил страну на двенадцать регионов, приказав их правителям управлять достойно, опираясь на способных [175, с. 4—8; 69, с. 138—148].
Как и Яо, Шунь блистал добродетелями, так что от одного его присутствия все становилось лучше. Подобно Яо, он передал власть не сыну, а добродетельному Юю, одному из своих помощников (о деяниях которого так же обстоятельно рассказывается в «Шу цзин» и «Ши цзи»). Из этого явствует, что, хотя отношения родства строго блюлись, критерием для выдвижения в лидеры служили заслуги претендента. И далеко не случайно, что о них написано столь много и подробно. Идея меритократии, столь естественная для первобытного общества, нуждалась в серьезной аргументации тогда, когда практика сакральной легитимации власти была уже давно акцептированной нормой.
Картина в целом — если отвлечься от частностей, очистить ее от неизбежной в таких случаях идиллической окраски и отбросить все то, что явно навеяно конфуцианской дидактикой,— вполне вписывается в современные представления о структуре ранних политических образований и ее эволюции. Небольшая этническая общность разрастается за счет сегментирования. Родственные кланы расселяются. Возникает сегментарная структура, отсутствие признанного политического лидерства в которой способствует созданию обстановки неустойчивости, нестабильности, внутренних распрей. Наконец, в ходе спонтанной эволюции или под воздействием внешней опасности начинается процесс интеграции, олицетворением которого выступают политические лидеры типа описанных в главе пяти ди. Эти лидеры ди опираются на полную поддержку народа, советуются со старшими его представителями, заботятся об эффективном управлении хозяйством, начиная от календаря и кончая урожаем, и выбирают себе в помощники и преемники тех, кто отличается наибольшими способностями и достоинствами — будь то внук, племянник (т. е. родственник из своей или близкой линии) либо человек со стороны.
Весьма любопытно в этой связи свидетельство еще одного древнекитайского текста — трактата Шан Яна. В гл. 18 «Хуа цэ», сказано: «Во времена Шэньнуна мужчины, обрабатывая землю, добывали пищу, а женщины прядением и ткачеством создавали одежду. Не было законов, но царил порядок; не было военной силы, но существовал авторитет лидера. После Шэньнуна сильный стал господствовать над слабым, а меньшинство — над большинством. Поэтому Хуан-ди установил [правильные] отношения между правителем и подданными, верхами и низами... внутри учредил законы с наказаниями[24], а вовне [использовал] военную силу» [332, с. 30—31]. Столь отчетливое противопоставление эры Шэньнуна периоду правления Хуан-ди весьма показательно. Как подчеркивает Чжан Гуанчжи, изложение мысли Шан Яна в приведенной цитате дано в терминах, которые могли бы удовлетворить известного современного теоретика истории культуры Г. Чайлда [97, с. 215—216]. Можно добавить также и тех современных специалистов, построения которых описывались в первой главе данной работы.
Итак, ко времени Шан Яна и тем более Сыма Цяня (IV— 3 вв. до н. э.) в древнекитайской историографии, сложившейся под сильным воздействием конфуцианской дидактики (а она действовала далеко не на одних только правоверных конфуцианцев, к числу которых не относились ни Шан Ян, ни даже Сыма Цянь), утвердилось уже достаточно устойчивое представление о том, что начиная с Хуан-ди — столь убедительно противопоставленного Шэньнуну — в стране правили мудрые лидеры, те самые ди (впоследствии этот термин стал использоваться для обозначения понятия «император»), которые воплощали в своем лице всю высшую истину и добродетель ди-дао. Другими словами, ди-дао — идеал, эталон мудрого правления, и именно в качестве такового он и воспринимался всеми китайцами с эпохи Чжоу и вплоть до XX в.
Как представляется очевидным, в этом идеале китайская историография видела реальный факт. Для современного исследователя важно не столько поставить подобные представления под сомнение, сколько, учитывая складывавшуюся под воздействием культурной традиции аберрацию, дать приемлемую интерпретацию всей концепции.
Прежде всего, в свете данных современной науки о характере развития древних обществ и процессе вызревания в их недрах форм социально-политической интеграции несомненно, что полулегендарные предания изложенного выше типа представляют собой не рассказ о реальных фактах, а персонифицированную, т. е. воплощенную в псевдореальных героях и лицах сводную схему процесса развития от примитивной эгалитарной структуры к сложному стратифицированному обществу во главе с надобщинным политическим лидером. И как общая схема-эталон предание выглядит вполне приемлемым и в целом и в деталях.
Более того, есть основания считать, что представленная в историографической традиции Китая схема ди-дао не просто идеальный эталон, обращенный в глубокое прошлое, но еще и в какой-то мере искусственная конструкция, в пределах которой были сведены в хронологическую цепочку данные различных, но аналогичных и, возможно, одновременных преданий[25]. В свое время подобное предположение было выдвинуто Г. Хэлоуном в связи с анализом вопроса о предках-героях чжоусцев, которым чжоуские песни, включенные в «Ши цзин», приписывали, по существу, одни и те же либо близкие по характеру акции и заслуги ([145, с. 600—619]; см. также [14, с. 87—91]). Похоже, что такого рода компилятивная обработка древних преданий с последующим сведением всех данных к единому знаменателю в виде хронологической цепочки лиц и деяний была нередко применявшимся приемом чжоуских историографов, очень уважавших— как это хорошо известно — строгие и стройные классификационные схемы. И если считать, что нечто похожее было проделано и с легендарными героями-ди, то многое получит объяснение и станет на свои места [26].
Но в таком случае специалисты вправе скептически отнестись не только к датировке периодов правления, но и к линейной последовательности ди. И вся представленная Сыма Цянем в первой главе его труда картина должна восприниматься лишь в плане сведения воедино всех тех функций — хозяйственно-административной, медиативной, ритуальной, военной,— которые реально ложились на плечи надобщинных лидеров, оказывавшихся во главе ранних политических структур. Другими словами, полулегендарные предания о пути правления древних, ди-дао, представляют собой лишь абстрактно систематизированный эталон управления, при конструировании которого были учтены многие данные, в том числе и те, что имели отношение к более позднему времени, в частности к периоду ван-дао.
Китайская историографическая традиция о Ся и Шан
Период ван-дао — правление ванов — в китайской историографической и социологической традиции воспринимается как нечто вроде серебряного — в отличие от золотого (ди-дао) — века. Он рисуется как время правителей справедливых и добродетельных, но главное — правителей законных, чья власть и чье право на нее были санкционированы небесными божественными силами. К этому периоду относятся правители-ваны трех династий — Ся, Шан и Чжоу, точнее — Западного Чжоу (XI—VIII вв. до н. э.).
Деяния правителей указанных династий наиболее подробно описаны в «Шу цзин» и в «Ши цзи». Некоторые сведения есть и в других источниках, в частности в «Чжушу цзинянь» («Бамбуковые анналы»), традиционный и реконструированный тексты которого обычно используются специалистами в качестве вспомогательного корпуса дополнительных материалов [116, с. 493— 495], но, тем не менее высоко оцениваются [120, с. 51—53]. Что же известно о династиях Ся и Шан (о Чжоу речь пойдет особо) из этих описаний?
Историческая концепция «Шу цзин» исходит из того, что до государства Шан-Инь в районе среднего течения Хуанхэ существовало государство Ся. Его правители, генеалогия которых восходит, согласно традиции, к легендарному мудрецу и преобразователю природы великому Юю, управляли Китаем на протяжении ряда столетий (предположительно XXI—XVI вв. до н. э.), после чего их династия пришла в упадок вследствие крайней недобродетельности последнего правителя Цзе, безуспешно противостоявшего добродетельному Чэн Тану. Чэн Тан одолел Цзе, уничтожил его династию и стал правителем нового государства — Шан. Одна из глав «Шу цзин», «Тан-ши», посвящена как раз подробному описанию этого драматического события: «Ван сказал: «...Не по недоразумению (не как дитя малое) намерен я выступить... У правителя Ся много преступлений, и Небо повелело мне уничтожить его... Правитель Ся виновен; опасаясь [гнева] Шанди, не смею не покарать его... Вы все говорите: ...„Правитель Ся... вредит городу[27] Ся (Ся-и)" ... Вы... поможете мне, Единственному, осуществить волю Неба... Если вы не подчинитесь, я жестоко покараю всех» [333, т. 3, с. 260—261? 175, с. 18].
В четко выраженной в приведенном отрывке концепции смены династий по повелению Неба немало от нарочитого стремления чжоуских правителей легитимировать собственную власть — именно с этой целью в чжоуских текстах древним преданиям придавалась столь явственная этическая детерминированность и дидактическая заданность [21а, с. 55—63]. Но сам факт смены древних династий (Ся — Шан — Чжоу) довольно прочно вошел в историческую традицию Китая. И хотя существование «династии» Ся в реальной предыстории Китая сомнительно, а многие связанные с ней описания носят явно легендарный характер (подвиги, того же Юя), в этих описаниях есть эпизоды, заслуживающие внимания. Так, из текста «Ши цзи» явствует, что Юй, сам некогда пришедший к власти таким же образом [296, гл. 1, с. 42; 69, с. 148], передал после себя власть некоему И, и только после него она оказалась в руках сына Юя, начиная с которого наследование уже достаточно прочно передавалось в пределах линии потомков Юя вплоть до незадачливого Цзе. Таким образом, в легендарной традиции фактически зафиксирован переход от принципа меритократии к легитимному престолонаследию в правящем клане.
О предыстории Шан «Шу цзин» почти ничего не сообщает. Зато в «Ши цзи» и в ряде других источников есть довольно много — правда, весьма разноречивых — упоминаний на этот счет. Прежде всего, легендарная предыстория шанцев достаточно тесно связывается с первыми шагами династии Ся: великий правитель древности Шунь, который некогда передал свою должность Юю, основателю династии Ся, пожаловал небольшое владение и основателю шанского дома Се, которому было одновременно «даровано» родовое имя Цзы [296, гл. 3, с. 57]. Неясно, где позаимствовал эти сведения Сыма Цянь, но он проводит свою версию весьма последовательно: в другой главе «Ши цзи» упомянуто, что Се был ближайшим помощником Юя [69, с. 151]. Тот факт, что, по данным Сыма Цяня, первые шаги домов Ся и Шан восходят к одному и тому же месту и времени и связаны с акциями некоего могущественного правителя (Шуня), который выступал в качестве лидера по отношению к основателям обоих этих домов, заслуживает внимания. Из него вытекает, что Ся и Шан были достаточно близки друг к другу.
Тезис об этнической и исторической близости Ся и Шан подтверждается и данными «Чжушу цзинянь», из которых явствует, что правители Ся достаточно часто меняли свое местожительство, что в ходе этих территориальных перемещений их пути перекрещивались с маршрутами иных коллективов, в частности шанцев. Судя по текстам «Чжушу цзинянь», шанцы располагались где-то поблизости от Ся, а с определенного момента оказались в сфере внимания и даже влияния правителей Ся.
Так, в 15 г. правления Сяна, что соответствует 1928 г. до н. э. по хронологии ортодоксальной версии «Чжушу цзинянь», согласно которой династия Ся, начиная с преемника Юя, правила на протяжении XXI—XVI вв., шанский Сян Ту, приведя в готовность боевые колесницы и лошадей, направился в Шанцю — местность, которая с 1942 по 1934 г. до н. э. была резиденцией сяского Сяна [325, с. 119]. Примерно полвека спустя, в 1864 г. до н. э., сяский правитель Шао Кан приказал шанскому Миню заняться урегулированием реки (Хуанхэ). Исполняя повеление, Минь достаточно долго был занят этим важным делом: как сказано в сообщении от 13 г. правления преемника Шао Кана сяского Чжу (1839 г. до н. э.), Минь, занятый делами по обузданию реки, умер [325, с. 121].
Сообщения о событиях, связанных с шанцами, практически не исчезают со страниц скудных записей «Чжушу цзинянь», посвященных периоду Ся. Под 33 г. правления сяского Мана (1756 г.) говорится, что шанский хоу (титул правителя) переместился в Инь [325, с. 122], а большая часть текста записей, касающихся правления преемника Мана, Се, посвящена довольно подробному сообщению о конфликте иньских хоу с соседними правителями [325, с. 122—123]. Краткий рассказ об успешных военных действиях иньского хоу, уничтожившего одно из враждебных ему владений, помещен и в тексте хроники, описывающей события времен правления сяского Бу Сяна (под 1667 г. до н. э.) [325, с. 123].
В 1603 г., как сказано в одной из записей периода правления сяского Кун Цзя, иньский хоу снова переселился в Шанцю [325, с. 124]. В тексте, описывающем время последнего сяского правителя, в центре внимания снова шанский хоу, который после очередного перемещения своей резиденции, на этот раз в Бо (в 1574 г.), начал активную борьбу с дряхлеющим Ся за гегемонию — борьбу, завершившуюся его успехом [325, с. 126— 127].
В текстах хроник обращают на себя внимание два важных момента.
Во-первых, «Чжушу цзинянь», как и вся историографическая традиция, постоянно подчеркивает ведущую политическую роль Ся, по отношению к правителям которого остальные этнополитические образования, и прежде всего Шан, выступали в качестве подчиненных, зависимых, хотя и имевших немалую долю автономии, степень которой, видимо, сильно варьировала под влиянием различных обстоятельств. В частности, когда в ходе миграций шанцы оказывались поблизости от сягцев, занимая резиденцию, только что освобожденную правителями Ся, последние отдавали им приказы, которые неукоснительно выполнялись.
Во-вторых, интересен тот факт, что как Ся, так и Шан на протяжении нескольких веков многократно меняли свое местожительство. Шанцы, по данным Сыма Цяня, до победы над сясцами (14 поколений правителей) переместились восемь раз [296, гл. 3, с. 57]. Примерно столь же часто меняли место своей резиденции и правители Ся[28]. Видимо, эта динамика в какой-то мере отражала образ жизни и способ производства коллективов, о которых идет речь. Мне уже приходилось обращать внимание на то, что сравнительно частые и легкие перемещения косвенно могут свидетельствовать о полуоседлом характере этноса [20, с. 263]. Шанцы с их колесницами и значительной ролью скотоводства и охоты вполне вписываются в такую модель. О сясцах сведений нет, но есть основания предполагать, что их образ жизни был близок к шанскому: истоки обоих домов, по Сыма Цяню, восходят к единому корню, частота перемещений примерно одинакова, маршруты то и дело пересекались.
В любом случае, однако, сам факт перемещений несомненен и интересен, особенно в связи с проблемой происхождения высокоразвитой культуры бронзового века и всей шанской цивилизации, которая пока еще далеко не ясна. Неудивительно поэтому, что специалисты не раз стремились, основываясь на данных письменных памятников, а позже учитывая также и археологические материалы, реконструировать маршрут перемещений. В частности, хорошо известны попытки локализовать и идентифицировать все упоминаемые в источниках многочисленные пункты, в которые переезжали мигрировавшие сясцы и шанцы. Как правило, они к успеху не приводили[29], и это не случайно; видимо, нет и шансов на достижение успеха в будущем. Дело в том, что в начале Чжоу, когда шел интенсивный процесс перемещения самих чжоусцев, а также покоренных ими иньцев (шанцев) и союзных им этнических общностей, многие места в бассейне Хуанхэ осваивались заново и приобретали наименования, которые приносили с собой новые поселенцы. Именно это, как на то специально обратил внимание в свое время Г. Крил, не дает оснований соглашаться с теми идентификациями, которые производились древними и современными историками на основе топонимических созвучий и иероглифических совпадений, а иного критерия, как правило, нет [115, с. 124].
Словом, анализ данных письменных памятников о Ся и шанцах до Чэн Тана позволяет говорить лишь об определенной общности их ранней истории — общности столь значительной, что в свое время Чэнь Мэнцзя даже выдвинул версию, согласно которой 14 так называемых додинастических правителей Шан — по сути, те же 14 (из 17? — Л. В.) сяских правителей, т. е. что Ся и додинастические шанцы одно и то же и что речь может идти лишь о своего рода внутридинастической борьбе за власть в рамках единого этноса,— борьбе, завершившейся выходом на передний план клана Чэн Тана (цит. по [99, с. 349]). И хотя такое предположение трудно доказать, доля истины в нем есть. Суть этой доли может быть сведена к тому, что Ся — наименование большой этнической общности, может быть конгломерата родственных общностей, обитавших в районе Хуанхэ, а шанцы— часть его, стремившаяся к политическому господству в его рамках[30].
Обратимся теперь к тому, как описывают источники драматический момент смены династий. Традиционная версия текста «Чжушу цзинянь» сообщает, что после обоснования в новой столице Бо шанский Чэн Тан отправил ко двору сяского Цзе со специальной миссией своего ближайшего помощника и советника И Иня. Пробыв в Ся около пяти лет и тщательно все обследовав, посланный возвратился в Бо[31], после чего шанцы резко активизировались, подчинив себе сначала Ло, затем Цзин. Вскоре обеспокоенный Цзе приказал было заточить Чэн Тана в башне, но уже через год велел его выпустить. Престиж Чэн Тана был велик, и все правители пришли к нему на поклон. Одно за другим Чэн Тан подчинял себе соседние владения, после чего было разбито войско Ся и династия Ся пала ([325, с. 126—127] ; см. также [296, гл. 3, с. 57; 69, с. 164—168]).
Вся эта история не внушает доверия, ибо многое в ней до мелочей повторяет ситуацию чжоуского завоевания Шан-Инь, что позволяет предполагать искусственную конструкцию, созданную в Чжоу с дидактическими целями. Однако едва ли выдумано все. Если отвлечься от назидательных мелочей (все обращались к Чэн Тану, отворачиваясь от Цзе, за что последний наказал Чэн Тана, хотя позже и простил его себе на погибель), фабула в принципе вполне приемлема: Ся и Шан вступили в состояние ожесточенной конфронтации, в ходе которой успех выпал на долю Шан. Так в истории бывало не раз, что позволяет принять смысл описанного в целом.
Возможна, однако, и иная интерпретация описанных событий: столкновение Ся и Шан было обычной борьбой соперников (вождей соседних чифдом), в процессе которой победу — может быть, не сразу — одержали шанцы. Чжоусцы много позже вполне могли исказить этот факт с назидательными целями, представив его как законную смену «мандата Неба», в силу которой власть законно (для чжоусцев была крайне важна идея легитимности!) перешла к новой династии. На деле же Ся вполне могло не быть предшествовавшей шанцам структурой-гегемоном.
Заслуживает внимания то, что одолевшие Ся шанцы, начиная с Чэн Тана, добились, судя по сообщениям письменных памятников, гегемонии в средней части бассейна Хуанхэ. Можно было бы полагать, что вслед за тем шанцы прочно осядут на одном месте и начнут энергично реализовывать свое политическое могущество, подчиняя себе соседей и упрочивая свое государство. Между тем этого не случилось. Образ жизни шанцев после победы над Ся в принципе не изменился — продолжались практически столь же частые перемещения. Так, поселение Чэн Тана Бо оставалось столицей лишь при восьми его преемниках. Десятый шанский ван, Чжун Дин, перенес столицу в Ао; двенадцатый, Хэ Таньцзя,— в Сян, а его преемник Цзу И — в Син. Затем наступила некоторая стабилизация, пока девятнадцатый, Пань Гэн, не возвратился, по версии Сыма Цяня, в древнюю столицу Чэн Тана [296, гл. 3, с. 60; 69, с. 172].
В «Чжушу цзинянь» к приведенному перечню переселений добавлено еще два. Цзу И, переместив столицу в Син (по варианту «Чжушу цзинянь» — в Гэн; это могут быть разные названия одного и того же места, но могут быть и различные места), не стал долго задерживаться там и буквально через год переехал на новое место, в Би. Там он закрепился, обнес столицу стеной. В Би обитали его преемники, пока семнадцатый правитель, Нань Гэн, не переместился снова, на сей раз в Янь. Оттуда девятнадцатый правитель, Пань Гэн, перебрался опять на новое место, но не в старую резиденцию Чэн Тана (как это сказано у Сыма Цяня), а в Инь ([325, с. 133—135]; см. также [308, с. 21]).
Как сам факт многократных перемещений шанцев после Чэн Тана, так и расхождение версий по их поводу заслуживают внимания, по меньшей мере, в двух важных аспектах. Во-первых, все это лишний раз подтверждает предположение, что ни Ся до Чэн Тана, ни Шан после победы Чэн Тана не были еще развитыми политическими структурами типа сложных чифдом с устойчивой и все более расширяющейся территорией, о борьбе за гегемонию в которой, собственно, и должна была бы идти речь — как то было в конце Шан. Сама возможность с легкостью сняться с места и переместиться дважды, а то и (по версии «Чжушу цзинянь») трижды на протяжении жизни одного-двух поколений убеждает лучше любых других аргументов в том, что шанцы и до победы над Ся, и после нее были небольшой этнической общностью, в недрах которой в лучшем случае лишь недавно начался процесс становления надобщинной политической администрации. Только такого рода небольшая этнополитическая единица — пусть даже достигшая уже того уровня социальной интеграции, который соответствовал протогосударству-чифдом,— могла позволить себе столь частые перемещения. Совершенно очевидно также, что мало доверия могут в этой связи заслуживать сообщения о подчинении шанцам соседних владений: многократные перемещения едва ли совместимы с удержанием вокруг перемещающегося этноса зависимых от него, т. е. когда-то побежденных им соседних общностей. Словом, общность мигрирующих шанцев, как она описана в письменных источниках, должна была быть сравнительно небольшой (о чем будет еще раз идти речь в конце главы в связи с описанием перемещения при Пань Гэне), из чего вытекает, что все эпизоды, связанные с борьбой Ся и Шан за гегемонию,— явно более поздняя, искусственно раздутая чжоусцами конструкция.
Во-вторых, проблема миграций шанцев после победы над Ся заслуживает внимания с точки зрения локализации той столицы, куда переместился Пань Гэн. Опираясь на данные Сыма Цяня, обычно считают, что эта столица — Бо, хотя речь может идти и о другом поселении — о том, где шанцы находились до их перемещения в Бо при том же Чэн Тане, т. е. о Шанцю. В любом случае, однако, столица располагалась к югу от Хуанхэ. В версии же «Чжушу цзинянь» о Хуанхэ не говорится, зато упоминается Инь, т. е. использован тот самый термин, которым чжоусцы именовали шанцев. Широко распространено мнение, что это Инь и есть городище, раскопки которого открыли около полувека назад культуру Шан-Инь. Если учесть, что район Аньяна располагался к северу от Хуанхэ (при всех изменениях ее русла с того времени), данные Сыма Цяня о возврате в старую столицу Чэн Тана следует считать недостоверными. К сожалению, однако, не вполне убедительна и версия «Чжушу цзинянь», называющая столицей шанцев Инь, ибо сами шанцы никогда ни себя, ни свой город так не называли, что убедительно явствует из сотен тысяч надписей на гадательных костях. Конечно, можно исходить из того, что так их называли чжоусцы — обстоятельство, как кажется, ныне подтверждаемое даже применительно к периоду до завоевания чжоусцами Шан-Инь[32].
Но есть и другие сложности. Дело в том, что самые ранние среди извлеченных из шанских архивов в Аньяне надписи относятся к периоду правления не Пань Гэна, а У Дина, его третьего по счету преемника, что порождает определенные сомнения в том, является ли аньянское городище той столицей, куда перенес свое местожительство Пань Гэн.
Имея в виду эти сомнения, Чэнь Мэнцзя собрал ряд свидетельств сравнительно более поздних древнекитайских источников, из которых явствует, что после Пань Гэна (и вероятнее всего, во времена У Дина) шанцы совершили еще одно переселение, на сей раз совершенно определенно к северу от Хуанхэ [330, с. 252]. Разумеется, приведенные им свидетельства не очень весомы. Но без них путаница еще большая. И она заставляет специалистов быть крайне осторожными с отождествлениями и локализациями столицы Шан. Так, в последней и наиболее капитальной из монографий, посвященных шанским гадательным надписям, ее автор, Д. Китли, с первых же страниц обстоятельно оговаривает все несоответствия указанного характера и делает вывод, что, если даже Пань Гэн когда-то и перенес столицу в Инь, остается неясным, имела ли эта столица отношение к сяотуньскому городищу [177, с. XIII—XIV] [33].
Несоответствий такого рода между материалами письменных памятников с их столь строго разработанными классификационно стройными схемами и данными других источников — прежде всего надписей на костях — довольно много. Так, выяснилось, что в шанских надписях нет не только слова Инь, но и слова Ся (см. [293а]). Разумеется, тому могут быть различные объяснения. Возможно, что шанцы именовали Ся иным термином (как это делали чжоусцы по отношению к ним самим). Не исключено также, что Ся было просто уничтожено как самостоятельная этнополитическая общность и потому исчезло имя. Правда, сами чжоусцы поступали иначе: как правило, повергнутые, завоеванные, даже насильно перемещенные и расчлененные этнические общности (те же иньцы) получали возможность сохранять свое имя хотя бы в форме ритуальных жертвоприношений в честь предков. Но, возможно, что такого рода культ предков появился лишь с Чжоу.
Обращает на себя внимание любопытное сопоставление: шанцы не упоминали ни о Ся, ни о Яо, Шуне, Юе (последнее, впрочем, понятно: их ритуалы распространялись только на своих предков), а вот чжоусцы после победы над ними не только вспомнили обо всех, но и придали им большое значение. Однако, видимо, не сразу, в раннечжоуских надписях, на бронзе — наиболее аутентичных памятниках того времени — не встречаются упоминания ни о Ся, ни о Яо, Шуне или Юе. В «Шу цзин» о них уже много и подробно говорится, но нет еще ни слова о более ранних героях-ди. А у Сыма Цяня четко сказано, что, когда первые чжоуские правители после гибели Шан раздавали уделы своим родственникам и сподвижникам, они вспомнили о потомках не только Яо, Шуня и Юя, но даже Шэньнуна и Хуан-ди, и всем им были даны среди прочих уделы [296, гл. 4, с. 69; 69, с. 188]. Получается, что чем дальше от событий, тем с большими подробностями описывается все более отдаленная древность — обстоятельство, уже отмеченное в свое время Гу Цзеганом (см. [261, с. 11]).
Если вспомнить упоминавшуюся выше и свойственную древнекитайской историографии тягу к систематизации моторизованных мифов и тем более реальных преданий глубокой старины, можно предположить, что во второй половине Чжоу и в Хань, когда такая систематизация проявляла себя наиболее активно (вспомним такие тексты, как «Ли цзи» и «Чжоу ли»), на основе разрозненных преданий старины сложилась достаточно полная и стройная картина. Лейтмотивом проделанных при этом манипуляций с текстами и преданиями было, насколько можно судить по результатам, придание разрозненным, противоречивым и параллельно существовавшим данным четкого вида стройной линейной композиции: от Шэньнуна — к Хуан-ди, от него и его преемников — к Яо, затем к Шуню, Юю и династии Ся, от нее — к Шан-Инь и далее к Чжоу. Причем нужно это было прежде всего и главным образом чжоусцам, легитимировавшим с помощью подобных построений свою власть. Построения такого рода с течением времени по мере дальнейшей разработки и детализации исторической схемы уходили все дальше, в глубь истории и тем получали все больший авторитет.
Так насколько же достоверна все-таки писаная традиция? Некоторые специалисты, отталкиваясь от того факта, что зафиксированная в письменных памятниках древности генеалогия шанских правителей получила подтверждение после обнаружения иньских гадательных надписей, считают возможным экстраполировать доверие к письменным памятникам в глубь истории, включая и Ся. Наивность подобного рода аргументации удивляет — особенно, когда встречаешься с ней на страницах солидных изданий. Ведь нет ничего проще, как на этом же основании экстраполировать ситуацию и еще дальше — до Яо, Хуан-ди и даже Шэньнуна. Одно несомненно: традиция заслуживает серьезного внимания, особенно ее интерпретация. Но обратимся сначала к тем данным, которыми располагает современная археология.
Археология о дошанском и шанском Китае
Результаты археологического изучения древнего Китая суммированы специалистами в ряде монографий и сводных работ [50; 97; 103; 104; 196; 197; 293; 326 и др.]. Данные археологии позволяют заключить, что до II тысячелетия до н. э. на территории бассейна Хуанхэ существовал развитый земледельческий неолит; на смену господствовавшей здесь в IV—III тысячелетиях до н. э. культуре расписной керамики Яншао в конце III тысячелетия пришла культура черно-серой керамики Лун-шань в ее нескольких локальных вариантах — ганьсуйском, хэнаньском, шаньдунском. Стоянки обеих культур свидетельствуют о существовании в то время в бассейне Хуанхэ сравнительно небольших поселений, состоявших из домов-полуземлянок скромных размеров (около 20 кв. м), явно бывших жилищем парной семьи, и — реже — компаундов из нескольких соединенных общей стеной таких жилищ [327а], которые можно рассматривать в качестве местожительства семейной группы. Кроме того, в отдельных поселениях обнаружены и более крупные сооружения (до 160 кв. м в яншаоском поселении Баньпо), представлявшие собой, видимо, общественные центры и бывшие, возможно, местожительством общинных старейшин.
Материалы слоев Яншао (особенно захоронений) не дают серьезных оснований для выводов о значительном социальном и имущественном неравенстве. Иное дело — Луншань, где археологами зафиксированы более крупные и долговременные поселения, подчас окруженные земляными валами, прослежены признаки культа мужских предков, практика гаданий на костях, следы разделения труда и специализация ремесла, заметная разница в погребальном инвентаре захороненных [97, с. 152— 153; 261, с. 26—28]. Видимо, нет сомнений в том, что земледельческие коллективы луншаноидов были ранговыми структурами, хотя считать их стратифицированными, как то предлагает П. Уитли [261, с. 28], явно преждевременно.
На рубеже III—II тысячелетий до н. э. поселения хэнаньского Луншаня демонстрируют немало новшеств, заимствованных в основном с востока, в частности из позднелуншанондных шаньдунских слоев типа Давэнькоу (новые формы и типы керамики, включая белую, деревянные гробы в захоронениях, резьба по кости — нововведения, характерные и для раннего бронзового века в Хэнани). На этом основании специалисты считают Давэнькоу одним из истоков Шан, а может быть, и Ся [98, с. 90; 99, с. 338—347; 315, с. 57, табл.]. Видимо, связь здесь действительно была. Но вместе с тем нельзя забывать, что процесс генезиса культур раннего бронзового века, как и стратифицированного общества, в бассейне Хуанхэ был достаточно сложным и гетерогенным, обязанным своим конечным результатом многим истокам, в том числе и явно внешним по отношению к неолитическому Китаю. Достаточно напомнить, что переходные стоянки позднелуншаньско-раннешанского типа Шанцзе и Лодамяо, изученные археологами уже достаточно давно [268] и ныне частично переинтерпретированные, демонстрируют некоторыее культурные признаки (резной и апплицированный орнамент на керамике, новые формы сосудов и др.), неизвестные китайскому неолиту.
Начальный этап генезиса культур бронзового века в Китае стал приобретать осязаемые контуры после раскопок в конце 50-х годов ряда поселений в уезде Яньши: к югу от Хуанхэ, неподалеку от Чжэнчжоу и Лояна. Раскопки позволили обнаружить около двух десятков стоянок, типологически близких к Шанцзе и Лодамяо. Среди них особо обратило на себя внимание поселение в Эрлитоу. Исследование его за последние десятилетия дало много ценных материалов, касающихся раннего бронзового века в хэнаньском районе Китая. В стоянке выделено четыре слоя. Два нижних, датируемых примерно XVII в. до н. э. (1620±95 и 1605±80) [34], являются вариантом Лодамяо с добавлением некоторых новых культурных черт и признаков (керамические сосуды необычной для неолита квадратной формы; штампованный орнамент; знаки на керамике в виде клейма-тамги достаточно сложной конфигурации [307]). Оба эти слоя тем не менее можно считать принадлежащими еще культуре неолита. Совершенно иной облик имеют два верхних слоя стоянки.
Кое в чем, генетически восходя к первым двум, они — особенно ранний из них, третий,— демонстрируют резкий качественный скачок от неолита к веку металла. Раскопки третьего слоя, явно доминировавшего в стоянке Эрлитоу, позволили обнаружить богатый инвентарь (изделия из керамики, камня, кости, включая гадательные, раковин), немалое количество изящных художественных поделок из полудрагоценных камней, разнообразные по типу сосуды, а также следы специализированного ремесленного производства. Что же касается бронзы, то вначале были обнаружены лишь мелкие поделки, которые могли быть расценены как предметы импорта [20, с. 305]. Позже были найдены обломки форм для отливки бронзовых изделий, а также древнейшие по виду и искусству изготовления бронзовые сосуды, в основном типа кувшинов цзюэ с удлиненно-вытянутой в одну сторону горловиной, грубой рукоятью и тремя примитивными ножками-подставками, практически без всякого орнамента [281, 1976, № 4, с. 259; 320, с. 274—275]. Ныне уже едва ли есть основания для сомнений в том, что насельники стоянки Эрлитоу в период существования ее третьего слоя были людьми бронзового века, умевшими обрабатывать металл и знакомыми со многими другими нововведениями, характерными для этого уровня.
К их числу следует отнести новые элементы орнамента на керамике, включая резьбу в виде классических для Инь-Чжоу драконов, монстров и даже маски тао-те [307, с. 222], а также новые приемы строительства (метод хан-ту — трамбовка слоя за слоем в деревянных разборных рамках с целью создать высокую, плотную и прочную стену либо основание для фундамента) и, что важнее всего, новые, принципиально иные масштабы сооружений. Речь идет о дворцовом комплексе — первом из сооружений такого рода на земле Китая.
Раскопанный ныне уже почти полностью, этот комплекс был возведен на гигантской земляной платформе почти квадратной формы (108X100 м), сооруженной методом хан-ту и возвышавшейся примерно на 80 см. В северной части платформы на небольшом дополнительном фундаменте (36X25 м) было возведено дворцовое здание площадью около 340 кв. м (30,4X11,4), которое имело парадный вход с девятью несущими колоннами, обращенный к югу. Платформа по периметру была обнесена укрепленной деревянным каркасом из врытых столбов земляной стеной, также утрамбованной методом хан-ту. Рядом со стеной с внутренней стороны были врыты вдоль периметра столбы потолще, возможно служившие опорой шедшей вдоль стены галереи, быть может, крытой [50, с. 107—108; 97, с. 223—225].
Дворцовый комплекс не был одинокой усадьбой-компаундом. Чуть южнее входа, примерно в 50 м от стены, археологами были обнаружены фундаменты трех групп небольших строений обычного типа — пока всего одиннадцать домов прямоугольной формы с утрамбованными полами-фундаментами, а также множество ям-складов и погребений с различным инвентарем: керамическими изделиями, поделками из камня и даже из бронзы (колокольчик). Словом, перед нами поселение, которое не может быть отнесено к разряду обычных общинных деревень, свойственных эгалитарным либо даже ранговым структурам. Дом-дворец описанного типа, на строительство которого потребовались огромные трудовые затраты, совершенно бесспорно свидетельствует, что обитавший в нем политический лидер осуществлял административный контроль уже далеко не только над своим поселением: у небольшой деревни не хватило бы сил и средств для подобного сооружения, да в нем и не было нужды. Абсолютно очевидно, что дворцовый компаунд в Эрлитоу был политическим центром немалой округи, охватывавшей значительное число окрестных поселений, быть может, все те несколько десятков стоянок культурного типа Лодамяо — Эрлитоу, которые обнаружены и исследованы археологами в хэнаньском уезде Яньши; как известно, в некоторых из них (в Гаояй) были обнаружены мелкие поделки из бронзы (обломок ножа) эрлитоуского типа [284, с. 547], а в других — даже бронзовые сосуды [320, с. 274].
Если принять во внимание, что культурному комплексу Эрлитоу были уже свойственны (разумеется, в его зрелом виде, т. е. на стадии третьего слоя) проявления социального неравенства, включая различия между погребениями (в части могил отсутствует инвентарь, а трупы лежат в такой позе, которая дает основание предположить насильственное умерщвление принесенного в качестве жертвы человека), развитый ритуал (ритуальные сосуды, оружие, практика гадания на костях — пока еще ненадписанных), значительный уровень художественного вкуса и ремесленного мастерства (разнообразие и тщательность выделки, тонкое искусство орнамента), то представление о развитой стратифицированной надобщинной политической структуре окажется еще более обоснованным.
Итак, Эрлитоу-III, столь существенно, качественно отличный от предшествовавших ему слоев, являет собой стадиально первый, наиболее ранний этап бронзового века в бассейне Хуанхэ, а олицетворяющий этот слой дворцовый комплекс вкупе с изделиями из бронзы и иными раритетами и предметами престижного потребления верхов свидетельствует о наступлении эпохи урбанизации и цивилизации, о существовании социальной стратификации и политической администрации — пусть даже в весьма ранних формах. Естествен вопрос: каким временем он датируется? Попытки ответить на него привели пока к парадоксальной ситуации.
Стоянка раскопана сравнительно недавно, когда деятельность лаборатории радиоуглеродного анализа в КНР была уже налажена. Неудивительно, что соответствующие образцы всех четырех слоев стоянки были подвергнуты такому анализу. Первые два слоя, как упоминалось, оказались весьма поздними, позднелуншаньскими по облику культуры, относящимися к XVI в. до н. э. Четвертый слой (Эрлитоу-IV), стадиально и типологически наиболее поздний, который обычно приравнивается специалистами к следующему — эрлиганскому (о нем см. ниже) — этапу бронзового века в Китае, был датирован XIV в. до н. э. (1385±85), а вот третий, о котором идет речь и который стадиально и стратиграфически должен был бы находиться между XVII и XIV вв. до н. э., оказался по радиокарбонной датировке моложе всех—1245±90. Удревнение последней даты посредством калибровки до 143О±100 [99, с. 344] ничего не меняет, ибо аналогичным образом удревняются второй и четвертый слои. Ошибочность результатов радиокарбонного анализа в данном случае очевидна, так как стадиально-типологически третий слой бесспорно предшествует четвертому. Это значит, что неверно датирован либо тот, либо другой. Не случайно в сводной таблице Ся Ная датировка Эрлитоу-III поставлена под вопрос [302, с. 229, табл.].
Этот широко известный казус ставит под сомнение точность радиоуглеродного метода датировки, что стоит отметить, поскольку за последние годы среди специалистов вера в непогрешимость радиокарбонных дат все возрастает, особенно когда речь идет об археологических культурах древнего Китая, до недавнего времени вообще не имевших точной абсолютной хронологии. Но для нас ситуация интересна еще и тем, что в любом случае Эрлитоу-III оказывается слоем достаточно поздним. Даже если игнорировать сомнительную его датировку, нельзя не признать, что стадиально он намного ближе к Эрлитоу-IV, нежели к первым двум слоям. Датировка же Эрлитоу-IV XIV в. до н. э. косвенно подтверждается аналогичной датировкой стадиально приравниваемых к нему слоев в Эрлигане. Практически это значит, что появление на территории бассейна Хуанхэ комплекса Эрлитоу-III со всеми его принципиальными нововведениями бронзового века и политической культуры не выходит за пределы середины II тысячелетия до н. э.
Комплекс Эрлитоу-III с территориально и типологически тяготеющими к нему местонахождениями раннебронзового века в уезде Яньши — по сути единственная пока четко фиксированная археологией стоянка стадиально нового типа в бассейне Хуанхэ. Ни поблизости, ни вдалеке от него не найдено следов раннего бронзового века. Иными словами, Эрлитоу-III — начало нового качества, причем начало весьма обещающее и быстро прогрессирующее. На стадии Эрлитоу-IV, хронологически едва ли отдаленной от Эрлитоу-III более чем столетием, стоянок подобного типа фиксируется уже довольно много, причем на весьма большой территории северного и центрального Китая, вплоть до Янцзы. Эта стадия (фаза) получила наименование чжэнчжоуско-эрлиганской, по имени наиболее важной ее стоянки — городища Эрлиган, раскопанного на территории современного провинциального центра КНР Чжэнчжоу.
Комплекс Чжэнчжоу-Эрлиган, который довольно долго именовали в специальной литературе раннешанским и лишь в самое последнее время в связи с открытием и изучением Эрлитоу все чаще называют среднешанским, намного внушительнее и представительнее Эрлитоу. Начать с того, что в отличие от сравнительно компактного поселения с дворцом в Эрлитоу Эрлиган был обнесенным стеной городом, причем городом большим: его стена, протянувшаяся на 7,2 км, достигала 10 м высоты и имела у основания толщину до 12 м [35]. Собственно, это первый город в истории Китая — город в полном смысле этого слова, т. е. огражденное стеной весьма крупное с большим числом жителей поселение достаточно сложной и стратифицированной общности, знакомой с разделением труда, социальным расслоением, политической администрацией.
Город был окружен тяготевшей к нему периферией, ориентировочные размеры которой 40 кв. м [270, 1957, № 8, с. 17]. Как показывает карта археологических раскопок и находок шанского времени близ Чжэнчжоу [103, с. 18], вокруг городища располагались сельские поселения, могильники, а также многочисленные специализированные мастерские бронзолитейщиков, гончаров, косторезов и других ремесленников с их складами, строениями, запасами сырья и средств труда. Что касается внутристенной территории — собственно городища, то раскопки, к сожалению, дали сравнительно немного, ибо основная его часть расположена под зданиями современного города.
Тем не менее имеется достаточно данных для подробной характеристики Эрлигана. Прежде всего, собственно шанские слои расположены поверх позднелуншаньского лодамяоского, чем подтверждаются сложившиеся стадиально-стратиграфические представления. Уже первый из них, нижнеэрлиганский, принадлежит развитой культуре бронзы, представленной городищем со стеной, мастерскими, строениями, захоронениями и т. п., хотя возможно, что стена строилась долго и была закончена лишь во второй, верхнеэрлиганский период, принципиально мало чем отличающийся от первого. В северной части городища археологами найдены земляные утрамбованные платформы со следами несущих столбовых конструкций, что позволило прийти к выводу о существовании здесь крупных дворцовых строений и ритуальных центров [97, с. 234]. Немало фундаментов зданий было обнаружено и в соседних с центральным городищем стоянках, например в Байцзячжуане.
Бронзовая индустрия Чжэнчжоу-Эрлигана намного более развита и высококачественна по сравнению с эрлитоуской. Широко представленные разнообразные по типу сосуды изящной формы, с устоявшимся орнаментом (включая меандровые пояса, тонкую резьбу с центральным местом для маски тао-те), свидетельствуют об определенном шаге вперед в деле изготовления изделий из бронзы. Строго говоря, иньская бронза из Эрлигана уже практически стоит на уровне аньянской, мало чем уступая ей с точки зрения технико-технологической и художественно-эстетической. Примерно то же можно сказать о керамике с ее разнообразием форм и типов, иногда вычурной орнаментацией, знаками-насечками типа тамг, различными способами изготовления и обжига (включая белую и глазурованную). Изделия из камня, раковин также весьма совершенны, хотя по изысканности и мастерству много уступают соответствующим аньянским образцам.
Наконец, об этом стоит сказать особо, гадательные кости из Эрлигана отличались от эрлитоуских большей степенью подготовленности их к типично иньскому обряду гадания. Эрлиганские кости снабжены большим количеством углублений, специально выделывавшихся для интерпретации результатов гадания. Были и некоторые другие отличия. Но главное — среди множества таких костей обнаружено три с надписями. Две из них — с одним знаком каждая, а третья с текстом из десяти знаков, напоминавших аньянские. Публикация упомянутых надписей, особенно третьей [282, 1957, № 1, с. 68, 74, л. илл. VI; 326, с. 38;-330, л. илл. XV], породила немалые проблемы.
Дело в том, что надписанные кости были обнаружены при условиях, не позволивших точно атрибутировать их (стратиграфия была нарушена). По мнению Чэнь Мэндзя, знаки на этих костях написаны в позднесяотуньском стиле, т. е. могут быть датированы кондом периода Шан [330, с. 27]. Версия Чэня вначале была принята специалистами, в том числе и Чжан Гуанчжи, одним из наиболее авторитетных среди них [97, с. 239]. Однако затем Чжан изменил свою позицию, полагая, что вывод о позднеиньском характере надписи неверен. Ход его рассуждений примерно таков: кость с надписью найдена в Эрлигане, где нет иных слоев, кроме ранне (средне) шанских, из чего следует, что ее нужно датировать доаньянским временем. А так как среди прочих на ней есть знак чжэнь, использовавшийся в аньянских надписях для обозначения официального акта гадания, можно предположить, что Эрлиган был столицей правителя, совершавшего такие же обряды гадания, что и позднеиньские ваны в Аньяне [99, с. 269—270].
На мой взгляд, приведенная аргументация натянута и неубедительна: если бы все было так, как трактует Чжан Гуанчжи, то одной костью с гадательной надписью находки в Эрлигане не ограничились бы. Версия же Чэнь Мэнцзя о синхронности эрлиганской надписи аньянским (пусть даже не поздним в этом Чжан, возможно, прав) заслуживает внимания, тем более что есть определенные основания для сомнений в справедливости уподобления правителя эрлиганской общности шанскому вану аньянского времени.
В Эрлигане археологи не обнаружили пышных аксессуаров подлинно царского достоинства (регалий, драгоценностей, вычурных поделок и т. п.). Возможно, сказались ограниченные возможности раскопок внутреннего пространства. Однако не следует забывать, что в аньянском комплексе такие находки были сделаны преимущественно в гробницах-мавзолеях, расположенных достаточно далеко от стен поселения. В районе Чжэнчжоу были обнаружены только могильники — но не гробницы-мавзолеи. Наиболее крупные из них — погребальные камеры размером 3x2 м, в которых находился покойник, заключенный в два гроба, внутренний и внешний. В таких камерах был обнаружен сравнительно богатый инвентарь, включая и несколько сопогребенных людей. На фоне других, гораздо более скромных захоронений (см. [103, с. 64—66; 326, с. 38—40]) эти камеры могут быть восприняты как погребение высокопоставленных политических лидеров, но статус их, судя по масштабам гробниц, был не очень высок. Отсутствие мавзолеев и регалий возможно, объясняется недостаточностью археологического изучения, но с не меньшими основаниями может быть воспринят и в качестве свидетельства того, что эрлиганский комплекс, несмотря на впечатляющие размеры самого городища, был сравнительно небольшим политическим образованием, о чем косвенно говорит и небольшой размер той округи, которая тяготела к центральному поселению и где размещались специализированные службы.
Не вполне ясно, как соотносятся друг с другом эрлитоуский и эрлиганский комплексы. Между ними много общего: одинаковые типы и формы керамики, орнаментальные штампы, включая маску тао-те, способы строительства (метод хан-ту и столбовые каркасы для крупных сооружений), каменный и костяной инвентарь. Одинаковы и изделия из бронзы, только в Эрлигане они лучшего качества и в гораздо более разнообразном ассортименте, включая и сосуды. Если принять во внимание упоминавшуюся уже хронологическую близость обоих комплексов, сходство может означать, что нововведения в Эрлитоу и Эрлигане восходят к общему пока что неизвестному нам третьему источнику. Но так как проблема источника в любом случае остается недостаточно ясной, важно все-таки принять во внимание, что типологически и стратиграфически Эрлитоу-III предшествует эрлиганским слоям бронзового века. Это особо заметно при сопоставлении бронзового инвентаря: эрлитоуские сосуды по качеству выделки, орнаментации и т. п. заметно уступают эрлиганским, явно представляя более ранний этап бронзолитейного производства.
Словом, типологически Эрлиган — следующая за Эрлитоу стадия. За ним стадиально и хронологически следует сяотуньское городище близ Аньяна, раскопки которого ведутся вот уже около полустолетия и еще далеко не завершены. Развитый бронзовый век в том его виде, как он представлен авуарами стоянок и гробниц из района Аньяна, много богаче и представительнее комплексов Эрлитоу и Эрлигана. Можно сказать, что между ними явственно просматривается существенный качественный скачок. Развитая письменность, боевые колесницы, высокохудожественное мастерство ремесленников, резкие социальные контрасты и многое другое заставляет не только противопоставлять аньянскую цивилизацию комплексам типа Эрлитоу и Эрлигана, но также и ставить под вопрос почти общепризнанный ныне тезис о том, что аньянская культура — прямой наследник чжэнчжоуской [20, с. 259—321]. Нет сомнения в том, что между ними существует тесная связь. Но было бы крайним упрощением постулировать на этой основе прямую генетическую зависимость. Видимо, по-прежнему заслуживает внимания мнение патриарха аньянских раскопок Ли Цзи [196, с. 15], считавшего, что аньянская цивилизация гетерогенна по своим истокам, причем то новое, что отличает ее, тесно связано с престижным потреблением и нуждами правящей элиты (высококачественные изделия из керамики и бронзы; письменность; пышные гробницы с сопогребением принесенных в жертву людей и богатым инвентарем; колесницы; изящная резьба по камню).
Находки последних лет кое-что добавили к общей картине трех последовательных стадий раннего бронзового века в бассейне Хуанхэ (Эрлитоу — Эрлиган — Сяотунь). Во-первых, раскопан дворцовый комплекс Паньлунчэн в пров. Хубэй близ Янцзы [84; 99, с. 297, 303; 317]. По всем параметрам (площадка-фундамент, возвышающаяся примерно на метр и сделанная методом хан-ту; ограждение по периметру всего поселения валом типа стены; строение дворцового типа с колоннадой-галереей вокруг дома размером 33х11 м) городище напоминает эрлиганское и даже эрлитоуское. Неподалеку от дворцового компаунда обнаружено несколько могил, причем одна из них с двойным резным деревянным гробом, тремя погребенными людьми и 60 предметами, включая изделия из бронзы и нефрита, керамику, оружие. Инвентарь погребений типично эрлиганский: большое количество разнообразных по типу сосудов, немало хорошо выделанного бронзового оружия. Обращает на себя внимание орнамент. Почти все хорошо выделанные орнаментальные пояса состоят из изображений маски тао-те, изредка встречаются также изображения драконов, монстров. Авторы отчета о раскопках, сближая Паньлунчэн с Эрлиганом, считают возможным стадиально и типологически поместить его между Чжэнчжоу и Аньяном [270, 1976, № 2, с. 40].
Другой комплекс, представленный находками иного типа, обнаружен еще южнее, за Янцзы, в местности Учэн пров. Цзян-си (уезд Цинцзян). Там раскопан фундамент строения и несколько захоронений, найдено большое число различных изделий, включая бронзу и керамические формы для ее отливки, что дало основание полагать, что здесь же была и бронзолитейная мастерская. Среди керамических изделий было обнаружено четыре с нацарапанными на них иероглифами, специальный анализ которых позволил прийти к выводу, что находку следует датировать самым концом Инь [323, с. 227].
Наконец, к числу находок, имеющих значение для нашей темы, следует упомянуть крупную гробницу в Суфутуне с большим числом (48 человек) сопогребенных. Среди инвентаря, обнаруженного в гробнице, две секиры, одна из которых с тамговыми клеймами в виде типично иньских иероглифических знаков, имевших характер топонимов или этнонимов. Секиры имели явно церемониальное предназначение, о чем говорит их орнамент, выполненный в виде рельефной маски тао-те [50, с. 124—125; 97, с. 269], служили символом власти и могли принадлежать лишь высокопоставленному лидеру. Поскольку могила была ограблена, находок сравнительно немного, но и то, что обнаружено, дает немало пищи для размышлений. Захоронения такого типа до сих пор были зафиксированы лишь среди так называемых царских гробниц Аньяна. Обнаружение гробницы подобного масштаба в центре пров. Шаньдун позволяет предположить, что где-то поблизости могут быть обнаружены остатки дворцового комплекса иньского времени.
Помимо рассмотренных выше комплексов и важных находок бронзового века китайскими археологами за последние десятилетия обнаружено немало других, более скромных памятников той же эпохи на довольно широком пространстве бассейна Хуанхэ и частично даже прилегающих к нему с юга территорий. Щедро разбросанные на большой территории, все эти находки, вместе взятые, убедительно свидетельствуют о том, что в середине II тысячелетия до н. э. и тем более несколько позже (XVI—XI вв. до н. э.) цивилизация бронзового века была уже достаточно известна этническим общностям, обитавшим в бассейне Хуанхэ и поддерживавшим контакты с развивавшимися центрами урбанизации и цивилизации.
Письменные памятники о Ся и Шан и археология: попытки отождествления и интерпретации
Итак, в распоряжении исследователя имеются достаточно обильные, хотя и во многом противоречивые, данные письменных памятников с полулегендарными преданиями и близкими к реальности сведениями о древнейших периодах китайской истории, а также немало археологического материала, имеющего прямое отношение к тем же отдаленным эпохам. Вопрос в том, как наиболее непротиворечивым образом сочетать то и другое и добиться таким образом максимально убедительной интерпретации.
Подобные попытки делались неоднократно. Можно сказать, что они сопутствовали всей истории археологических открытий в Китае. Однако сделать это оказалось непросто.
Как упоминалось, далеко не все ясно даже с сяотуньским городищем. Действительно ли оно было столицей вана, а не «городом мертвых», как предположил Миядзаки? И если да, то какой — той ли Шан, о которой говорится в надписях на костях (напомню, что письменные памятники дают основания отождествить последнее местожительство шанцев с Бо или Инь)? Кроме того, следует учесть ту качественную разницу, тот скачок, который отделяет аньянскую стадию от предшествующих, не знакомых (судя по раскопкам) ни с колесницами, ни с письменностью, ни с некоторыми другими отмеченными в свое время Ли Цзи нововведениями, тесно связанными с потребностями элиты. А если принять во внимание, что боевые колесницы — изобретение ближневосточных народов, скорее всего индоевропейцев, впервые их создавших и впрягших в них лошадей (до аньянской стадии следов существования лошадей в Китае нет), то проблема окажется еще более неясной и запутанной.
Немало сложностей и с эрлиганским городищем. Выдвинутое и обоснованное Ань Цзиньхуаем [264, с. 73—80] отождествление его с шанской столицей Ао было принято многими специалистами и нашло отражение в капитальных сводках [103], но оставило место для сомнений [97, с. 232, 271]. И надо сказать, сомнений достаточно оправданных. Речь идет не столько о критике отдельных аргументов в пользу такого отождествления [265, с. 448—450], сколько о некоторых принципиальных соображениях. В. Кейн справедливо заметила, что эрлиганский комплекс археологически не соответствует тому краткому сроку (два поколения правителей), который отводится на долю Ао в письменных данных. Либо не следует отождествлять эрлиганское городище с Ао, либо нельзя доверять данным письменных памятников, считает она [168., с. 358]. Но из этого следует, что в любом случае отождествление с Ао недостаточно надежно. В самом деле, археологически эрлиганское городище демонстрирует длительное (минимум два-три века) существование на одном и том же месте поселения, принадлежавшего, судя по авуарам, одной и той же культуре и, видимо, одному и тому же этносу (сегменту этноса). Более того, оно с его культурой и этносом существовало и тогда, когда уже был основан аньянский город Шан [168, с. 358], о чем косвенно свидетельствует надписанная аньянскими знаками эрлиганская гадательная кость.
Так есть ли основания отождествлять эрлиганское городище с Ао? Можно, конечно, считать, что кто-то прибыл сюда, основал город, потом быстро ушел дальше, оставив на месте часть жителей. В принципе подобный вариант не невозможен. Но в этом случае мало что остается от писаной традиции, настоятельно подчеркивавшей практику всеобщих переселений (о чем пойдет речь далее в связи с перемещением шанцев под руководством Пань Гэна). Словом, гораздо больше оснований считать, что эрлиганское городище не имеет отношения к Ао. Иногда его отождествляют с другой из шанских столиц — Бо [314, с. 69]. Однако и эта идентификация не очень убедительна. Словом, вопрос остается открытым.
Наибольшие споры вызывает проблема отождествления эрлитоуского комплекса. Сначала его довольно решительно принимали за ту самую древнюю столицу Бо, где правил разгромивший Ся и основавший новую династию победоносный Чэн Тан [97, с. 222; 307, с. 223—224]. Позже стали возникать сомнения, причем специалисты все чаще стали выдвигать аргументы в пользу отождествления этого комплекса — целиком или частично — с Ся.
В 1975 г. Тун Чжучэнь предложил разделить комплекс Эрлитоу на две части, отнеся их соответственно к Ся (два ранних слоя) и к Шан. И хотя его аргументация — если освободить ее от цитат, мало усиливающих ее убедительность,— сводится преимущественно к хронологическим доказательствам (первые два слоя датируются XVII в., приравненные к ним слои стоянки Ванвань близ Лояна — XX в., что примерно соответствует XXI—XVI вв., которые отводят Ся письменные памятники [305, с. 29—30], она не лишена логики. Во всяком случае, разница между двумя нижними и двумя верхними слоями в Эрлитоу велика и во многом принципиальна, и это подкрепляет попытку отождествления единого комплекса с разными этнокультурными компонентами.
В 1978 г. точку зрения Тун Чжучэня поддержал У Жуцзо, который в специальной статье о Ся обстоятельно подытожил существующие разногласия по поводу интерпретации культуры Эрлитоу и пришел к выводу, что первые два слоя ее следует отождествлять с Ся времени расцвета, тогда как ранний период Ся являют собой позднелуншаньские слои, а Эрлитоу третьего и четвертого слоев можно считать концом Ся и началом Шан [306]. Затем появились еще публикации, авторы которых уже вовсе «вытеснили» Шан из слоев Эрлитоу. Гипотезы Чжан Гуанчжи, Инь Вэйчжана и Цзоу Хэна в содержательном плане близки друг к другу (хотя и несколько различны в сфере аргументации) и сводятся к тому, что все четыре слоя Эрлитоу должны быть скорее всего отнесены к Ся, тогда как истоки Шан предположительно следует искать в луншаноидных слоях поселений восточного Китая, прежде всего в Давэнькоу [98, с. 90; 280; 315]. Разумеется, в любом случае авторы подобных гипотез исходят из того, что основные авуары бронзового века были одинаковыми для Ся и Шан и что в этом смысле главнейшим истоком Шан была культура Эрлитоу-Ся.
В 1980 г. Чжан Гуанчжи выступил с наиболее обстоятельно разработанным вариантом своей гипотезы о происхождении и взаимоотношениях Ся и Шан. Суть его сводится к тому, что в конце неолита (последняя треть III тысячелетия и начало II до н. э. по заметно удревненной датировке) в бассейне Хуанхэ шел процесс вызревания культуры бронзового века, протекавший параллельно в двух соседних ареалах — хэнаньском и шаньдунском. В первом на базе хэнаньского Луншаня складывались основы будущего эрлитоуского комплекса, во втором, несколько более позднем, на основе шаньдунского Луншаня (Давэнькоу) создавались основы раннешанского комплекса, следов которого археологи пока не обнаружили. Оба комплекса взаимодействовали, существуя параллельно. Первый из них следует считать тем самым Ся, о котором так много известно из письменных памятников; второй, со временем трансформировавшийся в среднешанский эрлиганский комплекс,— это Шан [99, с. 335—355].
В изложенной гипотезе привлекает стремление отойти от линейной традиции и признать параллельность развития разных вариантов. Можно согласиться и с тем, что кое-какие новшества эрлиганского комплекса имели своими истоками шаньдунские культуры, чье влияние наложилось на культурные авуары Эрлитоу, в основном сложившегося на местной хэнаньской основе. Но при этом остаются в стороне вопросы, связанные с генезисом ряда культурных нововведений бронзового века (были ли они заимствованы откуда-либо или возникали в недрах хэнаньского и шаньдунского вариантов Луншаня двумя потоками, независимыми один от другого). Главное же — не приведено доказательств в пользу того, что Эрлитоу — именно Ся, а не что-либо еще. Ведь археология имеет дело только с материальной культурой, а о культуре Ся из письменных памятников неизвестно ровно ничего. Кроме того, типологически эрлитоуский комплекс очень близок эрлиганскому, о чем уже шла речь. Все это опять подводит нас к проблеме этнокультурной и исторической близости Ся и Шан [36], если вообще воспринимать данные о Ся всерьез.
Как же трактовать проблему Ся? Несколько лет назад я уже высказал предположение, что под этим наименованием могла в свое время восприниматься совокупность этнокультурного окружения Шан в бассейне Хуанхэ [20, с. 262—263], т. е. вся ближняя к аньянским иньцам периферия. В свете новых данных приведенную точку зрения можно уточнить в том смысле, что этнокультурная среда бассейна Хуанхэ и до появления шанцев в районе Аньяна могла быть не просто аморфной совокупностью разнородных этносов и культур, но чем-то более развитым и сложившимся. В частности, вполне возможно, что Ся — как о том в несколько ином контексте писал Г. Крил [115, с. 130] — было сводным наименованием всего китайского, точнее — протокитайского, т. е. того этнокультурного субстрата, который затем влился в иньско-чжоуский комплекс, составив его основу. Соответственно не исключено, что эрлитоуский комплекс был поселением одного из ранних политических образований, совокупность которых составляла Ся.
Но в таком случае, как легко понять, практически снимается разница между Ся и Шан. Шанцы могли быть частью Ся. Впрочем, это никак не исключает того, что они могли бороться с другими родственными им частями той же этнокультурной общности (воевать с Ся) и что в ходе именно такого рода междоусобных конфликтов, столь типичных в условиях параллельного вызревания полуавтономных ранних политических структур типа чифдом, шанцы возвысились над всеми остальными. Именно эта картина и могла впоследствии найти отражение в традиции в той форме, в какой дошли до нас предания о Ся и конфликте между Ся и Шан.
Независимо от того, как будет окончательно решена проблема Ся, современное состояние археологии бронзового века в Китае позволяет поставить вопрос и об этапах (фазах) эволюции собственно Шан-Инь. Если оставить в стороне хронологически неясный эрлитоуский комплекс (Эрлитоу-III), который стадиально, и типологически является уникальным, единственным в своем роде (и который именно поэтому и отождествляют с Ся), то период существования дочжоуских памятников бронзового века в Китае окажется весьма кратким (XIV—XI вв. до н. э.). Обычно его делят на две фазы — чжэнчжоускую (XIV—XIII вв.) и аньянскую (XIII—XI вв., а по некоторым оценкам — даже XII—XI вв. до н. э. [177, с. 13]). Разница во времени столь незначительна, что в качестве критерия для членения на фазы обычно используется типология изделий (прежде всего бронзы), стадиальная их последовательность. Не пытаясь ставить под сомнение саму эту типологию, разработанную в свое время М. Лером [200] и лежащую в основе критериев для периодизации в современных исследованиях, я хотел бы вместе с тем заметить, что разбивка стоянок на раннюю и позднюю фазу с учетом только упомянутых критериев не бесспорна. Во-первых, в периферийных центрах темпы эволюции могли отставать, в результате чего более ранние стили и типы продолжали бытовать тогда, когда в столице мода давно сменилась. Во-вторых, влияние местных культурных традиций, наиболее отчетливо зафиксированное на юге, в районе Янцзы [169, с. 75], могло вообще заметно изменять общую закономерность типологическо-стадиального ряда.
Речь не идет, разумеется, о том, чтобы совсем отказаться от выделения двух фаз в пределах XIV—XI вв. до н. э. Имеется в виду другое: в аналогичном положении с эрлиганским поселением, которое скорее всего продолжало существовать в аньянский период, могли быть и многие другие периферийные центры шанского времени, а по отношению к некоторым другим трудно с точностью определить, на каком именно этапе они еще (или уже) не существовали. Кроме того, весьма важно, что только применительно ко второй — аньянской — фазе можно более или менее с уверенностью говорить о наличии центра всего обширного региона шанской культуры — района Аньяна (вне зависимости от того, считать ли сяотуньское городище столицей). По отношению же к чженчжоуской фазе такой уверенности нет (напомню, что никаких регалий, дворцовых зданий, гробниц или иных знаков власти могущественного правителя обнаружено не было, и это позволяет предполагать, что эрлиганское городище при всех его внушительных размерах было лишь центром небольшой тяготевшей к нему округи, простого протогосударства-чифдом).
Конечно, для специалиста-археолога важно четко подчеркнуть типологические и стадиальные различия между многочисленными упомянутыми комплексами и находками. Но, принимая это во внимание и отдавая должное детальному анализу типов и страт, мы вправе взглянуть на всю археологическую мозаику с позиций историка, ставящего своей целью изучить процесс генезиса и эволюции ранних форм цивилизации и государственности в Китае. Позиции такого рода побуждают подчеркнуть параллельное и практически одновременное или почти одновременное сосуществование поселений родственной серии близких друг к другу культур раннего и чуть более развитого бронзового века. Вне сяотуньского комплекса серия выглядит именно так: типологические, стадиальные и хронологические различия настолько незначительны, что при исчислении среднего существования поселения в два-три века вся картина представляет собой панораму сосуществующих и сменяющих друг друга мест обитания подразделений-сегментов какой-то разрастающейся этнической общности и находящихся в тесном контакте с ней ее соседей.
Сяотуньский комплекс с его нововведениями и спецификой резко отличен от всего остального. Какое-то время он, бесспорно, был генератором процесса распространения влияния культуры развитой бронзы в бассейне Хуанхэ, так что многие из поселений и находок обязаны своим существованием именно связям с районом Аньяна. Вопрос в том, как обстояло дело в более раннее время, на этапе становления этого комплекса. Или иначе, что кроме упомянутой разраставшейся общности (назовем ее условно Ся) было истоком комплекса, который мы более или менее уверенно можем отождествить с Шан-Инь? Гипотетический вариант решения указанной проблемы был предложен мною в 1976 г. [20, с. 311—321]. Не возвращаясь вновь к нему, я хотел бы заметить, что даже после возникновения аньянской фазы поселения позднеиньского времени вне сяотуньского центра в принципе очень незначительно отличались от тех, что, по представлениям археологов, следует отнести к чжэнчжоуской фазе.
Если попытаться перевести всю эту археологическую картину на язык истории и учесть имеющиеся документальные данные письменных памятников, то придется констатировать, что многое здесь не поддается корреляции. Во-первых, археологические данные не подкрепляют схемы линейной последовательности «династий» Ся и Шан, что было уже замечено и учтено Чжан Гуанчжи. Во-вторых, кратковременность и типологическая близость всех памятников дочжоуского бронзового века в Китае не очень согласуется с данными о длительности процесса рождения ранних политических структур (от Юя до падения Шан-Инь). Зато археология достаточно убедительно подтверждает свидетельство письменных памятников об этнической близости, гипотетических сясцев и шанцев на раннем этапе их существования, и это дает основания считать, что шанцы скорее всего были какой-то частью укрупнявшейся и разветвлявшейся этнической общности (Ся?). Впрочем, подобный вывод не исключает того, что на формировании именно этой части в ее поздней (аньянской) модификации сказалась инфильтрация культурных воздействий извне, включая, возможно, и появление группы мигрантов с запада (лошади, колесницы и др.).
Материальная культура бронзового века (вторая половина II тысячелетия до н. э.)
Бронзовый век Китая за начальные пять веков своего существования коренным образом изменил весь облик материальной культуры, доставшейся ему в наследство от неолита, еще абсолютно господствовавшего в бассейне Хуанхэ и соседних с ним регионах Китая и начавшего подвергаться лишь некоторым трансформациям в первой половине II тысячелетия до н. э. (Лодамяо и т. п.). Зафиксированные археологами памятники свидетельствуют об огромном росте уровня производства и культуры, невиданных успехах в сфере использования ресурсов и обработки материалов, качестве строительства и сооружений и т. д. Влияние культуры бронзы во второй половине II тысячелетия до н. э. распространялось от монгольских степей на севере до бассейна Янцзы на юге, от морского побережья на востоке до Ганьсу на западе [103, с. 196]. И хотя ареал, о котором идет речь, охватывал и бассейны других рек частично даже Янцзы, в основном он представлял собой территорию Великой китайской равнины, орошавшейся бурными водами и илистыми отложениями Желтой реки.
Земледельцы и река. О роли Хуанхэ в процессе сложения всей китайской цивилизации не раз писали специалисты [57, с. 245 и др.; 43, с. 99—106]. Не вдаваясь в детали, необходимо отметить, что бассейн средней и особенно нижней части Хуанхэ еще с неолита был оптимальным местом для расцвета развитой земледельческой культуры. Правда, коварная река время от времени выходила из берегов, особенно после больших дождей, переполнявших ее русло лессовыми отложениями, что приносило беду, а подчас и могло побуждать людей переселяться на новые места. Но подобные сложности были лишь умеренной платой за блага, которые предоставляла река людям.
Вопрос о взаимоотношении земледельцев с Хуанхэ заслуживает специального внимания. Принято считать, что стимулирующая земледелие роль реки сводится в основном к ее регулярным разливам и что посредством системы ирригационных сооружений (дамбы, каналы, водохранилища и т. п.) земледельцы использовали такие разливы в своих интересах, что и создавало основу для успешного развития полеводческого хозяйства, основанного на ирригации. В Китае дело обстояло несколько иначе. Урожай, как об этом убедительно свидетельствуют многочисленные данные иньских надписей, зависел прежде всего и главным образом от вовремя выпавших дождей, а не от разливов капризной реки. И это сыграло свою роль в том, что справедливый, по сути, тезис о независимости древнекитайского земледелия от искусственного орошения заслонил важную проблему взаимоотношений земледельца и реки.
Между тем они были достаточно плодотворными и значимыми вне зависимости от того, какую роль играли ирригационные сооружения на Хуанхэ (строительство которых относится к более поздней эпохе китайской истории [337, с. 16—21]). Хуанхэ, несмотря на богарный характер самого земледелия, играла существеннейшую роль в экологической системе раннего китайского земледелия, так что развитие древнекитайской земледельческой культуры связано с ней самым тесным образом. Спорадические разливы поставляли — пусть нерегулярно — илистые удобрения, без которых поля не могли бы быть плодородными, что хорошо понимали земледельцы, охотно селившиеся вдоль ее берегов, где они получали устойчивые высокие урожаи. Растущие вдоль ее берегов леса были местом расселения многих диких животных, охота на которых всегда была важным подспорьем в хозяйственной жизни земледельца. Полноводная Хуанхэ сохраняла необходимый режим влажности. Она вбирала в себя избыток влаги (иньские стоянки богаты дренажными каналами) и возвращала его, когда это требовалось. Она снабжала человека и животных водой, ее водная гладь была широким полем для добычи рыбы и водоплавающей птицы. Река была лучшим из возможных путей сообщения — важный элемент создания инфраструктуры в укрупняющихся обществах и необходимый фактор взаимосвязи во всех остальных случаях.
Земледелие в Шан-Инь в основном унаследовало неолитические традиции протокитайцев, яншаосцев и луншаньцев (луншаноидов). Однако все эти традиции были, в немалой степени обновлены и обогащены за счет инноваций, связанных с инфильтрацией элементов развитой культуры извне. Так, значительно возросло разнообразие возделываемых культур. По данным Чэнь Мэнцзя, шанцы выращивали просо и рис нескольких сортов, пшеницу, ячмень, а также бобы, горох, фасоль, коноплю [330, с. 532]. Урожай зерновых собирался, возможно, дважды в год: вначале в гадательных надписях обращались к предкам за содействием в получении урожая проса, а позже - пшеницы [103, с. 197] [37].
Мало сведений в надписях о садовых, огородных и бахчевых культурах, однако обилие аналогичных упоминаний в раннечжоуских текстах (в частности, в «Ши цзин»; см. [279]) позволяет предполагать, что шанцы в период существования аньянского городища были достаточно хорошо знакомы с садоводством и огородничеством. Косвенно об этом может свидетельствовать выращивание одомашненного тутовника, ягоды которого шли в пищу, а листья были средством выкармливания шелковичного червя — как известно, шанцы достаточно широко культивировали шелководство и умели изготовлять великолепные шелковые ткани [38].
Шанское земледелие, как упоминалось, больше зависело, от погоды, т. е. от вовремя выпадавших дождей, чем от разливов Хуанхэ. Однако это нисколько не меняло того, что его потребности в не меньшей мере, чем потребности орошаемого земледелия в долине Нила, должны были обслуживаться тщательно составленными календарными вычислениями. Специально изученный Дун Цзобинем [277] иньский календарь во многих своих принципиальных построениях (12 месяцев — с семью дополнительными вставными на каждые 19 лет; шестидесятеричный цикл; деление на десятидневки-декады и др.) сходен с ближневосточным [103, с. 228—232]. Строгое исчисление дней, декад, месяцев и лет, сезонов года имело важное значение для фиксации срока сельскохозяйственных работ и связанных с ними всех других жизненных отправлений, в первую очередь ритуалов и жертвоприношений.
Агротехника в основном воспроизводила традиции неолитического земледелия. Поля вспахивались с помощью примитивных деревянных сох типа лэй, представляющих собой крепкий сук с заостренной развилиной в нижней части [263, с. 105; 298; 338, с. 29], причем работали на поле парами (оу-гэн — парная упряжка людей). Урожай собирался при помощи ножей и серпов, рабочая часть которых изготовлялась из камня и раковин. Металл (бронза) для выделки сельскохозяйственных орудий, как правило, не применялся, в качестве исключения изредка выделывались изящные бронзовые лопатки, скорее всего для ритуальных церемониалов, связанных с земледельческими работами. Удобрение полей производилось, насколько можно судить, за счет естественного цикла (лессовые отложения, илистые наносы). Некоторые исследователи предполагают, что иньцы были уже знакомы с практикой использования органических удобрений, т. е. вывозом фекалий на поля [310], однако это мнение оспаривается их компетентными коллегами [330, с. 538].
Скотоводство. С периода Шан в Китае изменился состав стада одомашненных животных. Как уже отмечалось, впервые появилась незнакомая неолитическому Китаю одомашненная лошадь. В шанском хозяйстве использовались овцы и козы, коровы и водяные буйволы, куры и собаки. Однако центральным видом домашнего животного уже тогда была, как и ныне, свинья, преобладавшая с неолита. Выпас собранных в стада коров, овец, коз и лошадей, как это явствует из множества косвенных данных, производился вдали от земледельческих поселений. Возможно, что уход за ними был возложен на пленных или союзников из числа соседей-иноплеменников, относившихся к скотоводческим народам северных и западных степей. В целом скотоводство играло в хозяйстве шанцев настолько существенную роль, что некоторые специалисты были склонны считать именно ее первостепенной [309, с. 55]. Едва ли это справедливо. Но несомненно, что скотоводству уделялось немало внимания, среди домашних животных высоко ценились использовавшиеся в качестве тягловой силы быки и столь необходимые для боевых колесниц лошади. Собаки, бараны, быки и особенно жеребцы были всегда желанной жертвой при жертвоприношениях в честь духов, предков и великого Шанди (однако высшей жертвой считался человек — не случайно пленных иноплеменников массами приносили в жертву в честь умерших правителей).
Существует предположение — оно связано с интерпретацией некоторых пиктограмм [114, с. 75] и впервые обосновано еще в 1930 г. Сюй Чжуншу — что иньцам был известен также одомашненный слон, обитавший, как и водяной буйвол, в условиях более теплого, нежели ныне, климата долины Хуанхэ. Полагают, что слона использовали в качестве рабочей силы и транспортного средства, а может быть, и в военных действиях [103, 198; 183, с. 41; 202, с. 81]. В любом случае, однако, этот экзотический вид домашнего животного едва ли был широко распространен (в Чжоу он, как это явствует из письменных памятников, практически уже не встречался). Что же касается разводившихся в крестьянском хозяйстве видов домашнего скота, то они, видимо, ограничивались, как и позднее, свиньями, собаками и курами (может быть, еще утками и гусями).
Охота, рыболовство, собирательство как виды хозяйственной деятельности занимали большое место в повседневной жизни шанцев. Охота на кабанов, оленей, тигров, а также мелких животных — зайцев, лис, барсуков и т. п.— была не только подсобным промыслом, доставлявшим мясо и шкуры. Особое значение она имела в качестве тренировки воинов — для воспитания храбрости, выносливости и т. д. Практиковалось немало специальных видов и методов охоты [93; 330, с. 554—555].
В иньских надписях есть упоминание о ловле рыбы [330, с. 556—557]. Надо полагать, что сбор трав, грибов, ягод, питательных и лечебных кореньев и растений также играл свою скромную, но жизненно важную роль — достаточно напомнить о лечебно-шаманской практике, с которой общество Шан-Инь было вполне знакомо.
Добывающие и технические промыслы. По сравнению с эпохой неолита резко возросло значение добывающих промыслов. Для нужд бронзового литья нужны были руды и топливо, для камнерезных изделий — различные виды полудрагоценных и драгоценных минералов. Видимо, часть их добывалась самими иньцами, другая — приобреталась с помощью обмена либо в виде дани от близких и более далеких соседей. Во всяком случае этому делу уделялось немалое внимание, о чем свидетельствуют в первую очередь результаты, т. е. сами ремесленные изделия. Технические промыслы, связанные с переработкой продуктов, также занимали немало места в шанском хозяйстве. К числу такого рода промыслов, преимущественно домашних, крестьянских (т. е. не специализированных), относились обработка шкур диких и домашних животных, прядение шерсти и выделка холста, выкармливание червей и изготовление шелковой пряжи. Вообще прядение и ткачество были широко распространены. Ими занимались сами крестьяне в свободное от сельскохозяйственных работ время, в первую очередь женщины. Однако выделка лучших тканей и одежды была уже делом мастеров-специалистов. При раскопках обнаружено немало остатков одежд (в том числе шелковых со следами вышивки и набойки), соломенных или сделанных из бамбуковых полос циновок, а также сеток, корзин, множество пуговиц, застежек и запонок из камня, кости, раковин [103, с. 198; 253]. Обращает на себя внимание высокое качество изделий, художественный вкус и хорошая квалификация мастеров и мастериц. Тоже самое можно сказать и о других отраслях ремесленного производства, которые в Шан-Инь приобрели высокую степень специализации.
Строительство и архитектура. В частности, это относится к сфере строительства. Правда, на тяжелых земляных работах при сооружении фундаментов массивных зданий, возведении стен или рытье гробниц обычно использовался труд всего населения, обязанного выходить на общественные и общественно значимые работы. В таком случае, конечно, большой специализации не требовалось. Однако и в рассматриваемой сфере уже выделилась немалая прослойка специалистов — производителей работ, мастеров-плотников. Применялись принципиально новые технические приемы, такие, как метод хан-ту. Сооружения столь грандиозного размера, как эрлитоуский или паньлунчэнский дворцы, эрлиганская стена, аньянские гробницы-мавзолеи правителей, уже не могли создаваться без специального опыта архитектора, специалиста по креплениям и перекрытиям, изготовление которых было делом весьма не простым.
Исследователи обратили внимание на одну из шанских пиктограмм, которая изображает здание: прямоугольник на широкой платформе, покрытый треугольной крышей. Пиктограмма очень напоминает по облику древнегреческие храмы, также воздвигавшиеся на высокой платформе и крытые треугольными покрытиями. Разница лишь в том, что шанцы в отличие от греков камень обычно при строительстве не использовали [114, с. 67—68]. Фундамент сооружений обычно воздвигался из трамбованной земли, а корпус — из легких деревянных конструкций. Строительство зданий, равно как и гробниц, требовало тем не менее немалого мастерства и специальных знаний (подробнее см. [103, с. 39—79; 197, с. 174—189]). Разумеется, это не относится к крестьянским жилищам, которые сооружались в общинной деревне по обычному стандарту, во многом восходящему к эпохе неолита.
Камнерезное дело среди отраслей ремесленного производства, которые выделились в самостоятельную отрасль, стояло наиболее близко к неолиту по традициям, материалам и методам. Обработка камня известна человечеству с незапамятных времен, а умение хорошо обработать, отшлифовать каменное орудие — топор, ноле, тесло и т. п.— как раз и явилось одним из важных, принципиальных нововведений неолита. В этом отношении искусство обработки камня в эпоху бронзы внесло мало что нового. Набор каменных орудий, которыми располагали иньские камнерезы (топоры, ножи, остроконечники, приспособления для полирования, шлифовки, перфорации и т. п.), был примерно тем же, что и раньше. Новым было то, что теми же самыми орудиями шанские специалисты-камнерезы в отличие от своих неолитических предшественников создавали невиданные прежде по качеству и мастерству изготовления изделия. Наряду с обычными орудиями труда они занимались изготовлением поделок ритуального церемониала, а также разнообразных украшений, статуэток и т. п.
Китайский неолит не знал ничего похожего. Опытные шанские мастера-камнерезы выделывали тонкие скульптурные изображения животных или человека, причем в последнем случае — с тщательно выполненными складками одежды, орнаментом и украшениями. Из нефрита, мрамора и других пород камня они делали изящные кольца, диски, жезлы, подвески, а то и целые сосуды [103, с. 93—125, л. илл. X—XX].
Резьба по кости, как и обработка раковин, была известна и широко распространена еще в неолите. Но в шанское время это искусство стало делом специалистов-мастеров, поднялось на несколько ступеней, достигнув высокохудожественного уровня. Достаточно упомянуть в качестве примера об изящной и сплошь покрытой вычурной резьбой костяной рукояти из Сяотуни [196, с. 30; 197, с: 22]. Преобладающая в орнаменте маска тао-те исполнена мастером столь высокой квалификации, богатого опыта и безупречного художественного вкуса, что по всем статьям работа этого неизвестного иньского костореза стоит рядом, а то и превосходит те изделия поздних китайских мастеров (типа «сфера в сфере» из слоновой кости), которые занимают и поныне столь почетное место в различных музеях мира.
Из кости шанские резчики изготовляли небольшие сосуды, обычно покрытые орнаментом, навершия, шпильки для волос, гребни, дудочки-флейты, застежки, а также оружие: наконечники стрел, копий, гарпунов и т. п. Такие же мелкие предметы делались и из раковин, которые применялись также и при выделке бус, браслетов, при инкрустации и т. п. Наконец, ремесленники-косторезы были причастны к обработке и подготовке материала для гаданий — бычьих и бараньих лопаток и панцирей черепах. Словом, резьба по кости была достигшей весьма высокого уровня отраслью производства, представленной специализированными мастерскими и большим количеством самых разнообразных изделий [103, с. 126—136, л. илл. XXII—XXV].
Обработка дерева была известна в неолитических культурах Китая очень мало (из жердей изготовлялись каркасы строений-полуземлянок, из грубо обтесанных досок изредка делали гробы). Во всяком случае деревообделочное мастерство, даже имея в виду практику изготовления лука и стрел, древко для каменных орудий, копий и т. п., было в неолите лишь в зачаточном состоянии. Плотницкое мастерство шанцев несоизмеримо выше. Мастера по дереву не только умели стругать и тесать бревна и доски для нужд строительства, включая и точную технику деревянного перекрытия. Из пиленых и струганых досок они изготовляли великолепные саркофаги, деревянные части различных инструментов, включая музыкальные, а также изогнутые детали колесниц, мебель и многое другое.
Из дерева искусно вытачивались шкатулки, бадейки, сосуды, причем поверхность их, как правило, покрывалась затейливой орнаментальной росписью-резьбой. Следы одной из таких резных деревянных поверхностей, сохраненные в виде обратного отпечатка в глине, хорошо видны на иллюстрации [103, л. илл. VI б]. Есть веские основания считать, что искусство тонкой обработки дерева было привнесено в шанскую культуру извне — достаточно напомнить о мастерстве изготовления колесниц, незнакомых китайскому неолиту.
Керамика. Как и обработка камня, керамическое производство восходит к местным неолитическим корням. Не изменились принципы обжига. Среди грубых повседневных глиняных сосудов абсолютно преобладали типично луншаньские формы. Однако появилось и немало нового, в первую очередь в методах обработки поверхности сосуда,— иная орнаментация, резьба, аппликация. Резной орнамент, неизвестный в дошанскую пору, с Шан-Инь стал преобладать, причем характер орнаментации, основные мотивы и символы были теми же, что и в резьбе по камню, кости, дереву и в литье изделий из бронзы — имеется в виду прежде всего маска тао-те. Кроме того, в Шан появились новые формы сосудов, в том числе и прямоугольные, которых в неолите не было и которые, видимо, генетически восходят к деревянным образцам типа шкатулок-бадеек. Наиболее изысканные из керамических изделий изготовлялись в специальных мастерских, подчас из тщательно выделанного керамического теста (в том числе белого, типа каолина). Многие из них были точной копией бронзовых как по форме, так и по орнаментации.
Металлургическое производство. Бронзолитейному делу шанцев посвящено множество специальных работ, включая целые монографии [86]. Литье бронзы было, по крайней мере частично, тесно связано с керамическим делом, т. е. с изготовлением глиняной модели будущего изделия, в первую очередь сосуда. Обожженная модель обычно « облеплялась со всех сторон слоем жидкой глины, плотно, прилегавшей к поверхности и запечатлевавшей весь сложный орнамент. Затем высохшая глиняная рубашка разделялась на куски-секции и отделялась от эталона. Куски обжигались, после чего посредством сложной системы внутренних креплений они воссоединялись снова в единое целое, форму-мульд, в которую затем и вливалась расплавленная бронза.
Разумеется, описанный процесс был достаточно сложен и трудоемок. Описанию его технологических деталей Н. Барнард посвятил значительную часть своей работы, так что нет нужды в деталях его воспроизводить. Достаточно отметить, что в своем искусстве бронзового литья шанские мастера достигли виртуозности и что у истоков их искусства кроме самой идеи бронзовой металлургии, явно внешней по отношению к китайскому неолиту, лежали и многие приемы изготовления резной орнаментации на керамике, которые также отсутствовали в дошанском Китае. К неолитической китайской керамике восходит лишь форма большинства сосудов — круглых и изысканно-изогнутых, геометрически симметричных и вычурных, с ножками и без них. Что же касается прямоугольных сосудов или изделий неправильной формы в виде фигур различных животных либо целых композиций (тигр, сова, носорог, слон, человек с тигром и т. п.), то здесь прототипом служили изделия из дерева и кости либо сама натура. В принципе иньские литейщики могли выплавить что угодно, и они убедительно демонстрировали это на практике [103, л. илл. XLI—XLV].
Кроме сосудов из бронзы изготовляли церемониальные изделия, оружие, украшения, символы власти (жезлы и др.), а также мелкие поделки повседневного обихода. Более простыми были формы боевого оружия: топоры, ножи, наконечники стрел и копий, клевцы и т. п. Сложней выглядели различные навершия, символы и т. п. Бронзовых изделий изготовлялось много, однако все производство было строго специализировано и централизовано, что видно как из характера находок (бронзолитейные мастерские располагались обособленно, неподалеку от города), так и из сведений о металлургическом производстве, сохранившихся в более поздних чжоуских текстах, например в «Чжоу ли» [324, т. 14, раздел «Као гун цзи»]. Во всяком случае едва ли может вызвать сомнения то, что мастера по металлу, кузнецы были одной из наиболее привилегированных социальных групп, обслуживавших непосредственно потребности правителя и его близких, его аппарата, его дружины. В повседневном быту простых крестьян бронза практически не использовалась, как почти не были известны изделия из других металлов, например из золота и серебра, чистой меди и др.
Ранние политические структуры в Китае
Итак, письменные памятники и данные археологии, несмотря на их противоречивость и сложность интерпретации, дают основание заключить, что в бассейне Хуанхэ в середине II тысячелетия до н. э. шел медленный, но весьма заметный процесс вызревания как очага цивилизации, так и связанных с ним древнейших надобщинных политических образований типа протогосударств-чифдом. Попытаемся дать его гипотетическую реконструкцию.
Предания о Хуан-ди, Яо и других героях-ди вполне вписываются, в обычную схему трансформации социальной и политической структуры общества периода перехода от меритократии к привилегиям правящего слоя, к наследственному в рамках клановой линии правлению возвысившегося над общинами вождя, а затем и ко все более заметному политическому, социальному и имущественному неравенству слоев-страт в зависимости от их места в системе администрации, роли в управлении совокупным хозяйством коллектива. Полулегендарные предания письменных памятников демонстрируют этот процесс с достаточной степенью убедительности, хотя очень похоже на то, что он реально протекал на несколько столетий позже, нежели о том говорится в текстах, т. е. в период появления, распространения и развития культуры бронзового века в древнем Китае.
Явственный упор на мудрость древних правителей, способности их чиновников и помощников и проистекавшие в результате блага для всех управляемых призваны в письменных преданиях подчеркнуть как раз то, что было особенно важным для ранних обществ,— критерий меритократии, уже подтачивавшийся новыми принципами наследственной администрации. В преданиях, касающихся Ся и тем более Шан, акцент уже изменен: главное теперь — подчеркивание легитимности правящей линии («династии»). И это следует воспринять в качестве убедительного, свидетельства того, что меритократия как основной принцип администрации уходила в прошлое, а на смену ей шло наследование власти. Конечно, такое изменение может быть объяснено амбициями чжоусцев, редактировавших древние тексты и придававших им нужное для легитимации власти Чжоу звучание. Однако применительно к героям-ди подобного акцента даже в чжоуской редакции «Шу цзин» нет, что свидетельствует об определенной объективной разнице в ситуации.
Процесс трансформации социально-политической структуры шел, по-видимому, одновременно на довольно большом пространстве бассейна Хуанхэ (возможно, частично и южнее). Очень трудно сказать, как конкретно выглядела его начальная стадия. Можно лишь предположить, что, будучи гетерогенным по истокам (включая и внешние по отношению к Китаю истоки), процесс получил ускоривший его толчок вследствие инфильтрации внешних компонентов (будь то элементы новой культуры или группа мигрантов, их принесшая). На эту сторону вопроса обращали внимание специалисты, в том числе писавшие о противостоянии земледельцев бассейна Хуанхэ и скотоводов к северу от него ([197; с. 264; см. также [124, с. 336—337; 194 с. 93]).
Если даже исходить из того, что начальный толчок социально-политическим сдвигам мог быть дан внешними по отношению к неолитическому Китаю компонентами, то дальнейшее развитие шло преимущественно за счет сложных внутренних процессов в рамках уже подготовленного к трансформации поздненеолитического Китая. Нет никакого сомнения в том, что местное неолитическое население сыграло решающую роль в ходе формирования новых этнических общностей бронзового века, будь то Ся или Шан.
Из полулегендарных преданий явствует, что рассматриваемый процесс шел отнюдь не в идиллических формах. Видимо, вариант, связанный с возникновением поля напряженности, оппозиции враждебной среде и т. п., был реальностью и в древнем Китае II тысячелетия до н. э. Похоже на то, что проникновение в бассейн Хуанхэ влияний извне сыграло роль катализатора, резко ускорившего процесс, подготовленный предшествовавшим ходом истории. Следует отметить, что результатом было возникновение автономных коллективов, получивших импульс для трибализации и последующего формирования в самостоятельные политические образования, вначале типа простых чифдом.
На каком-то этапе этого процесса, этапе, уже близком к завершающей стадии, началась ожесточенная борьба между соперничавшими лидерами, зафиксированная в преданиях, где она сопровождала чуть ли не каждый шаг жизни Хуан-ди, Яо и других правителей. Похоже на то, что она была длительной и нелегкой и шла с переменным успехом. Победы и поражения чередовались, что вызывало укрепление одних и перемещение других, создание новых центров, расширение и сужение сфер влияния и т. п. В конечном счете соперничество вело к укреплению власти наиболее удачливых, чьи административные центры становились зоной притяжения для остальных поселений. На этой основе возникал эффект кристаллизации, действие которого вело к замене простых чифдом более крупными, сложными, составными.
Все известные нам доаньянские комплексы, будь то Эрлитоу, Эрлиган, Паньлунчэн или другие, представленные пока лишь фрагментарными находками отдельных предметов или гробниц шанского времени, были, видимо, образованиями типа простых чифдом. Собственно, все они в совокупности и на протяжении всей шанской эпохи были тем самым этнокультурным субстратом и вместе с тем социально-политическим резервуаром, из недр и на основе которого сформировалась, выделилась и возвысилась общность шанцев.
Судя по данным преданий, на территории, о которой идет речь, шла постоянная и ожесточенная борьба политических лидеров, глав надобщинных образований. Параллельно ей шла не менее острая борьба внутри таких образований, точнее, в их правящих кланах, причем именно в ходе внутренних распрей вырабатывалась формула, которая позволяла перейти от свободного выбора лидера к выдвижению его из среды узкого круга высокопоставленных кандидатов, преимущественно из наиболее влиятельной линии клана или нескольких соперничающих таких линий поочередно. Именно в ходе такого рода внешней и внутренней борьбы и могла сложиться в конечном счете та общность шанцев, которой суждено было выйти на передний план, подчинить себе остальных (победить Ся) и возглавить достаточно крупную и разветвленную, расположившуюся на большой территории бассейна Хуанхэ политическую структуру типа сложного составного протогосударства-чифдом.
Археологически такой вывод опирается на достаточно прочную основу: ни один из компонентов доаньянской фазы не может претендовать на то, что представляемая им общность была чем-то большим, нежели простое чифдом. Но вывод о том, что аньянская структура была первой в своем роде, т. е. первым составным чифдом, косвенно может быть подтвержден также и материалами преданий, в частности сообщениями тех текстов, которые касаются событий, непосредственно предшествовавших созданию аньянского поселения.
В «Шу цзин» довольно подробно и красочно описываются обстоятельства переселения шанцев при Пань Гэне. Независимо от того, считать ли это поселение последним (т. е. отождествлять ли новое место поселения с аньянским комплексом), описание само по себе дает немало материалов для анализа, даже при условии, что текст главы «Пань Гэн» был отредактирован чжоусцами много веков после описанных в нем событий[39]. Рассказ начинается с того, что под давлением неясных обстоятельств, но со ссылкой на прецедент («наши прежние ваны... не постоянно пребывали в одном поселении») и волю Неба, выраженную в результате гадания, с твердой уверенностью в успехе («Небо навечно продлит нам свой мандат в новом поселении») Пань Гэн предложил своему народу подняться с насиженных мест и отправиться на новое. Однако его решение было встречено без энтузиазма («народ не хотел покидать свои места»). Натолкнувшись на сопротивление, Пань Гэн вызвал к себе старейшин и обратился к ним с увещеваниями [333, т. 3, с. 303—305].
Упрекнув их в плохом выполнении своих функций («В Древности прежние ваны тоже использовали почтенных людей в управлении. И если ван принимал решение, они не скрывали его смысла... и народ внимал ему. Ныне вы выступаете против... Почему вы не говорите прямо мне, а шепчетесь между собой?» [333, т. 3, с. 303—305]) и приведя далее целый ряд доводов, Пань Гэн строго заключил, что каждый обязан делать свое дело, в противном случае ему грозит суровое наказание, после чего прибавил, что все делается во имя общего блага и что именно он в ответе за это («Если государство процветает, то это благодаря всем; если оно хиреет, то это от того, что я, Единственный, недостаточно строг» [333, т. 3, с. 310]).
Видимо, внушения сыграли свою роль, и Пань Гэн двинулся в поход, пересек Хуанхэ (в отличие от Сыма Цяня «Шу цзин» не указывает, в каком направлении), но вскоре обнаружил, что за ним двинулись не все. Тогда он остановился, снова собрал народ и на этот раз обратился ко всем. Прежние ваны, сказал он, никогда не вспоминали о покинутых ими родных местах, коль скоро необходимо было их покидать. И если он, Пань Гэн, сегодня снова двинулся в путь, то только потому, что так надо. Переселение — в общих интересах, в интересах государства; таков великий приказ Неба. [333, т. 3, с. 311—313]. И если народ не пойдет за своим правителем, то умершие ваны нашлют на него бедствия и невзгоды («Вы мой народ, о котором я забочусь; если в вашем сердце зло против меня, то прежние правители накажут ваших предков, а ваши предки отрекутся от вас и не станут защищать вас от смерти» [333, т. 3, с. 314—315]. Далее Пань Гэн заметил, что среди его помощников есть влиятельные люди, которые грешат стяжательством («накапливают раковины и нефрит»), и что за такой грех их предки тоже сурово их покарают [333, т. 3, с. 315].
Видимо, второе обращение имело больший успех. Во всяком случае народ последовал за Пань Гэном и прибыл на новые места, где всем были выделены земли для поселений и быд заложен новый столичный центр. После этого ван еще раз сурово предупредил руководителей, чтобы они должным образом управляли народом и всячески почитали лично его, который с помощью первопредка Шанди намерен привести в порядок свой дом и свое государство («О вы все, бан-бо (управители государства.— Л. В.), ши-чжан (старшие.— Л. В.), байчжи шичжи- жэнь (и администраторы-чиновники.— Л. В.), встанете ли вы на путь добродетельного, управления!?» [333, т. 3, с. 320]). В заключение Пань Гэн снова сурово предупредил своих слушателей против стяжательства («Не Привязывайтесь к богатствам и ценностям, заботьтесь о создании должных условий жизни» [333, т. 3, с. 321]), выступил за добродетель и единодушие.
Разумеется, в тексте столь же много чжоуской дидактики и этического детерминизма, как и в других главах «Шу цзин». Немало здесь и анахронизмов, в частности, в употреблении терминов. Тем не менее текст весьма показателен. Перед нами сравнительно развитая, хорошо знакомая с надобщинным лидерством, стратификацией и разделением труда политическая структура типа протогосударства-чифдом. Власть правителя высока, престиж его велик, того и другого оказалось достаточным, чтобы поднять целый народ с насиженного места и направить — явно вопреки его желанию — на новые места. Несомненны сакральное возвеличение и обожествленная легитимация власти правителя: он то и дело ссылается на волю Неба, первопредка Шанди и собственных предков, чьи явно осененные благодатью души способны оказать воздействие на предков его народа в нужном для него направлении. Однако ван далеко еще не всесилен. Он просит, уговаривает, урезонивает, снова упрашивает, пытается пригрозить.
Видимо, немалой властью пользуется его окружение, в состав которого входят — если иметь в виду не букву чжоуских терминов, а суть, выражаемую в принятой чжоусцами терминологии,— управители центрального аппарата (бан-бо), старшины подразделений шанской этнической общности (ши-чжан), чиновники среднего и низшего рангов (байчжи шичжижэнь). Это окружение почитает, конечно, обожествленного (или во всяком случае имеющего немалую сакральную силу) вождя, но еще весьма далеко от того, чтобы быть автоматическим исполнителем его воли. Оно всеми нитями связано с управляемым им коллективом и выражает его интересы в не меньшей степени, чем следует приказу сверху, как то характерно для любого общества аналогичного типа.
Наконец, в структуре в целом уже весьма заметно не только социальное, но и выступающее в качестве его функции имущественное неравенство. Влиятельные верхи накапливают в своих руках ценности, что рождает среди них опасный вирус стяжательства. Обеспокоенный ван дважды возвращается к этому вопросу, стремясь устыдить и урезонить своих помощников, воззвать к их долгу и совести. Подобная позиция понятна. Для правителей любой акцент в сторону частного накопительства представлял собой угрозу структуре в целом. Трудно сказать, насколько такая угроза была ощутима во времена Пань Гэна. Не исключено, что акцент на ней был сделан чжоускимн авторами главы в середине I тысячелетия до н. э., когда проблема частного стяжательства стояла уже очень остро. Но вполне возможно, что в каком-то виде, пусть много более слабо, чем тысячелетие спустя, подобный вопрос беспокоил уже Пань Гэна. В таком предположении нет ничего невероятного, особенно если учесть ту роскошь и то обилие драгоценностей, которыми поражают авуары аньянского городища и гробниц-мавзолеев шанских ванов.
Остается не вполне ясным одно немаловажное обстоятельство: насколько многочисленным был шанский этнос при его последнем переселении и составлял ли он при этом единую, пусть крупную, но простую политическую общность или уже распадался на несколько политических структур типа простых чифдом, которые соединялись в вассально-пирамидальную структуру сложного чифдом? Для развитого шанского общества времен У Дина второй вариант был фактом. Но было ли так уже при Пань Гэне?
Из некоторых деталей описания в «Пань Гэн» можно заключить, что в период, непосредственно предшествовавший возникновению аньянского городища, шанцы являли собой еще единую в структурном плане общность. Народ был, по описанию, достаточно велик, но его все-таки можно было собрать воедино, с тем чтобы правитель обратился ко всем с речью. Народ был достаточно компактно размещен, чтобы его можно было сравнительно легко и быстро собрать и переселить, а также заметить, все ли принимают в этом участие. Наконец, общность была достаточно едина для того, чтобы не расколоться при переселении на части, ряд которых в ином случае вполне мог бы остаться там, откуда они не хотели уходить. Все приведенные соображения дают основание полагать, что при Пань Гэне численность иньцев была умеренной (порядка, скажем, нескольких тысяч, от силы одного-двух десятков тысяч человек), а занятая ими на новом месте территория соответственно весьма скромной (порядка нескольких десятков километров в радиусе от центра). Эти размеры в общем и целом соответствуют крупному, но структурно простому чифдом.
Чем кончались подобные описанному в главе «Пань Гэн» перемещения, сколь долго тянулись они и какие приключения выпадали при этом на долю мигрантов — неизвестно. Впрочем, неясным остается и многое другое, включая вопрос о том, как новопоселенцы приобретали те из важных элементов их культуры, которые никак не могут считаться достижением спонтанной эволюции, как, например, упоминавшиеся уже боевые колесницы, бывшие отнюдь не случайно периферийным, но едва ли не основным и структурообразующим элементом того этноса, который осел в Аньяне: ведь боевая колесница была символом и реальной силой шанской аристократии, с ее помощью навязавшей свою власть чуть ли не всей окружающей ее территории бассейна Хуанхэ. Но, как бы то ни было, факт остается фактом: в конце XIII в. до н. э. (по весьма завышенным подсчетам — в начале этого века[40]) в районе современного Аньяна осела достаточно крупная и развитая этнокультурная общность шанцев. И с этого момента начался новый этап в развитии древнего Китая.
Глава третья. Социальная структура и администрация Шань-инь
Переселение шанцев в район Аньяна привело к превращению его в центр процесса урбанизации, основной очаг древнекитайской цивилизации. Эта часть бассейна Хуанхэ была освоена земледельцами задолго до прихода туда шанцев. На территории сяотуньского поселения археологи обнаружили следы луншаноидной культуры и даже ранний «додинастический», т. е. датируемый временем до Пань Гэна, слой бронзового века (см. [196, с. 40—46; 197, с. 104; 99, с. 76—86]). Другими словами, район издавна был обитаем. Не исключено, что он назывался Инь, как о том свидетельствуют данные «Чжушу цзи- нянь» и как это склонны считать современные исследователи [99, с. 69; 197, с. 173, 262, карта 65]. Иначе просто невозможно объяснить тот факт, что после перемещения на новое местожительство шанцы стали именоваться окружавшими их народами по-новому (иньцы)[41] хотя сами себя они продолжали именовать по-прежнему. Как бы то ни было, с момента переселения в Аньян мы имеем дело уже с общностью Шан-Инь, причем наименования «Инь», «иньцы» становятся — во всяком случае в последующей историографической традиции — наиболее обычными, заметно вытесняя прежние («Шан», «шанцы»).
Территориально-административная структура
Район Аньяна оказался для шанцев своеобразной землей обетованной. Укрепившись там, они начали энергично осваивать пустующие — да и не только пустующие — соседние территории. Увеличиваясь в числе в условиях стабильного оседлого существования, подданные иньского вана успешно расселялись вокруг новой столицы, закладывая тем самым основу для последующего расширения границ и роста сферы влияния, политического могущества Шан-Инь.
В иньских гадательных надписях начиная со времен У Дина содержится множество записей о создании новых поселений:
«Построил большое поселение (и) в...»;
«Создал большое и в земле Тан»;
«Ван [решил] возвести и. Предки-ди согласны»;
«Я [намереваюсь] построить и»;
«Я построил это и» [330, с. 321—322].
В генеральной сводке Сима Кунио приведены 44 надписи о строительстве поселений-и (см. [99, с. 159]), из чего следует, что создание нового поселения для очередного сегмента разросшейся общности было обычным делом в Шан-Инь. Однако при всей рутинности подобной акции, как таковой, учреждение каждого нового и не могло не быть делом исключительной политической важности. Чжан Чжэнлан особо подчеркивал, что строительство поселений было «делом вана», который лично заботился о том, кого и куда послать для возведения нового и, кому жить в нем [321, с. 114].
Сооружение нового поселения означало не просто наделение землей очередной группы иньцев, не только вычленение из разраставшейся общности какого-то коллектива переселенцев, но прежде всего и главным образом формирование нового подразделения в рамках сложившейся административно-политической структуры. Подразумевалось, что его глава не только будет реально руководить им, но и приобретет немалую политическую силу, фактически окажется в рядах титулованной владетельной знати. Все эти соображения принимались во внимание при учреждении где-то вдалеке от столицы новых и, которым предстояло стать как форпостами иньской культуры, так и полуавтономными региональными подразделениями разраставшегося коллектива. Вполне вероятно, в частности, что новые поселения создавались для близких родственников правителя и важных сановников, для тех, кто в силу его родственной близости к вану или высокого социального положения мог претендовать на соответствующий политический статус, приобретавшийся при назначении его руководителем нового поселения, т, е. при превращении в регионального администратора и владетельного аристократа. Чжан Гуанчжи со ссылкой на одну из ранних работ Ху Хоусюаня отмечает: «Надписи на гадательных костях свидетельствуют, что многие сановники шанского двора, так же как и некоторые принцы и супруги вана, имели вне столичной зоны собственные огражденные стенами поселения, откуда они, видимо, получали часть своих доходов» [99, с. 161].
Процесс создания новых поселений и соответственно освоения все большей территории вокруг столичной зоны шел медленно и постепенно. Возможно, что со временем разраставшиеся вокруг столицы первоначальные поселения тоже давали начало отпочковывавшимся от них дочерним коллективам и, в свою очередь, обрастали тяготевшими к ним поселками-и. Во всяком случае в то время как число записей о создании ваном новых и ограничивалось немногими десятками, общее количество таких поселений в шанскую эпоху, по подсчетам Дун Цзобиня, равнялось примерно тысяче [99, с. 210]. Стоит напомнить также, что рассматриваемый процесс шел не в вакууме. В сравнительной близости от шанцев проживали соседские этнические общности, как родственные, так и чужие им, как освоившие в той или иной степени нововведения бронзового века (Ся?), так и незнакомые с ними (неолитические земледельцы). Могущество Шан-Инь, его культурный потенциал и политическое влияние создавали определенное поле тяготения. Это вело к тому, что часть иноплеменников по мере экспансии шанцев инкорпорировалась ими и включалась в состав Шан-Инь (за счет чего также могло увеличиваться число поселений-и). Другая часть их, напротив, под влиянием внешней угрозы ускоряла темпы развития и через трибализацию достаточно быстро конституировалась в самостоятельные политические структуры типа чжоуской. Третья, к которой принадлежали более отдаленные и нередко занимавшиеся преимущественно скотоводством этнические общности, ограничивалась, видимо, трибализацией без быстрого формирования самостоятельной политической структуры.
Можно заключить, что к концу периода Шан-Инь иньская общность стала уже достаточно многочисленной. Разросшись за счет внутренних ресурсов и, возможно, адаптации части иноплеменников, она, по подсчетам Сюй Ляньчэна, достигла примерно 150—200 тыс. [297, с. 131]. Видимо, эта цифра близка к истине, особенно если принять во внимание, что территория расселения иньцев охватывала десятки тысяч квадратных километров (согласно Чжан Гуанчжи, она с севера на юг простиралась примерно на 165 км [99, с. 70—71]). И хотя о сколько-нибудь очерченных границах ее не может идти речи, в принципе упомянутые размеры, судить о которых позволяют археологические находки шанского времени, достаточно впечатляют.
Что касается внешних по отношению к иньцам территорий, то они вряд ли были плотно заселены, особенно на западе и севере, откуда шанские поселения наиболее часто подвергались набегам со стороны воинственных соседей. Однако тем не менее все окружавшие шанцев племена и политические образования явственно тяготели к району расселения иньцев и были, по сути, частью политической метаструктуры с центром в виде столицы шанского вана.
Метаструктура состояла из трех зон — внутренней, промежуточной и внешней, которые в Шан-Инь графически воспринимались как концентрические квадраты, ориентированные по странам света [330, с. 325], что было свойственно пространственным представлениям древних китайцев. Географическим ориентиром, т. е. центром зональной схемы, считалась столица иньского правителя с тяготевшей к ней ближней округой, находившейся в сфере администрации вана. Видимо, территориально это была та площадь, которую освоило в районе Аньяна первое поколение переселившихся туда шанцев [42].
В центральной зоне, радиусом едва ли превосходившей несколько десятков километров, размещалось немало поселений, включая и столицу вана. Вокруг них были расположены пахотные земли, различного рода луга и угодья, резервные территории и земли специального предназначения (включая леса), использовавшиеся для облавных охот, военных тренировок, для сбора и формирования войск в случае больших экспедиций [103, с. 200—201]. Эта зона была основным объектом забот иньского вана и его администрации; именно о ней больше всего сведений в надписях.
Промежуточная зона, возникшая в ходе расселения дочерних общин и ассимиляции местного нешанского населения с последующей адаптацией его шанцами, состояла из немалого числа мелких и более крупных полуавтономных региональных подразделений, которые не находились под непосредственным административным контролем центра. Однако ван постоянно уделял внимание этим подразделениям, которые в его восприятии группировались по странам света:
«В Шан получен [урожай], на восточных землях
получен урожай,
на южных землях получен урожай, на западных землях
получен урожай,
на северных землях получен урожай» [330, с. 316];
«Ту-фан вторглись на наши восточные окраины (би), разрушили два поселения; Цюн-фан также вторглись на поля наших западных окраин (би)» [330, с. 322].
Из многих аналогичных надписей явствует, что промежуточная зона — при всей автономности входивших в нее административных единиц — не только была в поле внимания вана, но и составляла в некотором смысле единое целое со столичной зоной. Не случайно специалисты подчас выделяют лишь два территориальных пояса — внутренний (нэй-фу) и внешний (вай-фу). В таком членении есть определенная логика, поскольку весь внутренний пояс был территорией расселения собственно иньцев и потому подлежал бесспорной юрисдикции вана, осуществлявшейся либо непосредственно, либо опосредованно, через региональных администраторов. Ван заботился об урожае, о благополучии на окраинах, о благоденствии региональных администраторов, что находилось в достаточно резком контрасте с его отношением к властителям внешней зоны: нет ни одного свидетельства о том, чтобы ван заботился об урожае там [330, с. 639]. Иными словами, разница между самими иньцами с их землями (сы-ту) и соседями внешней зоны (сы-фан) была наиболее существенной. Однако с точки зрения темы данной работы не менее важно обратить внимание и на различие между двумя внутренними зонами. Ведь именно процесс формирования промежуточной зоны показывает, как возникали и какую форму принимали социальные, экономические и политические отношения на заре государственности в Китае, или, более конкретно, как первоначальное простое протогосударство шанцев трансформировалось в сложное составное чифдом с иерархическим подчинением центру периферийных образований, складывавшихся по его образу и подобию и превращавшихся в его региональные подразделения.
Данные иньских надписей позволяют предположить, что промежуточная зона состояла из многих десятков как мелких (2—4 поселения), так и крупных (30—40 поселений) региональных подразделений [330, с. 322; 103, с. 201]. В качестве их управителей выступали титулованные аристократы, обычно связанные клановыми узами с населением управляемых ими районов. Совпадение этнонима, топонима и личного имени руководителя регионального подразделения было нормой, которую зафиксировали многие специалисты (см., например, [46, с. 116— 117; 177, с. 102, прим. 37; 257, с. 210]). Эта идентификация могла быть результатом изменения самоназвания переселявшейся группы, причем новое имя могло быть как топонимом, так и именем основателя (первого лидера) отпочковавшейся группы [43], как то бывало, в частности, в начале Чжоу. Существенно, что затем новое имя становилось устойчивым клановым знаком — именно им именовались все последующие руководители данной общности.
Подсчеты титулованных имен показали, что в гадательных надписях фигурирует приблизительно 35 хоу, 40 бо, 64 фу, 53 цзы, а также небольшое число тянь и нань [99, с. 190, 217]. Количество весьма внушительное, даже если принять, что далеко не все принцы (цзы) и супруги (фу) ванов имели собственные уделы-кланы в виде региональных подразделений промежуточной зоны (не исключено, что многие из них — как то бывало и в Чжоу — довольствовались небольшими хозяйствами типа служебных бенефициев в столичной зоне, рядом с их дворцами). Были ли все региональные подразделения равноправны и равновелики? Специальное исследование, проведенное Д. Китли в неопубликованной им еще рукописи 1978 г., часть материалов и выводов из которой была включена в книгу Чжан Гуанчжи, показало, что индекс частоты упоминаний имен в связи с исполнением службы вана, его приказов, участием в походах, охоте, гаданиях, жертвоприношениях и т. п. (всего 39 критериев) позволяет вычленить из примерно 200 имен некоторые с весьма высокими показателями (от нескольких сотен до нескольких тысяч упоминаний). Это дало основание для важного итогового вывода, что отдельные региональные подразделения (с высоким индексом) могли быть не просто более крупными и влиятельными, но даже и своего рода «государствами в государстве» (точнее — протогосударствами в крупном протогосударстве) и, в свою очередь, объединять в своих рамках по несколько тяготевших к ним полуавтономных поселений-кланов [99, с. 217—219]. Вывод вполне подкрепляется данными уже упоминавшихся надписей, свидетельствующих о существовании крупных региональных подразделений, объединявших до 40 поселений.
Внешняя зона состояла из племенных образований (фан), появление которых было, возможно, вызвано к жизни ускоренным процессом трибализации в условиях вызова, который был брошен протогосударством Шан его соседям в бассейне Хуанхэ (может быть, и южнее, в бассейне Янцзы). Зона эта на протяжении веков имела явственную тенденцию к постепенному отдалению ее от центра обитания шанцев, причем параллельно шел процесс ассимиляции по меньшей мере некоторых из фан, как о том на конкретном примере Ян-фан упомянул в своей статье Чжан Чжэнлан [321, с. 107—108]. Согласно некоторым подсчетам, количество фан (до-фан), колеблясь от 33 до 8, постепенно, хотя и с реверсиями, сокращалось на протяжении аньянской фазы [99, с. 248].
Племена внешней зоны, земледельцы и кочевники, более или менее устойчиво обитали в фиксированном надписями географическом районе на северных, южных, западных или восточных границах Шан. Трудно сказать, сколь далеко прошли они по пути становления ранних форм сложной социальной структуры и политической администрации. Видимо, многие из них достигли уже немалых успехов в этом направлении, о чем говорит факт существования вождей таких фан, обычно именовавшихся в надписях сводным термином фан-бо или бан-бо [330, с. 323][44].
Чжан Гуанчжи склонен считать чуть ли не все такие фан именно политическими образованиями, а не этнокультурными общностями на том основании, что культурные ареалы (насколько их можно проследить археологически) не совпадают с очерченными в иньских надписях ареалами политической активности тех или иных фан [99, с. 253]. Видимо, сетка родственных связей и этнической близости действительно могла не совпадать с номенклатурой фан, но этого явно недостаточно для вывода о том, что все фаны были уже именно политическими структурами типа хотя бы ранних протогосударств. Таковыми были, судя по всему, лишь некоторые из них, в частности Чжоу.
Подводя итог, отметим, что для обозначения региональных правителей промежуточной зоны и вождей племен-фан использовался один и тот же титул — бо, символизировавший как их привилегированную позицию по отношению к возглавлявшимся ими структурам, так и их подчиненное положение по отношению к иньскому вану. Можно добавить, что такое равенство соответствовало до известной степени и близости в статусе: полуавтономный региональный правитель подчас чувствовал себя не более связанным с ваном, чем вассальный вождь фан, например чжоуский гун. Более того, иногда региональный правитель выступал против вана, тогда как вождь фан оказывался верным и преданным его вассалом, а в других случаях тот и другой могли объединяться в акциях против вана [45, с. 17—18]. И все-таки это не меняло самого генерального принципа: внешняя зона, даже лояльная и дружественная по отношению к вану, была чуждой шанцам, тогда как промежуточная в любом случае была иньской.
Институционализация власти вана
Во главе политической метаструктуры, параметры которой только что были описаны, стоял иньский ван, чей авторитет так или иначе признавали все, в том числе и те племена-фан, которые временами (а то и почти постоянно, как Цян-фан) находились в состоянии конфронтации с Шан, совершали нападения и грабили иньские поселения. Войска вана жестоко карали непокорных соседей, совершали против них хорошо организованные экспедиции, в том числе весьма далекие и длительные. В столице массами приносились в жертву предкам вана пленные иноплеменники. Все это, естественно, в конечном счете «работало» на иньского вана, придавало ему ореол величия и непобедимости, овеянный его высоким сакральным статусом, его уникальной привилегией общаться со сверхъестественными силами и божественными предками-покровителями с помощью системы надписей на гадательных костях. Словом, авторитет был несомненен и незыблем, признавался практически всеми, и до поры до времени не было никого, кто смел бы всерьез на него посягнуть (мелкие нападения и грабежи, естественно, не в счет, как и спорадические выступления строптивых вассалов либо региональных правителей).
Основанный на власти-собственности, т. е. на исключительном праве распоряжаться по своему усмотрению всем достоянием коллектива в условиях отсутствия частной собственности, как таковой, авторитет иньского вана был в конечном счете давно уже не заслугой выдающейся личности, а атрибутом должности. Трудно сказать, когда именно начался процесс институционализации власти шанского правителя (особенно принимая во внимание все те противоречивые данные о Ся и Шан, которые были рассмотрены в предыдущей главе). Если оставить в стороне легендарные предания, явно не заслуживающие доверия именно в столь необходимых исследователю конкретных деталях, то окажется практически невозможным проследить упомянутый процесс в период, предшествующий аньянской фазе. Так, предположение, согласно которому эрлиганское городище представляло собой резиденцию правителя-вана шанцев [103, с. 17, 39, 200; 99, с. 270], выглядит во всяком случае явно недостаточно обоснованным. И даже если хозяин эрлиганского дворца был вождем протошанцев или какой-то части шанцев, потомки которых затем обосновались в Аньяне, из этого отнюдь не следует, что он был таким же полновластным правителем, какими стали иньские ваны в аньянский период. Разрыв между Чжэнчжоу и Аньяном в рассматриваемом плане столь же значителен, как и разница между ними в культурном потенциале, на которую мне уже приходилось обращать внимание [20, с. 309—311]. И похоже на то, что именно в этот недолговременный, но тем не менее весьма ощутимый хиатус, археологически пока ничем не покрытый, уходит своими корнями и начальный этап процесса институционализации власти иньского вана. Что же касается его гипотетического предшественника из Эрлигана, то о нем можно сказать лишь то, что он, бесспорно, возглавлял протогосударство типа сравнительно раннего чифдом и, как таковой, обязан был осуществлять многие важные и необходимые для политического лидера функции, в частности административную, редистрибутивную, медиативную, военную. У нас нет никаких оснований для определения, был ли он еще выборным или уже полунаследственным лидером, каким образом осуществлялся переход власти, сколь широкий круг претендентов и советников допускался к решению проблемы наследования, какова была процедура отбора и т. д.
В первой главе шла речь о том, что институционализация власти правителя — сложный, длительный, а подчас и весьма болезненный для руководящей элиты процесс, сводящийся в конечном счете к деперсонализации личности вождя, сакрализации его должности, к установлению принципа наследования и легитимации статуса политического лидера, превращающегося в результате в верховного собственника и связующее единство всей разросшейся общности, в почти ничем не ограниченного правителя, будущего восточного деспота. Иньские надписи, равно как и археологические находки аньянской фазы, особенно раскопки царских гробниц с их изысканным инвентарем, ритуальной пышностью и массой сопогребенных, дают достаточно материала для вывода, что с момента перемещения в район Аньяна ван был уже в немалой степени сакрализованной фигурой, символом величия и процветания шанцев, олицетворением единства всей увеличивавшейся этнополитической общности. Он именовался в надписях горделивым фразеологическим оборотом «во-и-жэнь», «юй-и-жэнь» («Я, Единственный»), только он имел право с помощью фиксированного в надписях обряда гаданий обращаться непосредственно к покойным предкам во главе с великим тотемическим первопредком Шанди и производить соответствующие обряды торжественного жертвоприношения. Как будет показано ниже, от имени вана, по его воле и приказу функционировала вся администрация, по крайней мере в столичной зоне, бывшей центром, сердцем и мозгом всей общности. Словом, процесс институционализации власти вана, как он представлен в надписях и отражен данными раскопок, с начала аньянской фазы (т. е. правления Пань Гэна и уж во всяком случае — У Дина) зашел достаточно далеко и был близок к завершению. И все-таки он еще не был завершен.
Заключительный и едва ли не наиболее важный во многих отношениях ключевой его этап протекал именно в аньянский период и может быть прослежен по данным надписей на костях. Речь идет об окончательном становлении принципа наследования власти вана, т. е. о моменте, в котором наиболее зримо и выпукло, буквально как в увеличительной линзе, высвечивается степень институционализации (сакрализации, деперсонализации, легитимации), достигнутая политическим лидером данной общности, в частности иньским ваном.
Известно, что вопрос о порядке и принципах престолонаследия в клане вана вызывал и продолжает вызывать среди исследователей немалые споры, которые не разрешены и по сей день. Суть проблемы в том, что одни правители передавали власть сыновьям, другие, имея собственных сыновей,— младшим братьям, третьи — племянникам. Строгий порядок при этом не прослеживается, так что объяснить указанный феномен довольно трудно. Некоторые специалисты считали иньскую норму престолонаследия просто неопределенной, реализовывавшейся в немалой степени благодаря случайности, другие видели в ней закономерность и ставили вопрос о приоритете той или иной формы наследования, влиянии материнского права и т. п. ([266, т. 2, с. 454; 269; 283]; см. также [32; 73, с. 58; 197, с. 235— 246]).
Попытавшийся внести ясность в проблему М. В. Крюков в 1967 г. пришел к выводу, что феномен иньского престолонаследия ни в коей мере нельзя объяснять действием случайных факторов и что «именно такой порядок наследования (от старшего брата — младшему, затем — сыну старшего брата, от него — сыну младшего брата, затем — сыну сына старшего брата и т. д.) и был господствующим в иньскую эпоху» [46, с. 103]. Полагая, что этот принцип был не чужд и эпохе Чжоу, он не видел принципиальной разницы между иньской и чжоуской системами и, в сущности, ограничился лишь тем, что обратил внимание на особенности исчисления родства и статуса поколений в Инь («младший брат имел право на принадлежность к тому же самому статусу, что и старший» [46, с. 104], сохранявшиеся еще я в начале Чжоу.
Акцент на приоритете поколения в такой трактовке вполне справедлив, однако констатация его явно недостаточна. Ссылки на частности (сходство, причем больше внешнее, системы наследования в отдельных царствах чжоуского Китая с тем, что было в Инь) затмевают при этом те изменения в системе наследования власти, которые действительно происходили в конце Инь и которые тщетно пытались объяснить другие специалисты. Между тем изменения, о которых идет речь, имели принципиальный характер и вели к кардинальной перемене не только форм престолонаследия, но и ряда других сторон жизни общества, связанных прежде всего с клановой системой Инь. Больше того, М. В. Крюков [46, с. 105] стоял, на мой взгляд, рядом с разгадкой, с ключом, позволяющим вскрыть сущность и механизм этих кардинальных перемен (я имею в виду его ссылку на полинезийские материалы М. Салинза [236]), но не обратил на него должного внимания. Речь идет о связи иньской системы наследования с процессом становления конического клана как важнейшего, существеннейшего элемента институционализации власти правителя[45].
Рассмотрим пристальнее данные иньских надписей. Начать с того, что никакого порядка (от старшего брата — к младшему, от того — к сыну старшего и т. п.), как это изложил М. В. Крюков, в наследовании не было. Для этого достаточно взглянуть на таблицы, составленные по данным Сыма Цяня [296, гл. 3, с. 57—63; 69, с. 166—175] и уточненные после расшифровки иньских надписей независимо друг от друга двумя крупнейшими авторитетами в этой области — Дун Цзобинем [103, с. XXVI] и Чэнь Мэнцзя [330, с. 379].
Изменений, внесенных в данные Сыма Цяня, немного. Они коснулись некоторых имен, порядкового номера отдельных правителей, общего их числа. Проделанная правка не бесспорна, и кое в чем ее авторы разошлись друг с другом. Но в целом результаты правки сходятся и не могут быть поставлены под сомнение. Так что ныне обе таблицы равноправно сосуществуют, причем одни авторы склоняются к первой, а другие — ко второй (см. [257, с. 36; 99, с. 167—168]). Из исправленных таблиц явствует, что переход власти в доме вана от одного поколения к другому протекал отнюдь не обязательно по принципу старшинства в рамках данного поколения и уж во всяком случае без соблюдения какого-либо строгого порядка. Нет никаких оснований считать, что приоритет был за сыном старшего брата и даже что вообще в качестве наследника в следующем поколении обязательно выступал сын какого-либо из правителей поколения предшествующего. Единственный более или менее последовательно выдерживавшийся критерий — практика передачи власти в рамках текущего поколения до того, как оно уступало место следующему. Но и здесь допускались отклонения. Так, в варианте Чэнь Мэнцзя после внука Чэн Тана, Тай Цзя, ваном стал его дядя Вай Бин и лишь вслед за ним — сын Тай Цзя, внучатый племянник Вай Бина. Такого рода реверсия была уникальным явлением, причем трактовка Чэнь Мэнцзя здесь не бесспорна: в таблице Дун Цзобиня Вай Бин - стоит прежде Тай Цзя. И если даже придерживаться второй, более приглаженной версии, вывод несомненен: порядок престолонаследия в доме иньского вана не был строго установлен. И так продолжалось вплоть до вана У И, после которого последние три-четыре правителя наследовали власть строго по принципу от отца к сыну, как на то обычно обращают внимание все исследователи.
Что же следует из этого? Во-первых, право на власть было наследственной прерогативой членов клана вана, но еще не существовало обязательной практики передачи престола от отца к сыну, не говоря уже о принципе примогенитуры (от отца к старшему сыну). Во-вторых, право на наследование принадлежало прежде всего членам того возрастного класса-ранга, того поколения, к которому принадлежал правитель. В исторически обозримый промежуток времени, достаточно хорошо представленный надписями на костях, к числу таких претендентов относились братья правителя, причем не обязательно, как можно полагать, единоутробные. Не исключено, что в более отдаленные от нас времена в число претендентов могли включаться также и кузены усопшего вана по отцу, а быть может, и представители еще более широкого круга его родственников, членов его клана, относившихся к тому же поколению и возрастному классу-рангу, что и он. Во всяком случае примерно такой характер имела эволюция принципа наследования в других аналогичных ранних структурах, что уже отмечалось в первой главе. Но обратимся снова к таблице правителей.
По отношению к первым четырнадцати правителям, от легендарного Се до Да И (Чэн Тана), историографическая традиция постулирует строгую передачу власти от отца к сыну [296, гл. 3, с. 57; 69, с. 166—167]. Это не более чем схема, во всяком случае до Шан Цзя (восьмой правитель). Начиная с него имена всех правителей из списка Сыма Цяня встречаются в иньских надписях (что и позволило его скорректировать и верифицировать). Однако данные свидетельствуют о том, что круг предков ванов, которым за период от Шан Цзя до Да И совершались жертвоприношения, много шире списка из «Ши цзи». Специалисты предположили, что Сыма Цянь ограничил список теми именами, которые отражали легитимный в его представлении принцип наследования от отца к сыну, т. е. попросту вычеркнул из списка имена тех, кто, по его мнению, представлял боковые ветви главной линии [269, с. 62; 46, с. 100—101]. Предположение достаточно резонное, но можно выдвинуть и иную альтернативу: не все предки ванов, которым приносились жертвы, были ванами — по той простой и уже упоминавшейся причине, что престолонаследие осуществлялось вовсе не обязательно от отца к сыну. Предполагаемая трактовка имеет то преимущество, что она не исходит априори из недоверия к Сыма Цяню, который (о чем не следует забывать!) не отказался включить в таблицу тех правивших после Да И ванов, чье положение на генеалогическом древе явно было «боковым».
Период после Чэн Тана отражен в иньских надписях достаточно полно и подробно, так что все попытки интерпретации порядка престолонаследия в Шан опираются преимущественно на материалы этого времени. Именно эта часть таблицы наиболее отчетливо демонстрирует отсутствие какого-либо стройного порядка наследования. Точнее, порядок безусловно был, но не такой, что поддается расшифровке с привычных для нас позиций (от отца к сыну, от брата к брату, от дяди к племяннику и т. п.).
Наиболее обстоятельно разработанную гипотезу, призванную объяснить все сложности проблемы иньского престолонаследия, предложил Чжан Гуанчжи [96; 99, с. 165—175]. Вкратце суть ее сводится к следующему. Как известно, в имена иньских ванов, начиная с Шан Цзя, обязательно включался один из десяти циклических знаков, использовавшихся в шанском календаре для обозначения дней. Подмеченная специалистами довольно давно эта особенность вначале интерпретировалась, следуя трактовке ханьского источника «Бо ху тун», в качестве указания на день рождения вана. Позже было замечено, что умершему правителю чаще всего приносили жертвы в день, знак которого входит в его имя. Дун Цзобинь выдвинул предположение, что знак соответствовал дню смерти правителя (т. е. что употребляемые в таблице имена суть посмертные храмовые — обычай, хорошо известный в Китае более поздних времен).
Опровергая обе версии, Чжан Гуанчжи справедливо ссылался на статистику, согласно которой в 86% всех упомянутых в надписях имен шанских ванов встречаются лишь 5 из 10 циклических знаков [99, с. 169—170]. Суть выдвинутой им идеи сводится к тому, что в клане вана было десять линий, группировавшихся в два соперничавших субклана. Субклан А состоял из влиятельных линий Цзя, И, а также У, Цзи. Субклан Б — из могущественной линии Дин, а также Бин и Жэнь. Линии Гэн и Синь кооперировались то с одним, то с другим субкланом, а линия Гуй вообще не проявляла активности после Да И. Оба субклана напряженно соперничали друг с другом и поочередно — через поколение — приходили к власти, причем в период правления вана из субклана А какой-либо представитель субклана Б занимал влиятельный пост первого советника-министра (и наоборот). Оба субклана были тесно связаны друг с другом дуально-брачными эндогамными связями, так что ван из суб-клана А брал в жены представительницу субклана Б, причем предусматривалось, чтобы мощная линия субклана А роднилась с менее значимой линией субклана Б (и наоборот), дабы могущественные линии не усиливали свое влияние за счет брачных связей [99, с. 171—177, 181—182].
Каждый из субкланов имел определенные отличия, фиксировавшиеся преимущественно в сфере ритуала. В надписях встречаются сочетания «И-мэнь» и «Дин-мэнь» [330, с. 478], которые можно интерпретировать как две двери (два входа) в храм предков клана, что, в свою очередь, свидетельствует о разделении этого храма на две половины [99, с. 178]. Зафиксированное в свое время Дун Цзобинем сосуществование в сфере иньских ритуалов двух поочередно выходивших на передний план школ, консервативной и прогрессивной (старой и новой), используется Чжан Гуанчжи в качестве довода, подкрепляющего его гипотезу [99, с. 184—187]. Наконец, еще одним важным аргументом является расположение гробниц иньских ванов на кладбище в Сибэйгане близ Аньяна: семь с одной стороны и четыре с другой [99, с. 112] соответствуют семи правителям группы И (субклан А) и четырем — группы Дин (субклан Б) аньянской фазы [99, с. 187—188].
Гипотеза разработана достаточно тщательно. Для большей убедительности Чжан Гуанчжи прибегает к западночжоуским параллелям, напоминая о системе Чжао-Му, трактовка которой вызывает немалые споры (см., в частности, [14, с. 91—95; 46, с. 142—145]). По его мнению, эта система в ряде моментов не только аналогична системе Дин — И, но даже реально перекликается с ней: жертвоприношения в честь предков ряда чжао и ряда му совершались соответственно в дни дин и и, а таблички с именами покойных ванов на алтаре в храме предков располагались таким же образом, как и гробницы в Сибэйгане [99, с. 178, 187].
Гипотеза Чжан Гуанчжи вызвала немало споров среди синологов. Ставилась под сомнение правомерность постулирования дуальной системы в практике наследования [170, с. 105, прим. 26]; обращалось внимание на несовпадение принципа смены правящего субклана с каждым поколением с достаточно редкими (три за весь аньянский период [256а, с. 89]) переменами в школах ритуалов, на весьма существенные отличия между системой чжао — му (в рамках которой сын-му наследовал собственному отцу-чжао) и сменой субкланов в гипотезе Чжана и, наконец, на то, что при подобной смене возникал парадокс, необъяснимый с точки зрения культа предков в древнем Китае (жертвы приносятся в честь предшественника, который не был отцом). Соображения такого рода (см., в частности, [257, с. 291—293]) не вызвали должной реакции автора в последнем варианте его гипотезы, кроме разве что попытки лучше увязать изменения в ритуалах, по Дун Цзобиню, с гипотетической сменой субкланов через каждое поколение [99, с. 183— 187],— попытки, на мой взгляд, недостаточно убедительной. Неясности и несоответствия остаются по-прежнему, причем круг претензий к автору гипотезы может быть расширен.
Прежде всего стоит обратить внимание на то, что в таблице Чжан Гуанчжи изменен порядок поколений: с 1-го по 5-е все оставлено, как в таблицах Дун Цзобиня и Чэнь Мэнцзя, с 9-го по 17-е — номера сдвинуты на единицу (в версии Чжана их следует нумеровать 10—18-м). Что же касается 6—8-го поколений по общепринятым таблицам Дун а и Чэня (6-е —Чжун Дин, Вай Жэнь и Цзянь Цзя; 7-е —Цзу И; 8-е —Цзу Синь и Цзян Цзя), то в версии Чжана на них сделано четыре поколения (6-е — Чжун Дин и Вай Жэнь[46]; 7-е — Цзянь Цзя и Цзу И; 8-е Цзу Синь; 9-е — Цзян Цзя). Изменения ничем не мотивированы [99, с. 167—168], но смысл их совершенно понятен: без них рушится вся схема чередования ванов из субкланов А и Б.
Отсутствие аргументов, обосновывающих изменения в общепринятых таблицах, не может не насторожить и даже заставляет предположить некоторое насилие над фактами. Но самое главное: гипотеза Чжан Гуанчжи не согласуется с некоторыми устоявшимися и проверенными представлениями. Действительно, реальны ли эндогамные образования, в рамках которых связанные между собой брачными обязательствами половины (А и Б у Чжана) могли бы состоять, пусть частично, из представителей одних и тех же линий (Гэн и Синь)? С точки зрения принятых этнографических моделей это нонсенс. И еще: как согласовать с тезисом об эндогамных связях в описываемой дуальной структуре тот факт, что супругами правителей из обоих субкланов (У Дина из Б, 12-е поколение, Цзу Цзя и У И из А, 13-е и 15-е поколения) были женщины из одной из той же линии и даже с одним и тем же именем — Би У, как явствует из схемы- таблицы самого Чжан Гуанчжи [99, с. 168], причем в данном случае речь идет не о линиях Гэн и Синь, которые согласно рассматриваемой версии свободно мигрировали из А в Б и обратно, а о линии У, четко закрепленной за субкланом А. Совершенно очевидно, что при таких обстоятельствах не приходится говорить о существовании сколько-нибудь прочной дуальной связи, основанной на эндогамном браке. Но что же тогда ценного остается в гипотезе Чжан Гуанчжи и как она может реально помочь решению проблемы?
В чем он безусловно прав — так это в акцентировании внимания на роли поколения, т. е. возрастного класса-ранга, при решении проблемы наследования иньских ванов. Видимо, заслуживает серьезного внимания и предложенная им аналогия с раннечжоуской системой Чжао — My. Причем речь должна идти не только о сходстве принципа расположения табличек и захоронений, но и о самой сущности системы. В системе Чжао — My отец и сын принадлежали к различным группам в рамках одного и того же клана, даже одной и той же правящей линии. Призванные строго обособить поколения (чжао и му), эти группы генетически восходят, видимо, к брачным классам, как о том писал, ссылаясь на исследования китайских историков, М. В. Крюков [46, с. 144]. Так не следует ли в субкланах Чжан Гуанчжи видеть именно брачные классы, призванные, как то было и в системе Чжао-Му, строго отчленить поколение отцов от поколения сыновьев?
Разумеется, приняв такую гипотезу, нужно все разрабатывать заново, ибо отмеченные уже несоответствия в варианте Чжана остаются и в том случае, если субкланы А и Б считать брачными классами. Так в чем же была или могла быть суть порядка наследования иньских ванов?
Существование брачных классов было неотъемлемым элементом социальной структуры, любого раннего общества, в котором господствует аморфно-сегментарная клановая структура с основанным на принципе рангов старшинством поколений. Брачный класс (формы его могли различаться) — это право, даже обязанность выбирать жену или мужа в пределах четко ограниченной группы представителей противоположного пола того же поколения. Причем едва ли не наиболее существенным в структуре брачных классов является именно строгое членение по поколениям: в рамках одной и той же клановой линии смежные поколения принадлежат к различным брачным классам. Разумеется, с течением времени и по мере превращения рангового общества в стратифицированное, вычленения привилегированных кланов и уменьшения количества линий, соперничающих за право на власть, накладываемые нормами брачных классов ограничения постепенно отмирали. Обязательный брак терял свою обязательность, чередование поколений — свою строгость. Но внешняя оболочка старых норм оставалась довольно долго и продолжала оказывать свое влияние. Отсюда — стремление соблюдать норму и в то же время ее нарушения, наглядный пример чего дают таблицы престолонаследования в Шан- Инь.
В том, что правящий клан[47] вана делился на различные брачные классы, едва ли могут быть сомнения. Достаточно обратить внимание на то, что в иньских надписях широко применялись термины до-фу и до-му (букв. многие отцы и матери). Разумеется, это никак не означает, что человек не знал, кто является его отцом и тем более матерью. Имеется в виду иное: классификационный сводный термин призван был подчеркнуть близость друг к другу отца, его братьев, кузенов и всех остальных родственников по мужской линии [330, с. 484], принадлежавших к определенному поколению и соответственно брачному классу. То же самое можно сказать в отношении «многих матерей», т. е. женщин того же поколения, но другого брачного класса, связанного с первым (отцовским) правом на брак, первоначально обязательным. Совершенно естественно, что старшинство поколений при этом соблюдалось весьма жестко, а в системе наследования проявлялось в том, что преимущественное, даже исключительное право на должность имели не сыновья правителя (они принадлежали к иному — младшему по отношению к правящему брачному классу и поколению), а его братья и кузены. И так, видимо, шло до тех пор, пока не становилось очевидным, что подходящей кандидатуры (с учетом возраста, физических возможностей и т. п.) в старшем классе нет. Тогда право на престол передавалось следующему поколению, новому брачному классу и оставалось в его пределах опять-таки до тех пор, пока хватало потенций. Разумеется, это лишь идеальная схема, тогда как на практике могли сказываться многие факторы, учесть которые ныне практически невозможно.
Но был ли момент передачи власти и прерогатив от поколения к поколению, от класса к классу переходом по принципу от отца к сыну и какое количество родственных линий в клане правителя могло претендовать на престол и принимать участие в борьбе за власть? Едва ли можно сомневаться в том, что при описанном выше принципе наследования переход от старшего поколения к младшему в форме от отца к сыну мог быть лишь частным случаем, к тому же принципиально не имевшим никакого значения. Разумеется, однако, для нового правителя имело значение, кто его предшественник, а кто — отец. Отсюда упоминавшиеся выше надписи с жертвоприношениями как в честь правивших прежде ванов (предшественников), так и в честь не бывших ванами предков.
Сложнее вопрос о линиях, игравших в гипотезе Чжан Гуанчжи столь существенную роль. Теоретически приоритет поколений несовместим с притязаниями самостоятельных и соперничающих линий — они обязательно должны перекрещиваться, пересекаться и практически терять смысл, во всяком случае в практике наследования. Но как было в реальности? И вообще, имели ли отношение циклические знаки в именах ванов к таким линиям? А если бы линий оказалось больше десяти, как тогда обстояло бы дело (ведь знаков только именно десять, причем число их не могло меняться в зависимости от количества линий в доме вана, оно было фиксированным и основывалось на принципе, календарного исчисления)? Но если знаки не имели отношения к линиям, то что они обозначали?
Отказываясь от презумпции связи смены поколений с переходом власти от одного субклана к другому (что необходимо сделать, так как искусственно сконструированные субкланы, включавшие в свой состав одни и те же линии, не могли быть частями дуальной структуры с эндогамными брачными связями, о чем уже говорилось), попытаемся разобраться, как использовались циклические знаки для обозначения правителей разных поколений. Опираясь на апробированные таблицы Дун Цзобиня и Чэнь Мэнцзя, а не на исправленную таблицу Чжан Гуанчжи, можно заключить, что до 6-го поколения (счет идет от Да И) в четных обязательно был правитель со знаком Дин и кроме него — со знаками Бин, Жэнь, Гэн и даже Цзя (6-е поколение). В нечетных 9—15-м поколениях в каждом также фигурирует Дин, кроме него встречаются Гэн и Синь (в 7-м нет Дина, но есть Синь). Во всех нечетных поколениях с 1-го по 7-е есть правитель со знаком Цзя или И (кроме того, в 5-м — со знаками У и Цзи), а в четных с 8-го по 16-е наряду со знаками Цзя или И (в 10-м присутствуют оба) упоминаются Синь, Гэн и Цзи [330, с. 379; 103, с. XXVI]. Трудно сказать, что случилось с шанцами в годы правления ванов 6—8-го поколений, но именно в то время произошел сдвиг в чередовании, что и вызвало исправления в таблице Чжан Гуанчжи. Впрочем, не пытаясь разгадывать неразрешимые пока загадки, обратим внимание на реальный факт: в одних поколениях, как на то обратил внимание Чжан Гуанчжи, обязательно представлен правитель с именем Дин, в других, чередующихся с первыми,— с именами Цзя либо И.
Создается впечатление (как на то обратил внимание Чжан), что знаками Дин и Цзя — И обозначались правители разных поколений, наподобие того, как это было с системой Чжао-Му в раннем Чжоу. Все же прочие знаки без особо четкой закономерности (одно-два упоминания не могут быть основой для ее выведения) использовались для обозначения других правителей в рамках того же поколения, причем по меньшей мере однажды (6-е поколение) рядом с правителем с именем Дин был ван с именем Цзя, т. е. система различия поколений не сработала. Разумеется, в скорректированном Чжан Гуанчжи виде таблица выглядит более стройной и становится безупречной с точки зрения принципа членения. Но может быть вернее все-таки опираться на неисправленную таблицу и фиксировать погрешности в строгой системе, т. е. говорить о некотором несовершенстве самой системы, может быть, и о ломке ее в ходе исторического процесса? Тем более что сдвиги происходили во времена достаточно бурные: ведь 6—8-е поколения приходятся на долю тех упоминавшихся в предыдущей главе правителей (десятый Чжун Дин, двенадцатый Хэ Таньцзя, тринадцатый Цзу И — по схеме Сыма Цяня), при которых шанцы впервые после Чэн Тана стали энергично перемещаться и трижды сменили местожительство [296, гл. 3, с. 60; 69, с. 171].
Как бы то ни было, после 8-го поколения система снова действовала, но не очень долго: примерно с У Дина (11-е поколение) она уже отмирала, а на смену строгому чередованию поколений стал приходить принцип сосредоточения права на власть в семье вана. Речь не идет о полном крушении системы, как таковой, — имеется в виду сокращение в клане правителя числа линий, которые имели традиционное право претендовать на власть, до одной единственной линии правящего вана. Об остальных линиях ничего не известно, разумеется, если не считать, что циклические знаки в именах ванов имели к ним отношение. Что касается этих знаков, то похоже на то, что они, будучи как-то связанными с обозначением брачных классов, фиксировали лишь порядок смены поколений, может быть, и последовательность правления в рамках каждого из них. Однако разрастание клана вана с каждым новым поколением за счет отпочкования новых линий, особенно в благоприятных для этого условиях после перемещения шанцев в район Аньяна при Пань Гэне (10-е поколение), должно было привести к созданию механизма какого-то ограничения количества претендентов на власть, т. е. к появлению конического клана. Видимо, ключевым моментом в этом процессе было долгое (59 лет) правление могущественного У Дина, столь полно отраженное в гадательных надписях. Здесь следует обратить внимание на два важных обстоятельства, подтверждающих сам факт процесса трансформации и указывающих на его направленность.
Первое — появление в лексике и терминологии двух важных понятий — да-цзун и сяо-цзун — и соответствующих им, близких к ним по смыслу — да-ши и сяо-ши. Да-ши и сяо-ши — большие и малые таблички в храме, олицетворяющие покойных предков—предшественников правителя. Да-цзун и сяо-цзун, судя по семантике знаков, те же таблички, помещенные под крышу, т. е. в храме предков. Хотя разница между понятиями да и сяо в иньской лексике еще не была столь четкой, как это стало позже[48], некоторые надписи позволяют полагать, что терминологическое различие между ними все-таки сводилось к подчеркиванию преимущества одного над другим. Так, в некоторых надписях сказано, что жертвоприношения в честь да-ши состояли из крупного рогатого скота, тогда как в честь сяо-ши — из баранов [330, с. 466]. Видимо, разница была еще неустоявшейся и только-только входила в норму, но важен сам факт: в надписях появляется момент, который можно толковать как отражение различий в положении главной и боковых линий в рамках конического клана [99, с. 88—189]. Правда, эта интерпретация еще не устоялась среди синологов. Чэнь Мэнцзя специально оговаривается, что в понятия да-цзун и сяо-цзун иньцы вкладывали несколько иное содержание, нежели то, которое стало нормой с Чжоу, но он признает, что оба термина имели какое-то отношение к системе престолонаследия в Инь [330, с. 500]. С большей определенностью это признает и Чжан Гуанчжи, но он вынужден — похоже, даже с оттенком сожаления — отказаться от подобной трактовки, так как она никак не вписывается в схему чередующихся субкланов [99, с. 189]. В целом трудно отказаться от вывода, что начиная с У Дина в клане иньского вана уже сложилось представление о главной и боковых линиях с их различиями, т. е. была заложена основа для создания конического клана с неравенством линий и правом передачи власти в пределах главной линии от отца к сыну.
Второе обстоятельство, свидетельствующее о том же, касается личности У Дина и его семьи. Трудно судить, насколько широко практиковали полигамию шанские правители до У Дина, ибо в надписях в лучшем случае упоминается о первой законной супруге того или иного из прежних ванов (причем далеко не всех). Но нет сомнения в том, что повсеместно культивировавшееся право лидера на нескольких женщин не могло обойти стороной шанскую общность. Что касается У Дина, то,как можно заключить из надписей, за свои почти шесть десятков лет правления он имел трех законных главных жен (видимо, трижды был женат) и не менее 60 второстепенных жен и наложниц [103, с. 217]. При этом он проявлял очень большое внимание к членам своей семьи, заботился о здоровье жен и благополучном разрешении их от бремени, о благоденствии наследников и т. п.
Как явствует из данных надписей, подытоженных Чжэн Дэкунем, в стремлении заполучить мужских наследников правитель обращался к покойным супругам прежних ванов, считавшимся покровительницами рождений, подательницами детей, с просьбой даровать ему сына, сопровождавшейся принесением в их честь специальных жертв. В надписях фиксировались посещения ваном его гарема, причем в том случае, если у какой- либо из женщин гарема появлялись признаки беременности, вновь возносились соответствующие мольбы о сыне, а будущей матери оказывали заметные знаки внимания. После появления сына производился обряд гадания, который должен был подтвердить, что мальчик действительно является сыном правителя. Вплоть до 10 лет ребенок даже при благоприятном результате гадания оставался без имени (его называли «сын дамы такой- то»), и лишь по достижении этого возраста ему формально давалось имя «принц такой-то» [103, с. 217—218].
Столь тщательная забота о сыне, о продолжении рода и собственной линии, о проверке подлинности отцовства свидетельствует, что в семье вана все сильнее давала себя знать тенденция к ее сепарации, т. е. к выделению линии самого вана в качестве основной. Разумеется, тенденция вызревала достаточно медленно. Но, во-первых, она появилась, видимо, задолго до У Дина, а, во-вторых, отпущенный этому правителю долгий срок жизни в немалой степени мог способствовать ее развитию. Во всяком случае заслуживает упоминания тот факт, что, хотя после смерти У Дина к власти поочередно пришли трое его сыновей, на сей раз они выступали уже как сыновья правителя, принадлежащие к его линии, а не просто как представители очередного поколения. Это нашло отражение в их именах: хотя в иньском Китае еще не было характерной для много более позднего времени практики давать детям имена таким образом, чтобы в каждом был общий знак, указывающий на принадлежность ребенка именно к данному поколению семьи, есть основание полагать, что нечто подобное можно сказать о детях У Дина. Сходство их имен (Цзу И, Цзу Гэн, Цзу Цзя — аналогии нет ни в одном из предшествующих поколений шанских ванов) едва ли было случайным. Оно призвано было подчеркнуть как раз то, о чем идет речь: отныне право на власть становится прерогативой семьи вана, хотя пока еще оно распространяется поочередно на (всех? или только от главных жен?) его сыновей. Как известно, в следующем после трех сыновей У Дина 14-м поколении снова было два правителя (рецидив прошлого? результат острой борьбы «консерваторов» за свои утрачиваемые прерогативы?), что отражало скорее всего сосуществование различных линий, ведших начало от сыновей У Дина. Но подобное случилось в последний раз. Начиная с У И на протяжении последних трех поколений (15—17-го) уже восторжествовал принцип передачи власти от отца к сыну, т. е. принцип конического клана с неравенством линий.
Кланы и клановая структура
Тесно связанная с процессом институционализации власти правителя, структура конического клана формируется на высшей ступени общественной лестницы, в доме правителя, распространяясь затем в среде причастных к власти привилегированных слоев и накладывая в конечном счете существенную печать и на клановые связи простолюдинов, где до того обычно абсолютно доминировала сегментарная социальная сетка из семейно-клановых групп, брачных классов и рангов, без неравенства линий, но с обязательным учетом неравенства поколений. Поэтому процесс, о котором только что шла речь, имел, по сути, всеобщее значение, хотя доступные для анализа его формы касались лишь верхов, различные стороны жизни которых нашли отражение в иньских надписях.
Со времени У Дина (как упоминалось, более ранних надписей не обнаружено) в иньских гадательных текстах встречается знак цзу — тот самый, который с начала Чжоу соответствовал понятию «клан» и в сочетании цзун-цзу обычно использовался для обозначения более или менее крупного и разветвленного конического или коническо-сегментарного клана[49], возглавлявшегося тем или иным владетельным аристократом и локализовавшегося в пределах соответствующего удела. Цзу из иньских надписей представляло собой еще нечто иное. Начать с того, что в надписях этот знак отдельно, т. е. как самостоятельное понятие, как термин, не встречается. Он используется лишь в сочетаниях, которых к тому же крайне немного,— Ван-цзу, Доцзы-цзу, Сань-цзу и У-цзу [330, с. 496—497]. Правда, в некоторых работах можно встретить ссылки на иньские надписи, в которых фигурируют и иные сочетания цзу, например Ю-цзу или Чжи-цзу [285, с. 11; 276, с. 34]. Однако реконструкция этих сочетаний спорна, употребление их единично и случайно. Кроме того, знак чжи в иньских надписях нередко использовался в качестве местоимения третьего лица [330, с. 96—97], так что применение его для атрибутации термина не вполне корректно.
Исходная семантика знака цзу ни Чэнь Мэнцзя, ни другим исследователям не ясна. Несомненно, он использовался для обозначения каких-то групп, объединений. Но каких?! Современное значение термина («племя») побудило Сюй Чжуншу предположить, что иньцы обозначали им группу кланов, своеобразную фратрию, вследствие чего подобных цзу было немного [299, с. 57]. Пиктограмма знака (штандарт и стрела), явно имевшая отношение к воинским атрибутам, равно как и контекст использования сочетаний с цзу, дает основание полагать, что искомое объединение было воинским формированием:
«День гуй вэй... Приказываю Ю-ЦЗУ напасть на Чжоу [285, с. 11];
«Приказываю Сань-цзу вместе с... напасть на Ту-фан»;
«Ван поручил Су приказать У-цзу напасть на Цян»;
«Приказываю Доцзы-цзу вместе с Цюань-хоу напасть на Чжоу. Выполните дело вана» [330, с. 496—497].
Это предположение в принципе выглядит достаточно правдоподобно, тем более если учесть, что и в раннечжоуских надписях на бронзе знак цзу иногда использовался в том же контексте. В надписи «Мин-гун гуй» сказано: «Ван приказал Мин-гуну направиться с тремя цзу (Сань-цзу?) в поход на восточные земли» [272, т. 6, с. 106]. Но что это за воинские формирования, имели ли они отношение к кланам, и если да, то какое?
Прежде всего важно отметить, что все четыре сочетания с цзу (я исключаю случайные и единичные) были каким-то образом связаны с ваном, его окружением, с активной службой (выполнение «дела вана»). Более того, есть основания считать, что по крайней мере два первых из них имели непосредственное отношение к правящей элите, к различным линиям клана вана. Ван-цзу — какая-то группа ближайших родственников правителя, может быть, в принципе включавшая и вана, по меньшей мере в прошлом; по мнению Чжан Гуанчжи — «королевская линия», параметры которой, к сожалению, не ясны [99, с. 166]; по предположению Л. Вандермерша — «королевский корпус» [257, с. 231]. Соответственно Доцзы-цзу —«корпус принцев», цзу сыновей вана или людей из клана вана (знак цзы покрывает оба указанных понятия). Что же касается Сань-цзу и У-цзу, то эти воинские формирования состояли, судя по некоторым косвенным данным, из профессиональных воинов и являли собой нечто вроде кланов-корпораций — здесь явно напрашивается параллель с восемью корпусами (знаменами) мань-чжур: сходство очень заметное. Словом, все четыре образования-цзу имели отношение к разросшемуся дому вана и к корпорациям типа дружин воинов-профессионалов.
Наиболее интересен вопрос, как и из кого, комплектовались первые два цзу. Гипотетически реконструируя процесс институционализации власти вана и сопровождавшуюся постоянным сокращением числа реальных претендентов борьбу за власть в условиях все увеличивавшегося количества родни, т. е. потенциальных соперников, следует предположить, что ведущей тенденцией должно было быть стремление правителя как-то снять напряженность, ограничить возможную активность родни, канализировать ее энергию в каком-то общественно полезном и не опасном для власти вана направлении. Параллельно с этим необходимо было удовлетворить хотя бы частично ее честолюбивые притязания. Если принять во внимание уже отчетливо проявившую себя во времена У Дина тенденцию вана к сепарации его семьи и вычленению главной линии в формирующемся коническом клане правителя, то естественно заключить, что в привилегированных аристократических формированиях типа Ван-цзу и Доцзы-цзу иньский правитель, видимо, нашел возможность дать отстраняемой от претензий на власть близкой, клановой родне какую-то почетную, выгодную престижную альтернативу. Результатом всего этого и было, как следует полагать, создание объединений типа цзу в первоначальном клане правителя.
Почему именно цзу, т. е. воинских корпораций? Ответ найти нетрудно. Иньские аристократы и прежде всего члены правящего рода Цзы — независимо от степени отдаленности их от линии вана—были как раз теми, кто издревле занимался преимущественно военным делом, кто еще во времена протошанцев (до прихода их в бассейн Хуанхэ) и уж во всяком случае в последующий период владел боевыми колесницами и регулярно тренировался на больших охотах. Военные тренировки и охотничьи забавы были основным родом их занятий (исключая, разумеется, тех, кто был занят в сфере текущей администрации), их нарождавшейся профессией, их специализацией в процессе все более определенно проявлявшего себя разделения труда в разраставшемся обществе Шан-Инь. А коль скоро сородичи вана и члены его клана становились воинами-профессионалами, то нет ничего естественней, чем возникновение в подготовленной для этого объективными условиями ситуации полувоенных, может быть вначале даже полукастовых привилегированных кланов-корпораций. Скорее всего именно так возникли Ван-цзу и Доцзы-цзу. Примерно аналогичным был, видимо, процесс сложения Сань-цзу и — несколько позже, при Кан Дине, внуке У Дина [330, с. 497],— У-цзу, хотя личный состав последних, мог быть несколько менее родовитым и аристократичным, состоять из обычных воинов-профессионалов [50].
Трудно судить, когда именно возникли кланы-корпорации типа цзу. Судя по тому, что они еще продолжали оформляться при Кан Дине (У-цзу), произошло это либо во времена У Дина, либо ненамного раньше. Но следует заметить, что сама идея кланов-корпораций могла быть и более древней, если вспомнить, что все специалисты-ремесленники издревле были объединены в подобные — правда, непривилегированные — замкнутые эндогамные структуры (разумеется, они не именовались цзу, по меньшей мере вначале). Л. Вандермерш обратил внимание на то, что археологические данные, начиная с Чжэнчжоу, убедительно свидетельствуют о существовании мастерских различного профиля (бронзолитейных, керамических и др.), окруженных жилищами, в которых обитали, без сомнения, объединенные в корпоративные группы специалисты-профессионалы [257, с. 232—233]. В конце Инь корпорации ремесленников уже именовались привычным термином цзу, что видно, в частности, из записей в «Цзо чжуань» о пожаловании отдельных коллективов иньцев тем или иным из раннечжоуских аристократов, владельцев будущих уделов. Упомянутые в них наименования «шести цзу» и «семи цзу» иньцев исследователи, в том числе Чжан Гуанчжи и Л. Вандермерш, трактуют как названия ремесленных кланов-корпораций (Тао — корпорация гончаров, И — котельщиков, Чаншао — изготовителей черпаков и т. п. [99, с. 231; 257, с. 233—234]).
Если принять такую расшифровку и учесть, что первоначально знак цзу не мог использоваться для обозначения ремесленных корпораций (об этом нет сведений в иньских надписях, не говоря уже о семантике термина цзу), то процесс трансформации понятия цзу в конце Инь от обозначения военно-аристократического объединения к наименованию любого клана-корпорации получит веское подтверждение. Практически такой вывод значит, что социальная структура позднеиньского общества по меньшей мере частично состояла из замкнутых и скорее всего эндогамных объединений кланово-полукастового типа. Но как обстояло дело с остальной и основной частью иньцев, не входивших в наследственные корпорации аристократов и специалистов?
В иньских надписях сведений об этом нет. Можно, однако, предположить, что образ жизни простых шанцев был аналогичен образу жизни чжоусцев той же и несколько более поздней эпохи, представленной раннечжоускими песнями «Ши цзин». Из них, в частности из «Цзай шань» (№ 290), явствует, что в качестве преобладающего социального членения выступало деление на поколения, на возрастные классы-ранги: на обработку заново возделываемого поля собралась тысяча пар-оу крестьян, включая «и чжу, и бо, и я, и люй» [332а, т. 10, с, 1805]. Комментарий разъясняет, что чжу — глава семейной группы, бо — его старший сын, я — средние сыновья, люй — младшие сыновья и младшие братья. Если учесть специфику китайских фразеологических оборотов (в более позднее время существовал устойчивый бином цзы-ди, т. е. сыновья и младшие братья, которые обычно противопоставлялись отцам и старшим братьям в качестве младшей группы, что следует воспринимать как трансформацию, сохранившую идею различия поколений, но нарушившую ее букву), то текст песни и комментарий являются доказательством членения на поколения, на возрастные ранги-классы (глава семейно-клановой группы, старшие в ней, средние, младшие) как главной и основной характеристики социальной структуры. Другими словами, для основной массы крестьянского населения на рубеже Инь — Чжоу (во всяком случае это касается чжоусцев и скорее всего иньцев) продолжали сохраняться обычные для ранговых структур древние кланы с их принципом сегментарного разрастания и приоритетом членения на возрастные группы, поколения, брачные классы и ранги. Впрочем, в том, что касается иньцев, подобная привычная структура уже подвергалась некоторым модификациям.
Становление в сфере правящих верхов конического клана со временем не могло не сказаться на всем обществе. Объединенные в корпорации-цзу аристократы не были — при всей их замкнутости и, возможно, эндогамно-брачных связях между различными линиями разросшегося правящего клана — чуждой остальному населению кастой. В частности, это проявлялось в том, что при создании новых и, т. е. при учреждении новых региональных подразделений расширявшегося шанского протогосударства, во главе них становились отдельные представители знати, т. е. те же члены Ван-цзу или Доцзы-цзу. Каждый из вновь назначенных руководителей не только приобретал определенную административную автономию и титул владетельного аристократа, но и достаточно быстро сливался с подвластным ему населением, что вело к формированию новой социально-клановой общности, внешние параметры которой характеризовались, как уже говорилось, идентификацией этнонима, топонима и личного имени лидера[51].
С точки зрения трансформации социально-клановой структуры это означало, что на недифференцированную аморфно-сегментарную общность земледельцев накладывалась уже апробированная в столичной зоне вана и в принципе аналогичная ей, копировавшая ее схема конического клана. Специалистам хорошо известно социологически легко объяснимое явление мимезиса (уподобления, копирования), суть которого сводится к подражанию низших высшим, младших — старшим, периферии — центру и т. п. С особой силой оно проявляется в традиционных структурах и тем более в таких, которые отличаются исключительной силой традиции. К ним едва ли не в первую очередь относится Китай. В частности, П. Уитли обратил внимание на то, что иньские бенефициарии (региональные лидеры) практически копировали в своих подразделениях администрацию центра и его институты [261, с. 58]. О практике копирования как важнейшего нормативного элемента кодекса поведения в начале Чжоу писал ленинградский китаевед К. В. Васильев [12, с. 11]. Все это дает серьезные основания полагать, что региональные правители должны были следовать образцу центра во всем— по мере практической возможности. Ведь копирование такого рода было необходимо, ибо воспроизводился налаженный и отработанный, апробированный эталон, причем никакой альтернативы ему не было, если, конечно, иметь в виду идущее вперед и развивающееся по пути социального расслоения и совершенствования политической администрации общество. Не только региональные правители промежуточной зоны Шан-Инь, но и вожди зоны внешней, во всяком случае лояльные вану вассалы, в частности чжоуские гуны, копировали именно иньскую систему организации, иньские нормы и институты. Совершенно естественно, что к числу такого рода заимствований следует отнести и конический клан, игравший столь важную функциональную роль в институционализации власти правителя.
Наложение схемы конического клана на аморфно-сегментарную структуру не могло не вести к подавлению и трансформации последней, к постепенному подчинению семейно-клановых сегментов нормам конического клана и через его институты — власти поставленного над местным населением правителя. Следствием этого было растворение прежней (пусть даже частично нешанской, адаптированной иньцами) общности в новой структуре, внешним выражением чего и была идентификация имен.
Клановую структуру многие специалисты считают типичной для иньского Китая. Наибольшее внимание ее изучению уделил Дин Шань, который насчитал в общей сложности около 200 клановых образований типа региональных подразделений [276, с. 32]. Эта цифра подтверждается подсчетами других авторов, учитывавших случаи идентификации имен, число эмблем, имевших характер клановых символов, а также изучавших шанские поселения, отвечающие критериям государственности (см. [99, с. 165, 193, 218]). Возможно, что общее количество полуавтономных региональных образований в Шан было и большим, так как не все упоминались в надписях и выявлены исследователями. Вполне вероятно, что часть близких к столице небольших удельно-клановых структур — особенно в тех случаях когда их главы, будучи заняты в системе центральной администрации вана, постоянно проживали в столице[52],— вообще не находилась в сфере внимания вана и потому не нашла отражения в надписях. Можно напомнить и о том, что в «Ши цзи» в уста чжоуского У-вана вложена следующая фраза: «Когда Небо установило власть Инь, оно выдвинуло 360 именитых (мин[53]) людей, но [иньские правители] их не возвышали и не почитали» [296, гл. 4, с. 70; 69, с. 189]. Опираясь на эту фразу, Сюй Чжуншу в свое время предположил, что всего в Инь было 360 кланов [299, с. 57]. Разумеется, 360 — условная цифра. Но в принципе она, видимо, достаточно близка к истине, чтобы обратить на нее внимание.
Впрочем, нет оснований полагать, что все или хотя бы большая часть «именитых людей» в Шан-Инь (т. е. аристократов, ванского дома из Ван-цзу и Доцзы-цзу, сановников и администраторов в центре и на периферии) обязательно имели свой удел-клан, пусть небольшой. Поэтому между числом первых и вторых могла быть и даже должна была быть существенная разница, не говоря уже о том, что кланы-корпорации специалистов (количество которых было, видимо, немалым, как о том будет речь ниже) вообще стояли вне образований типа удела-клана, регионального подразделения. Все это дает основания заключить, что речь должна идти не столько о точном числе кланов, сколько о самом характере социальной структуры в Шан-Инь, которая в конечном счете сводилась к структуре клановой, состоявшей из кланов различного типа — сегментарных, конических, коническо-сегментарных и кланов-корпораций. Все они к концу Шан-Инь стали, видимо, именоваться общим термином цзу.
Подводя итог и отмечая важность именно кланового характера шан-иньской социальной структуры, следует отметить, что принадлежность к клану не только играла огромную роль, но и выходила на первое место среди всех остальных социальных связей. Чжан Гуанчжи писал, что именно эта связь была первой, которую следовало зафиксировать, и что древнейшие китайские знаки на керамике типа тамг, равно как и более поздние элементы, графически отображавшие род занятий или просто фиксирующие именной знак, были вызваны к жизни потребностью отождествить себя с той или иной группой, корпорацией [99, с. 232, 248]. Более того, здесь лежит не только ключ к пониманию сути древнекитайского социального порядка, но и разгадка причин того, почему среди многочисленных письменных памятников нет столь типичных для ближневосточной древности документов хозяйственной отчетности: внутриклановая экономическая информация не зиждилась на формальной основе, а традиционные нормы клановой реципрокности надежно прикрывали изменявшуюся социально-экономическую суть взаимоотношений в рамках заново формировавшихся коническо-сегментарных кланов, уделов-кланов. Что же касается формальной основы администрации в рамках удельно-клановых структур, то о ней практически почти нет сведений. Все, что известно, относится к одной лишь столичной зоне, которая, впрочем, как упоминалось, была эталоном для подражания. О социальных отношениях в этой зоне сохранилось немало информации, в том числе и экономического характера. Но речь опять-таки не о документах отчетности с указанием доходов и расходов, трат и приобретений. В надписях преобладают распоряжения и сведения административного порядка. Обратимся к их анализу.
Система администрации в Шан-Инь
Центром административной системы, местом сосредоточения центрального аппарата власти была ставка вана, располагавшаяся в раскопанном ныне археологами аньянском поселении близ Сяотуни. Разумеется, административная власть правителя распространялась на все его владения, включая региональных лидеров промежуточной зоны и вассальных вождей зоны внешней. В той или иной мере все они были подчинены высшей воле вана и исполняли его распоряжения. Однако при всем том основная сфера внимания и административных забот иньского правителя сосредоточивалась в пределах центральной зоны, которая была не только ранее всего освоенной территорией, древнейшим местом расселения иньцев, но и основной базой их существования, местожительством вана. Неудивительно, что подавляющее большинство иньских надписей посвящено описанию принципов и норм, связанных с жизнью именно этой зоны. Об организации производства и распределения, формах хозяйственной деятельности, аппарате управления, представлениях о правах и обязанностях различных слоев и коллектива в целом нам известно прежде всего из надписей, касающихся событий и отношений в ней.
Анализ системы администрации в иньском Китае свидетельствует, что во главе ее твердо стоял ван. Данные надписей подтверждают, что он был отнюдь не только символом, необходимым для поддержания порядка и представительства. От личной деятельности вана, от его участия в управлении зависело многое. Он, в конечном счете, был решающей инстанцией, принимавшей ответственные решения. И хотя правитель при этом чаще всего консультировался — посредством гаданий — со своими божественными предками, за которыми, как считалось, было последнее слово, практически именно на его плечи падало бремя высшей ответственности. Отвечал же ван за все: и за вовремя выпавший дождь, и за хороший урожай, и за отпор враждебным набегам соседей, и за работу ремесленников и чиновников, и за многое-многое другое. Словом, он был ответствен за нормальное функционирование всей сложной структуры, причем такой обычай сохранился в традиции Китая до XX в.
Ноша эта была нелегка. Правда, она соответствовала огромному престижу, громадной власти, сакральному статусу и высоким привилегиям вана, была желанной для многих, к ней стремившихся. Однако при всем том высшая должность в Инь отнюдь не была синекурой. Она требовала постоянной и деятельной активности, как административно-организационной, так и порой физической, трудовой, как о том свидетельствуют надписи. Вот некоторые из них:
«Если ван отправится сеять просо — получим урожай; если ван не пойдет сеять просо — не будет урожая»;
«[Пора ли] идти вану сеять просо на юг (южное поле.— Л. В.) или вану еще не [пора] идти сеять просо?»;
«[Не пора ли] вану направиться собирать урожай в... третий месяц»;
«Ван направился собирать урожай на поле цзе» [330, с. 534—535].
Количество подобных надписей достаточно велико, чтобы не сомневаться в том, что правитель не только проявлял общую заботу об урожае и организации связанных с этим работ, но и в некоторых наиболее важных случаях, на наиболее значимых для Инь полях лично участвовал в производственном процессе. Но заботой о текущем производстве дело отнюдь не ограничивалось. Рост населения, его давление на имевшиеся и уже давно освоенные ресурсы вынуждали правителя заботиться о будущем. Выше упоминалось, что правитель «создавал» новые поселения, что было именно его заботой. В надписях есть немало данных о том, что он заботился и о создании новых полей:
«Ван приказал подготовить поле в...»;
«Ван приказал [таким-то]... создать поле» [330, с. 537].
Без его участия не обходилась ни большая охота, в которой он принимал деятельное участие, направляясь туда на специальной охотничьей повозке [330, с. 558], ни даже рыбная ловля:
«[Если] ван поедет ловить рыбу — будет удача, если ван не поедет ловить рыбу — удачи не будет» [330, с. 556].
В подобной практике есть немалый резон. Коль скоро правитель несет в себе сакральную благодать, коль скоро именно на нем благословение божественных предков, то неудивительно, что в его личном участии в каждом более или менее существенном для всех деле видели залог удачи, успеха. Логично и то, что ван выступал в качестве главного контрагента коллектива иньцев при налаживании необходимого контакта как с божественными предками, так и с прочими сверхъестественными силами, т. е. выполнял функции первосвященника (подробнее см. [100; 177; 311]). Разумеется, именно такого рода контакт служил едва ли не главным средством легитимации его власти: в глазах управляемой им общности и, более того, всего многочисленного окружения шанцев ван был священной фигурой, «связующим единством», через посредство которого людям диктуется воля высших сил. Поддержка божественных предков определяла статус вана и создавала легитимную основу его власти, еще не опиравшуюся ни на насилие, ни на принуждение в какой-либо иной (кроме сакральной) форме.
В самом общем виде процесс контакта с этими силами заключался в том, что все важнейшие обряды и гадания производил лично сам ван (конечно, с помощниками) и что сама система контактной связи воспринималась в виде отношений шан— ся, где в качестве шан (верхний) выступали божества и обожествленные предки шанцев (ди), символизированные великим первопредком (Шанди), а в качестве ся (нижний)— правитель-ван [330, с. 579]:
«Если ван выступит против Цюн-фан, шан и ся будут в согласии и мы получим поддержку. [Если ван] не выступит против Цюн-фан, шан и ся не будут в согласии и нам не будет оказана поддержка» [330, с. 568].
Подобные надписи, сделанные в альтернативной, т. е. весьма удобной для гадания форме, требовавшей однозначного ответа (да, нет), нередко встречаются среди иньских текстов.
Ван стоял на вершине социально-политической пирамиды, считался главным среди живущих потомков всех умерших правителей, чья сакральная благодать после ухода на тот свет трансформировалась в огромную силу, поддержка которой, осуществлявшаяся при посредстве их преемников и никого более, играла существенную роль в жизни всего коллектива и для связи с которой практиковались пышные, дорогостоящие ритуалы, приносились кровавые жертвоприношения. Местожительством вана был дворец, а после смерти его ждала богатая гробница с таким количеством роскошно выделанных изделий и сопогребенных людей, которое соответствовало социальной и сакральной значимости правителя. Роскошные гробницы-мавзолеи иньских ванов [103, с. 72—77], переполненные изысканнейшими изделиями из металла, нефрита, керамики, камня, кости и т. д., убеждают в исключительном положении иньского правителя много нагляднее, чем скупые строки гадательных надписей.
Ниже вана, причем намного, находился влиятельный слой лиц из его ближайшего окружения, включая клановую родню и сановников (эти категории лиц обычно сплетались друг с другом), высших администраторов, военачальников, гадателей (высшие должности тоже не были дифференцированы, так что нередко различные функции выполняли одни и те же лица), а также региональных правителей из числа титулованной знати. Вся названная элита, частично находившаяся рядом с ваном и принимавшая участие в аппарате административной деятельности, частично управлявшая подразделениями на периферии, в сумме образовывала влиятельнейший слой причастных к власти, имевший непосредственное отношение к принятию ответственных решений. Статус всех ближайших помощников и советников правителя был высок и держался на двух главных основах— на родственной близости к нему и умелом выполнении служебного долга. Практически это означало, что личные качества и достоинства тех, кто был призван участвовать в управлении, принимались во внимание и высоко ценились, но в то же время отбор кандидатов на ключевые должности ограничивался узким кругом имевших на это право в силу кланового родства [261, с. 60]. Другими словами, тесная связь между степенью генеалогического родства, рангом, титулом и должностью, столь характерная для аналогичных структур, была весьма ощутима и в Инь, особенно по мере усиления значимости конического клана с его субординацией линий.
Удержаться на уровне причастной к власти правящей элиты было не просто. Многие из близких родственников — должностных лиц, особенно в нисходящих поколениях, этого статуса не имели и; как было показано на примере возникновения кланов-дружин цзу, вынуждены были довольствоваться привилегиями и прерогативами более ограниченными, свойственными должностям и должностным лицам более низкого (второго) ранга. Корпус администраторов второго ранга, включавший многочисленных исполнителей воли вана, его помощников и посредников в управлении, а также специалистов-профессионалов (будь то воины, гадатели, чиновники или ремесленники), занимал следующий ярус социальной пирамиды. Происхождение администраторов этого слоя было более пестрым, нежели в слое элиты. Однако не происхождение, а реальный статус определял социальное положение по крайней мере некоторых из них: превращение в должностное лицо вело к быстрому приобретению соответствующего положения: чиновник, передавая свое дело по наследству сыновьям и внукам, мог оказаться родоначальником влиятельного клана. Иными словами, на этом уровне главным критерием было уже не родство, а специализация и профессионализм, т. е. умение хорошо делать свое дело, обучая ему своих потомков.
Число специалистов и администраторов (включая и сановников высшего ранга) было в иньском Китае, судя по данным надписей, достаточно внушительным. Чэнь Мэнцзя зафиксировал несколько десятков терминов, более или менее устойчиво употреблявшихся для обозначения причастных к управлению лиц. Он подразделил всех их — в зависимости от выполнявшихся ими функций — на три основные категории: чэнь-чжэя (чиновники-администраторы), у-гуань (военные) и ши-гуань (грамотеи-канцеляристы) .
К первой категории, весьма многочисленной и разнообразной по функциям, относятся двадцать разрядов должностей, обозначавшихся термином чэнь в различных сочетаниях (моу-чэнь, ван-чэнь, сяо-чэнь, до-чэнь, шао-чэнь, во-до-чэнь, моу-юань-чэнь и др.). Возможно, что некоторые из них были вариантами или разночтениями одной и той же должности (чэнь я ван-чэнь, до-чэнь и во-до-чэнь), однако и в таком случае количество должностей остается внушительным. Но дело не только в номенклатуре. Чэнь — мощный и разветвленный отряд исполнителей различных поручений вана, группа его помощников, посредников, уполномоченных. Видимо, дело не в терминах: одни из них могли заменять другие, так что термины сяо-чэнь или до-чэнь могли применяться к обозначению едва ли не любого из чэнь [330, с. 507—508]. При этом существенно, что атрибут сяо не имел, как упоминалось, современного семантического оттенка («низший»). Напротив, сяо-чэнь нередко поручались важные дела, им оказывалось большое доверие, они даже подчас имели право носить собственное имя (привилегия, выпадавшая далеко не каждому даже в высших слоях). Словом, они не были мелкими чиновниками [330, с. 505], скорее представляя собой среднюю прослойку администраторов, стоявшую в некотором смысле ближе к верхней, чем к нижней.
Ко второй категории Чэнь Мэнцзя отнес семнадцать должностей (ма, до-ма, я, до-я, шэ, до-шэ, цюань, до-цюань, вэй, шу и др.). Эти должности различны и не вполне соответствуют избранному критерию, во всяком случае не все. Так, цюань (до-цюань) — псари, ответственные за содержание и натаскивание для охоты собак и т. п., ма (до-ма)—те, кто отвечал за содержание лошадей, за их боевую выучку и т. п., шэ —лучники, шу — копьеносцы. Совершенно очевидно, что, в отличие от принадлежавших к первой категории упомянутые должностные лица были не столько чиновниками-администраторами, сколько специалистами, мастерами-профессионалами в сфере военного дела и охоты. Сочетание сань-бай-шэ («300 лучников») Чэнь Мэнцзя, как уже отмечалось, отождествил с кланом-дружиной Сань-цзу, а пять подразделений копьеносцев — с У-цзу [300, с. 513 и 516].
К третьей и наиболее многочисленной по номенклатуре категории Чэнь Мэнцзя отнес двадцать четыре должности высокопоставленных чиновников из разрядов грамотеев, канцеляристов и руководителей различных служб, включая ремесленников (инь, до-инь, гун, до-гун, ши, цин-ши, ли, да-ли, бу, до-бу и др.). Это наиболее приближенные к вану представители его администрации, включая тех, кто входил в элиту его сановников и советников и принимал участие в управлении, в выработке и принятии важных решений.
Так, инь (до-инь) — высшие советники, руководители важнейших работ. Они занимались подготовкой к началу земледельческого цикла на больших полях, ведали организацией праздников и другими важными делами [103, с. 205][54]. Писцы и связанные с документацией канцеляристы составляли, видимо, группу делопроизводителей. Группа гадателей, игравшая важную роль в процессе организации хозяйственной деятельности, также имела отношение к составлению и хранению документации (надписи) и была в числе тех, кто рядом стоял с ваном: процесс гадания и тем более интерпретация результатов требовали высокой квалификации, немалых специальных знаний и причастности к важным политическим акциям.
Группа ши (цин-ши) исполняла в основном жреческие функции. В нее входили специалисты по ритуалу и жертвоприношениям. Что же касается группы гун (до-гун), то ее составляли, судя по всему, руководители ремесленных корпораций, призванных отвечать за различные сферы ремесленной и близкой к ней (включая, например, музыкантов: сочинителей и исполнителей музыки) специализированной деятельности.
В одной из надписей сказано: «Ван приказал Шаню управлять нашими ремесленниками. Ремесленники должны выполнять дело вана» [330, с. 519]. Вот эта-то обязанность «выполнять дело вана» и была одной из главных забот всех тех, кто входил в администрацию, включая и глав ремесленных корпораций, руководителей различных сфер услуг и персонала (конюхи, псари, портные, повара, музыканты и т. д.).
Как видно из изложенного выше, центральный аппарат вана был достаточно сложен, многогранен, разветвлен и иерархически организован. Возглавляли его высшие сановники и советники инь, может быть, также и цзай (этот термин редко встречается в надписях, а функции обозначаемой им должности — высшей в Чжоу— здесь неясны), которые опирались на большой отряд помощников и специалистов, отвечавших за различные ведомства, будь то обряд гадания, обработка большого, поля, изготовление ремесленных изделий, выращивание лошадей и собак, подготовка и руководство военной экспедицией и т. п. Конечно, не следует преувеличивать степень разделения труда, зафиксированного в надписях. На высшем уровне власти функции сановников и советников были достаточно широки и взаимосвязаны: один и тот же деятель мог руководить военной экспедицией и осуществлять административную деятельность. Однако наряду с этим существовала и специализация, опиравшаяся на наследственные корпорации профессионалов. Об их внутренней структуре мало что известно. Можно лишь предполагать, что наследование опыта, знаний, профессиональных навыков, т. е. воспроизводство специалистов в кланово-корпоративных рамках, существовало уже в Инь[55].
Некоторые основания для такого вывода дает все то, что известно о ремесленниках по металлу, кузнецах-литейщиках. Существует точка зрения, согласно которой они были бродячими разносчиками знаний и изделий, кем-то вроде «неприкаянных потомков» библейского Каина, представителями своего рода касты специалистов, странствовавшими повсюду ([154, 157— 161]; см. также [27, т. 1, с. 456; 37, с. 174—179]). И хотя здесь далеко не все ясно, можно согласиться с тем, что металлообработка была одной из наиболее сложных сфер ремесла и подготовка к нелегкой профессии кузнеца-литейщика должна была требовать немалых знаний и усилий. Практически это означает, что носители такого рода знаний в любом раннем обществе должны были быть членами наследственной корпорации. Другими словами, обычной земледельческой структуре, незнакомой с металлообработкой, было не так-то просто самостоятельно все изобрести и освоить — обстоятельство, которое вписывается в излагавшуюся уже мною позицию по проблеме генезиса металлургии бронзы в древнем Китае [20, с. 265 и сл.]; скорее мастеpa по бронзовому литью были вначале этнически чуждым вкраплением, нежели спонтанно формировались в рамках каждой заново конституирующейся политической структуры.
В этой связи встает вопрос об истоках комплектования кадров администраторов и специалистов. Администраторы общего профиля и тем более носители высших должностей, были, видимо, выходцами из привилегированных кланов-корпораций (Ван-цзу и др.). Каждая из них вначале была, как упоминалось, замкнутой наследственно-эндогамной полукастовой общностью, члены которой с молодости готовились к выполнению строго определенных функций. В результате в привилегированных кланах-корпорациях кумулировался опыт поколений, что давало наиболее активным, честолюбивым и удачливым из аристократов, членов привилегированных цзу реальный шанс реализовать свои знания и потенции в системе администрации. Стремление к власти и причастность к ней становились неотъемлемым свойством привилегированных кланов, и когда разрастание их создавало ситуацию неустойчивости, нестабильности, решение, возможно, находили в создании некоторых новых специализированных привилегированных кланов (У-цзу при Кан Дине), прерогативы которых тем самым более четко определялись и амбиции членов которых переставали быть угрозой для стабильности администрации вана.
Привилегированные кланы-корпорации типа упоминавшихся четырех цзу, особенно первых двух из них, тесно связанных с кланом вана, были, насколько можно судить, основным источником кадров при назначении региональных правителей. Среди таких правителей было, как известно, немало и членов семьи вана, его жен (фу) и сыновей-принцев (цзы). Похоже на то, что каждый из выделенных таким образом аристократов становился главой конического, а затем коническо-сегментарного клана в пределах своего удела, регионального подразделения Шан- Инь. Это, разумеется, касалось и женщин, жен вана, чья должность, естественно, наследовалась кем-то из ее детей, выступавших затем в функции предка-основателя соответствующего клана.
Что касается основного корпуса среднего чиновничества, то он тоже, видимо, состоял из наследственных кланов-корпораций, первоначальным источником которых могли быть разные социальные группы: и члены привилегированных кланов, и способные выходцы из других специализированных кланов, и даже использовавшиеся в сфере услужения чужаки-иноплеменники, включая пленных-рабов.
Пленные иноплеменники были хорошо знакомы иньскому обществу. В надписях есть множество упоминаний о них. Существенно подчеркнуть, что в целом они не составляли какого-либо особого социального слоя: социальная пирамида шанцев, опиравшаяся как на основу на слой крестьян-общинников, основных производителей общества, просто не включала в себя такого слоя. Ему не было места в структуре, и потому общество в целом стремилось как можно скорее избавиться от иноплеменников, как от чужеродного тела, проникшего в гармонично существующий здоровый организм. Судя по надписям, основная масса пленников уничтожалась, их сотнями приносили в жертву предкам в дни ритуальных торжеств:
«Принести в жертву 300 цян в честь Дина»;
«300 цян в честь Цзу И» [330, с. 280].
Количество подобных надписей велико (по некоторым подсчетам, общее число только зафиксированных в них принесенных в жертву пленных-цян равно примерно 7,5 тыс. [99, с. 229]). Многочисленные сопогребения в гробницах правителей и знати также косвенно доказывают, что пленные уничтожались. Если до ближайших ритуальных торжеств было много дней, пленников могли содержать в специальных ямах или даже использовать спорадически на тяжелых работах, как о том изредка повествуют надписи. Но все же нормой было уничтожение большинства иноплеменников — массовое и быстрое.
Но убивали, конечно, не всех. Часть пленных могла адаптироваться (прежде всего женщины и несовершеннолетние), использоваться в качестве слуг и домашнего персонала в домах правителей и сановников. Более того, именно эта часть иноплеменников скорее всего и служила одним из важных источников комплектования администрации.
В надписях, как упоминалось, большая категория чиновников-исполнителей (средний и низший персонал администрации) именовалась термином чэнь. Знак чэнь, которым в древнем Китае обозначали семантически широкий круг понятий (раб, слуга, подданный, чиновник, даже министр-сановник), графически изображался в виде глаза, и, по мнению некоторых исследователей, был единицей подсчета пленных (их считали по головам, по «глазам»). «Глаз» — значит пленник, пленник становился рабом-слугой, слуга правителя — исполнителем его поручений, чиновником и т. д. [114, с. 129].
Разумеется, это не означает, что все чиновники категории чэнь генетически восходили к чужакам-иноплеменникам. Однако существенно подчеркнуть, что сохранившиеся легендарные предания о появлении первых чиновников подчеркивают именно этот момент — чужеродность будущего верного слуги. Таков, в частности, рассказ Сыма Цяня о знаменитом И Ине, чиновнике-министре шанского Чэн Тана. Некий А Хэн (И Инь) мечтал поступить на службу к Чэн Тану, но не знал, как этого добиться. Учитывая, что иньские правители брали невест из рода Ю, А Хэн поступил слугой к девушке из этого рода, предназначавшейся в жены Чэн Тану, и таким образом добился контакта с ним. Завоевав доверие иньского правителя, И Инь стал затем по его поручению управлять государством [296, гл. 3, с. 57—58]. Приведенный эпизод, повторенный с вариациями в «Мо-цзы» [290, с. 34—35] и в некоторых более поздних текстах, стал хрестоматийным. Но показательно, что частично легенда подтверждается иньскими надписями, в которых есть прямое упоминание об И Ине как о древнем заслуженном чиновнике [330, с. 366]. И хотя этого еще мало для убедительных выводов, существенно, что сам термин инь, обозначавший чиновников-сановников группы административной элиты, генетически восходит, видимо, к имени И Иня примерно так же, как русское слово «царь» к римскому Цезарю. Из рассказа Сыма Цяня явствует, что потомки И Иня, в частности некий И Чжи, продолжали исполнять функции главных советников по крайней мере при некоторых преемниках Чэн Тана, в частности при Тай У [296, гл. 3, с. 58].
Таким образом, источники пополнения административных кадров, равно как и кадров специалистов, особенно ремесленников высокой и очень специальной квалификации вроде металлургов, были различными, и далеко не все они восходили к этнической общности шанцев. Впрочем, это никак не меняло того, что все администраторы и иные оторванные от сельскохозяйственного производства слои были неотъемлемой частью иньской структуры, фундаментом которой были крестьяне-общинники. Обратимся теперь к вопросу о том, как было организовано производство в Шан-Инь и как администраторы управляли хозяйством всей структуры.
Производство и редистрибуция в Шан-Инь
В гадательных надписях нет упоминаний о крестьянском дворе, хозяйстве и нуждах отдельных общин. Многое говорит за то, что в шанских деревнях-общинах семейно-клановые группы имели свои наделы и существовали за счет продукта с них. Наличие таких наделов, дававших крестьянину жизнеобеспечивающий продукт, позволяло мобилизовывать представителей общин для работ на больших общих полях, урожай с которых давал избыточный продукт, подлежащий редистрибуции и служивший прежде всего для содержания всей системы управления.
В надписях практически нет материалов, которые касались бы организации производства на периферии, вне центральной зоны администрации. Однако есть определенные основания полагать, что на местах, в рамках периферийных региональных структур, система в принципе была такой же (хотя и, возможно, с несколько меньшей долей формализации и ритуализации). Достаточно напомнить, что в раннем обществе чжоусцев, находившемся во внешней зоне Инь и долгое время бывшем практически вассальной от вана структурой, существовали такие же большие общие поля с традицией их коллективной обработки, как то было и в центральной зоне Шан-Инь.
Словом, начиная анализ проблемы производства и редистрибуции в Инь, мы будем исходить из того, что центральная зона была своего рода эталоном организации шанского хозяйства и всей структуры отношений и что, работая на больших общих полях (о которых, собственно, только и упоминают надписи), крестьяне имели и свои личные наделы. Исходя из этой презумпции как из недоказанного, но почти наверняка справедливого предположения, обратим внимание на те поля, о которых заботятся ван и его чиновники в надписях.
Вот одна из надписей, довольно известная и часто цитируемая:
«Ван отдал общий приказ чжун-жэнь, объявив: совместно трудитесь на полях, и тогда получим урожай. Одиннадцатый месяц» [330, с. 537].
В ней немало любопытного. Отдан общий приказ (да-лик) всем крестьянам (чжун-жэнь). Напрашивается предположение, что речь идет о каких-то специальных полях, для обработки которых мобилизованы специально выделенные крестьяне. Они ждут приказа начать работу на полях, но явно не на своих, в том смысле, что не они отвечают за результат труда. Трудиться им предстоит совместно, причем это понятие в надписи отражено иероглифом, в который включены три знака ли («сила»). Тройное усиление понятия «сила» в рассматриваемом контексте недвусмысленно свидетельствует о коллективном характере работы.
Вот еще две надписи:
«Гадали. [Не пора ли] сяо-чэнь отдать приказ чжун сеять просо. Первый месяц»;
«[Не пора ли приказать] чжун сеять просо в...?» [330, с. 534].
Перед нами тот же самый случай. Крестьяне-чжун ждут приказа. Чиновники ожидают сигнала, чтобы повести их за собой и руководить работами.
В принципе картина весьма знакомая, характерная для многих аналогичных обществ от древнешумерских до инкских: существуют царские и храмовые хозяйства, «поля Инки», «поля Солнца», совместно обрабатывающиеся специально выделенными для этого крестьянами, которые рассматривают свой труд и как повинность, и как почетную общественную обязанность (долг), и даже подчас как большой праздник труда, некий триумф принципа реципрокности: все помогают властям, власти заботятся обо всех, все правильно, все разумно, все хорошо, да еще и по завершению работ грядет большое торжество, ритуал с обрядами, танцами, музыкой, угощением и т. п.
Из истории древнего Китая хорошо известно, что в более поздние времена, начиная с конца Чжоу, китайцы представляли себе всю систему производства и распределения в более ранние времена, включая и Инь, в виде так называемой системы цзин-тянь («колодезных полей»), сущность которой не раз описывалась и дискутировалась и в конечном счете в самом общем виде сводится к тому, что вся обрабатываемая земля делилась на два неравных клина: сы-тянь (индивидуальные наделы крестьян) и гун-тянь (совместно обрабатывавшиеся этими же крестьянами большие общие поля). Урожай с общих полей предназначался для общественных нужд, т. е. был избыточным продуктом коллектива [15; 43]. Древнекитайский философ Мэн цзы, сведения которого обычно чаще и охотнее всего используются при попытке уяснить суть системы цзин-тянь, писал, что она господствовала именно при династии Инь, когда преобладал принцип чжу («взаимопомощи»), в отличие от предшествовавшей эпохи с преобладанием принципа взимания дани (Ся) или последующей (Чжоу), когда был введен принцип чэ, т. е. ренты-налога ([292, гл. 3, ч. I, с. 197]; см. также [62, с. 84; 43, с. 138]). Объясняя суть принципа чжу, комментатор «Мэн-цзы» пояснял, что это понятие равнозначно цзе (имеется в виду. коллективная обработка ритуального поля цзе-тянь) и что оба в конечном счете означают одно и то же — «совместный труд людей в порядке взаимной помощи» [292, с. 197].
Стилизованная и формализованная с назидательными целями схема цзин-тянь казалась специалистам настолько противоречащей реальной жизни, что споры вокруг нее сводились в основном к доказательству ее утопичности [43, с. 5—64]. Однако, если отвлечься от утопии формы и взглянуть на суть явления, то окажется, что в нем нет ничего спорного и необычного, что перед нами практиковавшаяся во многих аналогичных обществах форма реализации избыточного продукта на началах привычной для коллектива традиции реципрокности. Коллектив в целом либо выделенные его представители добровольно, охотно, часто с энтузиазмом и с высоким сознанием своего долга обрабатывают большие общие поля (храмовые земли и др.), получая за это пищу, орудия производства на время работы и вознаграждение в виде участия в ритуальном пиршестве после ее успешного завершения. Продукт с общих полей, как уже говорилось, шел на нужды коллектива в целом, а распоряжалась им администрация, которая опять-таки существовала прежде всего в интересах сохранения структуры, как таковой. В раннечжоуских песнях «Ши цзин» много красочного материала, рисующего именно такого рода совместный труд на больших полях и завершающие его ритуальные празднества [76; 14, с. 151—165]. Менее красочно, но достаточно убедительно говорится об этом и в иньских надписях:
«Не приказать ли: чиновнику-инь подготовить большое поле?»;
«Гадали: [не приказать ли] Чэн охранять наши поля»;
«Прибыли (знак переводится условно.— Л. В.) на чжун-тянь (срединные поля) » [330, с. 539].
По мнению Чэнь Мэнцзя, понятия да-тянь (большое поле), чжун-тянь (среднее или срединное поле), во-тянь (наши поля) имеют отношение к тому, что он назвал «полями вана» [330, с. 539]. Видимо, таким же образом следует интерпретировать аналогичные понятия, упоминавшиеся в сходном контексте как «поля наших западных окраин» (во-си-би-тянь), «южные поля» (нань-тянь) и т. п. Все эти поля графически изображались знаками в виде разлинованного вдоль и поперек квадрата либо прямоугольника. Идеограмма здесь предельно проста: отображается поле с проведенными вдоль и поперек полосами-бороздами (классический принцип двойной вспашки в древнем Китае). Изображение относится только к большому массиву земли тому, который в начале Чжоу обрабатывался большим коллективом крестьян, т. е. к полю да-тянь [330, с. 537]. Именно на таких полях с утроенной энергией — если вспомнить все те же надписи — трудились крестьяне чжун-жэнь под руководством чиновников вана.
Трудно сказать, сколько было таких полей. По-видимому, довольно много. Мало того, в случае нужды, в связи с разрастанием населения, перемещением части его на новые места («ван создал поселение») готовились и новые поля для коллективных отработок. В надписях говорится:
«Ван приказал расчистить поле в...»;
«Ван приказал... расчистить поле» [330, с. 537].
По большей части подготовкой «полей вана», как следует полагать из контекста надписей, занимались те, кому предстояло их обрабатывать, т. е. сами иньцы из числа перемещенных на новые места. Но вот одна надпись:
«Ван приказал до-цян расчистить поле» [330, с. 539].
До-цян — соседи шанцев, чаще всего выступавшие в качестве враждебной Инь силы, те самые, кого массами приносили в жертву предкам. Кроме того, они были скотоводами, земледелием не занимались. Как попали они в запись о расчистке поля, причем в контексте, близком к обычному в таких случаях? Видимо, этих иноплеменников ван (до принесения их в жертву?) решил использовать на тяжелых работах по корчевке и выравниванию большого участка земли, предназначавшегося для нового поля. Возможно, это зависело от того, были ли пленники в нужный момент в должном числе.
Итак, «полей вана» было довольно много. Среди них особое место занимало поле цзе. Знаком цзе в начале Чжоу обычно обозначали особо важные «священные поля», обработка которых имела сакрально торжественный характер символа. Урожай с них шел на нужды ритуала. Вот как описывает это поле и обряд на нем древнекитайский источник «Го юй»: «[Весной] чиновник тай-ши наблюдает за состоянием земли. Когда светлое начало начинает усиливаться, звезда Нунсян достигает зенита, а солнце и луна — созвездия Тянь-мяо, земля начинает дышать. За девять дней до этого тай-ши предупреждает чиновника цзи: „Начиная с нынешнего дня солнечное тепло усиливается и силы земли приходят в движение. Если не начать пахоту, не получим урожая". Цзи докладывает об этом вану: „Тай-ши с чиновниками, [ведавшими] весенними [работами], ян-гуань объявил всем нам, ведающим земледелием (сы-ши), что в течение девяти дней силы земли, придут в движение. Вану следует подготовиться к очищающему посту, дабы он мог возглавить земледельческие работы, не изменяя обычая". Затем ван приказывает сы-ту оповестить всех гунов, цинов, чиновников и народ, повелевает сы-куну подготовить алтарь на поле цзе. Отдается приказ нун-дафу подготовить сельскохозяйственные орудия. За пять дней до нужного срока глава музыкантов сообщает о гармонии в дыхании ветра. Тогда ван направляется в покои воздержания. В такие же покои направляются и все чиновники. Через три дня ван совершает ритуальное омовение и пьет жертвенное вино. В назначенный день юй-жэнь подносит вану сосуд для вина, а си-жэнь наполняет его жертвенным вином. Ван совершает жертвенное возлияние и идет на поле. Чиновники и народ следуют за ним.
Когда прибывают на поле цзе, хоу-цзи осматривает его. Чиновники шэнь-фу и нун-чжэн приготовляют все необходимое для ритуала. Затем тай-ши указывает вану путь, и ван со всей тщательностью следует ему, проводя первую борозду. Следующие за ним в соответствии с рангом утраивают число борозд. Заканчивают вспашку поля тянь-му (в 1000 му) крестьяне (шу-минь). После этого хоу-цзи проверяет качество работы, а тай-ши контролирует его. Сы-ту осматривает крестьян, а тай-ши [56] следит за ним. Затем цзай-фу расставляет угощение, а цзай-шань наблюдает за ним. Наконец, шань-фу ведет вана к жертвенной пище. Ван пробует пищу, следующие за ним делают то же, а остальное съедают крестьяне... К юго-востоку от поля цзе возводится амбар, где хранится урожай с поля цзе, который в нужное время раздается крестьянам» [274, гл. 1, с. 5—6], Текст весьма информативен. В нем есть некоторые детали, например номенклатура чиновников, характерные лишь для Чжоу. Однако в целом, особенно учитывая факт заимствования чжоусцами иньских традиций, о чем подробнее пойдет речь в следующей главе, он вполне пригоден для реконструкции процесса организации производства и распределения в Инь. Так, в иньских надписях встречаются упоминания о поле цзе:
«Ван направился собирать урожай с поля цзе»;
«Ван собрал урожай на поле цзе... 12-й месяц» [330, . .. . с. 535]
Их не так много. Но ведь и поле цзе было только, одним единственным, священным. Возможно, полецзе имеется в виду в уже цитировавшейся надписи о том, что вану следовало бы лично отправиться на такое-то поле, тогда будет урожай. Однако не исключено и иное — что кроме единственного священного ритуального поля цзе вану и его аппарату с течением времени приходилось иметь дело со все большим, все возраставшим количеством аналогичных полей (да-тянь, чжун-тянь, нань-тянь, си-би-тянь и пр.) и что его личное хотя бы мимолетное присутствие на каждом из них в нужный момент призвано было не столько даже подогреть энтузиазм трудящихся, сколько стимулировать плодородие поля за счет собственных сверхъестественных потенций.
В приведенном выше тексте из «Го юй» фигурирует специальный чиновник (в Чжоу таковым был нун-дафу), отвечавший за готовность сельскохозяйственных орудий для обработки ритуального поля цзе. Видимо, обеспечение орудиями (как и пищей) работающих на больших совместно обрабатывавшихся полях было в древнем Китае (как и у инков) делом чиновников, казны. Об этом свидетельствует и найденный при раскопках в Сяотуни склад с 3,5 тыс. серпов, которыми иньцы собирали урожай [103, с. 197]. Едва ли есть сомнения в том, что именно подобными серпами (видимо, и сохами) из казенного склада и пользовались работавшие на больших полях крестьяне.
Итак, в иньских надписях встречается немало данных, позволяющих заключить, что основными полями, обработкой которых и продуктом с которых ведали ван и его аппарат, были большие совместно обрабатывавшиеся поля. Есть серьезные основания считать, что обрабатывавшие эти поля казенными орудиями крестьяне-чжун тем самым принимали участие в отработках, результат которых был избыточным продуктом коллектива, поступавшим в распоряжение администрации. Накапливалось зерно в больших амбарах, о которых было упомянуто в цитированном выше раннечжоуском тексте. В нем говорилось также, что продукт со священного ритуального поля цзе раздавался в случае надобности крестьянам (т. е. служил наряду с удовлетворением ритуально-жертвенных потребностей страховым фондом). Однако можно не сомневаться, что в основном зерно с больших полей шло на содержание аппарата и всех слоев, оторванных от земледельческого хозяйства.
Но следует ли, справедливо ли (и если да, то насколько) считать отчуждение этого продукта у его производителей проявлением эксплуатации, т. е. паразитического потребления собственников, власть имущих? Вопрос далеко не прост. Выше не случайно отмечалось, что крестьяне шли на коллективные отработки если и не как на праздник совместного труда, то уж во всяком случае с чувством удовлетворения, причастности к большому и нужному общему делу, которое к тому же делается отнюдь не безвозмездно: не говоря об угощении, общество в лице вана и его аппарата возвращало крестьянам их трудовые затраты, хотя и в иной форме. Другими словами, в основе описанных выше отношений лежал генеральный принцип реципрокности, столь характерный для всех аналогичных ранних структур. Как практически он реализовывался?
В иньском земледелии, как и во всех районах развитой земледельческой культуры, одним из важных условий успеха было внимание к сельскохозяйственному календарю. Независимо от того, решались судьбы урожая разливом или они зависели от вовремя выпавшего дождя, правильно составленный календарь должен был не только дать точный ответ на все связанные с организацией земледельческих работ вопросы, но и помочь крестьянам и всем управителям подготовиться к нужному дню и своевременно дать сигнал о начале работ — применительно к любому из этапов земледельческого цикла. Деятельность по составлению и соблюдению календаря была бесценной частицей мирового опыта, результаты ее в виде точных вычислений структуры месяцев и декад имели большое практическое значение, несмотря на то, что нередко они были облачены в мистические покрывала.
В иньском Китае чиновники ряда групп, прежде всего ли и бу из категории должностей, отправление которых было связано с грамотностью и документацией, тщательно следили за сменой времен года, за состоянием небосвода, за движением звезд, солнца и луны на небесной сфере, с тем чтобы зафиксировать нужный момент и своевременно дать сигнал подготовиться, например, к пахотным работам (как о том шла речь в приведенном отрывке из «Го юй»). После вспашки поля, в вегетационный период, был особенно важен оптимальный водный режим, чем опять-таки были озабочены те, кому это полагалось по должности. Следовали одно за другим гадания о дожде:
«Предки-ди прикажут быть дождю? Или ди не прикажут выпасть дождю?»;
«Ди прикажут быть большому дождю? Или ди не велят быть большому дождю?»;
«Если ди повелят выпасть дождю — будет урожай» [330, с. 89, 524].
Дождь, естественно, выпадал либо не выпадал. В первом случае больше не было необходимости в мольбах. В другом ситуация оказывалась серьезнее. Тогда мольбы о дожде могли следовать одна за другой: «Будет ли дождь?»; «[Очень нужен] дождь»; «Когда же дождь?» [330, с. 87]. Иногда дождь, напротив, бывал излишне обилен, и тогда вздувалась и выходила из берегов р. Хуань (приток Хуанхэ), которая протекала в центральной зоне. Дренажные сооружения подчас не спасали положения. Возникала угроза затопления города и полей:
«Не причинит ли [река] Хуань ущерб городу?»;
«В зимние дни был большой паводок. Опять идет большая вода. Не пойдут ли в этом месяце еще дожди?» [330, с. 523—524].
В любом случае, как хорошо видно из текста надписей, забота о нормальном водном режиме была делом вана и его аппарата. Они отвечали за должный контакт с божественными предками и прочими небесными силами, от воли и милости которых, как вполне серьезно верили абсолютно все, зависело обеспечить необходимые условия для урожая, оптимальный, водный режим. И здесь следует специально подчеркнуть, что нелегкая и далеко не простая, достаточно интеллектуально емкая работа по налаживанию упомянутого контакта была, безусловно, общественно важной для коллектива. Можно сказать сильнее: небрежность в этом деле могла снизить уровень эффективности и производительности труда и объем производства, хотя бы за счет неуверенности и разброда в определении должного момента для ведения необходимых работ. Естественно, что подобная работа должна была быть оплачена: труд обменивался на труд, материально-производительный—на интеллектуальный, который в конечном счете был необходим для получения того же материального продукта.
Для нормального существования структуры нужна была профессиональная дружина воинов, отражавших нападения племен, о которых столь часто говорят надписи. Кто-то должен был оплачивать труд ремесленников, изготовлявших необходимые для всех — но, прежде всего, для верхов — орудия и оружие, одежду и утварь. Можно напомнить и о существовании, обслуживающего персонала, чей труд тоже вливался в общий котел и требовал эквивалента. Словом, сложный организм был построен на принципе реципрокности, а реализовывался этот принцип в иньском обществе посредством механизма централизованной редистрибуции. Внешне престиж каждого участника взаимообмена сохранялся. Каждый стремился исполнить, свой долг, и труд на общих полях был в конечном счете залогом процветания и безопасности структуры в целом, что в какой-то форме осознавалось всеми.
Разумеется, это вело к неравенству и ко все большему разрыву между управляющими верхами и производящими низами. Выступая в функции субъекта власти-собственности, иньский ван и его аппарат реализовывали свое право редистрибуции избыточного продукта таким образом, что львиная доля его оседала на верхнем ярусе социальной пирамиды, овеществляясь в виде изысканных изделий, регалий власти, дорогой одежды, украшений, роскошных строений, обильной еды, всесторонних услуг и прочих элементов престижного потребления, столь ярко продемонстрированных содержимым царских усыпальниц. Сточки зрения принятой нормы здесь нет противоречий традиции: кто много дал (и дал общественно более значимое), тот много и получил. Поэтому, несмотря на то что обмен все более явно становился неэквивалентным, традиция по-прежнему акцептировала его. Во всяком случае для сохранений традиционной нормы от правящих верхов не требовалось еще ни видимых усилий, ни каких-либо форм принуждения, тем более насилия, что вполне вписывается в стандартные параметры протогосударства-чифдом.
Другое дело, что объективно, вне зависимости от степени осознания этого самими участниками реципрокного взаимообмена в рамках сложного социального организма, со всё возрастающим неравенством слоев в Шан-Инь зримо закладывались основы эксплуатации. Механизм редистрибуции все более определенно служил интересам власть имущих. Конечно, до паразитического потребления бездельничающих собственников дело не доходило и практически в рамках описываемой структуры дойти не могло. Но та львиная доля избыточного продукта, которая (за вычетом небольшой ее части, уходившей на содержание слуг, ремесленников, обрабатывающих общие поля крестьян или на совершение жертвоприношений) шла на нужды привилегированных социальных слоев, уже включала в себя излишки, превышавшие не только нужды, но и законную долю верхов. Как говорилось в первой главе, престижное потребление верхов является сигналом, свидетельствующим о противопоставлении правящего слоя производителям. На уровне протогосударства такой сигнал еще скрыт традицией, едва заметен, но он уже есть и предупреждает, что вчерашние слуги общества готовы стать его господами.
Иньский ван и владения промежуточной и внешней зоны
Ареал центральной столичной зоны был невелик и определялся не только линейными расстояниями от столицы, но и природными условиями. П. Уитли, например, очерчивает этот ареал таким образом, что основная часть центральной зоны (у него — зоны развитого урбанизма) расположена к югу от столицы [261, с. 51]. Как бы то ни было, но вокруг внутренней зоны была следующая, промежуточная (она отражена и на схеме Уитли). Границы между ними никогда не были четкими, но едва ли следует сомневаться, что по мере удаления от центра должна была возрастать степень административной, хозяйственной и политической автономии региональных управителей; отсутствие коммуникаций делало невозможным мелочный контроль, центра в тем большей степени, чем о более отдаленном подразделении идет речь[57]. Видимо, можно поставить вопрос и еще об одной закономерности, с очевидностью выявленной, правда, лишь на чжоуском материале: чем дальше от центра, тем, как правило, сильнее и крупнее автономное владение. Эта закономерность также была результатом естественных процессов: отдаленность от центра заставляла полагаться преимущественно — если не исключительно — на собственные силы, так что в борьбе за существование выживали более сильные, укреплявшиеся за счет слабых союзников и соперников.
Промежуточная зона состояла из разных по размеру и политической значимости полуавтономных образований. Мало известно об их внутренней структуре, кроме того, что она в принципе имитировала структуру центральной зоны [261, с. 58], о чем уже упоминалось. Суть такого уподобления во многом зависела от того, что власть-собственность, олицетворенная в сакрально-символической фигуре вана, делегировалась вниз с ограниченными правами. Облеченные ее долей, местные руководители могли претендовать на некоторую мини «власть-собственность» с урезанными по сравнению с центром прерогативами, что выражалось прежде всего в обязанности делиться избыточным продуктом с центром (дань, подарки, отработки), выполнять поручения центра (в основном в форме военных акций, содержания вана и его войска во время похода или охоты и т. п.).
Чэнь Мэнцзя считает, что местные правители были обязаны делиться с ваном частью своего урожая [330, с. 318]. Этот вывод поддерживается другими специалистами [99, с. 236] и соответствует данным, которые содержатся в надписях и говорят о заботе вана об урожае в различных владениях вне его центральной зоны:
«Как [обстоят дела] на полях Чжоу-цзин? Получен ли урожай?»;
«В Цзин получен урожай»;
«В... [собрали] урожай» [330, с. 535].
Пусть даже не все из такого рода надписей относятся к владениям промежуточной зоны (часть их может относиться к окраинам центральной), но в принципе нет сомнения в том, что урожай в зоне владений вызывал у вана интерес, причем едва ли платонический. На правах верховного правителя и высшего сюзерена Шан-Инь ван имел право — как то обычно бывало в составных чифдом — на часть продукта с мест. К сожалению, в надписях нет указаний, какая доля и каким образом направлялась вану. Отсутствуют даже свидетельства о существовании во владениях каких-либо больших общих совместно обрабатывавшихся полей, урожай с которых мог считаться избыточным продуктом и распределяться правителем владения, как то было в центральной зоне. Можно лишь предполагать, что во владениях периферийной (промежуточной) зоны все-таки существовала та же структура социально-экономических связей, что и в центре, т. е. что там автоматически срабатывал механизм мимезиса. Косвенным свидетельством этого является аналогичная практика в чжоуском обществе до завоевания Инь (а Чжоу было владением внешней, т. е. еще более далекой от иньского центра зоны), о чем можно судить на основе анализа раннечжоуских песен «Щи дзин» [76, с. 423 и сл.; 14, с. 151—156].
Словом, нет данных о том, какая доля из полученного на общих полях владений урожая направлялась в центр. Возможно, что и небольшая, а то и вовсе символическая. В качестве дани центру фигурировали преимущественно раритеты и ценности (панцири черепах для гаданий), скот, пленники и т. п. Кроме дани владения, как свидетельствуют надписи, обязаны были выполнять поручения иньского правителя («дело вана»), и подобная форма услуг центру была, видимо, ведущей: «У выполнит дело вана или У не станет его выполнять?» — спрашивается в одной из надписей [330, с. 317]. Встречаются аналогичные записи и в связи с другими этнонимами [330, с. 318]. Чаще всего «дело вана» заключалось в военных походах, в защите границ Инь:
«Фу Хао выставит 3 тыс. человек. И еще 10 тыс. человек. Всего 13 тыс. человек [отправится против цян]»;
«Приказываю Сань-цзу вместе с... напасть на Ту-фан»;
«Приказываю Доцзы-цзу вместе с Цюань-хоу напасть на Чжоу. Выполните дело вана» [330, с. 276, 496].
Трудно судить, равновеликими ли были обязательства правителей промежуточной зоны по отношению к вану и в одинаковой ли форме они исполнялись. Опираясь на материал о раннем Чжоу, можно сделать предположение о наличии некоторой разницы, сводившейся к тому, что для более мелких и близких владений «дело вана» в большей степени сводилось к поставкам натуральной дани и отработкам (например, на строительстве городов, гробниц), тогда как для более крупных и отдаленных пограничных владений — прежде всего и главным образом к предоставлению военной силы, охране границ (видимо, спорадически включая и обязанность содержать войско вана в том случае, если оно послано для усиления местного отряда в борьбе с кем-нибудь из внешних врагов).
Если иньская этническая общность расширяла свои пределы на протяжении веков прежде всего за счет сегментации (и лишь во вторую очередь за счет адаптации и ассимиляций иноплеменников), как то обычно бывает в аналогичных случаях, то тогда принцип убывающей солидарности должен был вести к тому, что на отдельных окраинных рубежах общности тонкие ниточки этнической солидарности могли подчас обрываться вследствие сепаратистской политики того или иного из усилившихся местных владетелей. Имеющиеся данные подтверждают; что так оно и было. Эффективность централизованной администрации ограничивалась в основном центральной зоной. В периферийной же зоне, особенно на ее окраинах, влияние центра ощущалось много слабее. Там могли порой возникать сложные ситуации, заключаться сепаратные союзы и коалиции, разгораться ожесточенные междоусобицы. В жестокой борьбе, местные правители заботились прежде всего о собственных интересах и порой не останавливались перед тем, чтобы не только пренебречь своими обязательствами перед центром, но и примкнуть к коалиции внешних сил, выступающих против вана, как это было детально прослежено на материале ряда надписей, повествующих о сложных перипетиях во взаимоотношениях между ваном, несколькими местными правителями (Го, Фу, Си, Фоу, Си Чжэнь) и соседними племенами внешней зоны (Цзи- фан), в одной из статей М. В. Крюкова [45, с. 14—17]. Однако подобным центробежным тенденциям противостояли более сильные центростремительные, что и обусловило в конечном счете силу и стабильность Шан-Инь на протяжении веков.
Во-первых, как ни слабели родственные связи у разраставшейся этнической общности иньцев в силу принципа убывающей солидарности, этноцентризм как цементирующая сила продолжал действовать, а враждебное окружение иноплеменников придавало ему дополнительные интегрирующие импульсы. Все шанские владетели, даже вступавшие в своих рискованных политических комбинациях в сношения с соседними племенами, всегда постоянно ощущали себя, прежде всего и главным образом, именно иньцами и в качестве таковых сознавали важность авторитета вана.
Во-вторых, сакральное величие шанского правителя, бывшее символом не только политической мощи, но и едва ли не вообще божественной санкции, обеспечивающей от имени покойных предков успешное существование общности в чуждом этнополитическом окружении, ощущалось и сознавалось всеми иньцами весьма глубоко. Ван — связующее единство, носитель небесной благодати, нервный центр, мозг и сердце Шан-Инь. Подчиняться ему, выполнять его волю, подносить ему свои скромные дары — священная обязанность, долг каждого подданного, тем более такого, кто сам кое-чем располагает и чей престиж зависит от того, сколько он может дать и сколько реально дал или сделал для вана.
И наконец, в-третьих, интересы безопасности каждого из правителей промежуточной зоны зависели от военной и политической мощи центра, от могущества и влияния вана, от конкретной помощи его армии в случае необходимости. И ван, и все правители периферийной зоны хорошо это сознавали, что делало центростремительные импульсы достаточно сильными и эффективными.
В целом правитель-ван как общий символ сакрального порядка и этнической общности, равно как и нормальное функционирование связующего, координирующего центра, существование хорошо вооруженной и организованной армии с ее боевыми колесницами были нужны, просто необходимы региональным правителям промежуточной зоны. Междоусобицы же и конфликты свидетельствуют не столько о стремлении региональных подразделений к независимости, сколько о сложности ситуации на местах. Потерпевшие неудачу в своих интригах или наказанные ваном правители признавали свою вину, изъявляли покорность, и ван по-прежнему продолжал осуществлять в рамках структуры Шан-Инь свое достаточно эффективное административное руководство. Собственно, реально угрожали власти вана лишь правители внешней зоны. Именно против них устраивались многочисленные экспедиции, во главе которых стояли наиболее заслуженные сановники и администраторы, включая подчас, как упоминалось, и жен вана.
Внешняя зона не являла чего-либо цельного — она представляла собой, как уже отмечалось, мозаику, этнический калейдоскоп мелких и более крупных племен и ранних политических структур, земледельческих и скотоводческих. Соседство с Шан-Инь стимулировало их эволюцию, ускоряя ее темпы: не случайно изделия, по стандарту близкие к иньско-аньянским, археологи находят далеко к югу от Хуанхэ, в бассейне Янцзы. Контакты с Шан-Инь — будь то визиты вежливости вассальных правителей, торгово-дипломотические поездки, браки со знатными инкскими женщинами либо другие формы, связи — способствовали росту иньского влияния во внешней зоне и даже расширению территорий внутренних зон за счет близлежащих владений внешней. Однако это давалось не просто. Все чаще вспыхивали конфликты, все труднее становилось их решать, все большее число правителей внешней зоны втягивалось в русло большой политики и пыталось решать свои проблемы в междоусобицах и заговорах, урегулировать которые со временем становилось все сложнее.
Иньский ван, по свидетельствам надписей, имел хорошо организованное войско. В него входили представители высшей клановой знати, вооруженные бронзовым оружием и использовавшие в битве запряженные лошадьми боевые колесницы, которые в сражениях играли роль современных танков. Успех, достигнутый колесницами, довершала хорошо вооруженная пехота (лучники, копьеносцы), также входившая в состав постоянных боевых дружин и достигавшая высокого уровня профессионализма. Профессиональное войско, возникновение которого стало следствием высокой степени политической централизации Шан-Инь, являло собой большую силу. Собственно, именно оно было залогом постоянного роста мощи и расширения влияния иньцев на протяжении ряда веков. Воины, прежде всего высокопоставленные аристократы, регулярно тренировались во время охотничьих забав. В надписях упоминается об участии в таких охотах самого вана:
«В день цзя-у ван направился охотиться на диких буйволов, сяо-чэнь…был с ним в колеснице. Вел колесницу.» [330, c. 558].
Разного рода тренировки обеспечивали высокий уровень профессиональной подготовки, боевой готовности, выносливости и т. п. Видимо, по крайней мере, в некоторых наиболее крупных владениях периферийной зоны тоже были отряды профессиональных воинов. В случае необходимости такие отряды и в центре и на местах становились ядром большого крестьянского ополчения, включавшего тысячи бойцов, которое и выступало по приказу вана с тем или иным его «делом», в ту или иную боевую или карательную экспедицию. Иногда подобные экспедиции были весьма сложными, крупными и длительными мероприятиями. Так, в царствование последнего иньского вана была предпринята экспедиция против южного племени Жэнь-фан, обитавшего к югу от реки Хуай, которая длилась, как о том свидетельствуют надписи, 260 дней [330, с. 304]. Средняя численность участвовавших в экспедиции воинов —3—5 тыс., что по тем временам следует считать цифрой весьма внушительной.
Снаряжение и содержание таких экспедиций стоило немало. Военная добыча никогда не была столь значительной, чтобы покрыть все издержки. О богатых трофеях нет упоминаний в надписях, и, видимо, не случайно: многого взять было негде и не у кого, ибо окружавшие Шан-Инь иноплеменники в массе жили еще в условиях достаточно отсталого уровня хозяйства, только-только выходившего кое-где за пределы первобытности. Иными словами, победы иньцев стоили дорого. Нелегко н недешево было поддерживать высокий престиж, причем обстановка усложнялась по мере увеличения на границах количества различных этнических образований, правители которых временами стремились соперничать с иньским ваном.
Итак, политическая гегемония Шан-Инь держалась кроме авторитета вана на военном превосходстве иньцев. Долгое время у окружавших племен не было не только колесниц, но даже и бронзового оружия, не говоря уже о профессионально обученной армии. Превосходство иньской армии было на протяжении веков абсолютным. Однако с течением времени оно таяло. Боевые колесницы к концу Шан-Инь перестали быть монополией иньской армии, равно как и превосходное вооружение, выделанное из бронзы. Видимо, у усилившихся соседей по образцу Инь стали со временем создаваться и дружины профессиональных воинов, специально обученных и хорошо владевших оружием, приемами боя и т. п. Конечно, все это накапливалось медленно и постепенно. До поры до времени господство Шан- Инь во всей метаструктуре было бесспорным, а демонстрация военной силы и экспедиции против «возмутителей спокойствия» лишь подтверждали его. Но ситуация понемногу изменялась.
Военные и внешнеполитические успехи иньцев способствовали тому, что ближние владения внешней зоны, наиболее активно перенимавшие образ жизни и достижения культуры шанцев, постепенно втягивались в орбиту иньской политической активности. Выше уже говорилось об условности грани между зонами, о динамической неустойчивости иньских границ с постоянной тенденцией в сторону их расширения, а также о том, что из надписей не всегда ясно, идет ли речь о владении промежуточной или внешней зоны (Чэнь Мэнцзя в ряде случаев явно намеренно объединяет те и другие, говоря об общих обязательствах их перед ваном [330, с. 316]). Эта недифференцированность обязательств и статуса соответствовала реальной обстановке. Властители ближних структур внешней зоны по всем параметрам, определявшим их положение, были близки к правителям пограничных владений промежуточной зоны, не говоря уже о том, что они порой совместно разыгрывали сложные политические комбинации и вели между собой ожесточенную междоусобную борьбу. Сближение статуса тех и других терминологически отражалось в том, что по крайней мере часть правителей внешней зоны формально признавала свою зависимость от вана и получала от него признание, титулы и ответственные поручения. Таких носителей титулов среди правителей внешней зоны было немало [103, с. 202], и одним из них был вождь Чжоу.
На примере взаимоотношений Шан-Инь с Чжоу хорошо прослеживаются как особенности внешней политики вана, так и постепенная утрата военного и политического превосходства иньцев. Чжоусцы обитали к западу от иньских границ. В традиционном тексте «Чжушу цзинянь» есть сообщение о том, что шанские ваны чуть ли не до переселения иньцев в район Сяотуни уже пожаловали правителю Чжоу титул хоу [325, с. 133— 135]. Если даже не принимать эти полулегендарные данные целиком на веру[58], остается фактом, что, по меньшей мере, вскоре после переселения шанцев в район Аньяна, чжоусцы оказались в орбите внимания и влияния Шан-Инь. О Чжоу говорится уже в иньских надписях времен У Дина: о походе на чжоусцев, о внимании вана к положению в Чжоу [330, с. 291], даже о присылке чжоусцами дани [46, с. (56—57]. Под влиянием иньской культуры чжоуское общество быстро развивалось; при правителе Дань Фу в Чжоу было проведено несколько важных реформ, после чего Дань Фу, по свидетельству «Чжушу цзинянь», был официально утвержден иньцами правителем в его новом поселении Ци-и [325, с. 137]. Дань Фу женил своего сына Цзи Ли на девушке из Шан-Инь и передал ему престол [296, гл. 4, с. 52—53; 69, с. 181, 306]. Получив от вана почетный титул Си-бо (правитель западных земель), Цзи Ли развернул активную внешнеполитическую деятельность, добился ряда побед над соседними племенами и, видимо, весьма усилился. В «Чжушу цзинянь» говорится, что, когда Цзи Ли после очередной победы с трофеями и тремя пленными правителями прибыл ко двору иньского вана, тот распорядился убить его [308, с. 23] .
Ситуация довольно типичная: победы преуспевающего вассала оказывались слишком многочисленными и впечатляющими, его усиление стало представлять потенциальную угрозу. И хотя вассал продемонстрировал свою полную лояльность, ван счел за благо избавиться от него, возможно использовав какой-то пустячный повод. Тем более что эта казнь не рассматривалась как гнев по отношению к Чжоу: напротив, сын Цзи-Ли —Чан, будущий чжоуский Вэнь-ван, получил от вана подтверждение мандата на управление в Чжоу с тем же титулом Си-бо. Правда, вскоре история повторилась. Чан чрезмерно усилился, приобрел неслыханный престиж среди соседей и превратил Чжоу в политический центр всех недовольных всевластием иньского вана. Последний ван иньцев Чжоу Синь (Шоу Синь), вошедший в историографическую традицию Китая в качестве недобродетельного правителя, деспота и тирана, призвал Чана в столицу и арестовал его. Традиция красочно описывает, как приближенные Чана, играя на порочных склонностях иньского правителя, поднесли ему красавиц и лошадей, после чего Чан был отпущен на свободу [296, гл. 3, с. 48]. Вернув себе титул Си-бо, высокий статус и престиж, правитель чжоусцев тщательно подготовился к решительной схватке с Шан-Инь, результатом чего, как известно, и была победа над иньцами в 1027 г. до н. э.
Традиция с ее яркими красками не может считаться точным воспроизведением реальных событий. Скорее всего и иньский правитель не был исчадием ада, как едва ли был наивысшим средоточием всех добродетелей ловкий и умный Чан. Но ситуация в целом едва ли может вызывать сомнение: усиление одного из вассальных вану образований внешней зоны привело, несмотря на неоднократные попытки иньских правителей помешать такому ходу событий, к подрыву бесспорного авторитета и престижа вана. Неосторожно данный чжоускому вождю важный титул Си-бо сыграл, видимо, роль своеобразного знамени, под сенью которого стали собираться все недовольные политикой иньского вана. Тот же факт, что с помощью Шан-Инь чжоусцы (и может быть, не только они, но и некоторые из их союзников) проделали быстрый путь эволюции, что они обладали хорошо подготовленным войском (выполнение функции Си-бо требовало, видимо, профессионально подготовленной группы воинов), оружием и даже колесницами, практически свел на нет традиционное военное превосходство иньцев. Исход борьбы решался конкретным соотношением сил, которое в тот момент оказалось не в пользу иньского вана. С момента разгрома чжоусцами Шан-Инь в истории Китая наступил новый этап.
* * *
Политическая структура Шан-Инь в том ее виде, как она предстает перед нами на аньянском этапе, более всего напоминает охарактеризованное в первой главе протогосударство-чифдом. Можно признать, что по некоторым параметрам (развитие специализации и далеко зашедшее разделение труда, высокая степень престижного потребления и т. п. [99, с. 264]) она уже близка к раннему государству. Учитывая это, Чжан Гуанчжи предположил, что Шан, видимо, некое исключение из обычной нормы, во всяком случае скорее все-таки государство, хотя и с существованием ряда явлений (роль клановых связей и т. п.), соответствующих более раннему этапу [99, с. 264]. На мой взгляд, дело обстоит как раз наоборот: несмотря на признаки, свидетельствующие о близости Шан к раннему государству, оно по всем основным показателям было все-таки типичным протогосударством-чифдом.
Прочность шан-иньской политической структуры не была связана ни с насилием, ни с принуждением по отношению к собственному населению: традиционные нормы реципрокности и сакрально-легитимированная фигура правителя-вана, выступающего в функции «связующего единства», субъекта власти-собственности и верховного редистрибутора, были вполне достаточной основой для внутренней стабильности общества. Роль клановых связей была исключительно важной — они являли собой структурную основу всего общества, еще незнакомого ни с частной собственностью, ни с классами, но уже знакомого с социальным и имущественным неравенством, привилегиями и прерогативами власть имущих, с разделением труда и обменом деятельностью. Экономической основой общества Шан-Инь были отношения, базировавшиеся на генеральном принципе реципрокности, а власть-собственность уже становилась инструментом использования механизма редистрибуции в целях преимущественного престижного потребления верхов. Отразившаяся в чжоуских документах традиция утверждает даже, что именно непропорционально большой и быстрый рост престижного потребления верхов, прежде всего самого правителя-вана, способствовал утрате древних традиций и моральных норм и тем самым сыграл роковую роль в крушении Шан-Инь. Если в этой историографической традиции есть хотя бы доля истины, она может быть сведена к тому, что непомерный рост престижного потребления, оторвав верхи от низов, вел к дестабилизации структуры, развитию в ней центробежных сил, что наряду с упоминавшимся выше усилением соседей-фан, прежде всего Чжоу, способствовало ослаблению иньцев и привело их к гибели.
Глава четвертая. Раннее государство в западночжоуском Китае: становление и упадок централизованной власти (XI-VIII вв. до н.э.)
Падение Инь под ударами возглавляемой чжоусцами коалиции племен-фан явилось переломным моментом в истории древнего Китая. На смену небольшому, политически компактному и этнически гомогенному государству иньцев пришло обширное, охватившее практически весь бассейн Хуанхэ военно-политическое объединение чжоусцев, которым пришлось заново решать проблемы администрации.
Сложность их была связана, прежде всего, с разрушением веками устоявшейся иньской этнополитической структуры с ее устойчивым делением на зоны и сложившимися формами управления. Резко усиливалась она тем, что чжоуским вождям пришлось иметь дело в отличие от иньских ванов с огромным этнически гетерогенным конгломератом покоренных иньцев и союзных племен, намного превосходившим чжоусдев не только числом, но и, по меньшей мере, отчасти (иньцы), уровнем развития. Для успешного налаживания администрации завоевателям-чжоусцам необходимо было, во-первых, обеспечить устойчивость своего политического лидерства и, во-вторых, поставить под контроль этнические процессы. Обе эти важные задачи были умело решены первыми правителями Чжоу.
Успеху чжоусцев способствовала их продуманная политика по отношению к наследию Инь. Разгромив иньцев, они начали энергично распространять на всей подвластной им большой территории бассейна Хуанхэ достижения иньской цивилизации. Завоеванный чжоусцами Китай заимствовал от Инь очень многое. Были заботливо сохранены и широко распространены едва ли не все основные элементы материальной и духовной культуры, включая орудия труда и технологию производства, навыки мастерства и высокий художественный вкус, письменность и календарь, религиозно-философские представления и ритуалы, формы социальной структуры и принципы политической администрации, военную технику и организацию армии и многое-многое другое. Усвоение иньского наследия осуществлялось посредством активного перемещения населения, как самих иньцев, так и близких к ним, знакомых с их достижениями иных этнических групп, включая и самих чжоусцев.
Этническая гетерогенность, с которой столкнулись чжоуские вожди, дала толчок политическому регулированию этнических процессов. Смешение разноплеменных групп, перемещавшихся по воле победителей с прежних мест жительства, вело к этнической консолидации на новой, административно-политической основе с бесспорным приоритетом чжоусцев: из расселявшихся на указанных им территориях, в рамках заново создававшихся уделов представителей различных этнических групп возникали через несколько поколений новые этнические общности. И хотя их облик во многом зависел от случайностей политико-административного членения Чжоу, в целом все они с их иньским культурно-экономическим фундаментом и чжоуским социально-политическим лидерством были довольно близки друг к другу, что и заложило основы этнической консолидации чжоуского Китая.
Таким образом, тщательно контролировавшийся первыми чжоускими правителями процесс этнической консолидации обеспечил приоритет и политическое лидерство чжоусцев: главами новых общностей, складывавшихся на базе политического членения Чжоу, оказывались владельцы уделов, среди которых чжоусцы абсолютно преобладали. Однако политическое лидерство чжоусцев, обеспечившее господствующее положение этносу победителей и создавшее феномен этнической суперстратификации [123, с. 4], отнюдь не стопроцентно гарантировало устойчивость и стабильность центральной власти чжоуского вана. Это обусловливалось рядом серьезных причин, связанных с особенностями административной структуры Чжоу, которая в силу необходимости весьма отличалась от иньской. Несмотря на явное стремление чжоуских правителей по возможности полнее копировать в принципе оправдавшие себя иньские стандарты, в качественно иных условиях и обстоятельствах чжоусцы вынуждены были переосмысливать и перерабатывать заимствованные традиции и нормы, что вело к превращению иньского наследия лишь в фундамент, опираясь на который чжоусцы должны были делать самостоятельные шаги, обеспечивавшие становление основ древнекитайского государства и общества. В частности, это нашло свое проявление в процессе организации пространственной (зональной) структуры Чжоу.
Административно-территориальная структура Чжоу
В принципе иньский опыт организации трех зон — внутренней, промежуточной и внешней — вполне устраивал чжоусцев: он был удачен, апробирован веками и функционально вполне оправдан. Однако ситуация была иной, что и диктовало необходимость существенных коррективов. Гомогенная этническая структура иньдев (одна из важных особенностей шанского этапа формирования государственности в Китае [21, с. 19]) развивалась и расширялась за счет естественного роста и отпочкования дочерних коллективов, с течением времени образовавших промежуточную зону, надежно защищавшую столицу вана от набегов племен внешней зоны. Чжоусцы создать такую гармоничную структуру не могли.
Силой обстоятельств они оказались во главе обширной территории, тянувшейся к востоку от исконных земель Чжоу с центром в низовьях р. Вэй, притока Хуанхэ (район современной Сиани). Собственно, в этом не было ничего удивительного: возвысившись как одно из периферийных племен-фан внешней зоны, чжоусцы с западной окраины двинулись на завоевание Инь и туда же возвратились после победы. Однако окраинное расположение земель чжоуского вана оказалось существенно значимым, когда нужно было решать проблему налаживания администрации.
Как и в Инь, ставка вана призвана была быть центром всей политической активности страны. Отсюда шли приказы и назначения, сюда съезжались вассалы и племенные вожди, здесь располагалась центральная администрация, размещались архивы и храмы, совершались важнейшие ритуалы, формировались военные экспедиции и т. д. Но географически ставка оказалась не в центре гомогенной этнической общности и политической структуры, как то было в Инь, а на ее отдаленной окраине, причем без шансов на существенную перемену в будущем: малоплодородные территории к западу от нее явно не могли соперничать с землями к востоку, где и сложился со временем культурно-политический центр древнего Китая.
Нельзя сказать, что вожди чжоусцев не понимали этого. Похоже на то, что они сразу же после победы ощутили слабость окраинного положения столицы. Из данных «Ши цзи» явствует, что еще У-ван распорядился создать новую столицу в районе р. Ло (современный Лоян, расположенный примерно в трехстах километрах к востоку от Сиани, вдоль Хуанхэ), где были обнаружены «удобные для жительства места» [296, гл. 4, с. 70; 69, с. 189]. Однако выполнить задуманное У-ван не успел. После его смерти регент при малолетнем Чэн-ване Чжоу-гун, преодолев немало трудностей[59], обратил серьезное внимание на невыгодность окраинного размещения ставки правителя и вернулся к идее о строительстве столицы в Ло, расположенном почти в географическом центре ареала активного политического господства чжоусцев. Об этом подробно говорится в ряде глав книги, исторических преданий «Шу цзин».
В главе «Кан-гао» рассказывается, что Чжоу-гун «заложил основы нового большого поселения в Ло» и что люди «со всех четырех сторон света» собрались, дабы помочь ему и тем «послужить Чжоу» [333, т. 4, с. 480; 175, с. 39]. В главе «Ло-гао», специально посвященной описанию строительства Лои, подробно повествуется, как Чжоу-гун с помощью гаданий точно определил место строительства и обратился к Чэн-вану со словами: «Если вы, ван, не останетесь там, где Небо даровало вам свой мандат (т. е. в районе Фэн, близ современной Сиани, в древней ставке чжоусдев Цзунчжоу.— Л. В.), то сможете обосноваться и с блеском управлять в восточных землях, которые я обследовал», т. е. в Лои [333, т. 4, с. 538]. Это обращение к малолетнему правителю явно отражало желание предусмотрительного регента. Более отчетливо его позиция изложена в отрывке из «Ши цзи»: «Там середина Поднебесной, и при доставлении дани с четырех сторон страны длина пути будет одинаковой» [296, гл. 4, с. 71; 69, с. 190—191].
Осуществляя свой план, Чжоу-гун приказал переселить в район Ло значительную часть побежденных иньцев а поручить именно им возвести новую столицу, о чём обстоятельно рассказывается в «Шу цзин», в главах «До-ши», «Ши-гао» и некоторых других. Решение это было резонным и, видимо, единственно возможным: кто еще мог создать большой город со всеми необходимыми строениями, архитектурно-планировочными решениями и т. п., как не хорошо знакомые со строительным делом иньские мастера?! Материалы «Щу цзин» свидетельствуют, что подготовка к строительству велась очень тщательно. Судя по результатам, дело было сделано неплохо. Однако Чэн-ван в конечном счете так и не решился перенести столицу в Лои. Взяв власть в свои руки после семилетнего регентства Чжоу-гуна, он совершил ряд удачных походов на восток, усмирил и покарал недовольных, установил порядок и добился, по выражению Сыма Цяня, «мира и согласия» [296, гл. 4, с. 71; 69, с. 191]. Видимо сочтя свою власть надолго упроченной, Чэн-ван после этого возвратился в Цзунчжоу.
Цзунчжоу продолжала оставаться главной столицей и после Чэн-вана, на протяжении еще двух с лишним веков. Что же касается новой столицы Лои, получившей наименование Чэнчжоу, то она превратилась в важный политический и стратегический центр, в место сосредоточения военной мощи (восемь «иньских» армий), в центр внутренней администрации, в котором управлял Чжоу-гун и который функционально напоминал центральную столичную зону иньского вана. К Лои в административном отношении тяготело немалое количество внутренних уделов чжоуского Китая. Однако при всем том Лои не был ставкой вана и его центрального аппарата власти.
Сложившаяся в чжоуском Китае ситуация двух столиц, двух политических центров серьезно ослабляла власть вана и в конечном счете дорого обошлась: как известно, после ударов со стороны племен внешней зоны чжоуские ваны в 771 г. до н. э. были вынуждены переместиться в Лои. Однако это перемещение было уже явно запоздалым. Лишенные серьезной внутренней опоры и реальной власти в масштабах всей страны, чжоуские ваны сумели сохранить за собой в Лои лишь небольшую тяготевшую к столице территорию (по размерам примерно равную среднему уделу), номинальный авторитет верховного правителя и формальные прерогативы первосвященника. Впрочем, все это было сохранено в немалой степени благодаря именно тому, что Чжоу-гун в свое время создал вторую столицу, располагавшуюся в центре чжоуского Китая.
Итак, внутренняя зона чжоусцев политически и функционально отличалась от того, что было в Инь. Вместо исконного центра гомогенной общности, гармонично разраставшейся за счет освоения периферии, она представляла собой искусственно созданный анклав, пытавшийся соперничать с исконными землями чжоусцев, на которых жил ван и где был центр реальной власти. Иной была и вторая, промежуточная зона.
Она не сложилась за счет естественного отпочкования родственных дочерних групп, а была искусственно создана с помощью системы уделов и в этническом плане напоминала пеструю многоплеменную мозаику, отдельные фрагменты которой под влиянием административно-политического членения на уделы постепенно сливались в новые этнические компоненты, о которых уже говорилось. Территория, на которой создавались уделы промежуточной зоны, в прошлом принадлежала иньцам и их близким соседям и союзникам, в том числе и тем, против которых был направлен удар чжоуской коалиции. В «Мэн-цзы» сообщается, что чжоусцы в войне с Инь «уничтожили 50 го», т. е. различных этнополитических образований [292, с. 265]. Следовательно, структура связей на территории, куда пришли войска победоносной коалиции, была практически разрушена, так что чжоуские уделы создавались заново.
В отличие от иньской промежуточная зона чжоуских уделов довольно явственно подразделялась по меньшей мере на два пояса — внутренний и внешний. Первый составляли земли, тяготевшие к центру в Лои, достаточно тесно связанные с его администрацией и, главное, не имевшие прямого выхода к внешней периферии и потому практически лишенные возможности экстенсивного расширения за счет внешних соседей. Второй охватывал те владения, чьи границы примыкали к племенам внешней зоны, с которыми правители этих владений вели постоянную и в принципе весьма успешную борьбу. Как центральная зона в Лои, так и оба пояса промежуточной зоны были в этническом плане достаточно гетерогенны, что, впрочем, постепенно элиминировалось в ходе уже упоминавшегося процесса этнической консолидации, касавшегося преимущественно уделов внутренней и промежуточной зон.
Внешняя зона, включавшая в себя как союзные, так и соперничавшие с Чжоу племена, находившиеся на различном уровне развития, еще долго оставалась варварской периферией по отношению к чжоускому Китаю. Потребовалось не менее полутысячелетия, чтобы по крайней мере часть ее в виде окраинных царств Чу, У, Юэ и некоторых других начала сближаться и сливаться со сложившимся уже китайским этническим ядром центра.
Таким образом, несмотря на модификации, связанные с расположением ставки чжоуского вана до 771 г. до н. э. вне основных территорий Чжоу, а также на зыбкость и относительность граней между зонами и поясами, система трехчленного деления, заимствованная чжоусцами у Инь, в основном была сохранена. Более того, она была со временем теоретически осознана и объяснена, даже графически воплощена в виде стройной геометрической схемы.
Я имею в виду изложенную в главе «Юй-гун» «Шу цзин» [333, т. 3, с. 187—224] и воспроизведенную затем, в различных вариантах в «Чжоу ли», «Го юй» и «Ши цзи» хорошо известную специалистам схематическую структуру в виде серии концентрических квадратов, отражавших идею центра и тяготеющих к нему поясов и зон. Количество таких поясов в разных вариантах меняется от пяти до девяти, но суть всех описаний однозначна: по мере удаления от центра каждая зона, будь то уделы или отдаленные племена, все меньше связана с чжоуским ваном отношениями вассальной зависимости и союзнических обязательств и представлена все более отсталыми в культурном отношении структурами. Из описаний явствует, что обязательства зон по отношению к центру сводились в конечном счете к экономическим (своевременное предоставление дани и выполнение повинностей) и военным (обеспечение охраны и обороны, сторожевой контроль и умиротворение соседей). Как и в Шан-Инь, на долю ближних поясов и зон выпадала по преимуществу задача снабжения центра продуктами и рабочей силой, тогда как перед дальними ставилась задача по охране границ и обеспечению спокойствия (см. [296, гл. 2, с. 51—52; 69, с. 157—158]). Если прибавить к этому, что последние из концентрических поясов были заселены отдаленными племенами, почти не связанными с ваном обязательствами и едва признававшими его авторитет, то картина в целом будет до предела ясной: назидательная географическая схема с ее строго геометрическими очертаниями — не что иное, как символическое отражение общего принципа, генеральной идеи пространственно-административного членения, и оценивать ее иначе — значит лишь заблуждаться[60].
Отраженная в схеме административно-территориальная структура Чжоу (схема вобрала в себя также и наследие Инь) сводилась, таким образом, к следующим основным принципам: 1) Политический центр, местоположение правителя и его администрации должны быть в середине государства, что гарантирует целостность и сохранность структуры и позволяет обеспечить ее жизнедеятельность, включая организацию снабжения, эффективность управления, строгий контроль и т. п.; 2) Окружающие центр и зависящие от правителя и его администрации близкие к центру полуавтономные политические образования суть лишь его близкородственные ответвления, обязанные ему, снабжающие его и образующие вместе с ним этнополитическое ядро всей общности; 3) Отдаленные от центра и в основном этнически чуждые ему племенные образования внешней зоны — варварская периферия, близлежащая часть которой более близка центру, зависима от него и причастна к его культуре и административной системе. В рамках этой генеральной схемы- идеи основная водораздельная линия всегда пролегала между первыми двумя и третьей частями, что адекватно отражало реальное этнополитическое деление на своих (иньцев или чжоусцев) и чужих, среди которых могли быть как данники, так и грабители, как союзники, так и противники.
Но что же цементировало, придавало незыблемую прочность всей созданной еще иньцами и заново воссозданной чжоусцами гигантской территориально-административной структуре? Какие институциональные принципы лежали в ее основе? Здесь необходимо остановиться на проблеме власти и права на власть, на проблеме легитимации власти.
Право на власть (тянь-мин — мандат Неба)
Сложившись и политически сформировавшись рядом с Инь, под влиянием иньской культуры, чжоусцы мыслили (в том числе и политически) в привычных для Инь категориях и понятиях. Классическая иньская политическая традиция была их собственной — иной у них не было. Она, как уже отмечалось, исходила из того, что высшим и бесспорным сувереном, верховным собственником всего достояния разросшегося коллектива был правитель-ван, «связующее единство», олицетворявшее этническую общность и политическую структуру. Именно ему принадлежало сакрально детерминированное право на власть: подразумевалось, что он правит от имени и с одобрения верховного первопредка Шанди и осуществляет свой высший суверенитет благодаря всемогуществу и покровительству божественных сил. Посредством гаданий и практики принесения жертв ван поддерживал регулярные контакты с божественными предками (подробнее см. [100, 211—242; 311]).
Одним из важнейших проявлений исключительного положения правителя-вана, обладавшего высшей и божественно санкционированной властью, было право на конечное решение и приказ. Прерогатива принятия ответственного решения и его реализации посредством приказа — одна из основных характеристик реальной власти. В цепочке связанных с этим последовательных действий (сбор и оценка информации, принятие решения с учетом возможных следствий, отдача приказа, контроль за его выполнением, сбор информации о результатах) ключевым является момент отдачи приказа. Именно в нем с наибольшей наглядностью концентрируется суть принятого решения. Естественно, что в ранних обществах с возникающей политической властью этот важный момент всегда имел сакральный характер: приказ отдавался либо от имени божественных сил, либо после консультации с ними, либо, наконец, теми, кто был причастен к ним, т. е. верховным правителем и действующими по его поручению чиновниками.
Так было и в Инь, где, судя по данным надписей, содержавших знак лип («приказать»), правом отдать приказ пользовались или божественные силы («Ди приказал быть дождю» [330, с. 562]), или сам ван («Приказываю Чжоу...» [330, с. 291]), или действующие от его имени («Гадали. Не пора ли сяо-чэнь велеть чжун сеять просо?» [330, с. 534]). Понятие о власти, представление о прерогативах власть имущего, о праве отдать приказ ассоциировалось, таким образом, прежде всего, даже исключительно с божественными силами (предками) и действующим по их воле и от их имени правителем, причем и божество, и обожествленный правитель выступали в функции верховного «связующего единства», авторитет и права которого бесспорны и абсолютны. Абсолютны как для иньцев, так и для тех, кто с ними связан и зависит от них, включая их союзников (чтобы не сказать — вассалов) — чжоусцев.
После крушения Инь реальная власть оказалась в руках чжоусцев, провозгласивших себя ванами их вождей, которые вместе с высшим титулом Инь взяли на себя и функции высшей власти, авторитет верховного «связующего единства». Казалось бы, переход реальной власти из одних рук в другие не должен был вызвать особых проблем. Но в отличие от весьма многочисленных в истории аналогичных случаев, когда победители не задумывались над теоретическим оправданием своего права на власть, нормы политической традиции иньско-чжоуского Китая, в русле которой воспитывались как победители, так и побежденные, требовали это право убедительно обосновать. Только так чжоуским вождям можно было приобрести прочную моральную основу и авторитет в глазах многочисленных народов, оказавшихся у них в подчинении (да, пожалуй, и в глазах самих чжоусцев).
Необходимо было показать, почему великий Шанди, почитавшийся чжоусцами не менее, нежели самими иньцами, вдруг лишил своей благосклонности своих прямых потомков и допустил, чтобы верх взяли чжоусцы,— причем сделать это следовало в понятиях и категориях тех институциональных норм и идейных принципов, которые уже были приняты и считались незыблемыми как побежденными, так и победителями и их союзниками. Задача была не простой, и конечная формула сложилась далеко не сразу. Однако со временем проблема была решена вполне удачно и убедительно. Смысл решения сводился к тому, что не формально-генетическое родство носителя власти с верховными божественными силами, а лишь степень сакрализованной добродетели может служить критерием при решении вопроса о праве на власть.
Сложившаяся в первые десятилетия Чжоу идея об этической детерминации права на власть со временем привела, как известно, к созданию хорошо разработанной концепции о «мандате Неба» и о принципе его смены. Возникновение этой концепции тесно связано с проблемой культа Неба в чжоуском Китае.
Близость, порой даже идентичность культов Шанди и Неба в начале Чжоу бросаются в глаза, хотя при всем том отличие чжоуского Неба как высшего всеобщего божества, абстрактно-регулирующей безликой силы от явно личностного предка-покровителя иньцев Шанди бесспорно [18, с. 54—57]. Иньцы культа Неба еще не знали, как не было у них и понятия Неба в том плане, что стал типичен в Чжоу. В Инь и самом начале Чжоу знаки да («большой», «великий») и тянь («небо») графически были близки, а тот же знак с чертой внизу («великий на земле») служил для обозначения понятия «ван». Как писал Г. Крил, общая идея всей этой графики и тесно связанной с ней семантики в том, что великий (т. е. ван) стоит на земле и вместе с тем связан с небом, где обитают его предки [116, с. 498—502]. Если сопоставить итоги приведенного анализа с самоназванием иньского вана («Я, Единственный») и принять во внимание широко распространенную в древнем Китае мифологическую схему, сближающую Небо, Землю и Человека (прежде всего правителя, символизирующего людей) в некое триединство, то отмеченная Г. Крилом взаимосвязь окажется вполне логичной и обоснованной. Культа Неба в Инь не было, но небо как местожительство божественных предков графически не только изображалось, но и ассоциировалось с понятием великого вана.
Чжоусцы не отрицали культа и величия божественного Шанди. Но они сделали важный шаг вперед: идентифицировав Шанди с местом его пребывания, они выдвинули на передний план Небо как высшую абстрактную божественную силу, приписав именно ему (а не личностно-иньскому Шанди, которого чжоусцы пытались сделать своим, но который все равно оставался иньским предком) верховное право распоряжаться делами на земле. Этот важный шаг повлек за собой и следующий: коль скоро формально-генетическая связь между правителем-ваном и его божественным предком прервалась, в качестве эквивалента выступила менее очевидная, но гораздо более величественная идея об адаптивной связи между Небом и правителем. Небо как сумма и символ всего божественного оказалось в позиции предка, отца живущего на земле правителя, а правитель-ван стал соответственно сыном Неба. Но эта связь выступала теперь лишь как символ, ибо не формально-генетическое родство, а высокие личные качества правителя побудили Небо признать его сыном и вручить ему божественный мандат на управление Поднебесной. О каких же качествах идет речь?
Здесь мы переходим к важнейшему элементу нововведений, выработанных чжоусцами для обоснования их божественного права на власть. Согласно новой трактовке не грубая сила, не слепая удача, не роковое стечение обстоятельств привели к победе чжоусцев. Если бы дело обстояло так, не оставалось бы места для решающей роли божественного вмешательства. Суть же в том, что великое Небо отвернулось от иньского Чжоу Синя, ибо он был недобродетелен, и вручило свой мандат чжоуским правителям, потому что они олицетворяли собой добродетель.
Разумеется, речь не идет только лишь об этике. В понятие добродетель (дэ), столь обстоятельно разработанное последующей китайской традицией, входило весьма многое, от божественной благодати типа полинезийской маны до правил поведения пристойного человека. Это понятие со временем обогащалось и менялось, причем сакральная струя в нем постепенно ослабевала, особенно по мере того, как оно снижало свой уровень и применялось ко все более широкому кругу лиц и явлений. В начале же эпохи Чжоу, как и позже — применительно к китайскому правителю вообще [55],—именно сакральная сторона понятия явственно преобладала в виде представления о божественных, сверхъестественных качествах и свойствах того, кому был передан «мандат Неба».
Традиция приписывает выдвижение идеи о «мандате Неба» и его смене самому мудрому и известному из первых чжоуских правителей Чжоу-гуну. Вообще, пиетет по отношению к нему и его деяниям неуклонно возрастал в Чжоу с течением времени [116, с. 72—80]. И это, пожалуй, закономерно: только со временем, с увеличением дистанции, по мере дальнейшего развития тех основ, которые были заложены первыми чжоускими правителями, становились очевидными как реальное величие их свершений, так и значимость тех усилий, которые были сделаны для организации нового государства (в частности, имелась в виду и идея об этической детерминации права на власть).
В «Шу цзин», в главе «Шао-гао» подробно рассказано о выступлении Чжоу-гуна перед поднесшими ему дары предводителями переселенных в район Ло иньцев. В речи было сказано, что «августейшее Небо и Шанди» переменили свою волю, отняв мандат на власть у Инь и передав его Чжоу, поскольку при последнем иньском правителе достойные прозябали [333, 528—529]. В главе «До-ши» повествуется, как Чжоу-гун, обращаясь к тем же руководителям строивших Лои иньцев, заявил, что «грозное Небо наслало неимоверные беды на Инь», а чжоусцы, наказав Инь и отобрав у них власть, действовали так по решению Шанди, причем все произошедшее определялось не неуклонным стремлением чжоусцев к «небесному мандату», а волей Шанди, который перестал поддерживать иньцев в связи с тем, что последний иньский ван погряз в разврате, не заботился о народе, не уважал законы Неба [333, т. 4, с. 568—570]. Наконец, согласно главе «До-фан», Чжоу-гун, обратившись от имени вана ко всем собравшимся при дворе правителям союзных и подчиненных владений и прежде всего опять-таки к иньцам, еще раз развил свою идею—на сей раз в плане историческом, с акцентом на прецедент. Суть его аргументации свелась к следующему. Некогда Небо дало мандат Ся, правители которой успешно управляли Поднебесной. Однако затем они стали небрежны и распутны, не заботились о людях и тем вызвали гнев Неба, которое изменило свое решение и вручило мандат иньскому Чэн Тану. Чэн Тан, опираясь на союзников, одолел Ся и стал ваном. Он был добродетелен, и его потомки сохраняли мандат вплоть до Чжоу Синя, который потерял его опять-таки из-за небрежности, разврата и отсутствия заботы о людях [333, т. 4, с. 612—617].
Итак, в трех главах «Шу цзин» обстоятельно, красочно, с повторами и разъяснениями, с введением метода прецедента (который впоследствии в Китае стал едва ли не наиболее употребительным и весомым в полемике) изложена позиция чжоуских вождей в вопросе об их праве на власть, которому они придавали особое значение. Правда, «Шу цзин» — произведение довольно позднее; обработка текста и характер аргументации позволяют считать, что многое в этой книге подверглось позднейшей конфуцианской редактуре. Однако в распоряжении исследователя есть и некоторые бесспорно аутентичные источники, которые в принципе подтверждают данные «Шу цзин». Вот, например, надпись на бронзовом сосуде «Да Юй дин», датированная периодом правления сына Чэн-вана, Кан-вага: «В девятой луне, находясь в Цзунчжоу, ван дал следующий приказ Юю. Ван сказал: «„Юй! Великий и славный Вэнь-ван. получил великий мандат Неба. У-ван, следуя Вэни[вану], создал империю... Я слышал, что Инь лишилось мандата, потому что его правители, вассалы и чиновники все погрязли в пьянстве... Ныне я, следуя добродетельной политике Вэнь-вана, приказываю..."» [272, т. 6, с. 33—34].
Приведенная вводная часть текста надписи не оставляет сомнений в том, что преемник Чэн-вана не только был в курсе идеи о мандате Неба, о принципе его смены и этической детерминации как основы для этого, но и ссылался на них как на нечто общеизвестное. Другими словами, надпись «Да Юй дин» убедительно подтверждает данные «Шу цзин» и позволяет считать, что идея о мандате Неба восходит ко временам Чжоу- гуна и потому может считаться, как об этом говорилось, принадлежащей именно ему[61].
Успешное решение проблемы обоснования преемственности власти и легитимации поставило чжоуского вана, «сына Неба», в еще более высокое положение, нежели то, какое занимал иньский правитель: он не только был законным наследником ушедших на небо предков, но и обладал санкционированным Небом правом на высшую власть. Реализуя свою близость к Небу и сакральность своей персоны в виде торжественных ритуалов, чжоуский ван тем самым оказался единственным посредником между небесными и земными силами, между святостью сверхъестественного и приземленностью вульгарно-профанического. И эта сакрализованная позиция настолько усилила чжоуского правителя, что он более не нуждался — как то было в Инь — в регулярных консультациях с предками в форме гаданий, значение которых с начала Чжоу стало быстро сходить на нет.
В результате чжоуский ван стал великим и единственным связующим центром огромной гетерогенной этнополитической общности, признававшей его бесспорный авторитет, его высшую власть: ни один из вассальных или независимых периферийных вождей практически никогда не претендовал на равенство с ним. Высшая власть вана находила свое отражение во многих сферах реальной жизни Чжоу, начиная с права наделения уделом, утверждения во владении (инвеститура) и кончая отчетливо выраженным представлением о том, что в Поднебесной нет иной земли, кроме как земли вана, и нет никого, кто не был бы его подданным,— как о том пелось в песне «Бэй шань» (№ 205) «Ши цзин» [332а, т. 8, с. 1072; 76, с. 280].
Чжоуский ван был вершиной пирамиды власти, сложившейся в раннем государстве, сменившем Инь с его этнически гомогенной основой. Как и в большинстве других моментов, влияние иньского наследия сильно сказалось на организации центральной администрации в новом государстве, о чем свидетельствует очень многое: и номенклатура должностей, и функции различных сановников и чиновников, и принципы управления. В то же время в этой сфере — пожалуй, даже больше, чем в остальных,— нашли свое проявление традиции самих чжоусцев, а также те нововведения, которые были вызваны изменившейся обстановкой и, в частности, созданием системы уделов.
Система администрации в начале Чжоу
Генеральная идея, столь наглядно проявившая себя в Инь в процессе первоначального сложения системы управления разросшимся коллективом, осталась основополагающей и в Чжоу (как, впрочем, и на протяжении всей последующей истории Китая): политическая администрация есть посредник между правителем, опирающимся на свои сакральные достоинства и на поддержку сверхъестественных сил, являющимся всеобщим символом и «связующим единством» огромного конгломерата, и народом, подданными, находящимися под его отеческим покровительством, на его попечении. Тезис об ответственности правителя-вана за добродетельное правление, об обязанности его заботиться о благосостоянии народа и об обусловленности именно этим его права на великий «мандат Неба» вполне адекватно отражал реальную структуру отношений в Инь и в Чжоу. Добрая половина глав «Шу цзин» насыщена рассуждениями о том, что оберегать и защищать народ, успокаивать и умиротворять недовольных и строптивых, обеспечивать порядок и спокойствие в Поднебесной — основные обязанности правителя.
Естественно, что в пределах сильно расширившегося государства упомянутые священные обязанности не могли уже восприниматься иначе, как ответственность правителя за должное руководство народом при помощи: все возраставшего численно и усложнявшегося по функциям слоя помощников-посредников, к числу которых в новой ситуации относились уже не только чиновники центрального аппарата, но и владельцы уделов с их помощниками-управителями. Принципиальной разницы между теми и другими в начале Чжоу не было. Более того, владельцы уделов считались как бы ответственными администраторами вана, его близкими помощниками и представителями на местах, состоявшими на его службе, отвечавшими перед ним за должное управление и имевшими за то соответствующее щедрое вознаграждение (включая должности и титулы, определенную административную автономию, самостоятельные доходы). Равным образом все сколько-нибудь влиятельные сановники в центре, в основном родственники правителя, имели и должность, и титулы, и уделы. Конечно, уделы внутренней зоны и внутреннего пояса промежуточной зоны были менее крупными й значимыми по сравнению с пограничными. Но разница между ними стала весьма ощутимой и даже решающей в более позднее время. В начале же Чжоу все уделы по статусу и размерам были в основном одинаковы, так что сам принцип проявлялся очень четко: близкий родственник правителя — он же высокий администратор — он же владелец удела — он же носитель знатного титула. Нехватка какого-либо из звеньев быстро компенсировалась: устанавливались родственные связи с помощью системы браков, жаловались уделы, давались титулы и должности.
Разумеется, были и исключения из нормы: встречались аутсайдеры, удачливые карьеристы и т. п. Но, тем не менее, принцип оставался и доминировал. И в этом смысле система администрации была общей и единой для всего чжоуского Китая, хотя практически действовала она далеко не везде одинаково эффективно, не говоря уже о том, что со временем подвергалась Заметной энтропии.
В древнекитайской историографии, склонной под воздействием конфуцианства превозносить древность и воспевать ее образцовые порядки, система чжоуской администрации была представлена в виде идеализированной схемы «Чжоу ли», весьма небезынтересной и при всей своей дидактичности и утопичности явно заслуживающей гораздо большего внимания специалистов по сравнению с тем, какое ей обычно уделяется.
Вопрос о «Чжоу ли» непрост. Текст трактата был составлен, как доказано специалистами [172], чуть ранее Хань. Э. Био, переведший трактат в прошлом веке, считал вполне допустимым полагать, что в основе «Чжоу ли» лежат реально существовавшие нормы, принципы, а быть может, и обобщающие сводки административных уложений, которые традиция приписывает Чжоу-гуну [89, с. IX—XIV]. Его позиция была поддержана М. Кокиным и Г. Папаяном, которые опирались на данные «Чжоу ли» при реконструкции материалов, связанных с системой цзин-тянь, и при этом справедливо исходили из того, что «выдумать столь многочисленную чиновную лестницу, да еще изобрести таких чиновников, которые вообще никому не нужны,— вещь довольно трудная и, главное, необъяснимая» [43, с. 62]. Конечно, китайская историографическая традиция в рассматриваемом плане уникальна; ее систематизированные схемы таковы, что разобраться, что в них от реальной действительности, а что от назидательной дидактики, выдвинутой на передний план с целью обоснования задним числом справедливости выдвинутых позже непререкаемых догматических истин, едва ли вообще возможно. Однако М. Кокин и Г. Папаян правы в том, что выдумать схему из ничего — вещь невероятная и что, следовательно, важно не столько принять ее в деталях, сколько попытаться уловить ее суть и смысл.
Схема «Чжоу ли» с ее шестью огромными министерствами, множеством ведомств и обилием чиновников, расположенных в соответствии со строгими нормами бюрократической иерархии, с ее детальным описанием прав и обязанностей всей обширной должностной номенклатуры, с ее обстоятельными экскурсами в сферы ритуала, церемониала, дворцовой и бытовой жизни, аграрных отношений, ремесленной технологии и т. д. и т. п. необычайно интересна сама по себе и может немало дать для реконструкции реалий Чжоу. Беда лишь в том, что к раннему Чжоу это никак не относится (а именно о нем идет речь в книге), а в позднем Чжоу Китай уже не был централизованной структурой, так что прилагать к нему схему просто невозможно. Похоже на то, что «Чжоу ли» следует воспринимать как компендиум, генеральную сводку всего того, что имело место с начала и до конца Чжоу во всех уголках, различных царствах и княжествах, во всех слоях населения огромной страны. Систематизация же столь обширного материала в виде стройной схемы и была тем самым элементом назидательной идеализации, о котором уже упоминалось и который спутал все карты. Иными словами, материалы «Чжоу ли» можно воспринимать лишь в плане иллюстрации того, сколь высоко развитой была система административного управления в стране, но нельзя, к сожалению, использовать для исследования вопроса о той самой центральной администрации чжоуского вана, о которой будто бы в ней говорится и которая является объектом нашего исследования в данный момент.
Помимо почерпнутых из «Чжоу ли» данные о структуре и функциях центрального аппарата в Западном Чжоу скудны, из чего, однако, отнюдь не следует, что сам он был недостаточно эффективным. Аппарат власти первых чжоуских ванов был, как подробно и убедительно показано в монографии Г. Крила, весьма эффективным, но его эффективность не зависела от строгости иерархии и четкости в распределении функций. По традиции, административная власть была еще гораздо больше связана с тем нерасчлененным единством кланового родства, ранга знатности, должности и титула, которое было типичным для всех ранних политических структур. Что же касается административной системы, как таковой, то она едва ли вообще существовала [116, с. 114], в лучшем случае шел лишь процесс ее становления.
Дело в том, что сами чжоусцы — этнос сравнительно малочисленный и начавший быстро развиваться под воздействием иньской культуры лишь незадолго до завоевания Инь — развитой административной структуры не имели, как, видимо, и собственного административного аппарата сколько-нибудь заметного размера. Во всяком случае административная культура чжоусцев заметно уступала иньской как по богатству номенклатуры, так и по строгому разделению функций. Разумеется, чжоусцы и в этой сфере следовали своей основной линии: широко черпать из богатого иньского наследия. В «Шу цзин», в главе «Шао-гао», говорится, например, что чжоуский ван намерен подчинить себе и «перевоспитать» иньских чиновников, после чего они будут использованы на службе Чжоу ,[333, т. 4, с. 532; 175, с. 49,]. Видимо, именно таким путем и получали чжоусцы столь необходимые для них в их новом положении кадры грамотных и образованных, знающих свое дело чиновников, особенно из числа писцов, канцеляристов, знатоков делопроизводства. Однако целиком зависеть только от иньского наследия чжоуские правители не могли. В высших звеньях администрации они должны были опираться — и действительно опирались—прежде всего на собственные силы, на собственную административную традицию.
Она при всей своей слабости и неразвитости в конечном счете все-таки задавала тон в администрации Чжоу. Складывалась она постепенно, отличалась неустойчивостью номенклатуры должностей, полифункциональностью и заметным приоритетом личностного начала по сравнению с формально иерархическим. Другими словами, влиянием в системе управления пользовался не столько обладавший высшими титулами и должно-стями, сколько тот, кто больше мог и умел,— как это обычно бывает в неразвитой иерархическо-бюрократической администрации.
Для чжоуской административной традиции была характерна изначальная троичная структура, которая, впрочем, долго не продержалась, уступая место реальным потребностям администрации. Характерной для нее была также упоминавшаяся уже тенденция к слиянию титула и должности, настолько тесному, что не всегда заметна разница между тем и другим, хотя она тем не менее была, и ее следует иметь в виду.
Высшим титулом в Чжоу был гун, его носил правитель чжоусцев до завоевания Инь. После завоевания, когда У-ван принял титул вана и посмертно присвоил этот же титул своему отцу Чану (Вэнь-вану), титул «гун» стал использоваться для обозначения высших должностных лиц, сначала лишь троих. Двое из них были братьями У-вана (Чжоу-гун и Шао-гун), третий, Тай-гун,— его тестем. В «Шу цзин», в главе «Цзинь-тэн», повествующей о болезни и смерти первого чжоуского вана, рассказывается, что в процедуре принятия важных решений у изголовья умирающего, участвовали именно эти трое [333, т. 4, с. 445—452]. Решающие позиции были, насколько можно судить, у первых двух, особенно у Чжоу-гуна, который взял на себя общее регентство и верховный надзор над всей восточной частью Чжоу, т. е. над всеми завоеванными землями, оставив Шао-гуну контроль над западными районами, исконными землями Чжоу со столицей в Цзунчжоу, сакральное значение которых было весьма велико (там жил и малолетний правитель Чэн-ван), а реально-политическое — незначительно. На долю Тай-гуна пришлось немного, но он всеми силами пытался удержать свое высокое положение и тем самым сохранять тот баланс (двое из рода Цзи, один из рода Цзян), который символизировал дуальную структуру ядра чжоусцев.
Первые три гуна были высшими должностными лицами в Чжоу. Но помимо них уже при У-ване и во всяком случае при Чжоу-гуне появились и новые гуны, прежде всего из числа родственников правителя, владельцев уделов. Разумеется, каждый из них формально тоже обладал высшим в Чжоу аристократическим титулом и мог претендовать как на высокую должность, так и на соответствующее влияние при дворе и в управлении страной. Однако на деле влияние каждого из них было достаточно ограниченным. Не титул, не факт владения уделом и даже не должность и родство сами по себе, но лишь все это в комплексе, да к тому же с учетом личных качеств человека могло дать путевку наверх, поставить того или иного приближенного правителя в число его ближайших советников, вершителей судеб Чжоу. Те из гунов, кто удовлетворял таким параметрам, получали в знак своей причастности к высшей власти, к кругу лиц облеченных прерогативой принятия ответственных решений, высокую сановную должность одного из двух высших разрядов — тай или сы.
Сановники категории сы (буквально — управители) были кем-то вроде министров-исполнителей в важных сферах, конкретного управления страной (в схеме «Чжоу ли» сы возглавляли министерства). К разряду сы, незнакомому иньцам [330, с. 522] и введенному, видимо, самими чжоусцами в начале Чжоу, относились вначале лишь три должности — сы-ту, сы- кун и сы-ма. Именно об этих трех высших чиновниках-цинах (цин — сводное наименование понятия «сановник-министр», также появившееся лишь в Чжоу) идет речь в «Шу цзин», в главе «Цзы-цай», которая повествует о принципах управления народом с помощью чиновников и слуг, забот и добродетели [333, т. 4, с. 505]. Сы-ту ведал сферой земледелия, сельского хозяйства, сы-кун — ремеслом, строительством, отработками и т. п., сы-ма, должность которого семантически близка понятию «маршал»,— военными делами.
Число сановников-сы, как и тунов, вскоре увеличилось. В частности, как сообщает «Цзо чжуань» (4 г. Дин-гуна), один из братьев У-вана получил должность сы-коу, в сферу действия которой входили вопросы соблюдения порядков, наказания и т. п. [313, т. 32, с. 2207]. Хотя сведения о существовании в начале Чжоу должности сы-коу подтверждаются и аутентичными источниками (надписи на бронзе «Нань цзи дин» и «Ян гуй» [272 т. 7, с. 1136, 118а]), смысл самого сочетания неясен и нет уверенности в том, что носитель этой должности действительно был кем-то вроде «министра юстиции» [116, с. 118, 171]. Да и реалии той эпохи заставляют сомневаться в том, что сфера соблюдения закона и применения наказаний была уже четко осознана как самостоятельная.
Сановники разряда-категории тай в отличие от министров-исполнителей сы были кем-то вроде высших советников, главных администраторов без четкого определения сферы управления, но с огромной властью. Их вначале тоже было только трое — тай-цзай, тай-бао и тай-цзун. Должность тай-цзай («великий управитель», «высший руководитель») отправлял Чжоу-гун, так что семантика должности в общем соответствовала реальным функциям ее носителя. Должность, тай-бао (букв. «великий воспитатель») отправлял Шао-гун, деливший с Чжоу-гуном заботы об управлении страной, причем семантика термина, возможно, связана с тем, что в функции управляющего Цзунчжоу Шао-гуна входило, видимо, прежде всего пестовать жившего там малолетнего Чэн-вана[62]. Тай-цзун был главой ритуалов и церемониала и, как следует полагать, старшим многочисленного корпуса жрецов-чиновников.
Судя по личному составу должностных лиц, сановники категории тай были наиболее значимыми в начале Чжоу. Однако существенно, что строгой иерархии должностных лиц — как и вообще административно-бюрократической системы — еще не было, и ключевым элементом в управлении выступал не знак (должность), а сам человек — безотносительно к тому знаку, которым он был отмечен. И хотя номенклатура перечисленных должностей определенным образом коррелируется с существом администрации и дает представление об основных сферах управления и функциях высших должностных лиц, главным все-таки было не место должности на иерархической лестнице чинов, а занимавшая должность и успешно справлявшаяся с делами личность. В частности, это явственно проявлялось по смерти носителя той или иной должности.
В «Шу цзин», в главе «Гу-мин», дано описание совета государственных мужей, собравшихся в связи со смертью Чэн-вана и инаугурацией Кан-вана (по хронологии Чэнь Мэнцзя это было примерно в 1005 г. до н. э., через 22 года после победы над Инь). Было «приказано созвать тай-бао Ши, Жуй-бо, Тун-бо, Би-гуна, Вэй-хоу и Мао-гуна, а также чиновников ши-ши, ху- чэнь, бай-инь и юй-ши» [333, т. 4, с. 660].
Первыми в тексте поименно упомянуты шестеро наиболее влиятельных сановников — владельцев уделов, аристократов и близких родственников правителя. Показательно, что среди них нет какого-либо из сыновей умершего к тому времени Чжоу гуна — ни Бо Циня (Мин-гуна, правителя Лу), ни того, кто унаследовал его имя, титул и должность. Более того, сама эта важнейшая еще недавно должность вообще не упоминается в связи с таким серьезным с точки зрения политической администрации событием, как смерть одного правителя и воцарение другого. Вывод очевиден: должность как элемент администрации в начале Чжоу сама по себе мало что значила; важна была личность, эту должность отправлявшая. Умер Чжоу-гун, и его наследники (даже если они формально унаследовали все его титулы и должности) должны были скромно потесниться, уступив место другим, более старшим и достойным. Старшие же выходили вперед со своими должностями и титулами, отнюдь не претендуя на те, что «освободились» после смерти Чжоу-гуна. Все это подтверждает высказанную, выше мысль, что знаку (т. е. месту должности, как таковой, на иерархической лестнице чинов) большого значения не придавали и что принцип унаследования вместе с высокой отцовской должностью его высокого реального положения в системе администрации, столь типичный для чжоуского Китая позже, с периода Чуньцю, в начале Чжоу еще не существовал.
Вернемся к описанию совета сановников. Возглавлял весь, торжественный церемониал и, судя по тексту «Гу-мин», главным администратором и руководителем правительства (совета) был Шао-гун, брат Чжоу-гуна, идущий в перечислении первым и названный по имени и должности (тай-бао Ши). Вторым в перечислении идет Жуй-бо, занимавший должность сы-ту и бывший, видимо, старшим сановником категории сы. Именно Жуй-бо, согласно тексту, выступил на совете с речью, обращенной к новому правителю, и именно он вместе с тай-бао призывал нового вана быть добродетельным, заботливым и по-чтительным.
Важную роль в церемониале играл Тун-бо, исполнявший должность тай-цзун (шан-цзун, цзун-бао) и отвечавший, как следует полагать, за весь сакральный церемониал. Четвертый в перечне, Би-гун, имел должность сы-ма и, судя по некоторым указаниям текста, административно выступал в качестве преемника умершего Чжоу-гуна: «Тай-бао во главе чжухоу западных районов стоял слева от входа; а Би-гун во главе чжухоу восточных районов — справа от входа» [333, т. 4, с. 691]. Если вспомнить, что восточные земли были подведомственны Чжоу-гуну, а западные — Шао-гуну, то напрашивается вывод, что Би-гун в описываемом церемониале заместил Чжоу-гуна. Он подкрепляется материалом другой главы «Шу цзин» («Би-мин»), где рассказывается, как уже ставший правителем Кан-ван специальным указом возложил именно на Би-гуна руководство восточной частью страны [333, т. 4, с. 696—697], сделав его тем самым официальным преемником Чжоу-гуна. Однако должность Чжоу-гуна Би-гун не унаследовал и не получил, оставшись при своей (сы-ма).
На последних местах в шестерке высших сановников упомянуты Вэй-хоу (сы-коу) и Мао-гун (сы-кун) — младшие братья У-вана. Таким образом, в состав первой шестерки администраторов страны вошли двое из разряда тай и четверо из разряда сы. В тексте главы упомянуты также и некоторые другие лица, занимавшие не столь высокое положение, но игравшие, как следует полагать, существенную роль в администрации Чжоу и имевшие влияние при дворе.
К их числу прежде всего относится сын и наследник циского Тай-гуна — Ци-хоу, который в ходе церемониала выступал в качестве руководителя сотни дружинников-охранников ху-бэнь, встречавших наследника у южного входа [333, т. 4, с. 663] и, видимо, отвечавших за его безопасность. Ци-хоу, насколько можно понять, был на этой церемонии высшим представителем чжоуского рода Цзян, значимость которого в управлении Чжоу после отправки Тай-гуна в Ци стала заметно уменьшаться. Однако формально статус Цзян был достаточно высок, и фигура Ци-хоу его символизировала.
Среди высших должностных лиц, названных в «Гу-мин» в связи с описанием церемониала, заметную роль играл еще один сановник, должность которого относилась к высшему разряду тай (по имени он в тексте не назван). Речь идет о должности тай-ши[63] (букв. «великий секретарь», «историограф»). В функции тай-ши (секретаря) входило, судя по тексту «Гу-мин», составить и зачитать документ об инаугурации наследника, что и было им сделано. В церемониале ритуальной первовспашки чжоуского вана, детальное описание которого в «Го юй» было воспроизведено в предыдущей главе, он выступал в качестве ответственного сановника, на чьих плечах лежала забота о календарно-астрономических вычислениях и астрологических выкладках (ведение которых требовало прежде всего грамотности, знания писаной традиции и документации). Именно тай-ши (секретарь), строго следя за всеми записями и сопоставляя их с явлениями природы, давал сигнал о приближении весны. Отправление этой должности, следовательно, требовало от человека хорошей образованности.
Мастерами по грамотному ведению дел, специалистами в канцелярской области в начале Чжоу были преимущественно иньцы. Конечно (как показали недавние находки архива надписанных гадательных костей из чжоуской резиденции Вэнь-вана), в Чжоу еще до крушения Инь были уже свои грамотные гадатели иньской школы. Однако едва ли их было много — скорее считанные единицы. Если же принять во внимание, что многочисленные раннечжоуские тексты — причем гораздо более пространные, нежели то было в Инь,— по начертанию знаков, лексике, грамматике и стилю ничем не отличались от иньских, трудно отказаться от вывода, что в Чжоу не только была заимствована сакрально-эзотерическая традиция составления текстов, но были также приняты на службу и живые носители этой традиции, начиная с самых старших, знающих и умелых чиновников, олицетворявших в своем лице опыт и специализацию многих поколений.
Словом, есть определенные основания считать, что в сфере ведения документации, календарно-астрологических подсчетов, текстов и записей в начале Чжоу ведущее место занимали иньские грамотеи. Конечно, утверждать с полной уверенностью, что сановник тай-ши, упомянутый в «Гу-мин», был именно иньцем, нельзя. Но похоже, что так оно и было. Поэтому он не назван по имени, не зафиксирован в качестве владельца удела, которого у него могло и не быть.
Итак, в тексте «Гу-мин» представлена высшая прослойка корпуса раннечжоуских администраторов — тех немногих, от кого зависело принятие важных решений и кто руководил остальными. В своем исследовании, специально посвященном изучению процесса становления государственной администрации в Чжоу, Г. Крил выделил три основные группы администраторов: сановники высшего ранга, причастные к принятию решений, чиновники-исполнители и военные [116, с. 114]. Но известно, что обычные гражданские чиновники в Чжоу в случае нужды становились офицерами, так же как и их начальники — владельцы уделов, аристократы-сановники — генералами. Поэтому существеннее разделить весь корпус администраторов на две основные группы, терминологически и семантически хорошо фиксируемые: сановники и чиновники.
Именно о сановниках, т. е. о высшей прослойке администраторов, говорилось выше. Подытоживая сказанное, необходимо еще раз подчеркнуть, что, хотя правитель и вообще центральная власть были заинтересованы в соблюдении дисциплины, в создании строгой иерархической системы, в абсолютном подчинении и повиновении подданных, о чем не раз идет речь в «Шу цзин»[64], организовать эффективную административную и контрольную систему им было просто не под силу, а система уделов, разрушавшая строгую зависимость между должностью и платой за нее, была в этом смысле дестабилизирующим началом. Отсюда и нестабильность администрации: сегодня у власти стоит один из видных сановников с такой-то формальной должностью, завтра его сменяет другой — с иной должностью, затем третий и т. п. Так, из некоторых песен «Ши цзин» [№ 258, 193] явствует, что в период правления Сюань-вана (почти два века спустя после Чэн-вана) высшими должностными лицами были главный министр-управитель в должности чжун-цзай; конюший (генерал?) в должности цзоу-ма; начальник стражи ши-ши; ведающий кухней и, видимо, внутренними делами двора вана (интендантство, согласно Г. Крилу [116, с. 119]) шань-фу. В период правления его сына Ю-вана, последнего западночжоуского правителя, вершителем дел был Хуан Фу в должности цин-ши, за которым шли — в порядке перечисления — Фань в должности сы-ту, Чжун Юнь (шань-фу), Цзоу (нэй-ши), Гуй (цзоу-ма) и Юй (ши-ши), причем добрая половина их были родственниками фаворитки правителя, т. е. лицами, не имевшими корней в аристократических кланах Чжоу [332а, т. 9, с. 1600, т. 7, с. 987—988].
Из этих перечислений еще раз с достаточной наглядностью очевидно, что устойчивой номенклатуры и иерархии должностей в Западном Чжоу не было, что многое зависело от соотношения сил, влияния, от связанной с фаворитизмом динамики высших администраторов и их помощников. Это не значит, что в периоды правления Сюань-вана и Ю-вана не было сановников с иными должностями, традиционно продолжавшими существовать. Они могли быть, но не играть существенной роли в центральной администрации, не участвовать непосредственно в процессе принятия важных решений. Однако в моменты критические они могли выходить на передний план, как это случилось, в частности, в годы правления Ли-вана, отца Сюань-вана.
Отраженная в «Го юй» и «Щи цзин» традиция утверждает, что Ли-ван попытался усилить контроль над подданными и не прислушался к увещеваниям советника (дин-ши) Шао-гуна, который призывал правителя не затыкать рот народу, В результате Ли-ван был изгнан из столицы, причем в момент возмущения добродетельный Шао-гун погасил взрыв страстей, выдав разбушевавшейся толпе собственного сына взамен сына правителя (будущего Сюань-вана), которого он таким образом спас [274, гл. 1, С. 3—5; 296, гл. 4, с. 74—75]. Оставляя в стороне всю назидательную дидактику, следует отметить, что результатом было четырнадцатилетнее совместное правление двух сановников, Шао-гуна и Чжоу-гуна, получившее в историографической традиции наименование периода гун-хэ (совместное правление гунов) [65].
Но как бы ни менялись у власти высшие должностные лица, их основной функцией всегда было рациональное и эффективное управление, которое в огромном объединении Чжоу было достаточно сложным, разветвленным и специализированным. Нужно было заботиться о сохранении господства чжоусцев, обеспечивать внутренний порядок в стране, а также умело действовать в сфере политики, учитывая интересы центра, тенденции в уделах и ситуацию на границах, среди союзных и враждебных племен внешней зоны. На первом же месте стояло оптимальное руководство системой производства и распределения, прежде всего в той части страны, которая находилась под непосредственной юрисдикцией администрации центра. Всем этим и были заняты чиновники среднего и низшего звеньев, осуществлявшие непосредственную политику центра под руководством своих начальников из числа важных сановников Чжоу.
Функции администрации центра: производство и распределение
Хотя чжоуский Китай возник как гигантский конгломерат гетерогенных племенных и политических образований, принципы организации производства и распределения на всей его большой территории сводились к немногим вариантам, к тому же достаточно близким один к другому, поскольку эти принципы генетически восходили к тем рутинным нормам политической администрации, которые были достаточно однообразны в ранних обществах, о чем уже шла речь в первой главе.
В сфере непосредственного ведения центральной администрации в начале Чжоу находились два крупных территориально-политических образования — Цзунчжоу, исконные чжоуские земли со ставкой вана, и Чэнчжоу, анклав с преимущественно иньским населением и важным административным и военным центром управления. Остальные земли находились под властью владельцев уделов, и управление ими несколько отличалось от норм, характерных для администрации центра.
Больше всего данных сохранилось об организации управления и об образе жизни собственно чжоусцев, обитавших преимущественно в Цзунчжоу. Данные эти, собранные прежде всего в песнях «Ши цзин», подробны и красноречивы. Кроме того, они отражают динамику развития чжоусцев, что позволяет на-метить основные тенденции эволюции.
Наиболее ранние сведения о жизни чжоусцев сохранились в одной из наиболее известных песен «Ши цзин»—в «Ци юэ» (Ле 154). По стилю, красочности языка, полновесности строфы и многим другим признакам она принадлежит к числу сравнительно поздних, датируемых примерно IX—VIII вв. до н. э. [309, с. 73; 312, с. 87—93]. Однако описываемые в ней отношения — достаточно неразвитые и примитивно-патриархальные по характеру и формам — позволяют согласиться с мнением комментаторов, согласно которому в «Ци юэ» рисуется жизнь чжоусцев до завоевания Инь. К тому же выводу приходят и авторы специальных исследований [331, с. 310—321].
Песня очень своеобразна. Ее специфическая композиция (строфы поочередно описывают крестьянские заботы, связанные с тем или иным сезоном) создает впечатление прерывистости и нечеткости изложения. Однако, если связать упомянутые в песне эпизоды хозяйственного года в хронологическую линию, возникнет достаточно стройная картина жизни крестьянской общины. Изображенные в «Ци юэ» крестьяне дружно пашут и сеют, убирают урожай, выращивают овощи и домашний скот, режут тростник и заготовляют тутовник для шелковичного червя. Женщины и девушки заняты домашними делами: ткут и прядут, шьют и готовят пищу, собирают травы и топливо и т. п. Крестьяне в свободное от полевых работ время строят и ремонтируют дома, чинят сельскохозяйственные орудия, заготовляют лед для хранения пищи, участвуют в общей охоте с последующим распределением добычи. Словом, крестьянская община сама создает все необходимое, и в этом смысле она ведет замкнутое натуральное хозяйство.
Однако перед нами уже далеко не первобытная община, являющая собой самостоятельный социальный организм. Она входит в состав политической структуры, которую венчает правитель-гун, получающий за свое политико-административное управление немалую и лучшую долю совокупного продукта общины:
В дни первого месяца идем на охоту, Охотимся на барсуков, ловим лисиц, Чтобы добыть мех для сына гуна. В дни второго месяца — большая охота. Однолетних кабанчиков оставляем себе, Большого вепря отдаем гуну [332а, т. 7, с. 685]; Мы ткем черные и желтые ткани. Лучшую же ткань красного цвета Готовим для одежд сына гуна [332а, т. 7, с. 682]; На сердце у [одной из] девушек тоска: Скоро ее заберут в дом сына гуна [332а, т. 7, с. 679].В седьмой строфе песни упоминается о том, что после завершения работ по уборке урожая мужчины отправятся в ставку правителя, где их ждут работы по ремонту дворца. И на торжествах по случаю осеннего праздника урожая лучшую долю жертвенного мяса крестьяне намерены отнести правителю [332а, т. 7, с. 689—691]. Организует труд и быт крестьян тянь-цзюнь (букв. «господин полей», «хозяин земли»), которым, как следует полагать, был староста, старейшина общины, представлявший и администрацию центра. Он контролировал полевые работы (возможно, от него зависело и распределение наделов по семейным группам). Что касается членения общины на такие группы, то о нем в песне есть только косвенное свидетельство — любопытная строка, рефреном повторенная дважды, в первой и второй строфе (комментатор объясняет это тем, что сначала речь идет от имени мужчин, а затем — от имени женщин):
В седьмом месяце звезда Огня опускается ниже, В девятом месяце мы получаем [теплую] одежду [332а, т. 7, с. 676—679].Из нее явствует, что члены общины были соединены в какие-то группы (а может быть, и в единое хозяйство общины сородичей в целом), в рамках которых с наступлением холодов выдавалась хранившаяся до того в чуланах теплая одежда, т. - е. велось совместное хозяйство.
Из «Ци юэ» неясно, получал ли гун зерно с общинных полей или крестьяне обязаны были работать на каких-то специально выделенных полях. Но последующие по времени песни «Ши цзин» не оставляют сомнений на этот счет. Вот коротенький ритуальный гимн «И си» (№ 277):
О Чэн-ван! Ты уже созвал всех! Возглавляя крестьян нун-фу, Отправляешься сеять просо. Поскорее возьмите ваши сохи сы и все из тридцати ли Дружно принимайтесь за пахоту, Образовав 10 тысяч пар-оу (332а, т. 10, с. 1752—1756].Нетрудно видеть, что здесь в поэтической форме вкратце воспет тот самый обряд ритуальной первовспашки, о котором в прозаическо-дидактической форме шла речь в отрывке из «Го юй». Лейтмотив песни — поэзия коллективного труда на большом общем поле цзе-тянь. В стоящей рядом с «И си» песне «Фэн нянь» (№ 279) всего несколько строк: собран богатый урожай («мириады мер» проса), который сложен в большие амбары. Собранное зерно пойдет на изготовление вина для жертвоприношений и будет использовано для обрядовых пиршеств [332а, т. 10, с. 1767—1768].
Обе песни насыщены поэтическими метафорами — чего стоит хотя бы упоминание о 10 тыс. пар пахарей на одном поле. Но суть не в поэтических преувеличениях. Важно, что в раннечжоуском Китае земледельческое производство было организовано по уже описанным иньским стандартам: за право пользоваться урожаем со своих полей (поля сы в системе цзин-тянь) крестьяне-общинники были обязаны обрабатывать большие общие поля, урожай с которых шел на ритуальные, страховые и иные административные нужды (поля гун в системе цзин-тянь). И если в самом начале Чжоу в пределах собственно чжоуских владений число таких полей вряд ли было значительным, а отработки сводились в основном к ритуальному труду на священном поле цзе-тянь, где работы возглавлялись, по традиции, самим правителем, то позже ситуация существенно изменилась. Количество больших совместно обрабатывавшихся полей возросло, о чем свидетельствуют данные более поздних песен «Ши цзин» «Синь нань шань» (№ 210), «Фу тянь» (№ 211) и «Да тянь» (№ 212).
Содержание их примерно одинаковое, разница в деталях. В песнях воспевается коллективный труд крестьян на больших совместно обрабатываемых полях, частично заново освоенных (синь нань шань). Мужчины работают, женщины приносят им пищу. Работа кипит. Доволен надсмотрщик тянь-цзюнь. Доволен и хозяин поля Дзэн-сунь (букв. «правнук», «потомок»), т. е. представитель правителя, если не он сам. Правда, Цзэн- сунь на полях не присутствует: его замещает тянь-цзюнь. Но поля в песнях именуются «полями Цзэн-суня», а урожай с них — «урожаем Цзэн-суня» [332а, т. 8, с. 1109—1145]. В отличие от ритуального цзе-тянь, где присутствие правителя было обяза-тельным, это обычные поля гун, за счет урожая с которых удовлетворялись потребности государства.
Все три песни упоминают о горах собранного зерна, о большом празднике после сбора урожая с ритуалом жертвоприношения. В них отчетливо звучит мотив страхового предназначения урожая с полей гун. В «Да тянь», например, есть фраза:
Здесь — несрезанные колосья, Там — неподобранные колоски. Пусть они достанутся вдовам [332а, т. 8, с. 1143].Приведенные строки интересны и как свидетельство того, что к тому времени внутренние связи в общинах заметно ослабли по сравнению с эпохой «Ци юэ», и в деревнях появились мелкие семейные хозяйства, в том числе и такие, где главой семьи и хозяйства оказывались вдовы.
Как явствует из «Да тянь», урожай с полей гун и сами они были предметом особой заботы и всеобщего почитания:
Пусть дождь оросит сначала поле гун, А затем уж и наши поля сы [332а, т. 8, с. 1143].Из материала упомянутых песен можно заключить, что в раннечжоуском Китае, как и, скажем, в государстве инков, существовала (по крайней мере в пределах зоны расселения самих чжоусцев, подлежавших непосредственной юрисдикции центра) система больших государственных полей, имевших ритуальный характер и предназначавшихся для удовлетворения административных нужд. На этих полях, как и в Инь, работали крестьяне, специально для этого собиравшиеся и рассматривавшие свой труд как важный и даже приятный общественный долг, к тому же завершавшийся большим общим праздником с обильным угощением. Нетрудно заметить, что в ходе таких работ в Чжоу осуществлялся традиционный генеральный принцип реципрокности, взаимообмена, в процессе которого производительный труд земледельца обменивался на административные заботы управителей. Участие в них порождало важное чувство причастности к большому сакрально детерминированному общему делу коллектива.
Из песен «Ши цзин» явствует, что на полях в районе Цзунчжоу, т. е. в пределах исконных чжоуских территорий, во многом господствовала патриархальная традиция, усиленная заимствованной у иньцев формой организации труда. Забота об урожае была первым и едва ли не главным делом всего корпуса администраторов центра, от мелкого общинного главы-надсмотрщика тянь-цзюня до символического Цзэн-суня или даже реального Чэн-вана. Как явствует из поучения по случаю отказа Сюань-вана от обряда первовспашки, к участию в этом важном ритуально-символическом и практическом (он был сигналом к началу полевых работ повсюду) обряде так или иначе были привлечены и высшие сановники — сы-ту и др., и отвечавший за сооружение алтаря сы-кун, и ведавший календарем и вычислениями историограф тай-ши, и заботившиеся о пище и ритуальных возлияниях шань-фу, цзай-фу, си-жэнь и юй-жэнь, и, конечно, группа чиновников ведомства сы-ту — хоу-цзи, нун-чжэн, ян- гуань [274, гл. 1, с. 5—6].
В принципе чиновников ведомства сы-ту было довольно много. В схемах «Чжоу ли» перечислено огромное их число с упоминанием множества соответствующих функций [324, т. 11, с. 325—384, т. 12, с. 395—601]. О некоторых из этих администраторов говорится и в других источниках. Из текстов «Го юй» явствует, что аппарат центра включал чиновников, ведавших скотоводством (му-жэнь), отвечавших за сады и огороды (чан- жэнь), за сохранность казенных амбаров (линь-жэнь) и др. [274, гл. 1, с. 8]. Из ряда надписей IX в. до н. э., например «Мянь гуй» и «Мянь фу» [272, т. 7, с. 896—905], явствует, что в системе администрации существовала важная должность «управителя лесов» (сы-линь), близкая к должности сы-ту, и что в функции сы-ту (Мянь, прежде отправлявший должность сы-линь, был затем назначен сы-ту, о круге обязанностей которого сказано в «Мянь фу») входит верховный надзор за всеми чиновниками, ведавшими водами, пастбищами, лесами [13, с, 122—123].
Что касается ведомства сы-куна, то о нем сведений еще меньше. Похоже, что уровень развития ремесла в Цзунчжоу был невысок. Как явствует из специальных сводок, количество и качество ремесленных изделий в Западном Чжоу было заметно ниже иньского [104]. Особенно видно это на примере тех отраслей, где иньские мастера блистали изысканностью, вкусом, изяществом, например в резьбе по камню и кости. Единственное и весьма существенное исключение — изделия из бронзы, прежде всего сосуды, которые практически ничем от иньских не отличаются [104, илл. 15—23]. Сходство иньских и западночжоуских бронз настолько велико (не случайно специалисты часто затрудняются различить их и нередко датируют находки условно: Инь — начало Чжоу), что едва ли могут быть сомнения, что не только иньская техника, технология и художественно-ритуальная традиция, но и сами иньские мастера- литейщики в лице их потомков имели прямое отношение к западночжоуским бронзам.
Но основная часть иньских мастеров жила не в Цзунчжоу. Как явствует из имеющихся данных, они были собраны в Чэн-чжоу, где принимали участие в строительстве новой столицы, ставшей местом сосредоточения усилий строителей из всех районов чжоуского Китая. В «Шу цзин», в главе «Кан-гао», сообщается, что Чжоу-гуну в его трудах по сооружению Лои «помогали люди со всех четырех сторон света», что из различных владений чжоуского Китая, из всех зон-поясов прибыли ремесленники (бай-гун) и просто работники (минь, т. е. «народ»), дабы «послужить Чжоу» [333, т. 4, с. 480; 175, с. 39]. После того как город уже был создан и встал вопрос о том, чтобы перенести туда местопребывание правителя, в Лои были направлены, согласно сведениям из главы «Ло-гао» «Шу-цзин», еще и чжоуские ремесленники [333, т. 4, с. 541—542; 175, с. 51].
Из всех этих материалов складывается впечатление, что столицей чжоуского ремесла был Лои, тогда как немногочисленные чжоуские ремесленники в Цзунчжоу удовлетворяли лишь скромные текущие потребности вана и его ближайшего окружения, которые, судя по многим данным (и прежде всего по многократным и громким осуждениям роскоши и разврата, царивших в Инь), вели достаточно пуританский образ жизни, довольствуясь лишь самым необходимым.
В разряд необходимого следует отнести минимальный штат центрального административного аппарата и формально подведомственные сы-ма определенные воинские формирования («шесть армий» чжоуского вана, дислоцированные в Цзунчжоу), не считая личный штат вана (который, впрочем, организационно вполне мог сливаться со штатом центрального административного аппарата) и профессиональных воинов-дружинников, составлявших его личную охрану (которые опять-таки могли быть и, вероятнее всего, были командным ядром его «шести армий»). Управление хозяйством «шести армий» было одной из важных сфер деятельности администрации центра. Ван лично заботился о назначении сановников, ведавших землями и делами этих армий, как о том свидетельствует надпись «Нань-гун Лю дин» [336, с. 152; 13, с. 125].
Разумеется, центральный аппарат в Цзунчжоу в целом был достаточно велик. Однако содержание его не ложилось тяжелым бременем на казну правителя и тем более на общинников-чжоусцев. Во-первых, всё ведущие сановники были владельцами уделов и жили за их счет. Во-вторых, личный состав «шести армий», как о том пойдет речь ниже, существовал за собственный счет. В-третьих, есть основания предположить, что в системе центральной администрации кроме уже описывавшихся больших полей, урожай с которых шел в казенные амбары, были и иные источники прямых поступлений в казну. Речь идет о так называемых «пяти поселениях» (у и).
В надписи «Ши дуй гуй» говорится об управлении конюшими «пяти поселений», в «X гуй» — о чиновнике, ведавшем ритуалами в тех же у и [272, т. 7, 1546—155а], в «Цзо чжун» [281, 1962, № 2, с. 89]—о чиновниках, ведавших их полями. Специалисты полагают, что у и являли собой административно- территориальный комплекс, находившийся под управлением вана [13, с. 124—125] (возможно, «пять поселений» имели отношение к «шести армиям» вана — упоминание о конюших делает допустимым такое отождествление, несмотря на очевидную разницу в числах).
Насколько можно понять из всего приведенного материала, система редистрибуции в Цзунчжоу сохраняла в целом традиционные патриархальные основы и практически сводилась к принципу самообеспечения там, где это возможно (уделы, «шесть армий», «пять поселений»). Не имевшая уделов или бенефициев часть административного аппарата, равно как и сам ван со всеми его домочадцами и слугами, существовала за счет как продукции из казенных амбаров и складов, так и притекавшей в столицу дани, подарков и подношений со стороны владельцев уделов и вассальных племен. О необходимости обеспечивать регулярный приток дани и подношений не раз упоминали чжоуские тексты, будь то главы «Шу цзин», как «Ло- гао» [333, т. 4, с. 544; 175, с. 51], или надписи, как «Си цзя пань» [272, т. 7, с. 1436; 13, с. 123—124].
Однако сколь ни была сужена сфера централизованной редистрибуции за счет явственно выраженной тенденции к самообеспечению, нет никакого сомнения в том, что она должна была играть ключевую роль в административной системе. Приводившиеся надписи, отражающие заботу вана о полях, конюших, дани и т. п., убедительно свидетельствуют именно об этом. Другое дело, что указанная сфера едва ли была обособлена от более общих задач организации производства и управления. Похоже на то, что именно чиновники, связанные с общим управлением, как раз и осуществляли функции редистрибуции. В Шан-Инь чиновники такой категории именовались термином инь. Среди различных категорий чжоуского чиновничества, в частности упоминавшихся в «Шу цзин», в главе «Гу-мин», они тоже были: кроме шестерых сановников по приказу умирающего правителя во дворец были созваны должностные лица, имевшие отношение к войскам и охране вана (ши-ши и ху-чэнь), к управлению делами (юй-ши) и к общему управлению (бай-инь). Возможно, что именно бай-инь и были теми, кто непосредственно ведал системой редистрибуции в Цзунчжоу.
Анклав в Чэнчжоу, во всяком случае в начале Чжоу, отличался от исконных земель чжоусцев уровнем развития, более прогрессивными формами организации производства и, видимо, редистрибуции. Возможно, именно это сыграло важную роль в том, что после перемещения в район Лои угасавшая и деградировавшая династия чжоуских ванов сумела просуществовать еще около полутысячелетия, пусть даже без блеска и реального могущества, столь отличавших правление первых чжоуских правителей. В Чэнчжоу был иной этнический и социальный состав населения, иные и более развитые культурные традиции. Чэнчжоу отличался и составом административных слоев.
Когда в Чэнчжоу, уже после смерти Чжоу-гуна, т. е. всего за несколько лет до своей смерти (события, связанные с нею, описаны в «Гу-мин»), прибыл Чэн-ван, он приказал сыну Чжоу- гуна Бо Циню (выступавшему в тот момент в качестве старшего сановника в Чэнчжоу) созвать на встречу с ваном в храме Чжоу-гуна сановников и владельцев уделов (цинов и чжухоу), а также чиновников категорий чжу-инь, ли-цзюнь, бай-гун [272, т. 6, с. 5—6]. Ли-цзюнь — главы иньских поселений в округе Чэнчжоу, подчинявшиеся, как следует считать, непосредственно центральной администрации. Бай-гун — главы ремесленников (этой категории в перечне «Гу-мин» не было). Чжу-инь — видимо, вариант бай-инь, т. е. чиновники по общему управлению, в функции которых входило, вероятно, и осуществление процесса организации производства и редистрибуции в районе Чэнчжоу.
Организация производства здесь выглядела иначе, чем в Цзунчжоу. Насколько можно судить, использование отработочного труда на больших общих полях в начале Чжоу было привилегией чжоусцев. Что касается покоренных иньцев (не говоря уже о других племенных группах, возможно вовсе не знакомых с такой формой организации труда), то, несмотря на существование у них в прошлом такой практики, о привлечении их к подобной радостно-праздничной форме совместного труда, напоминающего о патриархально-клановых традициях этнически гомогенной старины, данных нет. Как и в уделах чжоуского Китая (к которым в этом плане анклав в Чэнчжоу может и должен быть приравнен); где основная масса населения этнически отличалась от причастных к власти и потому не было места патриархальной традиции, свойственной этнически гомогенному коллективу, в Чэнчжоу использовали иную традицию, тоже восходившую к прошлому, но относившуюся к практике взаимосвязей с чужими либо с отдаленными союзными и даже родственными коллективами. Имеется в виду практика взимания дани, издревле знакомая чжоусцам.
В песне «Гун Лю» из «Ши цзин» (№ 250) говорится о деятельности полулегендарного правителя чжоусцев Гун Лю, который занимался освоением новых территорий для Чжоу, и упоминается, что он обложил данью население присоединенных к Чжоу земель [332а, т. 9, с. 1416]. О дани, которую обязаны выплачивать покоренные чжоусцами иньцы, говорилось и в одной из речей Чжоу-гуна, зафиксированной в главе «До-фан» в «Шу цзин». В отрывке текста этой речи, реконструированном Б. Карлгреном ([174, ч. 2, с. 142—143]; см. также [116, с. 153]), для обозначения понятия «дань» использован знак фу. Этимология и графика термина (соединение знаков «раковина каури» и «военный») убедительно свидетельствуют, что первоначально он употреблялся для обозначения дани с покоренных, как то и подтверждается контекстом речи Чжоу-гуна.
Очень похоже на то, что именно практика взимания дани лежала в основе системы редистрибуции чжоусцев по отношению ко всей территории вне Цзунчжоу. В надписи «Мао-гун дин» (IX в. до н. э.) сказано, что Мао-гуну (видимо, отдаленному потомку одноименного сановника, упомянутого в главе «Гу-мин») поручено ваном организовать и возглавить систему налогообложения, установить шкалу налогов («большие и малые фу») и проявлять умеренность при их взимании, дабы «вдовы и сироты не были обижены» ([272, т. 7, с. 135а]; см. также [116, с. 155; 13, с. 123]) .
Из лаконичного текста надписи трудно заключить, на какие именно земли распространяются полномочия главы финансово-налогового ведомства. Едва ли они имели силу по отношению к уделам, которые в IX в. до н. э., как о том будет идти речь в следующей главе, обладали уже немалой долей автономии. Трудно сказать, в какой мере они относились к Цзунчжоу, где в XI—IX вв. господствовала описанная выше, система коллективной обработки общих полей, хотя стоит заметить, что именно с IX в. она уже явно отживала свой век и подвергалась определенной трансформации, суть которой сводилась к сближению статуса потомков победителей-чжоусцев с реальным положением всех остальных земледельцев страны [14, с, 175; 17, с. 64—65]. Одно несомненно: упомянутая в «Мао-гун дин» система налогов имела отношение к землям Чэнчжоу.
В трактате «Мэн-цзы» есть хорошо известное специалистам утверждение, согласно которому в древности последовательно существовали, сменяя одна другую, три различные формы взимания избыточного продукта: дань, отработка на общих полях и натуральный налог [292, с. 197]. Не углубляясь в вызывающие острые споры и разногласия детали, стоит отметить, что все три формы реальны, не соответствует реальности, видимо, лишь сама схема с ее линейной последовательностью их смены. Отработки на общем поле и в Инь, и в начале Чжоу сосуществовали с системой дани, причем это сосуществование было закономерным отражением неравноценности социального статуса своих и чужих. Но, начиная примерно с IX в. до н. э., когда в ходе сложного процесса этнополитической трансформации в чжоуском Китае этнические различия практически исчезли, реальность диктовала необходимость изменений и в форме налогообложения. В Цзунчжоу они свелись к отмиранию системы общих полей, о которой ко времени Мэн-цзы (IV в. до н. э.) сохранились лишь очень смутные воспоминания, в метафорической поэтической форме представленные в песнях «Ши цзин»; в уделах же и в Чэнчжоу — к трансформации дани в ренту-налог. Решительную ломку традиции можно связать с правлением и нововведениями Сюань-вана (827—782 гг. до н. э.), приобретшего устойчивую и заслуженную репутацию правителя- реформатора.
Сюань-ван пришел к власти после четырнадцатилетнего периода регентства двух гунов, сменивших его изгнанного отца Ли-вана. Это, видимо, сыграло роль в том, что он меньше был связан традицией и легче порывал с ее нормами. Будучи умным и деятельным правителем, Сюань-ван не мог не видеть, что традиции устарели и что ослабление могущества чжоуских ванов в немалой степени связано с их тормозящим воздействием. В частности, он должен был заметить, что успешное развитие уделов, (видимо, также и Чэнчжоу) было связано с более удачными в новых условиях увеличившейся численности населения и заметно расширившейся, уплотнившейся административно-территориальной сети поселений формами редистрибуции, сводившимися к изъятию ренты-налога в виде доли урожая. Эти соображения, насколько можно судить, и явились главной причиной, побудившей Сюань-вана приступить к осуществлению его реформ.
Отказ от совершения ритуального обряда на поле цзе, чем было положено начало нововведениям, должен был потребовать от молодого правителя немалого мужества и стойкости — достаточно напомнить о сделанном ему внушении; зафиксированном в виде помещенного в «Го юй» поучения о роли первовспашки, о значении этого священного ритуала. Однако отказом от участия в ритуале на поле цзе реформы Сюань-вана не ограничились. Он принял решение провести всеобщую (едва ли практически выходившую за пределы Цзунчжоу) перепись населения. Его советник Чжун Шаньфу вновь выступил с поучением-увещеванием, призывал отказаться от задуманного под тем предлогом, что древние правители никогда не считали свой народ, что его вообще не нужно считать, ибо каждый из чиновников, знающих свое дело —будь то имеющий дело с кланами сы-шан, ведающие своими подопечными сы-ту или сы-кун, отвечающий за пастухов и скот му-жэнь, старшие над ремесленниками бай- гун, ведающие садами и огородами чан-жэнь или смотрители амбаров линь-жэнь,— и без подсчетов имеет хорошее представление обо всем, что необходимо. Если бы ван принимал участие в ритуале на поле цзе и руководил традиционной всеобщей облавной охотой, то он без труда знал бы о том, сколько у него подданных [274, гл. 1, с. 8].
Сюань-ван, как скорбно фиксирует «Го юй», совету не внял. Его позиция понятна: система общих полей уже явно отжила свое время, а для перехода на новую систему налога необходимо было знать число налогоплательщиков. Для обозначения понятия «налог» Сюань-ван ввел тот самый термин чэ, который, по свидетельству «Мэн-цзы» и «Ши цзин», был характерен именно для чжоусцев, но, вполне вероятно, впервые стал употребляться именно с Сюань-вана, использовавшего новый знак для того, чтобы не применять в Цзунчжоу издревле употреблявшийся по отношению к покоренным и, надо полагать, имевший соответствующий политический оттенок знак фу. Об этом есть упоминания в чжоуских текстах.
В «Ши цзин», в песне «Цзян хань» (№ 262), идет речь о том, как после успешного похода на юг сановника Сюань-вана (Шао-бо Ху) к Цзунчжоу были присоединены новые земли, которые были отданы под управление завоевателя и приравнены в статусе к остальным чжоуским землям. В песне специально подчеркнуто, что ван поручил Шао-бо Ху обложить налогом-чэ «наши новые земли» [332а, т. 9, с. 1657]. В надписи «Шао-бо Ху гуй», датируемой периодом правления Сюань-вана, более детально разъясняется суть поручения, которое Шао-бо получил от вана. Текст надписи весьма запутан и далек от ясности. Проведенное Г. Крилом обстоятельное изучение его[66] дает основание полагать, что могущественный сановник Шао-бо Ху отвечал за осуществление системы взимания налога-чэ со значительной территории Цзунчжоу. По приказу Тяо Шэна, главного министра Сюань-вана, Ху был вызван в столицу с предложением дать отчет о финансовых делах (похоже на то, что подотчетные Ху земли располагались на юге). Во время пребывания его в столице к нему обратилась супруга вана с личной просьбой поспособствовать ее отцу Чжи-гуну, который явно был не в состоянии выплатить положенный налог. В тексте идет речь о том, что там, где нужно платить три, Ху мог бы взять две, а там, где гун должен платить две,— взять одну (меру? долю?). Просьба сопровождалась подарком. Со своей стороны, Ху также преподнес подарок своему начальнику Тяо Шэну [116, с. 158—159].
Из текста надписи неясно, о каких именно землях идет речь, какую роль в управлении ими играет Ху и какую — Чжи-гун. Но одно несомненно: имеются в виду налоги типа десятины-чэ с земель, находившихся под непосредственным контролем Цзунчжоу, причем делами, связанными со взиманием и определением размера налога, были заняты высшие должностные лица. Большую роль в налаживании управления финансами и всей системой редистрибуции, как свидетельствуют чжоуские надписи «Шао-бо Ху гуй», «Шао-бо Ху гуй» (2) и «Ши янь гуй» [272, т. 7, с. 142а, 1446, 149а], играл Тяо Шэн, занимавший при Сюань-ване пост высшего сановника и главного министра с должностью чжун-цзай, о чем упомянуто в одной из песен «Ши цзин» (№ 258) — правда, без упоминания имени Тяо Шэна [332а, т. 9, с. 1600]. Именно период его управления зафиксирован в отчетах, содержащих какие-то сведения о системе налогов и финансов в чжоуском Китае.
Вообще любопытно, что западночжоуский Китай, столь большое внимание уделявший записям различного рода, оставил потомкам так мало текстов финансово-отчетного характера, при том, что, по утверждению «Чжоу ли», письменная финансовая отчетность с дуплицированием документации имела большое значение в системе управления. Впрочем, материалы «Чжоу ли» едва ли касаются Западного Чжоу. Для раннечжоуского периода были характерны самые примитивные, фактически зачаточные формы денежного обращения, торговли и товарных отношений.
Это не значит, что чжоусцы были вовсе незнакомы с ними. В источниках можно встретить упоминания о высокой стоимости раковин каури, использовавшихся как символ ценности, средство награды. Они были наряду с такими натуральными продуктами, как шелк, зерно и, видимо, бронза, эквивалентом более поздних металлических денег, начавших появляться в период Чуньцю, да и то не с самого начала. В «Шу цзин», в гл. «Цзю-гао», упоминается, что перемещенным в Лои иньцам разрешалось совершать торговые поездки на запряженных быками с нагруженными предназначенным для реализации добром телегами [333, т. 4, с. 497]. Аналогичный материал можно обнаружить и в песнях «Ши цзин» (№ 58, 264], в которых в качестве метафоры используются ситуации, связанные с торговым обменом:
Ты юношей простым пришел весной, Ты пряжу выменял на шелк цветной; Не пряжу ты менял на шелк цветной, Ты к нам пришел увидеться со мной [76, с. 74]; Как благородным на базар Сбывать за три цены товар, Так не к лицу жене твоей Оставить кросна и червей [76, с. 406].Все это свидетельствует, что в принципе и с торговлей и с ценами, и даже с практикой выгодного обмена (продажа втридорога) чжоусцы были знакомы. Быть может, они знали и практику мелкой частной торговли. Но в любом случае подобная практика (как и вообще частнособственническое начало) в западночжоуском Китае была еще в зародышевом состоянии и могла играть лишь маржинальную роль в системе государственного централизованного обмена или официального обмена между уделами (по воле правителей и с помощью их доверенных администраторов). Конечно, никто не мог помешать удачливому торговому агенту провести выгодный личный гешефт в умеренном объеме попутно с выполнением порученного ему дела, но главной была все-таки официальная торгово-обменная операция, посредством которой частично осуществлялась централизованная редистрибуция — в тех, разумеется, случаях, когда она не сводилась просто к выдаче зерна из казенных амбаров и товаров из казенных складов.
Современная наука не располагает точными сведениями о том, кто всем этим занимался. Правда, некоторые косвенные данные и сопоставления позволяют выдвинуть на сей счет определенные предположения, о которых частично уже упоминалось.
В древнекитайских текстах, описывающих реформы знаменитого реформатора VII в. до н. э. Гуань Чжуна, сказано, что центральная зона царства Ци подразделялась на 21 дистрикт-сян—15 для воинов-ши, 3 —для ремесленников-гун и 3 — для торговцев-шан [274, гл.. 6, с. 80]. Упомянутые в тексте торговцы — явно не вольные купцы, орудующие на свой страх и риск, а организованная и управляемая государственными чиновниками корпорация специалистов по торговым и обменным операциям. Обратив внимание на сам принцип членения внутренней зоны царства на местожительства для воинов, ремесленников и мастеров по торговому обмену, т. е. специалистов по редистрибуции,— принцип, весьма похожий на то, что имело место в Чэнчжоу с его большим ремесленным населением, восемью иньскими армиями и, как можно догадываться, немалой группой-корпорацией чиновников; ведавших редистрибутивными операциями, отметим, что чиновники редистрибутивного аппарата названы термином шан — тем самым, которым именовались иньцы. Другими словами, в обиходе чжоусцев иньцы были синонимом специалистов по торговому делу, специалистов по практике редистрибуции. Случайна ли эта ассоциация и связанный с ней термин?
В начале Чжоу термин шан в указанном смысле еще не употреблялся. Можно предположить — как о том, уже говорилось,— что элемент торгового обмена был лишь частью деятельности чиновников сферы общего управления и редистрибуции, т. е. служащих категории инь (бай-инь), чьи функции точно не определены. Позже, примерно с VIII в. до н. э., термин инь (бай- инь) вышел из употребления, зато термин шан вошел в обиход. Как и каким образом это произошло или по крайней мере могло произойти?
В конце IX в. до н. э. Сюань-ван создал удел Чжэн, первый правитель которого Хуань-гун, как гласит легенда, поселился в новом уделе вместе с выделенными ему людьми, обозначенными в тексте «Цзо чжуань» как шан-жэнь. Жили они дружно, вместе корчевали земли, пахали, осваивали территории удела, и за все это Хуань-гун даровал им определенные, льготы, в частности разрешив торговать без ограничений. Приведенная легенда была изложена в «Цзо чжуань» (16 г. Чжао-гуна) от имени сановника царства Чжэн реформатора Цзы Чаня в связи с недоумением, вызванным независимым поведением одного из потомков шан-жэнь, отказавшегося уступить визитеру из Цзинь нефритовый диск редкой красоты [313, т. 31, с. 1924—1926]. Она ничуть не достоверней многих других назидательных эпизодов, которыми насыщены тексты «Цзо чжуань» или «Го юй». Но в ней прослеживается нить, связавшая потомков иньцев (шан-жэнь), ведших обычную крестьянскую жизнь, с торговцами-шан. Складывается впечатление, что именно иньцы, выходцы скорее всего из Чэнчжоу (удел Чжэн расположен рядом с ним), принесли с собой в новый удел определенную культуру торгово-обменных связей, которые затем выделили их из остальных жителей удела и закрепили именно за ними функции чиновников по торговой части, специалистов по централизованному обмену, редистрибуции.
Не исключено, что распространение нового термина было частично связано с некоторым изменением функций чиновников сферы общего управления и редистрибуции, с вычленением из нее того типа деятельности, который был более тесно связан с личной торговой инициативой. Внести большую ясность в приведенную серию предположений пока не представляется возможным. Но важно заметить, что даже во времена Гуань Чжуна торговцы-шан в Ци явно не были еще рыцарями вольной наживы (каким предстает и сам Гуань Чжун в молодости в описании Сыма Цяня [296, гл. 62; 68, с. 51—53]). А связь между ними и высшим чиновничеством царства была, видимо, не случайной и даже в определенном смысле естественной, свидетельством чему может послужить и вся дальнейшая карьера Гуань Чжуна [77, с. 58 и сл.].
В общем, скудные данные не позволяют раскрыть характер системы редистрибуции в раннем Чжоу. Несомненно, что существовала централизованная система взаимообмена и распределения продуктов, кое в чем предвосхищавшая более позднюю практику казенного довольствия чиновничества и находившихся на попечении казны ремесленников и воинов и отдельными моментами перекликавшаяся с практикой бартерного обмена продуктами между уделами или с обменом данью и ответными богатыми подарками между китайским императором и всеми появлявшимися при его дворе иностранными посланцами. Несомненно, что уже в начале Чжоу существовали многочисленные и наследственно-корпоративно организованные группы чиновников, специализировавшихся в сфере редистрибуции, обмена, торговли, по крайней мере значительная часть которых генетически восходила к соответствующим корпорациям эпохи Шан-Инь. Позже это отразилось и в термине (шан — торговец, купец, специалист по обмену и редистрибуции). Остается, однако, неясным, как именовались такие чиновники (бай-инь? чжу-инь?) и в чем конкретно проявлялись их обязанности. Что касается текстов, имеющих отношение к чжоусцам, то в них гораздо больше внимания уделяется иным функциям администрации Чжоу.
Регулирующие и медиативные функции администрации
Соблюдение общепринятой нормы, поддержание общего порядка, следование веками апробированной традиции, авторизованной волей Неба и этически детерминированной,— вот та основа, на которой зиждились регулирующие функции чжоуской администрации.
Специалисты не раз обращали внимание на то, что древние китайцы, оставившие столь значительное количество письменных памятников и вообще писаных текстов (по сравнению с другими народами древности), так мало внимания уделяли составлению кодекса законов [126, с. 3—4; 116, с. 165].
Дело в том, что складывавшейся в иньско-чжоуском Китае консервативной социально-политической структуре и формировавшимся под ее воздействием общественным отношениям и национальному характеру были ближе, понятнее и даже удобнее сохранение санкционированной почитаемыми предками устной традиции, обычного права с его нормативными представлениями о должном, нежели замена всего этого жестким писаным законом с присущей ему неумолимостью и нелицеприятностью безликих статей. Позже, в предымперский период, в Чжаньго (V—III вв. до н. э.), когда такая структура стала разрушаться и замещаться более жесткой системой бюрократического правления, появились и своды законов, и разработанная процедура наказания, апологетом чего выступали реформаторы-легисты. Некоторые из законодательных норм были задним числом приписаны древности, а часть их — в наиболее умеренном варианте — проникла даже на страницы «Шу цзин» (главы «Гао Яо-мо», «Яо-дянь» и целый трактат о наказаниях «Люй-син»), хотя совершенно очевидно, что приписанные древним мудрым правителям рассуждения и высказывания построены на идеях и принципах конца Чжоу [116, с. 162—164]. Однако с крушением легизма вместе с империей Цинь эти расцветшие было в древнем Китае своды законов снова увяли: они вошли в нормативную структуру китайской конфуцианской империи лишь в синтезе с древними традициями, обычным правом, принятыми еще в древности и освященными конфуцианством представлениями о достойном и добродетельном, которые задавали тон в чжоуском Китае до расцвета легизма.
Все сказанное дает основание не согласиться с Г. Крилом, полагающим, что, несмотря на фактическое отсутствие какого-либо писаного закона в Китае до VI в. до н. э., можно все-таки говорить об его существовании даже в Инь, поскольку о том свидетельствуют многократно зафиксированные в «Шу цзин» призывы соблюдать принятые законы [116, с. 165]. Действительно, такими ссылками наполнены многие главы «Шу цзин». Но следует обратить внимание на то, в каком контексте и в каком смысле там все это подано.
«Если вы будете мне повиноваться, будете награждены в храме предков; если нет — будете убиты и принесены в жертву земле-шэ. Будут уничтожены жены и дети ваши»,— сказано от имени вана в главе «Гань-ши» [333, т. 3, с. 238; 175, с. 18]. Та же формула повторена в «Тай-ши», где говорится о намерении Чэн Тана свергнуть недобродетельного Цзе, правителя династии Ся, который виновен в том, что управляет несправедливо, не имеет сострадания к людям и потому подлежит наказанию [333, т. 3, с. 260; 175, с. 18]. В главе «Пань Гэн» связи между поведением, наказанием, справедливостью и законом даны более развернуто. Во-первых, законы правитель определяет сам, но в соответствии с «установленными правилами». Во-вторых, главное в справедливом администрировании — быть всегда с народом, нести вместе с ним все тяготы. Обращаясь к тем, кто занимает высокое положение (т. е. призван помогать вану управлять), Пань Гэн требовал: «Пусть никто из вас не посмеет скрыть что-либо, против чего протестуют простые люди». Однако в обмен за это люди обязаны правителю полным повиновением и подчинением. Напоминая, что его предки-правители всегда делили с предками его народа все «легкое и тяжелое», Пань Гэн обещает, что никогда не посмеет использовать «не-правильные наказания», хотя при всем том за добродетели полагается награда, а за преступления — смерть. Более того, если подданные «имеют в сердце дурное против» вана (речь шла о переселении иньцев на новые места, к чему, ломая сопротивление, склонял свой народ Пань Гэн), то его предки на небе подвергнут наказанию их предков, последние отрекутся от своих непослушных потомков и не станут защищать их от невзгод и гибели. Да и сам ван уничтожит всех непочтительных и непослушных [333, т. 3, с. 305—315; 175, с. 21—24].
В конечном счете все приведенные выше материалы, касающиеся иньцев (разумеется, следует учитывать, что в «Шу цзин» все данные подвергнуты обработке в духе чжоуских норм), сводятся к элементарной формуле, сущность которой в том, что за послушание следует награда, а за ослушание — смерть. Формула эта настолько проста и привычна для народа, уже давно живущего под властью обожествленного правителя, сакральные свойства которого дают ему небесно санкционированное право вещать от имени божественных сил, т. е. приказывать и требовать абсолютного повиновения, что только чрезвычайные обстоятельства заставляют его напоминать своему народу столь примитивные истины. И хотя по своей сути обрисованные отношения близки к тому, что в иных обстоятельствах фиксируется писаным законом, по форме они не нуждаются в законодательном уложении, в обозначенном писаными формулами тексте. Не писаный текст, строго отточенные формулировки которого равно ограничивают и народ, и законодателей, и правителя, а традиционный нормативный принцип повиновения приказам сакрализованного вождя — вот что выступает на передний план в приведенных сообщениях «Шу цзин». Аналогичная картина и в других главах этой книги, описывающих более близкие времена.
В «Вэй-цзы» причиной гибели Инь называется «утрата законов», что нашло свое выражение в общем упадке нравов: среди иньцев распространились кражи, насилия, обман; сановники творили беззакония; простые иньцы устраивали драки. Народ дошел до того, что не стеснялся воровать даже мясо жертвенных животных, кощунственно употребляя его в пищу. В главе «Цзю-гао» добавляется, что иньцы поголовно погрязли в пьянстве, хотя выпивать следует лишь при жертвоприношениях, да и то понемногу, тогда как пьянствующая компания заслуживает смерти [333, т. 3, с. 347—352, т. 4, с. 493—504; 175, с. 27, 46]. Если сделать необходимую скидку на тенденциозность чжоуского текста, суть приведенных сообщений сводится к тому, что беззаконие — это упадок нравов, ослабление нормативных сдерживающих импульсов. Естественно, что вина в таком случае в первую очередь ложится на вана, который в силу собственной недобродетельности допустил и даже стимулировал подобный разврат. Отсюда вывод: главная задача правителя— строго держать вожжи, умело осуществлять регулирующие функции администратора.
В главе «Цзы-цай» обращено внимание на то, что стремящийся править должным образом ван при посредстве чиновников и слуг обязан наладить хороший контакт с ведущими кланами (да-цзя), заботиться о народе, в том числе о вдовах, сирых и т. п. [333, т. 4, с. 504—509; 175, с. 46]. В напутствии вана получившему в управление населенные иньцами их исконные земли, (удел Вэй) Кан-шу (глава «Кан-гао») подробно и обстоятельно говорится о том, как следует налаживать административную деятельность в столь непростых условиях. Правителю удела рекомендуется следовать тем законам Инь, которые основаны на правильных принципах, использовать в практике все подходящие нормы и законы, знакомые иньцам виды наказаний. Далее еще раз напоминается, что законы Неба зиждятся на добродетельном поведении, что нельзя быть либеральным к нарушителям норм добродетели, виновных следует наказывать, а неуступчивых — заставлять силой. Задача правителя—не быть тираном, а заботиться о том, чтобы народ был зажиточным, жил в мире и спокойствии и не забывал о добродетелях. В полном соответствии, со всей этой программой звучит и следующий важный совет, который по духу можно считать предтечей будущих легистских принципов: «Будь внимателен и осмотрителен в выборе наказаний! Если кто совершил даже небольшой проступок, но не случайно, а намеренно,— это уже беззаконие. Даже если проступок мал — нельзя не наказать (уничтожить) виновного. Но если нарушение и серьезно, а виновный не упорствует и [проступок его]— случайность, то изучите его вину в соответствии с нормами справедливости и не убивайте его!» [333, т. 4, с. 479—493; 175, с. 40—43].
Приведенные выше тексты (как и многие другие, созвучные им) убедительно свидетельствуют, что законы Неба, законы Инь, законы Чжоу не статьи законодательства или конкретные законоположения, строго фиксированные письменно. Судя по контексту «Шу цзин», они не более чем принятая норма, общий принцип достойного, освященного традицией добродетельного поведения, обязательного как для народа, так и для правителя. Кто не соблюдает норму, кто не блюдет добродетель и погрязает в пороках, тот неизбежно подвергается наказанию, гибнет сам и (если он ответственный за все правитель) губит всех. Такова генеральная концепция чжоусцев в сфере администрации—концепция, тесно связанная с идеей о «мандате Неба» и его смене, производная от нее.
Все сказанное означает, что регулирующая функция чжоуской администрации не опиралась на закон в собственном смысле слова (в том смысле, как позже этим понятием оперировали легисты, опиравшиеся на строго фиксированный писаный закон). Она просто вытекала из общего принципа соответствия управления обычной норме (что было свойственно многим ранним политическим структурам), вследствие чего сближалась, смыкалась, подчас практически сливалась с пенитенциарной и медиативной функциями чжоуской администрации.
Реализация всех этих функций на практике тоже никак не была связана с каким-либо ограничителем в виде писаной нормы. Однако при всем том в сфере правосудия отнюдь не царил произвол. Правосудие было составной частью общей системы администрации и осуществлялось теми же достаточно компетентными и опытными чиновниками, которые использовались и для выполнения других поручений (как то было характерно и для имперского Китая, где функции медиации падали на плечи уездного начальника), о чем, в частности, свидетельствует упоминавшееся поучение из главы «Кан-гао». Тщательность, с которой в ней сделан акцент на норму, порядок, справедливое правление и прочие составные элементы регулирующей и медиативной функции власти правителя, показывает, что правитель рассматривался в качестве верховного судьи своего народа, судьи мудрого и справедливого. Возможно, что случай с Кан-шу особый — не всякому правителю приходилось вступать во владение исконными землями центральной зоны Инь с ее аборигенным (неперемещенным) иньским населением. Но зато заслуживает внимания, что именно Кан-шу носил должность сы-коу, ту самую, которая впоследствии воспринималась в качестве министра справедливости, правосудия. Из этого не следует, что именно Кан-шу (Вэй-хоу) ведал всеми делами, связанными с отправлением правосудия в Чжоу, как то вытекает, скажем, из схемы «Чжоу ли». Но несомненно, что от него требовалось едва ли не в наивысшей степени проявлять умение и такт, мудро сочетая принуждение завоевателя со справедливым правлением администратора, считающегося с традициями, принципами, культурным потенциалом управляемого им народа.
В принципе медиативные и пенитенциарные функции во всех уделах выполнялись их правителями, выступавшими в качестве администраторов центра, облеченных широкими полномочиями. Но в отдельных сложных или спорных случаях, прежде всего в случае конфликта между самими владельцами уделов (особенно небольших владений в центральной зоне), прибегали к высшему авторитету вана, от чьего имени и по чьему поручению тот или иной чиновник (не из судебного ведомства — такового, видимо, не существовало,— а просто уполномоченный вана, его доверенное лицо) вникал в дело и выносил свое решение.
Г. Крил, уделивший серьезное внимание этой проблеме, пришел к выводу, что в сфере правосудия в начале Чжоу соблюдались достаточно строгие нормы, что принимавшие судебные решения чиновники — равно, как и судившие в соответствии с данными им строгими инструкциями (вроде приведенных в «Кан-гао») владельцы уделов — руководствовались справедливостью и уж во всяком случае не допускали произвола [116, с. 173— 175]. Некоторые надписи на бронзе, сообщающие о конкретных решениях по ряду спорных вопросов, в общем, вполне согласуются с такой оценкой.
Вот одна из хорошо изученных и достаточно известных раннечжоуских надписей — «Ши Ци дин», датируемая временем Чэн-вана либо Кан-вана и составленная от имени Ши Ци, владельца удела и командира отряда, который должен был быть выставлен по приказу вана. В ней сказано, что несколько воинов отряда отказались выступить в поход. Ши Ци попросил некоего Хуна информировать об этом Бо Моуфу, бывшего важным сановником вана [116, с. 179]. Сановник присудил виновных к штрафу в 300 ле[67]. Виновные, однако, не могли выплатить столь крупный штраф. Тогда Бо Моуфу заметил: «По справедливости их за отказ выступить в поход следовало бы выслать; если же не высылать, то пусть они искупят свою вину перед Ши Ци». Хун уведомил обо всем чиновника, ведавшего документами, и попросил зафиксировать это решение в тексте, результатом чего и явилась данная надпись [272, т. 6, с. 26а— 266].
Еще более интересна надпись «Ху дин», состоящая из трех частей и датируемая IX в. до н. э. В первой части ее рассказывается о пожалованиях вана в пользу владельца надписи. Во второй говорится, что Ху через своего посланца представил важному чиновнику вана Цзин Шу жалобу. Суть ее сводится к тому, что он заключил с неким Сянем договор о приобретении пятерых человек в обмен на лошадь и рулон шелка. Его люди отдали представителю Сяня то и другое, но пятерых человек не получили, затем лошадь и шелк были возвращены и встал вопрос об уплате 100 ле за людей, что не устраивало Ху. Цзин Шу рассмотрел жалобу и определил, что Сянь не должен наносить ущерба Ху, так как ранее он согласился уступить ему людей. В результате Ху получил свое [272, т. 7, с. 966—97а; 116, с. 182—183]. Наконец, в третьей части надписи идет речь о том, как в голодный год 20 людей некоего Куан Цзи украли с полей Ху 10 мер зерна. Жалоба была направлена Дун Гуну, чиновнику вана, который велел Куану строже следить за его людьми и признать вину. Куан предложил в виде искупления передать Ху пять полей и четверых людей (одного чжун и трех чэнь), но последний не согласился и снова пожаловался Дун Гуну. Тот распорядился, чтобы Куан вернул украденное и выплатил в качестве штрафа еще десять мер зерна, предупредив, что если Куан не выполнит указания в текущем году, то в следующем ему придется выплатить пострадавшему вдвое больше — сорок мер. Куан, который, как это вытекает из контекста, не располагал необходимым количеством зерна, предложил добавить еще два поля и одного человека-чэнь. Ху согласился взять предложенные ему семь полей и пятерых людей и скостить тридцать мер зерна (как полагает Крил, процесс затянулся, и Ху полагалось получить уже сорок мер, но он согласился взять только свои десять, а людей и земли получил в качестве штрафа [116, с. 182, прим. 98]).
Обе последние части надписи весьма интересны с точки зрения цены человека и права господина распоряжаться его судьбой и нередко используются в качестве аргумента при попытках доказать рабовладельческий характер общества Чжоу, что явно не убедительно [68]. Для нас же важнее обратить внимание на ту роль, которую играли в деле медиации, урегулирования спора, представители администрации центра.
Надписей, повествующих о такого рода вмешательствах центра, достаточно много. Можно вспомнить в этой связи еще о двух из них, «Го Ю Цун дин» и «Го Цун сюй», в которых рассказывается, как Го Цун с помощью вмешавшихся в его тяжбы чиновников вана получил некогда принадлежавшие ему земли, отхваченные у него его более энергичными соседями [272, т. 7, с. 1246, 127а]. Из всех подобных надписей явствует, что медиативная функция центра была общепризнанна, что к помощи чиновников вана обращались все те, кто не мог своими силами решить дело в свою пользу, что существовала и определенная процедура судебного процесса.
Обиженные жаловались в установленном порядке сановнику или самому вану. На место происшествия посылались чиновники, призванные детально разобраться в деле. Чиновники вникали в его суть достаточно глубоко и, руководствуясь принятыми нормами, выносили свое решение, в случае необходимости — даже вторично. Иногда для решения дела привлекались и посредники (типа Хуна из надписи «Ши Ци дин»), игравшие роль ходатаев. По мнению Г. Крила, характер записей о спорах позволяет предположить, что в распоряжении чиновников вана должны были находиться копии некоторых документов, даже касавшихся частных сделок, для хранения которых могла существовать специальная канцелярия с архивами, как о том свидетельствуют некоторые термины в надписях и сообщения «Чжоу ли» [116, с. 183—185]. Возможно так оно и было, но в связи с этим стоит напомнить, что частноправовые нормы так и не получили развития ни в чжоуском Китае, ни позже, а нормы публичного права в такого рода строгой документации едва ли особо нуждались, что, впрочем, не исключает существования документов о частных сделках (по меньшей мере с Хань).
В заключение стоит подчеркнуть, что медиативные и даже пенитенциарные функции власти центра опирались в основном на традицию и авторитет правителя. Социально-административного принуждения, как такового (полиция, опирающееся на физическую силу принуждение), еще практически не было, хотя сила, как таковая, в распоряжении вана была, причем немалая. Как же она использовалась?
Военная функция и принципы управления в начале Чжоу
Активная военная функция свойственна, как отмечалось в первой главе, уже ранним политическим структурам. Тем более важную роль играла она на этапе становления этнически гетерогенного раннего государства, каким был чжоуский Китай. Собственно, вся созданная малочисленным этносом чжоусцев гигантская политическая структура в значительной степени держалась именно на военной силе, по крайней мере до тех пор, пока процесс легитимации власти чжоуских ванов не привел к желаемым результатам. Однако, коль скоро это было достигнуто, ситуация начала изменяться в том смысле, что военная сила — как то было и в Инь — преимущественно (если не исключительно) использовалась лишь для подавления мятежей непокорных вассалов и отражения, опасности извне, включая и карательные походы. Правда, с развитием аристократии как влиятельного слоя в период Чуньцю с его феодальными междоусобицами сложились правила ведения внутренних войн, кодекс рыцарской чести и даже практика выдвижения наверх с помощью военных успехов. Но подобное положение длилось недолго. Культ войны и военной доблести так и не вышел в древнем (да и более позднем) Китае на передний план (как то случилось, скажем, в Европе или Японии).
Как уже говорилось, чжоуские правители с самого начала не строили свою власть на силе, позаботившись о том, чтобы придать ей легитимность, сакрально-этически детерминированную законность. Этот важный импульс продолжал активно воздействовать на всю политику и организацию администрации чжоусцев и позже, в силу чего в стране исподволь, постепенно, но неуклонно закладывались основы для возвышения роли и даже создания культа этической доминанты. Сложившись и окрепнув, пережив период острых военно-политических конфликтов и развития рыцарско-аристократического отношения к войне и воинской доблести в годы Чуньцю, указанный культ расцвел в годы жизни Конфуция, на рубеже Чуньцю и Чжаньго, и с его активной помощью материализовался в виде доктрины, оказавшей решающее воздействие на всю историю и культуру Китая» на весь облик китайской цивилизации. Но необходимо иметь в виду, что основы всего этого были заложены в начале Чжоу.
Вот почему внешние параметры чжоуского военно-политического объединения, откровенный упор чжоуских правителей на военную силу и военную администрацию не должны исказить реальную картину. Сущность же ее сводилась к тому, что чжоусцы действительно видели в военной силе основную и фактически почти единственную, во всяком случае главную, возможность сохранить и упрочить свое господство, обеспечить эффективность и стабильность администрации, однако ни в коем случае не делали из нее культа. Другими словами, военная сила необходима; только ее уважают покоренные, союзные и соперничающие с Чжоу-племена, но не военные таланты сами по себе ценны и заслуживают максимального поощрения и приближения к власти. Конечно, за военные успехи следует награда, но не они ведут к рычагам власти [116, с. 252—253]. Они лишь создают устойчивую базу, опираясь на которую чжоуские правители могут обеспечивать и упрочивать свое господство в Китае.
В войске чжоуского вана, как в Шан-Инь, доминировала пехота (лучники, копейщики, алебардщики), причем есть некоторые основания считать, что основу военной силы составляли воины-полупрофессионалы, т. е. крестьяне (чжоусцы и не чжоусцы), организованные в армейские группы и обитавшие неподалеку от обеих столиц в виде военных поселений. Всего таких армий в распоряжении центра было 14: шесть в районе Цзунчжоу и восемь в Чэнчжоу. О шести западных армиях, дислоцированных близ ставки вана, говорится в чжоуских текстах, в частности в «Шу цзин» [333, т. 4, с. 693]. В схемах «Чжоу ли» (гл. 28) отмечается, что Сыну Неба полагалось иметь шесть армий, тогда как уделам — от одной до трех, в зависимости от их размера [324, т. 13, с. 1020; 89, т. 2, с. 142]. О восьми так называемых иньских армиях упоминают только надписи на бронзе.
В раннечжоуской надписи «Сяо чэнь Су гуй» важному сановнику Бо Моуфу (тому самому, что выступал в качестве арбитра в надписи «Ши Ци дин») приказывается «во главе восьми иньских армий идти походом на восточных ы» [272, т. -6, с. 23а]. В более поздней (середина IX в. до н. э.) надписи «Сяо Кэ дин» ван повелел шань-фу Кэ направиться в Чэнчжоу «для инспектирования восьми армий» 1[272, т. 7, с. 1236]. В надписи «Ху гу» ван дает указание Ху (тому самому, который сумел выиграть оба процесса и приобрести десятерых подданных) занять должность его отца и деда и отправиться в Чэнчжоу в качестве главного сы-ту «восьми армий» [272, т. 7, с. 100а]. Наконец, когда в середине IX в. до н. э. один из вассалов вана (Э-хоу) поднял мятеж и во главе союзных ему племен (восточных и южных хуай) выступил против Чжоу, ван приказал шести западным и восьми иньским армиям совместно атаковать Э-хоу, не щадя ни старых, ни малых [300, с. 53—60; 304, с. 24; 116, с. 237—238].
Судя по этим данным, в районе Чэнчжоу были дислоцированы численно даже более значительные военные контингента, нежели в Цзунчжоу, причем состояли они из потомков живших там иньцев. Юй Шэньу, специально изучавший этот вопрос, полагает, что в функции солдат чэнчжоуских восьми армий (как и шести цзунчжоуских) входили обработка земли, выращивание злаков, разведение скота и что всем этим раннечжоуские. армии напоминают военные поселения ханьского времени [336, с. 152— 155]. Его вывод согласуется с теми материалами о реформах Гуань Чжуна, в которых зафиксирован, о чем уже упоминалось, особый статус воинов-ши (как и ремесленников и торговцев) в столичной зоне царства Ци в VII в. до н. э.
Шесть армий Цзунчжоу и восемь Чэнчжоу, подчинявшиеся командованию центра, составляли ударную боевую силу вана и энергично использовались им при нужде, как о том свидетельствует приказ выступить против мятежного вассала Э-хоу. По сравнению с этой грозной силой гарнизоны в уделах, являвшие собой небольшие анклавы чжоусцев в океане этнически гетерогенного местного населения, были лишь вспомогательными аванпостами, заставами, пограничными отрядами (нн один из владельцев уделов вплоть до Чуньцю не имел не только трех, но, видимо, и одной полноценной армии, сравнимой с ванскими). На долю таких отрядов приходилась охрана границы промежуточной зоны и отражение нападений племен внешней зоны, с чем они более или менее успешно справлялись. Но в случае серьезных по размерам конфликтов и кампаний на помощь им приходили армии центра. Формировались специальные военные экспедиции, во главе которых ставились доверенные и заслуженные сановники вана, а то и сами ваны. По подсчетам Г. Крила, из двенадцати крупных военных экспедиций, которые велись при Чэн-ване и были направлены против соседей из числа мятежных племен внешней зоны, в четырех ван принимал личное участие, возглавляя экспедицию, и еще по меньшей мере в двух находился рядом с ней. Его преемник Кан-ван из трех аналогичных экспедиций принимал личное участие в одной; Чжао-ван две из пяти возглавлял и еще в одном случае сопровождал войска, причем из последней своей экспедиции он так и не возвратился, потеряв шесть армий на реке Хань[69]. Усилия этих ванов были, однако, не напрасными: на протяжении последующих пяти царствований в источниках нет упоминаний о больших кампаниях. И только начиная с Ли-вана они возобновились: он лично участвовал в двух из шести таких экспедиций; Сюань-ван — в одной из трех [116, с. 301—302].
Все походы первых чжоуских правителей, вплоть до Чжао-вана, способствовали укреплению авторитета их власти и консолидации всей структуры и администрации. Удельные вассалы, принимавшие посильное участие в таких экспедициях, были стопроцентно лояльны центру и не могли и помыслить о какой-либо конфронтации с ним. Только после постепенной стагнации власти ванов в связи с упадком их могущества после Чжао-вана ситуация стала меняться и привела к усилению удельных правителей, что и нашло свое проявление в виде мятежа Э-хоу, с трудом подавленного усилиями всех 14 армий Ли-вана. Мятежи подобного типа к тому времени (рубеж IX—VIII вв. до н. э.) были уже не единичным явлением. Как известно, последний западночжоуский правитель Ю-ван потерял свой престол и жизнь вследствие того, что видный сановник Шэнь-бо, которому Сюань-ван дал новый удел на юге и дочь которого была первой женой Ю-вана, выступил против правителя в союзе с соседними племенами, когда Ю-ван отстранил от себя жену и объявленного было наследником ее сына в пользу любимой наложницы Бао Сы и ее сына. Этот мятеж в отличие от мятежа Э-хоу завершился победой восставших и ознаменовал собой крушение Западного Чжоу (наследник Ю-вана, сын его законной жены и внук мятежного Шэнь-бо, стал под именем Пин-вана править в Лои, с чего и начался период Восточного Чжоу).
Упадок власти вана, приведший к гибели Западного Чжоу, был следствием многих причин и относился к периоду правления последних правителей, включая и реформатора Сюань-вана, пытавшегося реформами исправить положение. Что же касается первых правителей Чжоу и их непосредственных преемников, то в их время власть и могущество вана были неколебимыми. И хотя военная сила лежала в основе этой власти[70], техника централизованного административного контроля опиралась не только, даже не столько на нее, сколько опять-таки на усиленно внедрявшиеся первыми чжоускими правителями нормы и традиции, а также на поощрение стимулированного этими традициями должностного рвения умелых и способных помощников вана в системе администрации.
Прежде всего, в руках центра были такие мощные рычаги власти, как исключительное право инвеституры, назначения на должность, повышения в должности, награды за успешное выполнение должностных обязанностей или за военную победу. Об инвеституре и награде за военные победы выше уже упоминалось. Особенно наглядный пример демонстрируют надписи «Да Юй дин» и «Сяо Юй дин», в которых говорится о введении. Юя во владение уделом его предков и о награждении за крупную победу. Менее известна практика назначения на должноеш и повышения в должности. А она была важным моментом ранней чжоуской администрации.
Как упоминалось, в начале Чжоу все находилось в сложном процессе становления: что-то заимствовалось безоговорочно, кое-что пересматривалось и приспосабливалось к новым обстоятельствам, а то и создавалось заново. Такой процесс требовал времени и немалых усилий, и неудивительно, что многое в практике чжоуского правления было неустойчивым и противоречивым. Это относилось и к иерархии и номенклатуре должностей» и к вопросу об их наследовании и замещений. Некоторые, особенно высшие должности сановников и владельцев уделов, как правило, наследовались. Однако и здесь все происходило отнюдь не автоматически, так что порой должность, попав в новые руки, просто теряла первоначальную роль (как было показано на примере перемещения функций после смерти Чжоу-гуна). Другие должности наследовались не автоматически, хотя наследники их прежних носителей имели при этом определенные преимущества перед другими.
Г. Крил приводит ряд примеров, из которых явствует, что некоторые чиновники за свою жизнь получали несколько должностных повышений и перемещений, причем должность, занимавшаяся предками, была отнюдь не высшей из тех, которые им в конечном счете пришлось занимать. Наглядным примером является карьера некоего К. В одной из надписей сообщается о том, что он был назначен на должность его отца и деда — ху-чэнь [270, 1955, № 3, с. 27], в другой —на более высокую должность цзо-це-инь [273, с. 1—4], а в третьей - на еще более высокую должность шань-фу, ту самую, в качестве носителя которой он был отправлен инспектировать восемь иньских армий в Чэнчжоу [272, т. 7, с. 1236]. Некий Ли вначале был назначен на одну из должностей, которые отправлял его дед,— на ту, что имел его отец (речь идет о музыкантах), а позже его назначили на более высокую должность, соединив в его руках обе должности, которые имел его дед [116, с. 398—402]. Специальные подсчеты показали, что в большей части надписей о назначениях не шла речь о занятии должности предков [116, с. 396— 397]. Отсюда не следует, что наследование должностей играло незначительную роль. Скорее, правильным представляется вывод, что оно (в том случае, если речь не шла о наследовании удела и какой-либо связанной с ним высшей сановной должности), как и вообще получение должности, зависело от решения центра. А это, в свою очередь, всегда является одним из важных показателей эффективности центральной администрации, тесно связанной со свободой отбора, назначения и продвижения чиновников в зависимости от их способностей и успехов.
Владелец удела в конечном счете тоже был чиновником (садовником) вана, что было особенно очевидным в случае с владельцами мелких внутренних уделов, по меньшей мере часть которых была просто бенефициариями, получавшими небольшое владение в качестве платы за службу (среди надписей на бронзовых сосудах Западного Чжоу нередки записи о пожаловании нескольких «полей» и немногих людей). Другое дело — владельцы крупных уделов, о которых специально пойдет речь в следующей главе и которые в силу ряда причин с течением времени становились все более независимыми от центра.
* * *
Завершая изложение материалов, связанных с генезисом, организацией и особенностями центральной власти в начале Чжоу, следует отметить, что уровень политической интеграции в то время был уже весьма высок. Он вполне уже соответствовал тому, что можно считать и называть ранним государством в отличие от протогосударства-чифдом. В первой главе специально упоминалось, что разница между этими уровнями слабо ощутима, однако все-таки есть.
Одно из важных нововведений Чжоу — резкое усиление роли сакральной власти правителя и превращение ее в основу хорошо разработанной доктрины, бывшей для древнего Китая эквивалентом развитой религиозной системы: идея о «мандате Неба» сыграла роль краеугольного камня в фундаменте, на котором позже сложились политические теории, включая конфуцианскую и легистскую, стоявшие на страже интересов централизованной администрации. Заметны изменения в характере последней: для Чжоу типична ставка на внеклановую основу администрации в центре (при абсолютном преобладании клановой в уделах), высокая значимость личных способностей и заслуг, большой акцент на авторитет нормативного акта и медиативную функцию правителя, наконец, создание и упрочение контрольно-ревизорской службы, особенно по отношению к уделам. Все эти признаки отличают раннее государство от предшествовавшего ему этапа протогосударства-чифдом.
К числу таких признаков относится и еще один важный момент — усиление значимости принуждения, степень которого в Чжоу была много более-высокой и явственно выраженной, чем в Инь. Если в Инь, как то обычно бывало характерным для чифдом, принуждение в виде грубой силы (военной или иной — например, в случае принесения иноплеменников в жертву) было направлено только и исключительно вовне политической структуры собственно иньцев, т. е. по отношению к вассалам и варварам внешней зоны (злоупотребления последнего из иньских ванов, применявшего насилие по отношению к собственному народу, к своим приближенным и помощникам, рассматривались как отклонение от нормы), то в Чжоу было иначе. Чжоуские ваны использовали принуждение как важный инструмент политического господства. И хотя этот инструмент использовался этнически избирательно, т. е. особо осторожно по отношению к собственно чжоусцам, занимавшим привилегированные позиции в структуре в целом, он тем не менее действовал внутри структуры, чем принципиально отличался от принуждения в Инь. Другими словами, в Чжоу принуждение еще не было этнически безликим социальным (в чем отличие от развитого государства), но оно уже широко применялось как средство политического управления внутри государства.
Указанные особенности позволяют сделать вывод, что политическая структура в Западном Чжоу была уже именно государством, хотя и ранним. Ранний характер чжоуское государство сохраняло вплоть до своего распада в 771 г. до н. э., причем возникшие на его развалинах образования (уделы-царства) были структурно близкими к нему: каждое из них проделало свой путь от простого вторичного протогосударства (регионального подразделения) до сложного раннего государства.
Для ранних государств характерна нестабильность, структурная неустойчивость, спорадическое ослабление власти центра с усилением ее на местах. Обычно столь типичный для едва ли не всех ранних государств процесс принимает формы феодализации (разумеется, речь идет о социально-политическом ее аспекте, который один только и заслуживает серьезного внимания и анализа). Так было в раннефеодальной Европе. Нечто подобное можно зафиксировать и в различных странах неевропейского мира, будь то Древний Египет или арабский халифат, ранние государства в доколумбовой Америке или в Африке. Китай в этом смысле не был исключением. Период раннего государства в чжоуском Китае прошел под знаком феодализации, и только кардинальные сдвиги, связанные с серьезными структурными переменами в середине 1 тысячелетия до н. э., приостановили ее развитие, заменив обратным процессом, ведшим к укреплению централизованной государственной власти. До того времени децентрализаторские тенденции превалировали, причем связаны они были с особенностями существования чжоуских уделов- царств.
Глава пятая. Удельная структура чжоуского Китая
Первые правители раннего государства Чжоу многое сделали для укрепления и стабилизации своей власти. И эти усилия не пропали даром: в конечном счете династия Чжоу просуществовала свыше восьми столетий — вдвое, а то и втрое дольше любой из остальных. И не виной, а скорее бедой чжоуских ванов было то, что они не сумели создать достаточно прочной основы для сохранения эффективной центральной власти на протяжении всего долгого периода правления династии. Задача такого рода была в тех условиях просто неосуществимой, поэтому даже то, что было сделано и обеспечило эффективность власти вана в первые два-три столетия и сохранение сакрально-авторитарной его власти в остальное время, можно считать немалым достижением.
Итак, власть центра в начале Чжоу была крепка. Но как заимствованная от Шан-Инь традиция, так и объективные обстоятельства (отсутствие коммуникаций при растянутости сфер владений; сравнительная малочисленность чжоусцев; необходимость наиболее эффективной организации администрации, включая заинтересованность всех ее звеньев, оптимизации управления, и т. д.) требовали создания полуавтономной промежуточной зоны уделов. У иньцев эта зона была создана в основном за счет самой разраставшейся их общности. В Чжоу все было иначе: на завоеванной территории проживало множество народов, включая иньцев, по численности намного превосходивших чжоусцев.
Этническая гетерогенность промежуточной зоны при обилии в ней иньцев вызывала необходимость скомпоновать население таким образом, чтобы ослабить существующие связи и создать новые, которые обеспечили бы завоевателям господствующее положение.
Создание системы уделов
Необходимость расчленения и перемещения подвластных племен была осознана чжоускими вождями не сразу. Вначале У-ван оставил массив покоренных иньцев почти без изменений — только вместо «недобродетельного» погибшего Чжоу Синя был поставлен У Гэн, административный контроль за действиями которого призваны были осуществлять братья У-вана, Гуань-шу и Цай-шу. Последовавшие за смертью У-вана события показали, что это было ошибкой, и подавивший мятеж братьев Чжоу-гун должен был заново решать проблему организации администрации в промежуточной зоне, каковой в тот момент (до создания анклава в Лои) был почти весь бассейн Хуанхэ за исключением его западной части, ставки вана и исконных земель чжоусцев (Цзунчжоу). Решая проблему, Чжоу-гун сделал основной упор на создание системы уделов.
Начало такой системе положил еще У-ван. В сообщении «Цзо чжуань» от 28 г. Чжао-гуна (514 г. до н. э.) говорится: «Некогда У-ван, одолев Шан и завладев Поднебесной, предоставил 15 уделов-го своим братьям и еще 40 — родственникам из рода Цзи» [313, т, 22, с. 2122]. В другом, сообщении того же источника (от 24 г. Си-гуна — 636 г. до н. э.) говорится, что это сделал Чжоу-гун, раздавший уделы родственникам, среди которых было 16 сыновей Вэнь-вана, четверо сыновей У-вана и шестеро наследников самого Чжоу-гуна [313, т. 28, с. 604—605]. Независимо от того, какое из этих сообщений более достоверно, нет сомнений в том, что именно усилиями У-вана и Чжоу-гуна была заложена система чжоуских уделов, сыгравшая столь важную роль в истории древнего Китая.
Уделы давались не только родственникам правителей из рода Цзи. Некоторые из них, например Ци, были пожалованы представителям рода Цзян, с которым чжоуские ваны находились в дуально-брачных отношениях. Другие были вручены потомкам Хуан-ди, Шэньнуна, Яо, Шуня и Юя, которые в Чжоу почитались легендарными правителями древности [296, гл. 4, с. 69; 69, с. 188, 316] (видимо, речь шла о тех этнических группах, чьей-помощью пользовался У-ван в кампании против Инь). Как сказано в «Сюнь-цзы» (гл. 4), в общей сложности был пожалован 71 удел, из которых 53 принадлежали родственникам вана из рода Цзи [301, с. 73; 116, с. 346]. Не все уделы были равноценными. Значительная часть их размещалась на землях внутреннего пояса промежуточной зоны и имела весьма ограниченные возможности для усиления и экстенсивного роста. В ином положении находились те, что располагались во внешнем поясе этой зоны и граничили непосредственно с варварами, зоны внешней. Именно они, усилившись за счет соседей, и стали со временем вершить судьбами чжоуского Китая.
Формально в число пожалованных уделов входили и владения внешней зоны. Число их было огромным. По некоторым данным, приведенным в средневековом тексте «И чжоу шу», чжоусцы уничтожили 99 и покорили 652 владения [73, с. 76; 116, с. 481]. Цифры эти едва ли точны, как вряд ли реальна и цифра 1773 владения, которую можно найти в «Ли цзи» [286, т. 20, с. 514]. Но зато из них совершенно ясно, что речь идет о сотнях мелких образований внешней зоны, которые следует отличать от уделов в собственном смысле слова. Достоверно известно, что всего в чжоуских текстах можно насчитать около 200 этнонимов, наименований различных уделов и владений [48, с. 167; 261, с. 114, 194—195]. Однако совершенно очевидно, что половина их, если не более, приходится на владения внешней зоны.
Об этом важно напомнить, ибо может создаться впечатление, что в общей сумме уделов доля управлявшихся чжоусцами была не столь уж и велика (см., например, [46, с. 67—69]). Формальная справедливость такого арифметического подсчета сразу же элиминируется, если обратить внимание на разницу между собственно чжоускими уделами и эфемерными, подчас лишь случайно упомянутыми образованиями внешней зоны. Разумеется, в чжоуских текстах нет четкой грани, которая терминологически отличала бы одни от других; все они равно именуются терминами го, бан, а их правители — иньскими и чжоускими титулами: хоу, бо или гун и сводным обозначением чжухоу. Нет также и четкой географической грани между уделами промежуточной зоны и племенными образованиями зоны внешней, что, впрочем, было характерно и для периода Инь. И все-таки в распоряжении исследователя вполне достаточно данных, которые позволяют безошибочно определить место и статус того или иного владения и прийти к выводу, что в системе уделов, созданных в начале Чжоу, абсолютно преобладали те, которые были пожалованы близким родственникам первых ванов.
Уделы создавались преимущественно на территориях, бывших чужими для основной массы перемещенного туда населения. Это был генеральный принцип, которого последовательно придерживались чжоуские ваны, во всяком случае по отношению к тем этносам, в расчленении которых они были особо заинтересованы. В первую очередь речь идет об иньцах. Неясно, на сколько частей были расчленены иньцы после мятежа (по некоторым подсчетам,на девять [116, с. 93]). Но чжоуские источники особо говорят о четырех основных, причем иньцы трех из них были перемещены. Первая часть вместе с правителем иньцев, преемником незадачливого У Гэна, и со всеми аксессуарами власти (включая архивы, ритуальные принадлежности и т. п.) была переселена к югу от Хуанхэ. Здесь, на месте прежних периферийных иньских районов, сравнительно неподалеку от восточной столицы чжоусцев Лои, был создан удел Сун [296, гл. 4, с. 71; 69, с. 190]. На протяжении ряда веков этот удел, а затем и царство Сун управлялись правителями из рода иньских ванов, приносившими жертвы в честь своих далеких предков, (обязанность, почитавшаяся в Чжоу столь важной, что именно ради ее, выполнения, по свидетельству и аргументации чжоуских источников, потомкам знаменитых древних родов вроде Шэньнуна или Яо предоставлялись свои уделы). Важно, однако, отметить, что иньский фундамент Сун отнюдь не помешал тому, что там протекали общие для чжоуского Китая этнополитические процессы и в этнокультурном плане население этого удела практически не отличалось от соседей.
Вторая из перемещенных частей, едва ли не самая крупная и во всяком случае включавшая в себя наиболее квалифицированных мастеров, носителей технико-технологической традиции аньцев, была перемещена в район Лo, где она под руководством своих лидеров, но под непосредственным контролем чиновников вана строила новую столицу. После окончания строительства иньцы составили, судя по имеющимся данным, едва ли не основную часть населения новой столицы и дислоцированного в этом районе армейского контингента центрального правительства (восемь «иньских» армий вана).
Третья группа была переселена на восток, где опять-таки в районе бывшей иньской периферии был создан новый удел Лу. Четвертая же, оставшаяся в районе прежней центральной зоны Инь, была пожалована в качестве удела Вэй одному из братьев У-вана. О пожаловании этих двух частей иньцев и создании уделов Лу и Вэй в «Цзо чжуань» (4 г. Дин-гуна) приведена пространная запись:
«Некогда У-ван покорил Шан, а Чэн-ван упрочил [новую династию], избрал и наделил уделами осененных добродетелью (дэ), дабы они послужили опорой и защитой Чжоу. Чжоу-гун помогал вану управлять Поднебесной, и в Чжоу был установлен мир. [Ван] пожаловал лускому гуну большую колесницу, большое знамя, нефритовый диск, принадлежавший роду Ся, и большой лук Фэн-фу. [Пожаловал] шесть цзу иньского народа: Тяо-ши, Сюй-ши, Су-ши, Со-ши, Чаншао-ши, Вэйшао-ши. Приказал руководить всеми этими цзун-ши, сплотить все пожалованные цзу, предводительствовать всей этой разнородной массой; взяв за основу наказы Чжоу-гуна, служить Чжоу; получив назначение, служить в Лу; прославлять высшие добродетели Чжоу-гуна.
Пожаловал ему много земли, жрецов, гадателей, писцов с документами и письменными принадлежностями, чиновников и ритуальную утварь. [Так] был пожалован народ Шан, был дан наказ Бо Циню и были пожалованы земли, прежде принадлежавшие Шаохао.
Пожаловал Кан-шу большую колесницу, знамя из разноцветного шелка, колокол Да-люй. [Пожаловал] семь цзу иньского народа: Тао-ши, Ши-ши, Фань-ши, Ци-ши, Фань-ши, Цзи- ши, Чжункуй-ши. [Пожаловал] земли, ограниченные территорией к северу от Путянь и к югу от Уфу, земли в Юянь, дабы можно было служить вану, а также земли близ восточной столицы, чтобы можно было встречать вана, когда он направится в экспедицию на восток. Был дан наказ Кан-гао и были пожалованы прежние владения Инь. Владельцы обоих уделов должны были управлять, следуя принципам Шан. Их границы соприкасались с Чжоу» [313, т. 32, с. 2202—2205] [71].
Запись важная и интересная. Помимо чисто информативной части она содержит косвенные упоминания, позволяющие судить о критериях и принципах, связанных с созданием уделов и пожалованием их. В начале ее говорится, например, что уделы жалуются тем, кто осенен дэ (в переводе этот знак привычно и несколько упрощенно выражен словом «добродетель»). Фраза свидетельствует, что в представлении чжоусцев благодатью-дэ были осенены прежде всего те, кто близко стоял к правящему дому, точнее, кто был непосредственным потомком правителя —будь то потомки Шэньнуна, Яо, иньских ванов или чжоуского Вэнь-вана. В таком подходе есть своя серьезная логика, о чем уже говорилось в первой главе. Из текста явствует также, что владельцам уделов жаловались точно определенные группы людей, которым надлежало проживать на четко фиксированной территории —в первом случае на чужой (бывшие земли Шаохао), во втором — на ограниченном участке своей.
Владельцам уделов были даны строгие наказы, суть которых сводилась к тому, чтобы они управляли своими подданными в духе существующих норм (следуя принципам Шан), но с главной целью — служить Чжоу. Для успешной административной и ритуальной деятельности и особенно правителю Лy, были пожалованы также чиновники-писцы и жрецы различных категорий, необходимая утварь, символы власти, включая колесницы и знамена. Словом, все обставлялось серьезно и основательно.
Основательность здесь была отнюдь не излишней. Необходимо было позаботиться о том, чтобы впредь потомки побежденных иньцев были лояльными подданными чжоуского вана. Именно для этого они были расчленены, переселены, а их правителям был дан наказ сочетать существующие нормы с внедрением духа преданности Чжоу, подкреплявшийся достаточной дозой принуждения, осуществлявшегося чиновниками, слугами и воинами из числа чжоусцев, которые сопровождали владельца удела на его новый пост.
Привело ли расселение иньцев к желаемым результатам? В основном да. Во-первых, насильственная транспортация, будучи крайне суровой мерой по отношению к любому народу, тем более оседлому и достаточно экономически и культурно развитому, каким были иньцы, способна не только надломить, но и сломать всю внутреннюю структуру общества и подорвать способности этноса к активным действиям [116, с. 87—93]. Во-вторых, перемещенные иньцы были насильственно влиты в новые административно-политические объединения и, оказавшись по большей части на чужой для них земле, были вынуждены вступать во взаимоотношения с иными этническими группами — как господствующими чжоусцами (которые обычно не ограничивали себя в количестве жен и наложниц, в том числе и из нечжоуских групп), так и местными аборигенными племенами (они не упоминаются в цитате из «Цзо чжуань», но, как следует полагать, существовали, пусть даже в небольшом количестве, на тех землях, куда переселялись иньцы, или в соседних районах, за счет которых новые уделы спорадически расширяли свои пределы).
Главным для чжоуских вождей было, естественно, расчленить и переместить именно иньцев, дабы лишить их возможности к сопротивлению завоевателям. Однако сам метод, сам принцип применялся, видимо, шире. В раннечжоуской надписи «И хоу Не гуй»[72] говорится, что Не (Не Лину, видному сановнику Чэн- вана) был пожалован удел И с титулом И-хоу, а также наряду с некоторым количеством «людей вана» (т. е. чжоусцев) по нескольку сотен людей из И и из Цзунь. Таким образом, по меньшей мере часть пожалованных не была аборигенным населением удела. Возможно, что этническая общность Цзунь располагалась по соседству с И. Тогда речь должна идти не о перемещении «людей из Цзунь», а о новой политико-административной компоновке этнических групп. Но и в этом случае фактически имело место произвольное расчленение и объединение различных этнических компонентов по воле завоевателей. Такой вариант политики по отношению к покоренному населению тоже достаточно широко применялся чжоусцами.
Примером может служить сообщение «Цзо чжуань» от 4 г. Дин-гуна о создании удела Цзинь: «Пожаловал Тан-шу большую колесницу, барабан Ми-сюй, панцирь, колокол Гу-сянь. [Пожаловал] девять цзун Хуай, пятерых старших чиновников. Был дан наказ Тан-гао и были пожалованы земли, прежде принадлежавшие Ся. Было приказано управлять, следуя принципам Ся. Граница удела соприкасалась с [племенами] жун» [313, т. 32, с. 2206].
Комментарий к сообщению поясняет, что девять цзун Хуай обитали на территории Ся. Создается впечатление, что речь не идет, таким образом, о перемещении. Однако вопрос об идентификации «земель Ся» (проблема Ся рассматривалась выше) с местожительством племен Хуай отнюдь не так ясен, как хотелось бы, не говоря уже о том, что до Чжоу этнонимы и топонимы в таких случаях совпадали. Кроме того, из текста надписи неясно, составляли ли девять групп-цзун всю этническую общность Хуай или часть ее (как в случае с иньцами). Другими словами, есть некоторые основания полагать, что и при создании столь крупного и важного впоследствии удела-царства Цзинь проводилась все та же политика искусной компоновки населения с таким расчетом, чтобы расчлененные коллективы из разных этносов, включая чжоусцев, создали основу заново складывавшейся этнополитической общности.
Наряду с такими основными методами, как расчленение, перемещение этнических групп, а также компоновка уделов из этнически гетерогенных частей, чжоуские правители для сохранения своей власти и обеспечения верховного контроля над подвластными им землями использовали и еще один, сущность которого сводилась к наделению уделами с учетом влияния, возможностей, степени родственной близости их владельцев к вану. При этом родство и заслуги должны были не столько соответствовать величине и выгодному расположению удела, сколько уравновешиваться ими. Так, виднейшему из сподвижников Вэнь и У-ванов, одному из трех сановников-гунов Чжоу полководцу Тай-гуну (Люй Шану, Шан-фу) из чжоуского рода Цзян, бывшему к тому же тестем У-вана, пожаловали удел на отдаленном северо-востоке, в пустынных приморских окраинах. И хотя умный и способный Тай-гун быстро сориентировался в новых местах, энергично реализовал все потенции прибрежного богатого рыбой и солью района, в результате чего вскоре здесь возникло одно из самых крупных, развитых и процветающих царств чжоуского Китая — Ци [296, гл. 32, с. 485—486]; решение У-вана нельзя считать случайным. Как заметил Г. Крил, Тай-гун был слишком видной и заслуженной фигурой, чтобы усиливать его уделом рядом с центром, тогда как в далеких пограничных землях его таланты служили делу укрепления и сохранения могущества Чжоу [116, с. 343—345].
Принцип, о котором идет речь, проводился в жизнь достаточно последовательно. Никто из влиятельных представителей правящего дома, занимавших ключевые позиции в аппарате власти, обычно не получал уделов близко от столиц, по соседству со своим «местом работы». Даже Чжоугун, вполне зарекомендовавший себя за годы регентства, не отступил от этого правила: полагавшийся ему удел он оформил на своего старшего сына Бо Циня, о чем уже упоминалось в цитате из «Цзо чжуань», и выделил его достаточно далеко — в Лу, по соседству с уделом Ци. Аналогичной была ситуация и со вторым важнейшим сановником Чжоу, Шао-гуном[73], который получил удел на далекой северной окраине (Янь) и послал туда управителем своего старшего сына. Как Чжоу-гун, так и Шао-гун остались при дворе, впоследствии передав свои должности другим своим сыновьям, наследовавшим их функции и титул [116, с. 357—359].
Изложенное выше свидетельствует, что, создавая систему уделов, первые чжоуские правители действовали не спеша, серьезно и всесторонне учитывали все обстоятельства и не упускали из вида своей генеральной цели — сохранить и упрочить господство чжоусцев и верховную власть, незыблемый абсолютный авторитет правителя-вана как символ этого господства. В создававшейся ими системе уделов они видели не только удобное и в тех условиях единственно возможное решение проблемы организации политической администрации в условиях гигантского и структурно рыхлого военно-политического конгломерата, но и —по примеру Шан-Инь — надежную систему форпостов, охранительных рубежей. В «Цзо чжуань» (26 г. Чжао-гуна) сохранилась следующая запись: «В древности У-ван победил Инь, Чэн-ван усмирил все четыре стороны, а Кан-ван дал отдых народу. Они раздали уделы братьям, чтобы те могли стать опорой, защитным валом для Чжоу. [Они] также говорили: „Мы не хотим только сами пользоваться плодами достижений Вэнь и У-вана"» [313, т. 32, с. 2101].
В этой записи отмечается, что уделы стали не только заградительной стеной для Чжоу, но и платой за службу и верность, средством удовлетворить притязания родственников, сородичей и заслуженных сановников либо союзников, считавших себя вправе претендовать на долю тех плодов, которые были результатом «достижений Вэнь и У-вана». Притязания такого рода были нормой для общества, в котором патернализм, система клановых связей и клановой иерархии играли столь большую роль, как это было в Инь и в Чжоу. Патернализм пронизывал все стороны отношений в Чжоу и, в частности, определял характер взаимоотношений между ваном и его вассалами из числа прежде всего владельцев уделов.
Ван и вассалы: принцип взаимных связей
Взаимоотношения между ними развивались в русле все тех же иньских традиций, хотя, естественно, отличались некоторыми новыми чертами, вызванными изменившимися обстоятельствами. Как и в Инь, во главу угла ставился принцип родства, клановых связей: сородичи вана, прежде всего члены его клана, его ближайшие родственники по мужской (значительно реже и меньше — по женской) линии обладали преимущественным, если не исключительным правом на долю богатства, власти, почета и привилегий. Но в Чжоу подобные отношения, конструировавшиеся по иньским стандартам, складывались как бы заново, проделывая в убыстренном варианте тот путь, на который у шанцев ушли столетия.
Чжоусцев было мало, много меньше, чем иньцев. В «Шу цзин» и «Ши цзи» говорится о 3 тыс. воинов-чэнь, которые были в распоряжении У-вана в решающей битве с иньцами. Правда, тексты упоминают еще о 45 тыс. солдат, но они были не столько чжоусцами (если чжоусцы вообще входили в их число), сколько главным образом их союзниками [333, т. 3, с. 367; 296, гл. 4, с. 55; 69, с. 184]. Кроме того, чжоусцы в культурном плане явно отставали от иньцев, хотя это отставание к моменту конфликта с Инь было — за счет заимствования иньской культуры—уже не очень значительным и заметным[74].
Малочисленность и сравнительная отсталость чжоусцев побуждали их еще до схватки с иньцами — и тем более после победы — особенно энергично копировать иньские стандарты, в частности принцип конического клана со свойственной ему исключительной властью и абсолютным авторитетом старшего в клане. Восприняв идею сакрализации власти вана и значительно усилив ее за счет тезиса о «мандате Неба» и ритуально-символической связи Неба с ваном («сыном Неба»), чжоусцы еще больше возвысили божественный статус правителя, обладателя небесной благодати (мин; дэ), и тем придали принципу подчинения младших старшему в клане небесно детерминированную силу.
Власть чжоуского вана считалась божественной и непоколебимой, ибо он в качестве избранника Неба и старшего в своем кладе (главы линии да-цзун) и во всем роде Цзи был носителем ритуально-культовой благодати. Покорность ему, подчинение его власти были бесспорной нормой, причем в первую очередь и главным образом со стороны его ближайших родственников, владельцев уделов. Разумеется, это же относилось и ко всем другим, которые по его милости и при его благосклонном содействии обрели уделы и власть, получили возможность приносить жертвы своим предкам.
Очень важно подчеркнуть, что величие вана зиждилось не только на авторитете силы, хотя сила его, особенно в начале Чжоу, была существеннейшим фактором. Если бы речь шла только о военной мощи, любой усилившийся вассал мог бы бросить вызов власти вана и в случае удачи занять его место, как то неоднократно случалось в иных странах. В чжоуском Китае, унаследовавшем и резко усилившем в этом плане иньские нормы, высшая власть и божественное величие вана, равно как и обязательства младших (владельцев уделов и сановников в первую очередь) по отношению к нему, были незыблемы, священны, абсолютны сами по себе вследствие общепризнанной природы вещей, по закону обладания благодатью-дэ. Священный и вполне явственно ощущавшийся каждым трепет по отношению к божественной фигуре правителя, покорность его слову и решению способствовали тому, что слова вана было достаточно, а решение его было равносильно норме закона. Соответственно и формальному закреплению вассальных обязательств в виде строго разработанного церемониала инвеституры в самом начале Чжоу придавали еще сравнительно мало значения — во-первых, в этом еще не ощущалось нужды (сила неписаной нормы и слова вана много важнее обрядового оформления сделки), а, во-вторых, необходимый ритуал просто еще не был выработан. Со временем появились и ритуал и церемониал, а вассалы приносили публичные клятвы верности [319]. Но за строгостью формы скрывалась слабость власти вана, авторитет и сакральная сила которого оказывались уже недостаточными для сохранения порядка и обеспечения абсолютного повиновения (как, впрочем, не очень-то помогали уже и ритуалы и клятвы).
Все это объясняет, почему среди многих сотен раннечжоуских надписей на бронзе не очень много тех, которые повествуют о таких важных событиях, как создание первых уделов и наделение ими родственников и сподвижников. В наиболее ранних из них к тому же текст достаточно туманен и уж во всяком случае непохож на чуть более поздние, явственно имевшие характер важного документа, повествующего о торжественном ритуале инвеституры.
Вот, например, надпись «Мин гун гуй»: «Ван приказал Мин-гуну во главе трех цзу отправиться с походом в восточные районы, с тем чтобы основать там поселение. [Титул] Лу-хоу» [272, т. 6, с. 106]. Если бы не приводившаяся выше цитата из «Цзо чжуань» об основании удела Лу, подкрепленная одной из песен «Ши цзин» (№ 300) [76, с. 454], трудно было бы отождествить Мин-гуна (он же Лу-хоу) с сыном Чжоу-гуна Бо Цинем, которому был пожалован в торжественной обстановке удел Лу. В самом тексте надписи, весьма лаконичном, об этом не говорится.
Аналогично обстоит дело с надписями о Син-хоу, который, как сообщает в комментарии к надписям Го Можо, был третьим из шестерых наследников Чжоу-гуна, упоминавшихся в «Цзо чжуань» [313, т. 28, с. 604—605]. В надписи «Май цзунь» сказано: «Ван приказал мне, Син-хоу, быть хоу в Син» [272, т. 6, с. 40а]. Лаконичность и тавтология текста показательны: ни об обстоятельствах, ни о церемониале, ни о локализации или уточнении состава пожалованного удела речи нет. Правда, согласно еще одной надписи, «Чжоу-гун гуй» (обе датированы временем Кан-вана), ван повелел своему чиновнику зафиксировать, что Син-хоу жалуются подданные (чэнь) трех групп: люди из Чжоу, люди из Дун, люди из... [272, т. 6, с. 39а]. Упомянутые этнонимы [или топонимы) Го Можо локализует в районе р. Вэй, т. е. в исконных чжоуских землях. Но ничего более точного в этих надписях нет, как и еще в двух, где говорится об увековечении боевых заслуг того же Син-хоу [272, т. 6, с. 42—43].
Лаконичность и неясность в надписях о пожалованиях: в самом начале Чжоу позволяют заключить, что к точности и письменной фиксации факта об объеме пожалования в то время не стремились, во всяком случае близкие родственники чжоуского правителя. Для представителей родовой знати Чжоу причастность их к клану правителя и близкое родство с ним были достаточной гарантией прочности их статуса и права на определенные привилегии, так что формальной фиксации этого они нe придавали —да и просто не привыкли придавать — серьезного значения. Но в подобном положении находились далеко не все из числа тех, кто оказывался в фаворе и получал в качестве милости удел и иные пожалования. Интересны в этом смысле надписи, касающиеся карьеры Не Лина (Не-хоу), о котором уже упоминалось.
Есть некоторые основания считать, что он был не чжоусцем, а принадлежал к той части иньских высокопоставленных чиновников, которые пошли на службу к победителям и с помощью своих знаний и талантов пытались сделать карьеру. Из надписей явствует, что Не Лин был близким сотрудником Мин-гуна (старшего сына Чжоу-гуна, владельца удела Лу), что он ведал канцелярией, вел основные записи и что за успешное выполнение столь ответственной работы получал поощрения. В одной из надписей сказано, что он вместе со своим шефом направился в Лу. В другой («Лин гуй») — что супруга вана пожаловала ему за заслуги «десять связок раковин, десять цзя (семейно-клановых групп) чэнь, сто жэнь-ли (людей) [272, т. 6, с. 36]. В наиболее пространной надписи «И хоу Не гуй» говорится, что Не Лин удачно выполнял поручения вана и в результате стал владельцем удела, причем обстоятельства пожалования ему удела описаны весьма подробно [329, с. 63—65; 116, с. 403— 405].
Обилие надписей, описывающих детали карьеры Не Лина, их обстоятельность, не идущая ни в какое сравнение с лаконизмом записей о пожаловании уделов близким родственника чжоуских правителей, говорят о том значении, которое придавал письменной фиксации своих прав и привилегий сам Не Лин. Это объясняется, видимо, тем, что, во-первых, Не Лин имел менее значительный статус и для него было весьма существенным закрепление каждого своего шага вверх. А во-вторых, будучи мастером письма, знатоком канцелярского дела, и носителем соответствующих иньских традиций (быть может, также и соответствующих профессиональных знаний), он, вероятно, привык к составлению необходимых документальных текстов, что и было; им реализовано в столь важные для его карьеры моменты [75]. Как бы то ни было, но профессиональная деятельность Не Лина оказала, видимо, определенное воздействие на отношение к роли фиксации статуса в документах. Это было связано, возможно, и с тем, что к тому времени представители первого поколения владельцев уделов, получавших их из рук первых чжоуских правителей без особого церемониала, лишних слов и документов, начинали сходить со сцены. Вставал вопрос о наследовании, не всегда, по-видимому, решавшийся гладко, без сложностей и конфликтов. Вполне естественно, что проблеме формальных норм и документированного закрепления права на наследство стали уделять большее внимание, нежели прежде. И вот здесь-то опыт Не Лина стал достаточно широко распространяться.
В надписях стали более пространно описываться церемониальные обряды, сопровождавшие момент инвеституры, т. е. утверждения правителем права на наследование отцовского удела. Соответственно, видимо, большее внимание стало уделяться и самому этому акту, приобретавшему все большую ритуальную и политическую значимость, о чем, в частности, свидетельствует обширная надпись «Да Юй дин», преамбула которой, рассказывающая о Вэнь-ване и «мандате Неба», уже приводилась. В основной части текста идет конкретно-деловое описание, связанное с введением Юя во владение его уделом. На церемонии, состоявшейся в Цзунчжоу, лично возглавлявший ее Кан-ван, сын Чэн-вана, обратился к Юю с речью, в которой призывал нового владельца удела быть достойным преемником его предка Нань-гуна и, следуя примеру своих предшественников, оказывать помощь вану в управлении страной и в надзоре за варварами жун. В заключительной части текста перечислялось все пожалованное: «Жалую тебе ритуальные сосуды, парадную одежду, колесницу и лошадей. Жалую тебе управителей уделом четырех чиновников-бо, жэнь-ли от конюших (колесничих?) до крестьян (шу-жэнь) 659 человек. Жалую тебе управителей варварами-и 13 чиновников-бо из числа подданных (чэнь) вана, людей (жэнь-ли) 1050 человек. [Жалую]... земли...» [272, т. 6, с. 34].
Из текста надписи вытекает, что новый владелец удела получил право владеть всеми теми знаками отличия (сосуды, одежда, колесница), землями и проживающими на них людьми (включая поставленных над ними чиновников-управителей), которые принадлежали его предшественнику. Вместе с уделом, правами и регалиями новый владелец унаследовал и обязанности, о которых в тексте надписи сказано достаточно четко: держать под строгим контролем соседей-варваров и оказывать помощь в управлении страной. И эти обязанности Юю с честью выполнял, о чем свидетельствует текст другой надписи, «Сяо Юй дин», повествующей о событиях, связанных с его военными походами и успехами: в одном из крупных сражений он одержал победу над значительными силами — видимо, над коалицией соседних племен — убив 4802 и взяв в плен 13081 человека [272, т. 6, с. 35].
Таким образом, уже с появлением, первых записей об инвеституре в текстах и в политической традиции Чжоу был четко определен принцип взаимных связей вана с его вассалами: ван жалует удел и связанные с этим статус, права и привилегии, в обмен на что вассалы из числа владельцев уделов обязаны нести военную и административную службу и подносить сюзерену-вану дань и подарки. Однако четко был определен в начале Чжоу лишь сам принцип, причем и он был далек от абсолютной обязательной нормы и давал широкий простор для вариаций, что следует специально подчеркнуть, поскольку при характеристике системы взаимоотношений между ваном и его вассалами в Чжоу подчас руководствуются данными идеализированных дидактических схем из «Чжоу ли», «Ли цзи» и «И ли», составленных в конце Чжоу или в Хань и ставивших своей целью воспеть идеальную структуру древности. В частности, это касается проблемы титулов и иерархии, имеющей прямое отношение к тому, о чем идет речь.
Известно, что аристократия как явление, неизбежно сопутствующее обычной удельной системе, формируется медленно, на протяжении ряда поколений [116, с. 341], причем в процессе сложения высшего слоя в ранних государствах большую роль играет иерархия как структурная форма существования аристократии. Иерархия тем более важна в тех случаях (и к ним в первую очередь относится чжоуский Китай), когда политические связи осложнены и даже опосредованы связями клановыми, т. е. когда удельные формы взаимоотношений тесно переплетены с патерналистскими. Однако складывается четкая иерархия не сразу, да и не всегда она бывает столь идеально четкой, как говорится в учебниках. Даже в случае с чжоуским Китаем, когда на протяжении веков шел явственный процесс становления и закрепления в нормативных обычаях и ритуальных обрядах строгого соответствия между степенью родства, должностью, титулом, имуществом, правами и привилегиями, многое в конечном счете зависело от реального и динамично колеблющегося соотношения сил, влияния, заслуг, способностей того или иного представителя высшего слоя.
Схемы «Чжоу ли» [324, т. 11, с. 364—366], «Ли цзи» [286, т. 20, с. 501—503] и «Мэн-цзы» [292, с. 399—400] изображают лестницу из пяти титулов (гун, хоу, бо, цзы, нань), которые в синологии соотносятся с европейскими герцог — маркиз — граф — виконт — барон. Иерархия титулов в схемах выдержана строго, и ей соответствуют четко очерченные различия в размерах земельных владений. Однако специалистами достаточно убедительно доказано, что по меньшей мере применительно к Западному Чжоу, к которому ее обычно наиболее охотно прилагают, эта иерархия не отражает реальной действительности [116, с. 324—329]. На практике титулы легко и безболезненно взаимозаменялись (Лу-гун именовался также Лу-хоу; Шао-гун — Шао-бо), иногда они опускались вовсе (Юй, унаследовавший Нань-гуну и явно имевший право на титул, в надписях не титулуется, как и Не), что явно никак не сказывалось на статусе лиц, о которых идет речь.
Это, разумеется, не значит, что титулы вовсе не имели значения или мало что значили в начале Чжоу. Напротив, все стремились именоваться высшими титулами, носителей которых было много больше; чем обладателей низших (по логике строгой иерархии с установившимися нормами должно было быть наоборот). Просто в начале Чжоу титул значил много меньше, чем должность и даже конкретная личность, обладающая должностью, как о том уже упоминалось. Титул был атрибутом личности, вес и место которой определял не он, а реальные заслуги, родство, должность и т. п. Только позже, по мере институционализации аристократии, титул стал более точно и четко соответствовать должностям, владениям и власти. Ведущим же моментом в системе вассальных связей была должность, которая, однако, сама чаще всего была функцией степени родства. Но родство давало лишь право на должность. Должность же была основой власти владельца удела, выступавшего в качестве сановника, причем привилегированного. Конечно, владелец удела был слугой вана, но автоматика его наследственных прав и прерогатив делала его менее зависимым от власти центра, что и сказалось впоследствии на результатах.
Это принималось во внимание в административной системе центра. Существовали методы контроля над уделами, которые сводились к инспекциям со стороны вана и к отчетам со стороны его вассалов. В «Мэн-цзы» сказано, что «сын Неба» регулярно дважды в год совершал экспедиционное турне, посещая своих вассалов с целью инспекции их хозяйства, доходов, правления [292, с. 72, 495; 187, т. 2, с. 34—35, 311—312]. И хотя регулярность и здесь идет от заданной схемы, нет сомнений в том, что чжоуский ван спорадически, хотя бы в ходе его военных походов, наносил визиты тому или иному из своих вассалов и тем самым действительно осуществлял инспекцию на местах. В частности, Ли-ван в свое время посетил удел Э-Хоу, располагавшийся на юго-восточных границах Чжоу, причем встреча его с будущим мятежником была весьма задушевной, сопровождавшейся пирами и состязаниями, как об этом сказано в надписи «Э-хоу дин» [272, т. 7, с. 1076]. В данном случае стремившийся к обеспечению лояльности своего вассала Ли-ван не преуспел и цели не достиг [116, с. 391], но в принципе такой метод личной инспекции вана — особенно в ранний период Западного Чжоу, когда власть и могущество правителя были вне сомнений, а реальные возможности вассалов были еще достаточно ограниченными,— не только мог, но и должен был приводить к позитивным результатам.
Кроме вана подобную инспекцию осуществляли его доверенные лица, включая специальных военных инспекторов армии (вроде Юн Фу, о котором сказано в нескольких кратких надписях, повествующих о его деятельности на юго-восточных рубежах Чжоу, близ расположения варваров Хуай и И [272, т. 6, с. 596—62а; 328, ч. 5, с. 107—111; 116, с. 395—396]), отправлявших медиативные функции чиновников-арбитров и даже родственников правителя, прежде всего его жен [116, с. 395]. Число инспекторов и инспекций было особенно значительным в самом начале Чжоу [116, с. 412], когда упоминания о них встречались и в надписях, и в описаниях из «Шу цзин». Инспекторами были посланы в Инь поднявшие затем мятеж братья У-вана Гуань-шу и Цай-шу. Для инспекции в Су, согласно надписи «Ши Сун гуй», был направлен Ши Сун [272, т. 6, с. 71а]. С инспекцией в удел Дэн, как это явствует из надписи «Юй цзюе», ездил сановник Юй, сам правитель удела и активный военачальник, владелец сосудов «Да Юй дин» и «Сяо Юй дин» [272, т. 6, с. 496].
Согласно «Мэн цзы», вассалы также были обязаны периодически наносить визиты верности с отчетом о положении дел в уделах [292, с. 72, 495]. И действительно, вассалы с подарками, данью и просто визитами вежливости, согласно гл. «Ло-гао» «Шу дзин», довольно часто посещали ставку вана и уж во всяком случае не забывали о подношениях, за регулярностью поступления которых призывали следить сами чжоуские правители [333, т. 4, с. 544; 175, с. 51]. Это касалось и той части варварской периферии внешней зоны, которая поддерживала связи с Чжоу и признавала сюзеренитет вана. В надписи «Дзунчжоу чжун» сказано, что главы 26 образований южных и восточных И прибыли в Цзунчжоу [272, т. 6, с. 51а]. Конечно, все подобные визиты были скорее спорадическим, даже чрезвычайным явлением, нежели регулярной практикой. Но они способствовали консолидации власти вана, укреплению связей его с вассалами и союзниками, выработке реальной оценки его положения и возможностей, определению текущих задач и прочим политическим акциям.
Наконец, весьма важным рычагом контроля центра за положением на местах была традиционная, восходящая к глубоким временам седой древности практика реципрокности, проявлявшаяся в данном случае в щедрости правителя по отношению к его вассалам. Пышные пиры, богатые ритуальные жертвоприношения и щедрые подарки и раздачи вана, а также его жены был существенным элементом, поддержания престижа правителя, чей статус стоял недосягаемо высоко. Описания этих пиров и ритуалов даны в песнях «Ши цзин» (№ 282, 283 и др.) [76, с. 429—430 и сл.], о подарках упоминается в надписях. К числу престижных подарков, оценивавшихся как проявление щедрости и великодушия вана, можно отнести также и такие прерогативы, как право на знамя, колесницу, регалии, ценную утварь и прочие символы расположения вана, которые тщательно перечисляются в надписях о пожалованиях. Особо ценилось знамя, бывшее символом власти правителя удела, бережно передававшееся по приказу вана в руки наследника. В надписи «Да Юй дин» среди всего прочего специально подчеркнуто: «Жалую тебе знамя твоего предка Нань-гуна» [272, т. 6, с. 34а]. О том же упомянуто в связи с инвеститурой и в надписи «Шань дин» [272, т. 6, с. 656]. И речь не только о том, что знамя дарится новому его владельцу. Суть дела в том, что таким торжественным и фиксированным в документе актом ван щедро делится с новым владельцем удела частью своих верховных прерогатив.
Тесная связь между правителем и вассалами была особенно заметной при первых чжоуских ванах, по отношению к которым владельцы уделов были не более как чиновниками, уполномоченными на местах, командирами гарнизонов в этнически чуждом окружении. Тогда эти владельцы еще далеко не были могущественными аристократами, владетельными князьями, каковыми они (по крайней мере наиболее удачливая часть их) становились позже. И получая из рук вана владение, регалии и серьезные прерогативы, они были искренне рады, благодарны и едва ли могли даже мечтать о чем-либо большем. Ряд надписей дает основание считать, что такая ситуация в начале Чжоу была нормой, что ваны активно вмешивались во внутренние дела уделов, практически еще не претендовавших, на значительную автономию.
Так, в раннечжоуской надписи «Чжун дин» идет речь о том, что ван (скорее всего Чэн-ван) жалует подчиненного своего сановника в должности тай-ши (историографа) Сюна — некоего Чжуна — участком земли, который принадлежал до сих пор Сюну. Из контекста надписи и комментария к нему явствует, что сам Сюн желал наградить своего подчиненного, но самостоятельно сделать этого не имел права [272, т. 6, с. 16]. В надписях «Кай дин» и «Доу Би гун» говорится о том, что ван лично назначает (или утверждает) в должности чжу сы-ма и цзюнь сы-ма чиновников, исполнявших соответствующие обязанности в двух разных уделах [272, т. 6, с. 57, 77—78а]. Из всех трех документов очевидно, что важные акции в уделах должны были либо осуществляться от имени вана, либо подтверждаться специальными решениями центра. Это убедительно свидетельствует об эффективности администрации вана в самом начале Чжоу.
Позже ее эффективность начала заметно снижаться вследствие усиления уделов. Происходило постепенное перемещение власти из центра на периферию, причем наиболее интенсивно оно шло, как следует полагать, в период правления безликих правителей из числа преемников Чжао-вана, живших наследием своих великих предшественников и понемногу его «проедавших». Наиболее сильные из числа последних западночжоуских ванов вроде Сюань-вана пытались, видимо, затормозить, если не обратить вспять, неумолимый процесс упадка власти вана. Однако это в конечном счете оказалось не в их силах, несмотря на то что в отдельных случаях тот же Сюань-ван мог навязать свою волю уделам, например Лу, где он сумел поставить правителем своего ставленника, который, правда, вскоре был свергнут и заменен другим [274, гл. 1, с. 8].
Словом, во взаимоотношениях вана с его вассалами на протяжении первых полутора-двух веков существования Чжоу произошли заметные изменения. Они были наиболее существенными в отношениях центра с уделами промежуточной зоны и даже еще точнее — с уделами внешнего пояса этой зоны, т. е. с пограничными уделами, располагавшимися далеко от центра Чжоу (если считать этим центром Чэнчжоу-Лои) и граничившими с племенами внешней зоны. Собственно, именно упомянутые уделы и стали вскоре определять политику чжоуского Китая. Обратим внимание на особенности их развития.
Эволюция внутренней структуры в пограничных уделах промежуточной зоны
В отличие от мелких уделов внутренней зоны, находившихся сравнительно неподалеку от административных центров чжоуского вана (Цзунчжоу и Чэнчжоу-Лои), подвергавшихся достаточно строгому контролю администрации центра и практически не имевших возможностей для естественного расширения своих пределов, уделы промежуточной зоны с самого начала находились в более выгодном положении. В частности, это касается возможностей их территориального роста. Трудно судить о том, каковы были территории уделов тогда, когда первые правители Чжоу их создавали. Но можно представить, что в то время по размерам они не очень различались. Едва ли даже вообще тогда вставал вопрос о территории в строгом смысле этого понятия: в надписях и иных документах обычно упоминались прежде всего и главным образом коллективы людей, иногда число селений, где они жили. Пределы же владений, как правило, не определялись, а владение более обжитыми районами с более густым населением (т. е. уделами внутренней зоны) в какой-то мере могло быть даже предпочтительнее. Зато позже положение стало меняться. Как это явствует, в частности, из карты уделов VIII—VI вв. до н. э., составленной Д. Чэлмерсом по материалам «Цзо чжуань» [187, т. 5, с. 112—113, вклейка], основная часть мелких уделов приходилась на внутреннюю зону, тогда как почти все крупные — за немногими исключениями — были пограничными. Именно они имели наиболее благоприятные возможности для расширения своих пределов и для постепенного превращения в автономные, а затем и фактически самостоятельные государственные образования, уделы-царства.
Основной функцией этих уделов была активная защита рубежей Чжоу. С момента возникновения они были передовыми форпостами, важным рычагом политической администрации центра, надежной базой при военных экспедициях вана. Задача удела— выполнять «дело вана», для чего он, собственно, и создавался. Ведь удел и уж во всяком случае его немногочисленный аппарат власти, включая боевую дружину-гарнизон, рассматривался как откомандированная в назначенное ей место часть подданных вана, несущих службу в условиях не очень дружественного окружения, подвергающихся постоянной опасности со стороны враждебных племен внешней зоны и пользующихся за все это некоторыми правами и привилегиями, во-всяком случае правом кормиться за счет местного населения.
Первоначально военная мощь пограничных уделов явно была незначительной, а гарнизоны на местах могли лишь осуществлять некоторый контроль над окружавшей их периферией [162, с. 3] и, видимо, сдерживать нападения немногочисленных групп противника. В случае более серьезных конфликтов основная тяжесть борьбы приходилась на долю армий центра, к которым уделы лишь присоединяли свои воинские части. Так, в надписи «Бань гуй» ван приказывает Мао-гуну во главе армий направиться в поход к восточным границам Чжоу, а двум удельным правителям, У-бо и Люй-бо, помогать Мао-гуну своими силами соответственно с левого и правого флангов [272, т. 6, с. 206]. Возможно, что на долю пограничных уделов падала также и задача содержания армий центра в случае подобных экспедиций.
В самом начале Чжоу владельцы пограничных уделов не только осознавали свою слабость и зависимость от центра, от администрации и военной силы вана. Они также чувствовали себя, видимо, во враждебном либо во всяком случае в недружественном окружении гетерогенного населения, искусственно переселенного на их земли. И поэтому как их родственные связи, так и личные интересы диктовали необходимость сохранения связей с центром, полной лояльности вану [162, с. 3]. Сильный интегрирующий импульс, действовавший в том же направлении, проистекал и из внешней зоны, нечжоуские племена которой, проводившие активную и энергичную наступательную политику конфронтации с Чжоу, то и дело нападали на уделы [116, с. 194—195].
Естественно, что в таких условиях удельные правители не были и не могли быть строптивыми вассалами, претендующими на автономию и стремящимися к самостоятельности. Со своей стороны, и центр был заинтересован в сохранении тесных и прочных связей с уделами пограничной зоны, от боеспособности и боевой силы которых во многом зависели спокойствие и само существование Чжоу. Отсюда взаимные поездки, инспекции центра, подарки и подношения, пиры и ритуалы, которые сближали между собой вана и его вассалов и были эффективным средством интеграции, во всяком случае в начале Чжоу. Но так было сравнительно недолго.
В самой удельной структуре был заложен зародыш дезинтеграции. Географическая отдаленность от центра, порождавшийся опасностью извне, со стороны племен внешней зоны, постоянный и все возраставший внутренний интеграционный импульс в рамках всего удела, наконец, естественный процесс этнической консолидации местного населения с течением времени делали пограничные уделы все более цельными и крепкими. Внутренняя рознь сглаживалась, внутренние связи усиливались, а связи с центром ослабевали [162, с. 3]. Конечно, это не могло не беспокоить центр. Но преодолеть центробежные тенденции чжоуские ваны не могли — особенно когда на смену ярким личностям из числа первых правителей Чжоу пришли безликие, а то и вовсе проявлявшие признаки деградации преемники.
Когда в середине IX в. на престоле оказался Ли-ван, он попытался было восстановить прежние позиции центра, о чем свидетельствует его активная внешняя политика и, в частности, уже упоминавшийся визит к одному из влиятельнейших удельных властителей того времени — Э-хоу. И хотя исключительно высокий сакральный статус вана был неизмеримо выше статуса любого владельца удела, весь контекст их встречи свидетельствует о стремлении Ли-вана если не расположить могущественного вассала к себе, то хотя бы заручиться его лояльностью [272, т. 7, с. 1076]. Как уже упоминалось, визит не помог, и вскоре Э-хоу оказался во главе с трудом подавленного мятежа, открыто направленного против вана. В данном случае весьма показателен сам факт: удельный вассал чувствовал себя настолько прочно, что мог бросить открытый вызов вану.
В принципе в этом, казалось бы, нет ничего необычного, нечто похожее случалось и в Инь, где такому повороту событий способствовал эффект убывающей этнической солидарности, содействовавший укреплению автономии региональных подразделений и даже временным союзам их с племенами внешней зоны. Однако Чжоу складывалось хоть и на иньской основе, но в совершенно иных условиях этнической гетерогенности, которые требовали от правителей уделов максимальной сплоченности вокруг центра. Тем не менее процесс был аналогичен. Дело в том, что внутренняя консолидация раннечжоуских уделов вела как к ассимиляции и адаптации нечжоуского этнического большинства в них, так и к формальному отождествлению всего населения удела с его чжоуским правителем, включая и соответствующие изменения в именах и самоназваниях. В результате закладывались основы той самой этнической гомогенности (включая язык, культуру, верования, обычаи и т. п.), что была нормой в Шан-Инь. С одной стороны, это способствовало усилению центростремительного импульса, который вел к поддержанию авторитета вана даже в условиях ослабления его реальной власти. С другой стороны, порождало упомянутый эффект убывающей этнической солидарности, находивший свое конкретное выражение и в мятеже Э-хоу, и в открытом союзе вассалов с варварами внешней зоны, как то случилось в 771 г. до. н. э. в ходе выступления обиженного тестя Ю-вана, Шэнь-хоу, положившего конец Западному Чжоу.
Структурной основой процесса этнической консолидации в раннечжоуских уделах была, как то происходило и в Шан-Инь, эволюция клановых связей. Специально исследовавший этот вопрос Г. Крил обратил внимание на то, что в отличие от более поздней эпохи Чуньцю, когда в среде правящих верхов преобладали мощные аристократические кланы, фактически отождествлявшиеся с уделами, которые они возглавляли и которыми управляли, для западночжоуских администраторов более характерной была нуклеарная семья, тогда как большой клановой группы как политического фактора еще почти не было [116, с. 378—380]. Едва ли такой вывод полностью справедлив — конические кланы аристократов складывались и становились реальностью именно в Западном Чжоу. Но прав Г. Крил в том, что в описываемое время шел процесс их становления и что стартовый уровень заметно отличался от того, к чему пришло развитие клановых связей в Чжоу и особенно в чжоуских уделах ко времени Чуньцю (см. [24]). Как же протекал и на что опирался процесс эволюции клановых связей?
Раннечжоуские надписи типа инвеституры, равно как и аналогичные тексты «Цзо чжуань» о пожаловании уделов, дают основание предполагать, что первые владельцы уделов отправлялись в свои владения, не имея еще многочисленной близко-клановой родни. Упоминавшиеся в надписях группы «людей вана» были, видимо, скорее дружинами сородичей, нежели клановыми родственниками новых владельцев. Похоже на то, что на первых порах клановые связи преобладали в двух основных формах: в виде клана-корпорации для верхов и традиционных аморфно-сегментарных кланов для простолюдинов различных этнических групп, включенных в состав удела. Данных о клановой структуре общин практически нет, так что рассуждения на эту тему могут опираться только на факт перечислений в надписях о пожалованиях тех или иных групп и коллективов людей. Но материалы об аристократических кланах-корпорациях есть. Так, в надписи «Бань гуй», где говорится о походе Мао-гуна и предлагается двум другим удельным правителям, У-бо и Люй- бо, присоединиться к нему, упомянуто, что оба они должны выступить вместе с их цзу [272, т. 6, с. 206]. Из прямого смысла текста вытекает, что цзу — боевые подразделения, дружины, но едва ли есть серьезные основания сомневаться в том, что коллективы, о которых идет речь, были не только дружинами, но и кланами-корпорациями типа иньских «знамен»-цзу. Кланы-корпорации У-бо и Люй-бо как раз и состояли скорее всего из тех их сородичей-чжоусцев (включая и близких родственников), которые могли носить оружие и являли собой основу гарнизона и вообще военной силы удела.
Видимо, количество подобных цзу могло быть различным. В крупных уделах, создававшихся к тому же на этнической основе поверженных иньцев (например, в Лу), их могло быть несколько, как о том свидетельствует упоминавшаяся уже надпись «Мин гун гуй», согласно которой ван приказал основателю удела Лу выступить во главе трех цзу с походом на восток [272, т. 6, с. 106]. Но в более мелких и к тому же не имевших в своем составе организованных подразделений иньцев уделах полувоенные кланы-корпорации были, насколько можно судить, единичны и включали в себя практически всех чжоусцев, противостоявших иноэтничным группам. Они именовались термином гун-цзу (клан-дружина правителя-гуна), возможно, по аналогии с иньским Ван-цзу, с которого и возникли кланы-корпорации типа «знамен»-цзу.
В одной из наиболее ранних чжоуских надписей, «Чжун шань», сказано, как ван на встрече-смотре гун-цзу некоего Чжуна пожаловал ему свою лошадь (по мнению комментировавшего надпись Го Можо, подношение было сделано после успешного похода на Ху-фан [272, т. 6, с. 186]). В несколько более поздней надписи «Ши Си гуй» аналогичная ситуация: ван в одном из храмов в присутствии гун-цзу совершает обряд инвеституры, поручая Си Ши управлять уделом его предков [272, т. 6, с. 886].
Приведенные данные подтверждают предположение, что термины цзу и гун-цзу в начале Чжоу использовались — по заимствованной у Инь традиции — для обозначения кланов-корпораций типа воинских формирований. Есть основания полагать, что в ранних уделах такие корпоративные организации являли собой недифференцированные клановые структуры, возникавшие на основе сплетения еще неразветвленного конического клана правителя с близкородственными ему группами его сородичей-чжоусцев, «людей вана», откомандировывавшихся вместе с ним в момент создания нового удела. Весь этот привилегированный клан, естественно, должен был жить в укрепленном поселке и содержаться за счет труда общинников из числа этнически чуждого чжоусцам населения. В том, что именно такова была привычная для чжоусцев формула организации заново создававшегося удела, убеждают материалы включенной в «Ши цзин» песни «Сун гао» (№ 259). В ней идет речь о том, как на южных границах Цзунчжоу Сюань-ван. создает новый удел для его дяди по матери — Шэнь-бо, того самого, мятеж которого впоследствии в 771 г. до н. э. положил конец Западному Чжоу. Текст подробно повествует, как ван послал своего доверенного сановника Шао-гуна лично позаботиться о возведении крепости с дворцом и храмом, причем в качестве рефрена дважды повторена фраза о том, что местное население должно выплачивать своему новому главе десятину-чэ, предназначенную для его содержания [332а, т. 9, с. 1623—1626; 76, с. 392—394].
Как из материала этой песни, так и из приводившихся выше данных надписей о выделении раннечжоуских уделов явствует, что такие уделы структурно являли собой подразделения типа вторичных простых протогосударств-чифдом, по меньшей мере вначале. Вторичность их сводилась к моменту искусственного их создания на этнически гетерогенной основе в ходе завоевания, насильственного присоединения, а немногочисленность населения и элементарность административной связи (правитель с окружением — подданные) вполне соответствовали критериям именно простого чифдом с характерным для него господством клановых связей. Однако в конкретных условиях Чжоу с его развитой политической структурой молодого государства такое положение длилось не долго.
Суть происходивших в успешно развивавшихся уделах сдвигов заключалась прежде всего в этнической и политической консолидации, в ликвидации полукастовых корпораций и превращении искусственно созданного чифдом в обычное протогосударство достаточно развитого типа, во всяком случае знакомого с принципом конического клана. Конический клан в доме правителя удела, все гуще разветвлявшийся с каждым новым поколением, постепенно взрывал привычные рамки полукастовых кланов-корпораций типа гун-цзу и внедрялся в недра аморфно-сегментарной клановой структуры простых земледельцев-общинников, порождая феномен цзун-цзу.
Этот феномен обстоятельно исследован специалистами, в частности М. В. Крюковым, который отождествил его с кланом-патронимией, т. е. экзогамной группой иерархически соединенных родственных семей, связанных происхождением от общего предка [46, с. 76—96; 47, с. 205—215]. Вывод удовлетворителен для тех случаев, когда речь вполне очевидно идет о клановой родне, но не годится, когда вопрос стоит шире и говорится, скажем, об ополчении, т. е. практически обо всем населении удела. Едва ли можно ставить знак равенства между любым жителем удела и членом правящего клана. Нерасчлененность этих аспектов делает предложенную дефиницию неудовлетворительной и потому неприемлемой. Но почему же столь очевидное обстоятельство не было замечено и принято во внимание? Во всяком случае для тех значений цзун-Цзу (ополчение), когда оговорка явно требуется?
Возможно, здесь сыграл свою роль соблазн сблизить клановую структуру чжоусцев со столь хорошо изученной и столь во многом сходной с ней полинезийской. Сходство действительно есть, и немалое. Однако есть и различие. Оно в том, что на островах Полинезии процесс социально-политической интеграции шел в этнически почти стерильных условиях. Спонтанная эволюция небольшого коллектива родственников способствовала появлению большого клана (ramage), распадавшегося на субкланы и субсубкланы с соблюдением четкой иерархии клановых линий. Возникал структурно стройный и иерархически организованный коллектив, члены которого были родственны по отношению друг к другу (подробнее см. [236; 122]). В чжоуском Китае такой этнической стерильности не было. Зато тесный контакт и взаимопереплетение с иноэтническими группами в рамках каждого удела были реальным фактом. Неудивительно, что на передний план вышли иные формы интеграции, включая инкорпорирование и адаптацию за счет брачных связей, побратимства или включения чужаков в клановую структуру, возглавлявшуюся правителем удела, с последующей их полной идентификацией с правящим кланом. При этом по мере такого рода идентификации и консолидации, да еще в условиях сравнительно небольшого в начале Чжоу удела с численностью населения порядка нескольких сотен или немногих тысяч жителей, клановые связи типа цзун-цзу становились естественным костяком, скелетом, стержнем, определявшим социальную структуру общности и место в ней каждого.
Разумеется, по мере такой трансформации неизбежно изменялся облик клановых связей в уделе, а вместе с ним и терминология, что, в частности, отразилось в потере понятием гун- цзу его первоначально широкого значения «клан-дружина» и приобретении им более узкого смысла —«клан вана», включая родственников правителя по близким к нему клановым линиям. Именно в таком смысле термин использовался уже в надписях конца IX в. до н. э. «Фань Шэн гуй» и «Мао-гун дин», где гун-цзу в перечислении идет рядом с другими высшими должностями и административными категориями крупного удела ци-ши и да-ши [272, т. 6,. с. 133а, 135а]. Примерно в таком же смысле упомянуто это сочетание и в «Цзо чжуань» (2 г. Сюань-гуна) применительно к оценке событий VII в. до н. э. в Цзинь, связанных с вопросом о том, стоит ли давать высшие должности и самостоятельные уделы-кланы в царстве выходцам из семейно-клановой группы правителя, т. е. из его гун-цзу [313, т. 29,. с. 864].
Трансформация термина гун-цзу, начавшего примерно с IX в. до н. э. обозначать конический клан правителя, является лишь одним из свидетельств эволюции клановой структуры в уделах, суть которой сводилась к резкому усилению значимости конического клана, с VII в. до н. э, практически уже поглотившего кланово-корпоративные организации типа цзу, подчинив их своим нормам.
О нормах конического клана с его неравенством линий, социальной иерархией в пределах генеалогического дерева и постепенным снижением в нисходящих поколениях боковых ветвей значимости родственных связей с главой клана, владетельным аристократом и тем более правителем, уже достаточно было сказано. Применительно к чжоуским уделам следование таким нормам означало, что многочисленные родственники правителя в соответствии со степенью родства активно претендовали на соучастие в управлении уделом и на свою долю дохода от него. А так как уцелевшие в междоусобной борьбе уделы достаточно быстро увеличивались в размерах и становились все более многонаселенными, неизбежно усложнялась система внутренней администрации, должности в которой занимали как члены различных ветвей конического клана правителя, так и выходцы из иных знатных кланов, в том числе представители соседних или покоренных уделов. Создавалась лестница должностных категорий аристократов (гун-цзу, цин-ши, да-ши), в VIII—VI вв. до н. э. трансформировавшаяся в феодально-иерархические ранги внутри сложившихся на базе раннечжоуских уделов крупных царств (гун—цин — да-фу — ши). Аристократы двух высших рангов могли стоять во главе автономных знатных кланов (уделов-кланов), как родственных правителю (коллатеральных), так и чуждых ему, причем каждый из них с VIII в. до н. э. уже обычно именовался термином ши (клан, патроним), использовавшимся в виде приставки к фамильно-клановому знаку (Мэн-ши, Цзи-ши, Суй-ши в Лу, например).
От удела к царству: становление «срединных государств»
Итак, эволюция внутренней структуры разраставшихся раннечжоуских уделов с формированием в них густой сети клановых связей (от клана-корпорации — через конический клан — к сложному конгломерату типа цзун-цзу) протекала на фоне все усиливавшейся междоусобной борьбы, шедшей преимущественно в форме борьбы за должность, т. е. за соучастие в управлении, за долю дохода от редистрибуции. Административная система в уделах в принципе копировала схему центра. Выше уже упоминалось о существовании чиновников чжу сы-ма и цзюнь сы-ма, исполнявших, видимо, обязанности сы-ма в некоторых уделах и утверждавшихся в самом начале Чжоу распоряжением лично вана. Позже, насколько можно судить, эта практика утверждения из центра отмерла, а количество и номенклатура должностных лиц в процветавших уделах, напротив, стала заметно возрастать в полном соответствии с ростом автономии и даже подчас практической политической независимости, по меньшей мере некоторых крупных уделов, от чжоуского вана.
От IX в. до н. э. сведений об этой трансформации немного, и они к тому же не очень ясны. Но тем не менее те, что имеются, весьма показательны. Речь идет о надписи «Не жэнь пань» («Сань-щи пань»), датируемой серединой IX в. Спорно трактуемый, текст однозначен с точки зрения интересующих нас данных: в надписи упоминается достаточно много должностных лиц, в их числе сы-ту, сы-кун, сы-ма, действующих, казалось бы, от имени вана [272, т. 7, с. 1296]. Но вся пикантность ситуации в том, что ван, от имени которого действуют его люди,— некий Не-ван, личность которого не идентифицируется (среди чжоуских правителей такого не было). Определенно, что речь идет не о Ли-ване (а именно он правил в середине IX в.), да к тому же и столица обозначена в тексте четко — город Доу, как на то обратил внимание и Го Можо в комментарии к надписи [272, т. 7, с. 131а]. Что же это за личность?
Мне уже приходилось высказывать предположение, что Не-ван (Цзэ-ван), возможно, был потомком того самого Не Лина, который в начале Чжоу получил удел в И [14, с. 144, прим. 45], располагавшийся на далеком юго-западе Чжоу [116, с. 473], т. е. пограничный. Не исключено, что в период ослабления власти центра при Ли-ване, драматические коллизии которого проявились как в восстании Э-хоу, так и в низвержении в конечном счете самого правителя в 841 г. до. н. э., удел И был уже настолько крупным и независимым политическим образованием, что его глава — тем более в условиях деградации власти чжоуского вана и последовавшего затем безвременья (период правления гун-хэ) — дерзнул присвоить титул вана, причем нечжоуское происхождение правителей могло облегчить переход сакральной для чжоусцев грани[76].
Дальнейшая судьба Не-вана, его клана и удела неясна[77]. Но текст надписи убедительно свидетельствует, что в уделах Чжоу в IX в. были многочисленные чиновники с должностями и функциями, аналогичными тем, что существовали в администрации центра. Собственно, трудно было бы ожидать чего-либо иного, особенно имея в виду, что с VIII в. до н. э., тем более после переселения чжоуских ванов в Лои и потери ими политической власти вне их домена, каждый из преуспевших за счет удачных войн и присоединения соседних территорий уделов стал быстрыми темпами превращаться в крупное и фактически самостоятельное царство, внутренняя структура которого была уже достаточно сложной и в принципе, как то было с Западным Чжоу, отвечала параметрам вполне зрелого, хотя еще и раннего государства.
В VIII—VI вв. до н. э. чжоуский Китай стал ареной острой политической борьбы и соперничества нескольких крупных царств-Ци и Лу на востоке, Цзинь на северо-западе, Чжэн и Сун в центре, Цинь на западе и Чу на далеком юге — и нескольких десятков более мелких (Вэй, Чэнь, Цзао и др.)[78], постепенно поглощавшихся крупными. При этом, по меньшей мере вначале, полуварварские Цинь и особенно Чу находились как бы в стороне от остальных, горделиво именовавшихся «срединными государствами» (чжун-го) и ревниво соперничавших между собой за власть и влияние в Поднебесной. С упадком власти вана и возвышением правителей крупных царств, наиболее умелые и удачливые из которых уже с начала VII в. до я. э. поочередно становились практически всевластными и всесильными лидерами, подчинявшими своей воле не только более слабых соперников и зависимых союзников, но также и самого вана, как раз и начался тот период китайской истории, который в последующей историографической традиции получил, как упоминалось, наименование ба-дао (путь узурпаторов-гегемонов, правление грубой силы в противовес легитимному правлению ванов).
Административно-политическая структура Китая. VIII—VI вв. и динамика ее эволюции не только достаточно полно отражены в позднечжоуских источниках («Цзо чжуань», «Го юй» и др.), но и весьма хорошо изучены специалистами в рамках как специальных исследований [90; 162; 258а], так и общих работ [73; 131; 211 и др.]. Нет необходимости и практической возможности анализировать ее в деталях: одно только исследование, скажем, номенклатуры должностных лиц в царствах, столь богато представленной в «Цзо чжуань» [131а], потребовало бы специальной монографии. Поэтому в рамках данной работы целесообразнее обратить преимущественное внимание лишь на основные параметры и процессы, имеющие отношение к проблеме становления основ государственности, этапов ее развития. Иными словами, применительно к VIII—VI вв. до н. э. речь пойдет о том, что представляли собой чжоуские царства как политические структуры и каким был процесс их внутренней эволюции.
Прежде всего, каждое из царств, как больших, так и малых, уже с VIII в. до н. э. было и соответственно воспринимало себя не только автономным, но и политически самостоятельным, независимым образованием. Сакрально-ритуальная связь всех их с чжоуским ваном продолжала существовать, причем не только в силу традиции, но и по соображениям политической выгоды и целесообразности (она в конечном счете символизировала и даже в известной мере цементировала этнополитическое единство «срединных государств» перед лицом остального мира), но эта связь не была обременительной и, по меткому сравнению Р. Уолкера, была аналогична той, которую имели государи средневековой Европы с римским папой [258а, с. XI]. Гораздо более существенной и ощутимой была зависимость царств от сильнейшего из них, правитель которого осуществлял функции гегемона: в некоторых работах, например в классическом труде А. Масперо «Древний Китай», вся история чжоуского Китая периода Чуньцю излагается сквозь призму господства гегемонов [211, с. 298—358]. Однако даже столь ощутимая зависимость не мешала тому, что самостоятельность и даже суверенность царств в принципе были вне сомнения, по меньшей мере до тех пор, пока небольшое царство или мелкое княжество (именно последние преобладали, среди самостоятельных политических образований Чуньцю) могло себе это позволить.
Известно, например, что дипломатические контакты, осуществлявшиеся через территорию третьих царств или княжеств, необходимо было заранее согласовывать с их правителями. Это правило считалось незыблемой нормой, и когда в 595 г. до н. э. (14 г. Сюань-гуна) могущественное Чу, послав посла через Сун в Ци, демонстративно нарушило его, в Сун такие действия были восприняты как ультиматум: казнить посла означало навлечь беду со стороны Чу, пропустить его без заранее полученного разрешения — признать себя зависимым от Чу, т. е. потерять лицо, лишиться достоинства суверенного государства. Сунцы выбрали первый вариант, непоколебавшись казнить чуского посла даже перед угрозой собственной гибели [313, т. 29, с. 959; 187, т. 5, с. 324]. Давление более сильного соседа тоже рассматривалось как недопустимое для суверенного государства: когда в 523 г. до н. э. (19 г. Чжао-гуна) царство Цзинь попыталось было вмешаться в выбор преемника умершего сановника царства Чжэн (его преемником из-за малолетства сына, мать которого была из Цзинь, стал по решению старших клана его дядя), его домогательства были решительно отвергнуты. Обосновывая такое решение, влиятельный министр Цзы Чань сказал правителю, что, если уступить Цзинь и позволить ему вмешиваться в дела Чжэн, царство потеряет свою независимость [313, т. 31, с. 1965; 187, т. 5, с. 675]. Это была не просто поза: правители царств и княжеств хорошо понимали, что любая уступка в сфере суверенитета — начало конца. Только твердость в сочетании с искусным политическим лавированием, умелой дипломатической игрой на противоречиях сильных соседей могла дать им шанс выжить.
Болезненная реакция на ущемление суверенитета подтверждалась и подкреплялась строгим ритуалом в системе взаимоотношений царств друг с другом, начиная со взаимных визитов правителей, торжественных церемоний при ведении матримониальных, политических или иных переговоров и кончая четко расписанными правилами приема послов, о чем немало данных в «Цзо чжуань» и особенно в «И ли» [187, т. 5, с. 239; 278, гл.4, 9 и др.; 248а, т. 1, с. 189—287]. Параллельно в рамках царств и княжеств рос патриотизм. Жители прежде гетерогенных раннечжоуских уделов давно уже привыкли мыслить себя представителями своего царства и соответственно именоваться: устойчивые сочетания типа «человек из Лу», «жители Сун» и тому подобные были нормой в период Чуньцю. И это была не просто самоидентификация. Рассказы «Цзо чжуань» и «Го юй» полны примеров готовности стоять за свое царство, умереть за правителя, что, впрочем, никак не исключало ожесточенных внутренних феодально-междоусобных распрей.
Анализируя источники внутренней силы каждого из царств, Р. Уолкер выделил несколько основных: географическое положение, экономические потенции, населенность, развитие торговых и дипломатических связей, внутреннюю сплоченность и умение найти союзников, искусное управление (лидерство), включая обеспечение необходимой информацией, умение тонко учитывать баланс сил и, наконец, военную силу, которая в VII и особенно в VI в. до н. э. измерялась обычно сотнями, а то и несколькими тысячами боевых колесниц, каждая из которых предполагала наличие нескольких десятков пехотинцев [258а, с. 41—58]. Разумеется, подобные как объективные, так и субъективные факторы были в разных царствах весьма неодинаковыми, что и обусловило динамику эволюции, т. е. последовательное усиление одних за счет поглощения других.
Заметное разрастание ведущих царств означало постоянное усложнение их внутренней структуры. Похоже на то, что уже в VIII в. каждое из ведущих царств чжоуского Китая было более густонаселенным и являло собой более сложную систему внутренних клановых, административных и политических связей, нежели Чжоу в целом в первые десятилетия после победы над Шан-Инь. Естественно, это не могло не сказаться и на характере власти, формах административного устройства. В принципе в царствах копировалась администрация Западного Чжоу. Но появлялись также и некоторые новые черты и признаки.
Как и в западночжоуской центральной администрации, во главе пирамиды власти в царстве стоял правитель, чаще всего именовавшийся терминами гун или хоу (разница между этими терминами, по табелю о рангах призванная подчеркнуть соотносительную важность той или иной правящей линии, на деле, особенно в условиях VII—VI вв. до н. э., значения не имела)._ Правители царства на раннем этапе эволюции, когда вчерашние уделы трансформировались в крепкие самостоятельные государства (IX—VIII вв. до н. э.), имели достаточно большую власть и по мере упадка Чжоу присваивали себе все больше прерогатив, до того бывших исключительным достоянием вана,— начиная с права давать уделы. Однако как только практика создания уделов в рамках новых царств достигла некоторых успехов и на их внутриполитической арене появились удельные аристократы, доходы, сила и влияние которых подчас были сравнимы с тем, чем располагал правитель, ситуация стала изменяться. Рядом с правителем у рычагов власти появились советники-министры, сановники-цины, каждый из которых обычно представлял тот или иной удел и в зависимости от его мощи претендовал на соответствующую долю реальной власти в царстве. И хотя, как упоминалось, в конечном счете многое зависело от конкретных обстоятельств, общей нормой с VIII и тем более в VII— VI вв. до н. э. стало постепенное ослабление, а то и деградация власти правителя. Все большая доля ее стала сосредоточиваться в руках всесильных министров-сановников, т. е. стоявших во главе мощных уделов-кланов типа цзун-цзу советников-цинов. Эту форму соучастия в отправлении власти и деления ее Р. Уолкер назвал олигархией [258а, с. 59].
Как и некогда влиятельные западночжоуские сановники-гуны, цины в царствах обычно делили между собой важнейшие административные должности, стремясь сделать отправление их наследственным правом своего клана. Цинов обычно бывало немного, чаще всего три-шесть, редко больше [162, с, 5]. Пожалование в достоинство цина очередного кандидата было важным делом, увязывалось с общей ситуацией в царстве и обязательно сопровождалось выделением для нового сановника удела и дарованием ему права на создание собственного знатного клана-ши[79], впоследствии становившегося ядром нового цзун-цзу в его уделе. Что касается должностей, которые формально предоставляли цинам право на высшую административную власть, то они в разных царствах были различными по номенклатуре. Из сообщения «Цзо чжуань» от 620 г. (7 г. Вэнь-гуна) явствует, что в Сун делами заправляли шестеро цинов, трое из которых имели военные должности (командующие левой и правой армиями и сы-ма), а другие трое — гражданские (сы-ту, сы-коу и сы-чэн, он же сы-кун [313, т. 28, с. 749]). В других царствах схема бывала в разное время более или менее близкой к этой, хотя нередко и заметно отличалась от нее. Номенклатура должностей в Чуньцю была весьма разнообразной, но суть ее всюду сводилась к тому, что высшие должности — прерогатива удельных аристократов-цинов, чаще всего их наследственное право.
Каждый из цинов, во всяком случае вначале, был обычно близким родственником правителя. Только позже, уже вторые, третьи поколения их стали частично формироваться не за счет близкородственных коллатеральных линий, а из числа заслуженных сподвижников или выходцев из других царств. В тех случаях, когда цинов оказывалось слишком много, что бывало нечасто, между ними вводились градации (например, «старший цин»). Что касается сыновей цина, то они — кроме одного, обычно наследовавшего отцу,— чаще всего попадали в разряд да- фу, так же как и многие из сыновей правителей. Да-фу были высшими и влиятельными чиновниками, они выполняли многие важные поручения и занимали видные посты в административной системе. Они же играли весьма важную роль в совете старейшин своего клана, но в то же время сами собственных кланов не имели — и тем существенно отличались от цинов. Разумеется, любой из них всегда имел шанс отличиться и добиться повышения, стать цином и получить свой удел-клан. Но этого удостаивались немногие. Большинство оставалось обычными да-фу, влиятельными аристократами и высшими чиновниками, подчас подразделявшимися на различные ранги (старший, средний, низший да-фу), но так и не получившими право на свой удел и клан-патроним ши.
Более того, с течением времени и по мере укрепления позиций уделов-кланов в царствах значительная часть да-фу, равно как и стоявших еще ниже их чиновников следующего ранга— ши (этимология термина восходит к понятиям «муж», «воин», «служащий»), бывших отпрысками да-фу, представителями боковых ветвей знатных кланов в нисходящих поколениях, начинали играть все более значительную роль во внутренней администрации уделов-кланов, постепенно тоже усложнявшейся и во многом копировавшей администрацию царства. Иными словами, клановая структура по-прежнему преобладала как на уровне превратившихся в царства древних раннечжоуских уделов, так и на уровне новых уделов-кланов, возникавших и разраставшихся внутри царств, причем и здесь и там клановые связи все заметнее обрастали и переплетались административно-должностными, территориально-политическими, позже также и социально-экономическими. Но об этом подробнее в следующей главе. Теперь же обратимся к структуре уделов-кланов.
Уделы-кланы в чжоуских царствах
Система уделов-кланов, возникавшая в царствах с VIII в. до н. э., во многом копировала раннечжоускую систему уделов XI—X вв. до н. э., но кое в чем и заметно отличалась от нее. Сходство было в существе явления (выделение удела родственникам и приближенным в пределах контролируемой центром территории с делегированием главе удела полномочий правителя по управлению этой территорией и живущим на ней населением, включая право на взимание избыточного продукта и его редистрибуцию), в функциях и обязательствах глав уделов (повиновение приказам центра, служба правителю, поднесение ему дани, подарков, отправление административных должностей и т. п.), даже в практике наименований (уделы могли носить имена, не сходные с клановыми наименованиями их глав, практика совпадения этнонима, топонима и личного имени правителя не пережила периода Шан-Инь). Безусловное сходство можно зафиксировать в динамике политического процесса: сам факт наличия удельной структуры неизбежно порождал эффект децентрализации, так что только целенаправленная борьба центра могла спорадически приносить ему успехи в деле укрепления авторитета власти правителя. Словом, социологически обе системы были явлением одного порядка с одинаковыми причинами, внешними очертаниями и последствиями. Но были и существенные отличия.
В раннем Чжоу создание системы уделов практически было единовременным актом и помимо расплаты с родственниками и заслуженными помощниками имело целью обеспечение эффективного управления на окраинах и защиту Чжоу от опасностей извне. Уделы выделялись и позже, вплоть до перемещения столицы в Лои, однако число новых владений было, невелико, а их размеры — за редким исключением вроде царства Чжэн — незначительны, так что в последующих событиях они (кроме Чжэн) практической роли не играли. Раннечжоуские уделы были этнически гетерогенны и потому в политико-административном отношении слабы, что обусловливало их долгую и явственную зависимость от чжоуского центра и способствовало укреплению авторитета вана на протяжении достаточно длительного времени. И хотя со временем положение менялось, начальный импульс сыграл свою роль.
В царствах чжоуского Китая ситуация была иной. Удельная система в них возникла с целью расплатиться с заслуженными сановниками, удовлетворить все растущие аппетиты и претензии ближайших родственников. Целей, которые играли бы интегрирующую роль, не было, так что выделение уделов с самого начала было акцией, способствовавшей ослаблению центра и усилению эффекта раздробленности, созданию благоприятных условий для междоусобиц. Соответственно и практика выделения уделов не была единовременным актом. Она затянулась практически на два века, ибо порождавшие ее причины и импульсы были долговременным постоянно действующим фактором. Главной причиной ее завершения в VI в. до н. э. стало не столько ослабление эффективной власти правителей (хотя и оно, видимо, сыграло свою роль), сколько истощение ресурсов: новые уделы уже было не из чего выделять, ибо большинство земли царств было уже поделено между враждующими друг с другом старыми уделами. Специально исследовавший проблему Сюй Чжоюнь пришел к выводу, что именно это немаловажное обстоятельство обусловило заметное падение роли близкородственных кланов в системе управления царствами [162, с. 30—34]. Наконец, заслуживает внимания и то, что уделы в царствах не были этнически гетерогенными, вследствие чего не было необходимости тратить время и энергию на преодоление внутренней дифференциации. Тем самым серьезно облегчалась задача новых владельцев уделов даже в тех нередких случаях, когда они были чужими населению полученного ими удела. Как показывает практика, отсутствие кланового родства не имело существенного значения: став владельцем удела, даже созданного на базе только что завоеванного соседнего княжества, новый владелец весьма быстро и успешно превращал его в собственную вотчину, используя для этого структуру цзун-цзу и тем укрепляя свое влияние в царстве.
Как несложно заметить, все отличия действовали в конечном счете в одном направлении: они способствовали ослаблению реальной власти правителя царства и усилению влияния уделов-кланов в нем, что вполне отчетливо выявилось уже во второй половине VIII в. до н. э., когда в царствах чжоуского Китая возникли первые могущественные уделы-кланы. Наглядным примером может служить драматическая история борьбы за власть в Цзинь, о которой будет идти речь в следующей главе (см. также [25]). Нечто аналогичное, как обстоятельно рассказано в сообщении «Цзо чжуань» от 722 г. до н. э, (1 г. Инь-гуна), происходило и в царстве Чжэн, правитель которого Чжуан-гун по настоянию матери выделил горячо любимому ею своему младшему брату Дуаню большой удел в Цзин. Дуань не только быстро укрепился в уделе, но и, опираясь на поддержку матери, стал энергично распространять свое влияние на соседние районы царства, заставляя местное население выплачивать ему такие же подати, какие оно вносило в казну Чжуан-гуна. Советники гуна увидели в этом опасность; и не раз предупреждали правителя, обращая его внимание на коварную политику младшего брата, привлекавшего людей к себе щедрыми раздачами. Дело кончилось заговором Дуаня, которому втайне подыгрывала мать. Только раскрытие заговора позволило Чжуан-гуну опередить события, организовать контрнаступление и добиться изгнания мятежного брата из Чжэн [313, т. 27, с. 84—87; 187, т. 5, с. 5—6].
Хотя инцидент в Чжэн кончился иначе, чем в Цзинь, суть их одинакова: в результате создания новых уделов-кланов, основанных претендовавшими на власть близкими родственниками, возрастала угроза власти центра. Но что интересно: даже имевшие горький опыт правители, как, например, цзиньский Сянь-гун, не могли решительно порвать с этой апробированной практикой и в конечном счете_ были вынуждены вернуться к ней, наделяя уделами собственных сыновей. Правда, тот же Сянь-гун старался уравновесить родственные пожалования уделами, которыми он, как затем и его сын Вэнь-гун, щедро наделял своих заслуженных сподвижников. Но, во-первых, проводить такую линию удавалось лишь сильным правителям, а, во-вторых, это в принципе немногое меняло: по свидетельству Б. Блэкли, не родственные уделы-кланы столь же существенно ослабляли власть центра, как и родственные [90, ч. 3, с. 109—110]. Для динамики внутренней социально-политической структуры в царствах характерным было то, что с каждым новым поколением Главная линия в рамках правящего клана становилась все более генеалогически отдаленной по отношению к недавно отделившимся близкородственным линиям, образовывавшим собственный удел-клан. Отдалившиеся коллатеральные линии, как, например, три клана из дома Хуаня в Лу, на протяжении века-полутора уходили от главной линии на столь солидное расстояние, что практически переставали быть родственниками правителя-гуна. И хотя генеалогически родство сохранялось, учитывалось и даже играло существенную роль, практически коллатеральные линии такого рода едва ли можно ставить рядом с теми близкородственными, которые обновлялись с каждым поколением и члены которых реально могли претендовать на власть. В этом смысле коллатеральные линии действительно мало чем отличались от тех, которые были основаны неродственными правителю сановниками.
Разумеется, из сказанного отнюдь не следует, что родство и вообще патриархально-клановые связи быстро слабели. Как раз напротив, они держались очень стойко на протяжении VIII— VI вв. до в. э., что придавало всей чжоуской социальной структуре весьма заметный оттенок патримониализма. Сохранение таких связей имело целью сохранить за кланом его привилегии, его место, закрепленные за ним должности и звания-титулы-ранги, на что давала право только и именно причастность к слою феодально-клановой аристократии и через него — к сакральной харизме (дэ). Ритуально это, как указывается в гл. «Ван-чжи» «Ли цзи», выражалось в праве аристократа в зависимости от его места на иерархической лестнице генеалогического родства и соответствующего звания-титула-ранга на определенное число (7, 5, 3, 1) храмов-алтарей в честь предков (286, т. 20, с. 569].
Как легко понять, в возникавшей в ходе развития и разветвления сложной иерархической генеалогической системе создавались определенные внутренние противоречия. С каждым новым поколением в рамках царства появлялись все новые и новые клановые линии, близкие к правителю. В то же время реальный вес и могущество ранее созданных кланов-уделов были значительными, а со временем и в зависимости от обстоятельств могли даже возрастать, чего нельзя сказать о заново создававшихся близкородственных кланах, нередко более слабых и незначительных, количество и значимость которых, как упоминалось, в VI в. до н. э. практически сходили на нет. В такой противоречивой ситуации главным становилось уже не само генеалогическое родство в рамках конического клана, как то было прежде, а реальное положение в системе феодально-административной иерархии. Иными словами, при формальном приоритете и культе кланового родства значимость этого фактора неуклонно снижалась в силу требований самой структуры, обусловливавших в то же время увеличение роли реального могущества удела-клана и его влияния в делах царства в зависимости от занимаемого им места в системе политической администрации, от его удач и неудач в ожесточенной местнической и политической (временами вооруженной) борьбы с соперничавшими уделами.
Обратимся теперь к анализу структуры власти в царствах чжоуского Китая. Общее количество уделов-кланов в каждом из крупных царств в период, о котором идет речь (т. е. с появления первых из них во второй половине VIIГ в. до н.. э. вплоть до упадка их роли на рубеже VI—V и особенно заметно в V в. до н. э.), было достаточно ограниченным. По ориентировочным подсчетам Б. Блэкли, оно колебалось в различных царствах, включая домен Чжоу, в среднем в пределах от 10 до 30, причем в одних (Лу, Сун) абсолютно преобладали коллатеральные линии, в других (Цзинь) — неродственные, в прочих (Ци, Чжэн, Чу) абсолютного преобладания не было. Существенно и то, что, за редкими исключениями, ни один клан не просуществовал долее 9—10 поколений, а средняя продолжительность его существования равнялась примерно пяти поколениям [90], т. е. кланы обычно возникали, расцветали и гибли в пределах 100—150 лет. Следовательно, в политической борьбе в каждый данный момент обычно принимало участие в среднем три-пять кланов, редко (в Цзинь) — несколько больше, что вполне явственно прослеживается в описаниях «Цзо чжуань» или «Го юй». Борьба эта почти никогда не принимала формы длительного соперничества равных. Как правило, один из кланов обычно доминировал, сосредоточив в своих руках почти всю реальную власть в царстве. Правда, подобное положение длилось недолго: соперники объединялись и выступали против того, кто имел слишком большую власть, что чаще всего вело к смене лидера, а подчас и к гибели всего его клана, как то наиболее характерно для динамики борьбы за власть влиятельных кланов в Цзинь [90, ч. 3, с. 90—99].
В период трансформации раннечжоуских уделов в царства столь ожесточенного соперничества не было и просто не могло быть. Конечно, и тогда случались заговоры, порой свергались правители, но все это было в рамках борьбы претендентов на престол из одного клана, клана правителя. В функции советников и министров тоже выступали прежде всего родственники главы удела-царства, но они были опять-таки членами его клана и не могли опираться на внешнюю силу, т. е. на собственный клан. С созданием системы уделов в царствах чжоуского Китая сложилась принципиально иная ситуация. Власть и причастность к ней уже не были функцией одного лишь клана правителя. И если первоначально опиравшиеся на собственные, уделы коллатеральные кланы по-прежнему пытались было оспаривать власть правителя с позиций близкого генеалогического родства, то со временем ушло, в прошлое и это. С момента сложения в каждом из царств ситуации соперничества нескольких уделов-кланов, т. е. примерно с VII в. до н. э., генеалогическая близость, как упоминалось, потеряла свое значение. В борьбе за ключевые посты в системе разросшейся и усложнившейся администрации именно реальное соотношение сил между уделами становилось решающим фактором. Другими словами, важное место в администрации оказывалось наследственным достоянием того клана, который был настолько сильным и влиятельным, чтобы удержать его, и лишь до тех пор, пока его влияние и сила сохранялись за ним.
В Л у, например, на протяжении значительной части VII в. до н. э. у руля правления стоял коллатеральный клан Суй, представители которого вершили всеми делами царства, ездили с миссиями, решали вопрос о наследовании власти гуна и т. п. После его крушения на передний план вышел другой коллатеральный клан, Цзи, под знаком преобладания которого в администрации царства прошел весь VI в. до н. э. В Ци в начале VII в. вся реальная власть была в руках Гуань Чжуна, клан которого после этого еще долгое время сохранял определенное влияние. После Гуань Чжуна на передний план попеременно выходили кланы Цуй-шу, Бин-шу, Го, Гао, Бао, пока в конечном счете все они не отступили на задний план перед кланом Тянь. В Цзинь самым могущественным кланом после Вэнь-гуна был Чжао, представители которого на протяжении ряда поколений занимали должность премьера, а на рубеже VII—VI вв. на первое место выдвинулся клан Сянь, после крушения которого борьбу повели кланы Чжао, Чжунхан, Хань и Вэй. В Чу на протяжении длительного времени высшие административные должности отправляли представители могущественного коллатерального клана Цзы. Аналогичная картина была в Чжэн, Сун и других чжоуских царствах [90].
Борьба уделов-кланов за власть была весьма ожесточенной и сопровождалась заговорами, коварными интригами, убийствами и изгнаниями, причём в ней, как правило, принимали участие правители царств и претенденты на престол. Недовольные и заговорщики обычно составляли партии и коалиции, вскоре распадавшиеся, но игравшие при этом свою роль в достижении цели. В Лу, например, коалиция трех кланов из дома Хуаня способствовала крушению и гибели клана Суй, в Цзинь коалиция кланов Хань, Чжао и Вэй привела к уничтожению наиболее сильного в V в. до н. э. клана Чжунхан. Ожесточенная борьба между кланами Хуа, My, Сян, У, согласно свидетельствам «Цзо чжуань» (7 и 16 гг. Вэнь-гуна), протекала в конце VII в. до н. э. в Сун, причем ее жертвами были и принимавшие в ней активное участие правители царства [313, т. 28, с. 749, 822—824]. В Чу в VII в., по описанию того же источника (4 г. Сюань-гуна), дело дошло до открытого вооруженного столкновения могущественного клана Цзы с правителем, в результате чего клан был почти полностью уничтожен [313, т. 29, с. 872— 873].
В записях «Цзо чжуань» и «Го юй» можно найти немало красочных описаний всех этих и многих других аналогичных событий, сопровождаемых дидактическими нравоучениями и оценками, а порой — и стремлением вникнуть в суть и детали интриги, обнаружить явные и скрытые мотивы действующих лиц (обида, ревность, зависть, честолюбие, властолюбие и т. п.). Многие из них дают богатый материал для анализа эпохи. Однако воспроизвести весь этот иллюстративный материал нет ни возможности, ни необходимости. Для нас важен сам процесс, его движущие импульсы. Суть же их до предела однозначна: каждое из чжоуских царств VIII—VI вв. до н. э. представляло собой арену ожесточенных междоусобиц между влиятельными кланами, административная власть и реальное могущество которых зависели от силы тех уделов, на которые они опирались, которые были их вотчиной.
Чем крупнее был удел и чем более энергично в связи с ростом могущества и влияния расширялась его первоначальная территория, в том числе и за счет включения в нее земель неудачливых соперников, тем сложнее, естественно, становилась задача управления им. Это с особой очевидностью сказалось в конце периода Чуньцю, когда ожесточенные междоусобицы VI—V вв. до н. э. привели как к сокращению общего числа уцелевших феодальных кланов, так и к резкому территориальному увеличению их вотчин. Следует заметить, что с увеличением размеров и усложнением внутренней структуры уделы-кланы — как то было и с уделами-царствами за два-три века до того — структурно изменялись, теряли свою цельность и стройность, а патриархально-клановая солидарность все чаще и все более определенно отступала под ударами внутренних междоусобиц, споров, соперничества. Другими словами, и на этом уровне социально-политической структуры чжоуского Китая, по меньшей мере с рубежа VII—VI вв., начала давать себя знать та же феодальная раздробленность со всеми присущими ей аксессуарами, о чем свидетельствуют записи «Цзо чжуань» о внутренних распрях в кланах Шу и Цзи в середине VI в. до н. э. [187, т. 5, с. 604, 640] в Лу, о раздорах во всесильном сунском клане Хуа [90, ч. 3, с. 332] и др.
Феодализм в чжоуском Китае
Проблема феодализма и феодальных институтов в древнем Китае весьма серьезна. Речь не о том, можно ли подогнать реальную историю под параграфы социологической схемы наподобие того, как это нередко делали в КНР. В первой главе было достаточно сказано о закономерностях и особенностях социально-экономической структуры неевропейских докапиталистических обществ, чтобы не возвращаться здесь к проблеме феодализма как формации. Но о феодализме не только можно, но и должно вести речь, разумеется имея в виду используемую в марксистской социологии трактовку этого термина в широком смысле слова, т. е. преимущественно социально-политический аспект понятия, те идеи и институты, которые издавна использовались в обществоведении для характеристики именно феодальной структуры (см., в частности, [35, вып. 2, с. 424—429]).
Специалисты-синологи подходят к проблеме феодализма в древнем Китае весьма осторожно, пытаясь прежде всего оговорить и обосновать правомочность использования самого термина и всего следующего за ним шлейфа понятий И категорий для характеристики чжоуского периода (по отношению к Шан-Инь он используется редко, хотя такое и случается [103, с. 202— 206]). Тем не менее сам факт не подлежит сомнению (что находит отражение в историографии [116, с. ЗГ7—387; 261, с. 118— 126]) и доминирует при анализе [162], хотя изредка и демонстративно отрицается [90, ч. 3, с. 113]. На мой взгляд, который я уже высказывал [24], политическая, социальная и административная структура Китая в Чуньцю может быть адекватно понята и точно охарактеризована в «феодальной» интерпретации (разумеется учитывая приведенные оговорки относительно содержания понятия). Более того, никогда в истории Китая феодальная структура не заявляла о себе столь громко и явственно, как это было в VIII—VI вв. до н. э.
Пройдя длительный период вызревания и становления в период Западного Чжоу, институты которого складывались на шан-иньской основе и лишь понемногу приобретали новые черты и свойства, характерные для удельной структуры, феодальные нормы и принципы в VIII—VI вв. до н. э. уже убедительно демонстрировали свою зрелость, свойственную раннегосударственным образованиям, развивавшимся под влиянием господства системы уделов в политической администрации, особенно в эпоху дезинтеграции и упадка центральной власти. Остановимся на основных аристократических институтах и принципах, господствовавших в Чуньцю.
Иерархия и вассалитет как нормативные институты восходят к Шан-Инь. Но если в Инь и начале Чжоу они были функцией норм конического клана и патримониализма, так что именно личностно-родственные связи, основанные на степени генеалогического родства, определяли ранг, титул, должность и вообще место человека в системе социальной иерархии, то в VIII—VI вв. до н. э. ситуация изменилась. В системе феодальных уделов-кланов решающим моментом стало уже не родство, хотя оно продолжало играть важную роль, а политическое могущество и влияние, которые и определяли место удела-клана и его главы на иерархической лестнице, степень причастности его к реальной власти в царстве.
Феодальная лестница периода Чуньцю состояла, как это обычно бывает, из нескольких ступеней. Во главе ее находился чжоуский ван («сын Неба»), чей сюзеренитет был номинальным, но формально сохранялся и даже строго соблюдался, в первую очередь самими его вассалами, правителями царств, включая и гегемонов-ба. Главы уделов-кланов, цины, были вассалами правителей царств, а служившие под их началом да-фу считались вассалами цинов. Еще ниже рангом стояли чиновники-ши, но реально они служили не столько да-фу, сколько тем же цинам, а то и правителям царств.
Генеральный принцип феодальной иерархии и вассалитета «вассал моего вассала — не мой вассал», столь отличный от принципа централизованной администрации с ее строгим бюрократическо-иерархическим соподчинением, так наглядно проявлявшим себя на протяжении всей истории Китая, был характерен прежде всего только и именно для Чуньцю, когда он действовал практически безотказно и на каждом шагу. В рамках удела-клана сплоченность вокруг его главы была абсолютной. Если клан шел войной — даже на правителя, как то было в Цзинь или в Чу,— шли все. Если подвергался опале или уничтожался глава клана, вместе с ним гибли его помощники и подданные, а в некоторых царствах строгие законы предусматривали уничтожение вместе с виновным трех линий его родственников — сань-цзу (родня по матери и родня по жене, кроме родни по отцу), что, в частности, практиковалось в Цинь на рубеже VIII—VII вв. до н. э., в момент серьезного политического кризиса [296, гл. 5, с. 88; 69, с. 20—21]. Другими словами, в качестве вассала по отношению к правителю царства выступал лишь глава удела-клана, чьи помощники и подданные идентифицировались с ним и были его вассалами и слугами. Аналогичной была картина и на более высоком уровне. Правители царств формально считались вассалами вана и обычно исполняли связанные с этим немногочисленные, а в VIII—VI вв. до н. э. уже совсем не обременительные обязательства, в основном в сфере ритуала. Но на лояльность и какие-либо обязательства глав уделов-кланов в этих царствах «сын Неба» рассчитывать не мог: главы кланов были вассалами только в пределах своего царства и только по отношению к своему правителю — вне зависимости от того, обладал он реальной властью или был лишь марионеткой в руках сильнейших из своих вассалов.
Одним из важных чжоуских институтов является инвеститура, практика которой в Китае восходит к Шан-Инь и уж во всяком случае к началу Чжоу. Но существенно, что в Чуньцю акт инвеституры постепенно терял значение в силу того, что лестница вассально-иерархических связей функционировала в автоматическом режиме: преемственность на уровне каждой ступени осуществлялась по принципу наследования, практически без последующего утверждения со стороны сюзерена, что было результатом ослабления реальной власти на уровне правителей-сюзеренов как в рамках Чжоу в целом, так и в царствах. Разумеется, за право наследования нередко шла жестокая внутренняя борьба, но вопрос решался именно на местном уровне, без вмешательства сверху, что лишний раз свидетельствует о ситуации феодальной раздробленности. Впрочем, рассмотрим эту проблему более подробно.
Право на власть и претензии на власть. Право на власть на уровне каждой из трех высших ступеней вассально-иерархической лестницы зависело от степени генеалогического родства. На трон «сына Неба», как и на престолы правителей царств, могли претендовать и обычно претендовали лишь самые близкие родственники правителя, его братья и сыновья, реже дядья, кузены или внуки. Примерно так же обстояло дело и на уровне удела-клана. Существенно, что принцип примогенитуры, как правило, строго не соблюдался. И хотя у старшего сына всегда были лучшие шансы на наследование, практически свои претензии выдвигали и остальные, во всякой случае те, кто обладал достаточным честолюбием, энергией и мог рассчитывать на поддержку. Можно сказать и определеннее. Едва ли не большинство острых политических конфликтов и сопровождавшихся убийствами интриг возникало именно из-за борьбы за власть, за престол. Весьма долго ее вел клан Чэн-ши в Цзинь. Короче, но весьма жестоко протекала она после смерти цзиньского Сянь-гуна. Прибегнув к интриге, убил брата и занял его место на престоле Лу в 711 г. до н. э. Хуань-гун. Один за другим погибали от рук своих родственников, чаще всего в результате заговоров, правители царства Сун. В жестокой борьбе за власть добился цели циский Хуань-гун. Словом, примеров много, и они так красочно и в деталях описаны в «Цзо чжуань» и «Го юй», что порой напоминают детектив.
В борьбе за престол огромную роль играли как личные амбиции и возможности претендентов, так и оказывавшаяся им со стороны влиятельных сил поддержка. В одних случаях (история чжэнского Чжуан-гуна и его брата Дуаня) активно вмешивалась мать, в других, как это, согласно «Цзо чжуань» (8 г. Вэнь-гуна), имело место в Сун в 619 г. до н. э., в центре интриги стояла бабушка правителя [313, т. 28, с. 755—756], но чаще в подобной роли выступали стремившиеся обеспечить своим сыновьям престол любимые наложницы, как в случае с цзиньским Сянь-гуном. Кроме ближайших родственников активными участниками борьбы бывали и влиятельные аристократы, и сановники, главы уделов-кланов, особенно из числа родни, т. е. представителей коллатеральных линий. Борьба за власть бывала жестокой, ибо проигравший терял обычно все, подчас и жизнь, а победитель приобретал власть и влияние, которые он делил со своими помощниками. В Цзинь вместе с Чжуя Эром (Вэнь-гуном) к власти пришли те, кто поддерживал его; именно они стали родоначальниками новых неродственных кланов. Не приходится и говорить, что в тех случаях, когда власть правителей была слабой, как, например, в Лу, наследники назначались по воле таких влиятельных сановников, как руководители удела- клана Цзи.
Важным моментом ожесточенной борьбы за власть, столь типичной для политического соперничества удельной аристократии, стала в Чуньцю достигшая большого размаха политическая интрига.
Политическая интрига. Мастерство, искусство, даже изощренность политической интриги — плод немалого опыта и обильной практики борьбы за власть. Малоизвестная в начале Чжоу (во всяком случае соответствующих данных практически нет), в Чуньцю она стала существеннейшим фактором успеха. Так, по свидетельству «Цзо чжуань» и «Го юй», именно следовавшие одна за другой умелые интриги позволили цзиньскому Сяо-гуну и его любимой наложнице очистить престол для их сына, хотя противостоявшие им интриги других цзиньских деятелей свели достигнутый результат на нет, вследствие чего отцовский престол в конце концов достался знаменитому Вэнь-гуну, ставшему гегемоном-ба [25]. Тщательно разработанные интриги помогали добыть нужную информацию, принять важное решение, вовремя опередить соперника и т. п. Например, когда в 626 г. (1г. Вэнь-гуна) назначенный наследником престола Чу Шан Чэнь стороной узнал, что отец намерен изменить свое решение в пользу младшего брата, он подстроил ловушку, которая позволила ему получить подтверждение слуху. Решительный наследник, захватив отца врасплох, заставил его покончить с собой, что и принесло ему престол [313, т. 28, с. 708—709].
Некоторые интриги были тонко задуманы и рассчитаны на длительный срок, ставя целью подготовить обстановку, благоприятную для достижения цели. Так, загодя действуя методами щедрых раздач и привлечения симпатий населения, добился популярности сунский Бао, который сумел в конечном счете занять престол убитого на охоте отца [313, т. 28, с. 822—824]. Аналогичным образом прокладывал себе путь к власти циский клан Тянь (Чэнь). Нередко политическая интрига тесно сплеталась, как то бывало везде, с любовной. Хотя это может показаться странным для тех, кто знаком с пуританскими нормами конфуцианской морали, факт остается фактом: любовные страсти в Чуньцю не только бушевали, но порой и двигали события, подталкивая на решительные действия колеблющихся, поддерживая отчаявшихся и т. п. «Цзо чжуань» (9 и 11 гг. Сюань-гуна) сообщает о захвате власти в Чэнь оскорбленным насмешками со стороны правителя сыном одного из сановников, вдова которого была любовницей правителя [313, т. 29, е.. 899, 906]. Другое сообщение (2 г. Хуань-гуна) касается сунского клана Кун (клан Конфуция). Жена главы клана,_ бывшего сы-ма в Сун, настолько понравилась другому сановнику, что тот с помощью интриги сумел обвинить сы-ма в неумелом выполнении обязанностей и затем, воспользовавшись общим смятением, напасть на него врасплох, убить его и увести жену. При этом интриган не только не был наказан, но, напротив, убил выразившего недовольство происшедшим правителя и пригласил на трон жившего в Чжэн сына предшествующего правителя, который и стал с его помощью править в Сун [313, т. 27, с. 216— 218].
Преданность и лояльность господину. Борьба за власть и связанные с ней интриги были бы немыслимы без прочного тыла для тех, кто вел активную политику. И они его обычно имели. Конечно, случались и накладки, включая коварство, предательство тех, на кого рассчитывали положиться или кто обманом вкрадывался в доверие. Но нормой считалась преданность, проистекавшая из той идентификации себя с лидером, о которой уже упоминалось.
Теоретически преданность эта не знала границ. Во всяком случае она не должна была зависеть от морального облика и поведения лидера: клиенты не могли судить патрона, их долг — подчиняться ему. Так, описанная в «Цзо чжуань» (8 г. Чжуан- гуна) гибель недобродетельного, циского Сян-гуна в результате заговора его кузена У Чжи сопровождалась следующим, весьма показательным эпизодом. Зверски избитый за пустячную провинность слуга Сян-гуна Би, выбежав из покоев правителя, встретил у ворот убийц. Мигом смекнув, что к чему, он показал им следы побоев и, обманув их бдительность, вернулся к Сян-гуну и спрятал его. Ворвавшиеся убийцы не сразу нашли правителя: в его постели лежал другой слуга, которого они и убили. Лишь убедившись в ошибке, заговорщики бросились искать Сян-гуна, все-таки нашли и убили его [313, т. 27, с. 345]. Слуги сделали все, что могли, для господина — и это был их долг. Вот еще пример: Согласно «Цзо чжуань» (14 г. Чжуан- гуна), в начале VII в. до н. э. чжэнский правитель, занявший престол благодаря убийству предшественника, обратился с укоризненным письмом к дяде, который ему явно не сочувствовал. Тот ответил, что он верно служил незадачливому прежнему гуну, охраняя алтари храмов предков, был предан своему господину и не может стать на сторону интригана, погубившего его: «Подданный не должен быть двоедушным,— это закон Неба» [313, т. 27, с. 376]. В том же источнике повествуется (15 г. Сюань-гуна), что столетием спустя, в начале VI в. до н. э., посланный в Сун. с важным поручением цзиньский чиновник Се Ян был перехвачен чусцами. Притворно согласившись выполнить просьбу чуского правителя и потому отпущенный, он отправился все-таки в Сун и исполнил там свое поручение, а чускому правителю в качестве оправдания заметил, что преданность не знает двух хозяев, долг повелевает иметь лишь одну преданность, после чего был вновь отпущен [313, т. 29, с. 965].
Эта норма считалась естественной, но в экстремальных ситуациях она могла фиксироваться в определенной ритуально-договорной форме. Как сообщает «Цзо чжуань» (23 г. Си-гуна), когда Чжун Эр, будущий цзиньский Вэнь-гун, был изгнан из страны в результате интриг наложницы Сянь-гуна, за ним в изгнание последовали сыновья сановника Ху Ду. Пришедший некоторое время спустя к власти племянник Чжун Эра стал преследовать сторонников дяди и, в частности, обратился к Ху Ду. Тот объяснил, что его сыновья последовали за Чжун Эром с его согласия и в соответствии с существующей практикой принесли своему господину клятву верности, скрепив ее соответствующими записями и кровью жертвенного животного. Ху Ду отказался призвать их порвать такую клятву, ибо тогда он сам уже не смог бы преданно служить, своему господину-правителю. Эти слова стоили ему жизни [313, т. 28, с. 594]. Видимо, клятва, о которой идет речь, была вынужденной формой именно в крайнем случае, когда речь шла об изгнаннике. При легитимной смене правителя обязанность повиноваться ему возникает автоматически, что и имел в виду Ху Ду, когда говорил о себе. Это, к слову, подкрепляется и еще одним любопытным эпизодом из «Цзо чжуань» (24 г. Си-гуна).
Когда Чжун Эр бежал, его чуть не настиг, обрубив ему рукав на городской стене, посланный вдогонку евнух (жрец?) Пи. Придя к власти, Чжун Эр (Вэнь-гун) отказался было принять Пи, велев передать, что не забыл о его рвении. В ответ Пи заметил, что его служебное рвение следует считать нормой, так как оно диктовалось преданностью, что такое рвение заслуживает вознаграждения, как то было в случае с циским Хуань-гуном и Гуань Чжуном, и что теперь, когда господином стал Вэнь-гун, он, Пи, готов служить ему верой и правдой, так же как Гуань Чжун. Вэнь-гун внял его речам и не пожалел об этом [313, т. 28, с. 601—602].
Преданность и лояльность, столь наглядно проявившиеся во многих эпизодах периода Чуньцю, впоследствии не были столь необходимы в условиях безличностной централизованно-бюрократической системы управления и соответственно перестали культивироваться, хотя личные связи и играли по-прежнему существенную роль. Стоит, пожалуй, отметить, что в Японии, цивилизация которой во многом ориентировалась на китайский эталон, эта черта получила гораздо большее развитие, став важным элементом общественной структуры и национального характера. Видимо, сохранение ее в Японии, равно как и заметное проявление в Чуньцю, имеет определенное отношение к практике феодальной раздробленности.
Кодекс чести и аристократическая этика. Во всяком случае преданность господину — важный элемент кодекса чести, наличие которого характерно для феодальной социально-политической структуры, в частности японской (буси-до). В Чуньцю этот кодекс не только возник и расцвел, но и во многом определял нормы поведения и оказал определенное воздействие на становление впоследствии конфуцианской этики.
Главным и структурообразующим элементом кодекса была этическая детерминанта — то самое, что впоследствии стало стержнем конфуцианства. И хотя этическая норма до Конфуция не была еще столь детально разработана, основные ее параметры были твердо фиксированы и хорошо известны: добродетельное — добродетельно, недобродетельное — порочно. Разумеется, многое в текстах, начиная от конфуциевых «Шу цзин», «Ши цзин» и «Чуньцю» и кончая комментариями типа «Цзо чжуань» и «Го юй», несет отпечаток более поздней конфуцианской дидактики. Однако если судить не только по оценкам в текстах, а анализировать прежде всего сами ситуации (даже имея в виду, что они могли быть: подкорректированы позднейшими составителями), станет очевидным, что этика конфуцианства складывалась не на голом месте, что она была законным наследником тех норм, которые существовали по меньшей мере с начала Чжоу (а кое что перешло и из иньского наследства) и которые особенно расцвели в Чуньцю.
Вот, например, та же верность и преданность, верность слову, клятве, присяге. В «Цзо чжуань» под 651 г. до н. э. (9 г. Си-гуна) рассказано, как цзиньский Сянь-гун перед смертью взял у сановника Сюнь Си клятву помочь его малолетнему сыну (тому самому отпрыску любимой наложницы, из-за которого шла вся интрига) взойти на престол. После смерти правителя другие сановники убеждали Сюнь Си не упорствовать, ибо соотношение сил было явно против его протеже. Тот отказался, сославшись на клятву. Когда малолетний наследник был убит, Сюнь Си готов был к самоубийству, но потом решил содействовать возведению на престол младшего брата покойного (сына сестры наложницы, прибывшей в гарем Сянь-гуна вместе с ней). Когда был убит и этот мальчик, сановник предпочел умереть вместе с ним [313, т. 28, с. 524—525]. Он не сумел исполнить клятвы, и его честь высокопоставленного аристократа предписывала ему лучше умереть, чем испытывать угрызения совести и жить, покрытым позором.
Приведем еще один, весьма показательный пример верности чести и долгу (о нем сообщается в «Цзо чжуань» под 4 г. Инь- гуна). Чжоу Юй, сын вэйского Чжуан-гуна от любимой наложницы, убил своего брата Хуань-гуна и захватил престол в 719 г. до н. э. Будучи узурпатором и явно не блеща добродетелями, он хотел заручиться поддержкой чжоуского вана. Советник его отца, знатный сановник Ши Цзы, сын которого вопреки желаниям отца стал компаньоном и помощником Чжоу Юя, порекомендовал ему использовать посредничество княжества Чэнь, правитель которого был в фаворе у вана. Чжоу Юй вместе с Хоу, сыном Ши Цзы, направился в Чэнь, а сам Ши Цзы тем временем послал туда же письмо с просьбой схватить убийцу и узурпатора. В Чэнь так и поступили. Тогда из Вэй направили в Чэнь сановника, который казнил Чжоу Юя, а Ши Цзы послал своего помощника (цзай), с тем чтобы он казнил его сына [313, т. 27, с. 137]. После описания приведенного эпизода в «Цзо чжуань» следует краткое резюме о том, что великий долг сильнее родственных чувств.
Разумеется, это крайний случай. Гораздо типичнее, когда долг и родственные чувства совпадают. Но сам факт показателен: если они не совпали и если такое несовпадение усугублено вызовом этической норме, родственные чувства отступают перед долгом, во всяком случае в сердце того аристократа, чье положение обязывает его следовать долгу чести.
Понятие Чести было достаточно разработанным и стояло в указанном смысле весьма близко к тому, что было характерным для феодальной Европы. Оскорбление должно было смываться кровью. Вот весьма показательный пример, сообщаемый «Цзо чжуань» (17—18 гг. Чэн-гуна). В 592 г. из Цзинь в Ци с важной дипломатической миссией прибыл сановник Го Кэ. Он был уродлив и прихрамывал, а циский правитель спрятал за занавеской женщин своего дома, которые подсматривали за неуклюжестью гостя и громко хихикали. Го возмутился и поклялся отомстить[80]. Возвратившись, он предпринял отчаянные усилия, чтобы организовать поход на Ци, но безуспешно: ему было отказано даже в праве осуществить вторжение собственными силами. Вскоре Го был назначен главой цзиньской администрации и, использовав обострившиеся отношения между Ци и Цзинь, организовал вторжение в Ци. Циский правитель вышел навстречу армии Цзинь и предложил мирное соглашение, отдав сына заложником. Честь Го была удовлетворена [313, т. 29, с. 973, 976—977].
Не менее весомым было и слово чести. Так, согласно «Цзо чжуань» (25 г. Си-гуна), после ряда триумфальных успехов, сделавших цзиньского Вэнь-гуна влиятельнейшим из правителей, он как-то предпринял осаду г. Юань, заявив, что, если в течение трех дней не добьется успеха, осада будет снята. На исходе третьих суток стало ясно, что Юань сдастся не сегодня завтра. Но Вэнь-гун отреагировал на просьбы офицеров подождать следующей тирадой: «Честность — это драгоценность государства... Если я возьму Юань, но потеряю честь... мои потери будут больше приобретений». Осада была снята, но из Юань вдогонку прислали известие о сдаче [313, т. 28, с. 624].
Нормы рыцарской доблести. Только что приведенный эпизод функционально близок к тому, что обычно называют нормами рыцарской доблести, этикой военных действий._ Воевавшие на боевых колесницах аристократы на протяжении веков, начиная с Инь, культивировали эту этику, менявшуюся с развитием общества. К Чуньцю она превратилась в уже достаточно тщательно разработанную культуру поведения аристократа в бою. Она проявлялась прежде всего в подчеркнутом уважении к противнику равного (тем более высшего) ранга, как то и свойственно обычно рыцарским представлениям. Не убить, не уничтожить, а одолеть, победить в честном бою — вот высшая доблесть. И одолев, не унизить, не стереть с лица земли, но лишь подчеркнуть свое превосходство и пленить врага, а то и отпустить его с честью.
Так, согласно «Цзо чжуань» (5 г. Хуань-гуна), в 707 г. до н. э. оскорбленный ваном его вассал, чжэнский Чжуан-гун, оказался в состоянии войны со своим сюзереном. Сражение окончилось поражением вана, но, когда встал вопрос о погоне за побежденным врагом, Чжуан-гун заявил, что достойный человек (цзюнь-цзы) не должен стремиться показать свое превосходство и тем более унизить «сына Неба». Ночью после сражения он послал своего приближенного в стан противника осведомиться о самочувствии вана и его окружения [313, т. 27, с. 254—256].
Еще более нагляден в этом смысле эпизод из истории войн между Сун и Чу, излагаемый в том же источнике (22 г. Си- гуна). В 638 г. до н. э. Чу выступило против Сун. Сунские войска были уже готовы к сражению, когда чуская армия только начала переправляться через реку. Сунский сы-ма требовал начать бой и тем компенсировать численный перевес врага. Но правитель отказался, и после переправы армия Чу нанесла сунским полкам сокрушительное поражение, сам правитель был ранен. Однако он твердо парировал все упреки: «Цзюнь-цзы не наносит второй раны, не бьет седовласых... и я не могу велеть бить в барабаны для атаки на неподготовленного к сражению противника!» [313, т. 28, с. 589—590]. Разумеется, подобный поступок — своего рода курьез. Не случайно сунского гуна все упрекали, так как в других войнах в то время очень актйвно использовали все военные уловки, включая внезапность нападения. Но в приведенном эпизоде явственно проступают элементы, имеющие отношение как раз к той теме, о которой идет речь.
Не менее показательны в плане рыцарской этики и детали индивидуального поведения в сражении. Так, когда в ходе одного из описанных в «Цзо чжуань» (2 г. Чэн-гуна) сражений между Цзинь и Ци в плен был взят переодевшийся гуном приближенный циского правителя, цзиньский вельможа обратился к нему со всей почтительностью. Но затем, раскрыв обман, он сгоряча хотел убить выдавшего себя за правителя. Однако последний сослался на принцип преданности слуги хозяину и получил прощение [313, т. 29, с. 1002—1003]. Еще аналогичный пример. В сражении с армией Чу цзиньский аристократ Ци Чжи, оказавшись перед колесницей чуского вана, спрыгнул со своей и поклонился, за что чуский ван тут же, на поле боя, прислал ему в знак признательности подарок. Правда, этот подарок позже стоил Ци Чжи жизни, ибо он был обвинен в ходе сложной политической интриги в измене [274, гл. 12, с. 149]. Но сам по себе подобный поступок не был изменой, ибо отражал нормы рыцарской этики.
Культ аристократизма. Нормы рыцарской этики, представление о чести и преданности аристократа — все это было составной частью более общего явления, расцветшего в рассматриваемый период. Речь идет об аристократизме как феномене, как функции развитой феодально-клановой структуры. Культ аристократизма достиг, в Чуньцю своего наивысшего уровня — позже такого места в социально-политической системе он более никогда не занимал (хотя временами, например в Нань-бэй чао, заметно расцветал).
Аристократизм являл собой своеобразный комплекс происхождения, воспитания, места на административно-иерархической лестнице, должного поведения, внутренней нравственной нормы. Собственно, это тот самый эталон, который позже был выработан и сформулирован Конфуцием,— цзюнь-цзы (букв. «сын правителя», т. е. аристократ). И хотя сам Конфуций, живший на рубеже нового периода древнекитайской истории, придал понятию цзюнь-цзы несколько иное содержание (достойный человек, благородный муж), отвечавшее более нравственному стандарту, нежели происхождению, генетически рассматриваемый эталон восходит к реальным условиям Чуньцю, когда он вырабатывался и реализовывался именно и прежде всего среди феодально- клановой знати.
Практически это означало, что сама принадлежность к аристократическому слою давала человеку право на особое к нему отношение, разумеется, если он сам своими действиями не вынуждал его изменить. Когда Чжун Эр скитался по царствам, его обычно встречали соответственно рангу (хотя иногда он сталкивался и с неуважительным отношением, за что позже виновные поплатились). Старшему из родственников правителя Чэнь, вынужденных бежать в результате политических интриг в Ци, был дан высокий пост начальника над ремесленниками (гун-чжэн), что позволило ему стать главой влиятельного удела-клана и впоследствии сделаться сильнейшим в Ци. Равным образом цзиньский Бо Чжоули, бежав в Чу, стал там важным сановником [313, т. 29, с. 1099, 1120], а семеро сыновей циского Хуань-гуна, видимо вынужденные бежать в результате смут, возникших после смерти отца, получили в Чу высокое звание да-фу [313, т. 28, с. 629]. В соседних царствах обычно пережидали смутное время и многие из тех будущих правителей, которые потом возвращались домой и получали престол. Словом, это была обычная практика в Чуньцю, причем, как упоминалось, к аристократам-эмигрантам обычно относились с должным почтением, давая им полагающееся рангу положение или соответствующую должность. Иногда соседнее государство пыталось даже помочь живущему в нем эмигранту-претенденту вернуться к власти в родном царстве. Но чаще оно ограничивалось предоставлением политического убежища.
Аристократия и войны. Как это свойственно любой структуре, находящейся в состоянии феодальной раздробленности, соперничества, междоусобицы, войны играли весьма существенную — чтобы не сказать основную — роль в жизни общества. Согласно специальным подсчетам, лишь 38 лет из 259, приходящихся на период Чуньцю, прошли без войн, причем в остальное время в войны были вовлечены, как правило, многие государства, так что общий индекс их вовлеченности за четверть тысячелетия превысил 1200 [162, с. 56—57]. В ходе таких войн было уничтожено и аннексировано около 110 самостоятельных до того царств и княжеств, пережило Чуньцю лишь 22 крупнейших, в состав которых вошли все остальные [162, с. 58—59]. И разумеется, войны не только демонстрировали рыцарскую доблесть и аристократическую этику. Они вели к существенному изменению общей структуры страны. Одни правители и главы уделов-кланов усиливались, приобретая новые земли и все новых подданных, другие лишалась того и другого. Иногда проигравшие сохраняли власть над своими владениями в новом статусе вассала или полувассала-получиновника завоевателя. Но нередко их изгоняли или понижали в статусе, а то и продавали в рабство или просто уничтожали.
В войнах прежде всего принимали участие аристократы, ибо для каждого из них это было делом чести и жизни[81], хотя, естественно, основная тяжесть войны падала на их подданных. И если принять во внимание количество и частоту междоусобных войн, то неудивительно, что в удельных междоусобицах Чуньцю погибла, была физически истреблена основная масса аристократии, как то было, скажем, в войне Алой и Белой Розы в феодальной Англии.
Здесь важно отметить еще одно обстоятельство. Войны велись и до Чуньцю, велись и после, в Чжаньго, когда они достигли невиданной степени ожесточенности. Однако до Чуньцю это были, как правило, спорадические экспедиции или нападения и существенного сокращения личного состава знати они не вызывали. После Чуньцю войны приняли иной характер — в них принимали участие огромные регулярные и хорошо организованные армии, состоявшие из десятков, а то и сотен тысяч пехотинцев (напомню, что великая наполеоновская армия, потрясшая Европу своими размерами, едва достигала полумиллиона), с участием кавалерии и при резком падении роли аристократических колесниц [162, с. 62—71]. Только и именно Чуньцю было периодом, когда в огне междоусобиц гибли в массовом масштабе аристократы, ибо для них война была едва ли не единственным делом, в котором они знали толк и к которому готовились сызмальства. В результате общий итог войн периода Чуньцю свелся к упадку владетельной знати, что сыграло важную роль в процессе централизации Китая.
* * *
На протяжении всей эпохи Чжоу в Китае увеличивалось население. Войны, как упоминалось, становились все многолюднее. Уже не только каждое царство в Чуньцю выставляло по нескольку армий, каждый крупный удел (как в Лу) имел свою армию. Если не армией, то крупным воинским подразделением обладали и другие уделы во всех царствах — без этого они не могли бы вести междоусобные войны. Организация удельно-клановых армий со временем все усложнялась. Судя по описанным в «Цзо чжуань» (11 г. Сян-гуна, 5 г. Чжао-гуна) реформам, о которых пойдет речь ниже, существовала строгая регламентация, согласно которой каждый военнообязанный аристократ в рамках удела-клана должен был являться в случае нужды «конно, людно и оружно», как говорили русские летописи. Если он почему-либо не мог выставить нужную группу воинов или явиться сам, необходимо было откупиться, с тем чтобы на внесенные средства можно было обеспечить все необходимое за счет других (в Лу, например, соответствующий налог-чжэн был введен в ходе реформ 562 и 537 гг. до н. э.) ([313, т. 30, с. 1275, т. 31, с. 1730]; см. также [68, с. 67]).
Вообще поборы и повинности, связанные с ведением войн в Чуньцю, занимали очень важное место в системе редистрибуции. Более того, обилие данных на этот счет в записях, относящихся к VI в. до н. э., убедительно свидетельствует, что в то время старая патриархально-клановая структура с ее внутренней цельностью и солидарностью, совместным трудом крестьян на общих полях с недифференцированными выплатами доли урожая приходила в упадок и рушилась. На смену ей шла новая, основанная на иных принципах, более приемлемых в условиях бурного демографического роста, резкого усложнения социального организма не только в царстве, но и в уделе-клане. Этот процесс нашел свое отражение в ряде реформ, протекавших в чжоуском Китае в основном в VI в. до н. э., хотя продолжавшихся и позже и приведших к серьезным изменениям в древнекитайском обществе.
Глава шестая. Трансформация чжоуского Китая. Основные модели эволюции
Процесс становления чжоуской государственности, рассмотренный в двух предшествующих главах, развивался отнюдь не прямолинейно и однозначно. Успешно начавшись и получив немалый позитивный импульс благодаря усилиям выдающихся правителей начала Чжоу, заложивших основы централизованной административной системы, он затем не только затормозился, но и как бы прекратился вовсе. На смену центростремительным факторам вскоре пришли центробежные, конкретным проявлением действия которых было развитие, а затем и расцвет удельной структуры со свойственными ей феодальными принципами, нормами, идеями, институтами. Вообще говоря, подобный ход событий следует считать обычным. Противостояние и чередование государственно-административной и феодально-центробежной тенденций типично едва ли не для всех ранних политических структур с их еще не устоявшимися основами внутренней организации, с характерной для них циклической динамикой эволюции. В конкретных условиях чжоуского Китая этот феномен проявил себя в том, что развитие политической администрации и становление государственности в разделившемся на множество частей-уделов раннем государстве Чжоу началось как бы заново, причем на сей раз процесс был многолинейным и породил различные модели, каждая из которых внесла впоследствии свой вклад в становление основ централизованной империи.
Модель царства Лу
Анализируя социально-политическую структуру ведущих царств периода Чуньцю, Б. Блэкли обратил особое внимание на то, какие именно кланы (родственные или нет) доминировали в том или ином царстве [90]. Однако его анализ мало что дает для решения проблемы путей-вариантов становления государственности в этих царствах, для определения тех принципов и параметров, которые складывались в том или ином из них, отличая его от других, и со временем внесли свой вклад в структуру единого китайского государства. В указанном плане едва ли не важнейшую роль сыграла луская модель.
Особенность и исключительность царства Лу не связаны ни с его размерами (оно всегда было небольшим), ни с заметной экономической или политической ролью. Зато Лу — родина Конфуция, колыбель конфуцианства, хранилище великих принципов китайской мудрости, своеобразный эталон веками вырабатывавшихся идей и институтов, норм и традиций.
В иных обстоятельствах можно было бы свести дело к констатации случайного факта: Лу — родина Конфуция. Но в данном случае все не так, скорее даже наоборот: Конфуций стал Конфуцием именно потому, что был лусцем, что родился в Лу и с детства впитал все то, что было нормой в этом царстве и что впоследствии стало основой традиционной китайской системы ценностей, — культ мудрости предков-правителей, подчеркнутое уважение к традиции, примат патриархальной этики, тщательное соблюдение церемониала, сравнительно высокий общий культурный стандарт и т. п. Конечно, далеко не только Лу обладало всеми упомянутыми качествами. И более того, правители и сановники в Лу отнюдь не были эталоном добродетельного поведения и ничем в этом смысле не отличались от других. Но основателем Лу был знаменитый Чжоу-гун (хотя формально удел был пожалован, как упоминалось, его старшему сыну Бо Циню), и именно культ величия, мудрости и добродетели его, со временем все возраставший, сыграл решающую роль в истории этого царства, определил его вклад в традиции культуры и государственности Китая.
Культ Чжоу-гуна определил весьма ощутимые привилегии Лу, которые, будучи официально санкционированными, ставили Лу выше остальных уделов. Одной из таких привилегий было дарованное еще Чэн-ваном право совершать церемониальный ритуал в честь умершего правителя в его полном объеме (музыка, принятая в доме вана, и танец, который исполняли восемь рядов танцоров по восемь человек), что было прерогативой только вана [296, гл. 33, с. 502; 101, т. 4, с. 100]. Привилегия эта нашла, в частности, отражение в том, что в разделе гимнов «Ши цзин» рядом с иньскими и чжоускими гимнами помещены и гимны Лу [76, с. 413—464][82].
Естественно, что правители Лу считали себя наследниками мудрости и добродетелей своего великого предка и что это обязывало их к заботе о сохранении тех высоких принципов и многочисленных преданий, которые были связаны с именем и деятельностью величайшего из раннечжоуских правителей. Подобная забота в первую очередь вылилась в составление фиксирующих его деяния текстов, для чего лусцы обладали наилучшими возможностями.
Дело в том, что большинство их вело свое происхождение от иньцев и имело поэтому сравнительно высокий культурный стандарт, включая достаточный уровень грамотности и образованности, навыки составления письменных текстов. Конечно, высокая иньская культура была и в Чжоу (в Лои), в Сун, Вэй. Однако у чжоусцев было немало текущих забот, да и не было особой нужды подчеркивать мудрые заветы Чжоу-гуна. Правители Сун стремились сохранить заветы их иньских предков, а политическая значимость Вэй быстро сходила на нет. Словом, ни у кого из упомянутых государств не было столь серьезного стимула и столь благоприятных возможностей для закрепления в памяти потомков событий раннечжоуской истории. Это определило и результат.
Практически все известные ныне раннечжоуские тексты (если не иметь в виду надписи на бронзе) имеют самое прямое отношение именно к Jly. Считается, что они были написаны, отредактированы либо составлены Конфуцием. Но случайно ли то, что в других царствах и даже в домене вана не нашлось никого вроде Конфуция — ни до него, ни в годы его жизни, ни даже позже,— кто взялся бы за аналогичную работу с архивами и добился сопоставимого результата? Случайно ли, что только и именно в Лу на протяжении ряда столетий до Конфуция велись регулярные; записи, впоследствии вошедшие в отредактированную Конфуцием хронику «Чуньцю»?[83] Как сообщает «Цзо чжу-ань» (2 г. Чжао-гуна), когда цзиньский посол в 540 г. до н. э. (Конфуцию в то время было лишь 11 лет) прибыл с визитом в Лy, он выразил свое восхищение тем, как велось в Лу делопроизводство, в каком порядке содержалась документация, что представляли собой луские архивы: «Все заповеди Чжоу —в Лу. Теперь я узнал о добродетелях Чжоу-гуна и о том, как чжоусцы стали ванами» [313, т. 31, с. 1675—1676; 187, т. 5, с. 583; 258а, с. 21].
Все это было результатом определенного курса, смысл которого заключался в стремлении к легитимации права луских правителей на исключительное положение в Поднебесной. Для такой легитимации нужно было иметь как можно больше неопровержимых документов, содержание которых свидетельствовало бы о мудрости и величии Чжоу-гуна, о его исключительных способностях и заслугах, о его великом вкладе в самые основы чжоуской цивилизации. Что же касается сути этого вклада, то она, как уже говорилось выше, заключалась прежде всего в постулировании принципа этически детерминированного права на власть. И именно генеральный принцип этической детерминированности, примата социальной морали, лег впоследствии в основу конфуцианства и стал квинтэссенцией всей китайской цивилизации, придавшей Китаю столь явственно ощутимый и неповторимый облик.
Здесь нужно еще раз напомнить, что конкретная политическая практика тех же луских правителей и их сановников могла не иметь ничего общего с высокой моралью. Но это никак не отражалось на том, что в текстах, в политической традиции, в системе апробированных ценностей принцип этической детерминированности не только преобладал, но абсолютно господствовал. И на долю Конфуция — при всем показном самоуничижении и явной несправедливости его утверждений о том, что он не изобретал нового, а лишь передавал потомкам забытое старое,— действительно выпало прежде всего собрать уже известное и поднять на высокий уровень то, чем порой откровенно пренебрегали. Но дело не только в этом. Конфуций поддержал и высоко поднял традицию, он придал ей гигантское значение. Но сама традиция все-таки действительно была и звучала примерно так же и до Конфуция. И лейтмотивом писаний традиции был консервативный культ старины, времен и порядков Чжоу-гуна. Соответствовавшие традиции тексты учили жить и воспитывали, служили ориентацией для общественного мнения и эталоном для подражания, чем поддерживалась восходящая к Чжоу-гуну и освящавшая его акции традиция. В конечном счете все вело к тому, что Лу становилось своеобразным оплотом чжоуской традиции, сохранность и действенность которой для этого царства были много важнее, чем для остальных.
Традицией (с точки зрения интересующих нас проблем) постулировалась незыблемость патриархального клана с характерным для него делением на старших и младших и безусловным приматом своих, т. е. клановой родни, перед чужими, аутсайдерами. Как сформулировал подобную практику изучавший ее Сюй Чжоюнь, сановник или чиновник «получал свою должность не вследствие личной компетентности или выбора, а по праву наследственного владения, олицетворяя своей персоной единство семьи и государства» [162, с. 22][84]. В приведенной оценке, особенно в ее последней части,— своеобразный ключ для расшифровки главной особенности луской модели формирования китайского общества и государства. Суть ее — в классическом тезисе «государство — большая семья».
Тезис этот выдвинул не Конфуций, хотя именно он наиболее энергично его отстаивал, так что в последующей традиции идея справедливо считается конфуцианской. Стоит обратить внимание на то, что и в Сун, где блюлись иньские традиции, смотрели на дело примерно так же. Когда сунский Чжао-гун в 620 г. до н. э. попытался было избавиться от нескольких могущественных коллатеральных кланов, один из советников, по свидетельству «Цзо чжуань» (7 г. Вэнь-гуна), отговаривал его на том основании, что родственные кланы дома правителя — его ветви и листья, обеспечивающие защитой ствол и корни [313, т. 28, с. 248]. В другом пассаже «Цзо чжуань» (14. г. .Сян-гуна), повествующем о цзиньских делах, содержится следующее рассуждение о хорошем правителе: «Хороший правитель награждает добродетельных и наказывает порочных, заботится о народе, как о детях... народ любит его, как отца» [313, т. 30, с. 1316].
Эти записи свидетельствуют о том, что патерналистская модель государства была достаточно широко в ходу и вне Лу, до Конфуция. Однако именно в Лy и в немалой степени благодаря усилиям Конфуция она была возрождена и теоретически осмыслена. В четком тезисе «государство — большая семья» не только в сконцентрированном виде сформулированы консервативные традиции патриархального клана, но и, как в куколке-личинке, уже заложены определенные генеральные принципы строительства государства, принципы, в основе своей восходившие к временам и реформам Чжоу-гуна и ставившие своей целью создание такой политической структуры, в рамках которой принуждение и закон отступали бы на задний план перед этикой и традицией. И здесь важен был не только камуфляж, хотя форме в китайской конфуцианской традиции всегда придавалась исключительно большая роль. Важна была суть дела, содержание отношений: не произвол, деспотизм и насилие безликой машины административного аппарата, а этически детерминированные патерналистские связи, должны являть собой основу взаимоотношений между людьми и группами людей во все усложнявшейся социально-политической структуре, в государстве.
В принципе такой подход не столь уж утопичен и бесперспективен, как может показаться на первый взгляд. В истории Китая, в частности, именно он — через посредство конфуцианства— оказал столь ощутимое воздействие на формирование государства, что роль его трудно переоценить. Но в конкретных условиях чжоуского Китая, особенно периода феодальной раздробленности, на передний план довольно быстро вышли все его отрицательные стороны, вся его структурная слабость и рыхлость, что сыграло в конечном счете решающую роль в истории удела-царства Лу.
История эта со времен Чжоу-гуна вплоть до Хуэй-гуна (768—723 гг. до н. э.) мало известна и не слишком богата событиями (см. [296, гл. 33, с, 499—503; 274, гл. 1; 101, т. 4, с. 103—106]). Лy в тот период являл собой, насколько можно судить по имеющимся данным, единый и сплоченный вокруг правителя удел. И хотя подданные правителя не были генетически родственны ему (напомню, что большинство их было потомками иньцев), а в политической жизни случались и конфликты[85], вплоть до рубежа VIII—VII вв. до н. э., Лу представлял собой довольно наглядное и убедительное воплощение тезиса «государство — это большая семья». С VII в. в «семье» начались раздоры, количество и деструктивная сила которых стремительно нарастали.
В 722 г. к власти в Лу пришел Инь-гун, убитый на 11-м году правления в результате заговора, к которому был причастен занявший престол его младший брат Хуань-гун. Из сыновей Хуань-гуна старший стал правителем Лу (Чжуан-гун), а трое других получили уделы и оказались основателями влиятельных кланов. Правда, в противовес им Чжуан-гун дал удел клану Суй, после чего представители этого клана на протяжении ряда десятилетий практически управляли политикой дома Лу. Однако влияние трех коллатеральных линий, уделов-кланов из дома Хуаня— Мэн, Шу и Цзи — все возрастало. Сплоченность трех линий давала им неоценимые преимущества, так что попытка клана Суй расправиться с ними не увенчалась успехом: после решительного столкновения в 591 г. до н. э. клан Суй был разгромлен и уничтожен [313, т. 29, с. 977—978; 101, т. 4, с. 116— 117; 187, т. 5, с. 335], а три клана из дома Хуаня, наибольшим влиянием среди которых пользовался Цзи, прочно взяли в свои руки бразды правления. Власть правителя-гуна, со времен Чжуан-гуна все более заметно уменьшавшаяся, вскоре стала вовсе призрачной, а сам гун оказался марионеткой в руках влиятельных кланов.
Воспользовавшись тем, что на престоле оказался малолетний Сян-гун, их руководители в 562 г. решили разделить между собой власть в царстве: они создали три армии (привилегия, право на которую в то время имели лишь крупнейшие царства Чжоу), с тем чтобы каждый имел свою. Практически это означало, что гун должен был перейти на положение пенсионера, жившего на их подачки и исполнявшего лишь представительские и ритуальные функции [313, т. 30, с. 1273—1276; 187, т. 5, с. 452]. И хотя сын незадачливого Сян-гуна, Чжао-гун, пытался было предпринять ряд энергичных действий для возвращения реальной власти, успеха он не достиг [296, гл. 33, с. 507; 101, т. 4, с. 120— 125].
Деградация власти луского гуна — лишь первый, хотя и наиболее зримый и весомый результат феодальной раздробленности, пустившей столь пышные всходы на хорошо удобренной почве патриархально-клановых традиций. Влияние этой раздробленности было значительно большим, оно затронуло практически все уделы-кланы в Лу, в том числе и три главных, которые уже в VI в. до н. э. сотрясались от внутренних распрей и борьбы за власть [313, т. 31, е. 1730—1735, 1839—1844, 2075—2078; 187, т. 5, с. 709; 90, ч. 1, с. 234—235]. Это и неудивительно. Уделы-кланы в Лу в VI в. до н. э. были уже крупными иерархически разветвленными структурами, причем высший слой клановой знати, принимавший участие в управлении делами своих кланов и всего царства в той мере, в какой каждый из кланов был причастен к администрации царства, спорадически оказывался вовлеченным в различные интриги, как, например, интриги рвавшегося к власти в клане Цзи некоего Ян Ху [313, т. 32, с. 2229—2230, 2249—2250; 187, т. 5, с: 760, 773; 90, ч. 1, с. 235].
Дальнейшая судьба Лу была незавидной: деградировавшая власть правителя, постоянные усобицы влиятельных кланов, раздоры в них самих — все это привело к постепенному снижению влияния и значения Лу, бывшего в схватках соперничавших царств V—III вв. лишь мелким аутсайдером, чью призрачную независимость лишь терпели более сильные соседи (терпели, видимо, главным образом из уважения к памяти Чжоу- гуна).
Казалось бы, история Лу весьма назидательна в плане выявления несостоятельности луской модели эволюции: построенное на культе этики и традиции, на примате патриархально-клановых связей государство подрывается изнутри силой центробежных тенденций и неумолимо следует к упадку и крушению. Неизбежно вскрываются и обнажаются резкие противоречия между эталоном и реальностью, между идеальными нормами и практической волчьей моралью рвущихся по трупам к власти. И с точки зрения становления институтов государственности луская модель скорее может быть сочтена негативным образцом. Однако все не так просто.
Деструктивные тенденции в Лу возобладали, что решающим образом сказалось на судьбе его правителей и всего царства. Ставка на взаимопроникновение и сращивание феодально-клановых близкородственных отношений и административно-политических функций, бывшая основой тезиса «государство — это большая семья», оказалась несостоятельной. И в этом смысле вывод Б. Блэкли о незначительности функциональной разницы между родственными и неродственными кланами едва ли может быть воспринят безоговорочно; опора на близкую родню всегда была более всего чревата осложнениями и вела к деструктивным процессам, к упадку власти центра. Однако смысл луской модели не сводится только к этому.
Этически детерминированная традиция, пронизывавшая феодально-клановые родственные связи и усиливавшая роль патернализма в системе все усложнявшихся социальных взаимоотношений, вела —невзирая на практические несоответствия и даже противоречия строго постулировавшейся доктрине — к упрочению в умах определенной системы ценностей, определенного стереотипа сознания, в середине I тысячелетия до н. э. нашедшего себе именно в Лу блистательное воплощение в учении Конфуция. Пусть практика противоречит теории, тем хуже для нее. Такой была в известном смысле позиция Конфуция, когда он энергично принялся за разоблачение пороков и воспевание добродетелей, в том числе и на примере истории Лу (хроника «Чуньцю» с ее дидактикой). И это как раз тот случай, когда овладевшая умами идея становится серьезнейшей материальной силой.
Конфуций выступил с развернутым тезисом «государство — это большая семья», обосновал и развил его суть в своем учении и тем придал огромное общественно-нравственное значение нормам и принципам, которые, будучи сформулированы в их самом общем виде еще Чжоу-гуном, делали особый упор на примат семейно-клановых родственных связей, на обязательства младших перед старшими и вообще на патерналистскую модель социальных и социально-политических взаимоотношений. И хотя в разгар феодальных усобиц, в период упадка нравов и ожесточения безнравственности проповедь Конфуция могла казаться безнадежным анахронизмом, она, как это ни парадоксально, оказала свое воздействие и со временем в определенном смысле стала ведущим, определяющим учением. И если принять во внимание, что Конфуций не только «оживил» лускую модель, но и придал ей значение всеобщей нормы, ее нельзя считать негативным образцом. Правильнее назвать ее — при всех свойственных ей структурных несовершенствах и практических неудачах — одним из важнейших, если даже не важнейшим источником и элементом процесса сложения основ древнекитайского государства и затем всей многовековой китайской империи.
Луская модель эволюции — наиболее яркий и концентрированный вариант определенного пути. Другие чжоуские царства демонстрировали свою приверженность примерно к такой же модели и тому же пути — в той или иной степени (формальный функциональный анализ Блэкли позволяет поставить рядом с Лу в этом смысле Сун, Чжэн и даже Чу [90, ч. 3, с. 107], хотя по отношению к Чу его вывод вызывает серьезные сомнения). Если дать всей упомянутой группе царств качественную характеристику, то она, видимо, должна свестись к тому, что развитие по луской модели было путем, в наибольшей степени соответствовавшим нормам традиции, консервативным стандартам старины, впоследствии столь обычно и естественно отождествлявшимся с конфуцианством. Другим путем, качественно наиболее отчетливо противостоявшим первому, был путь реформ, подчас радикальных. Он в терминах политической мысли обычно отождествляется с легизмом и действительно имеет отношение к нему, хотя далеко не прямолинейное. Но только к легизму он все же не сводится. Путь этот в VII—VI вв. до н. э. был наиболее последовательно воплощен в конкретной истории двух важнейших царств чжоуского Китая — Ци и Цзинь.
Модель эволюции царств Ци и Цзинь
Удел Ци, ближайший сосед Лу на крайнем востоке чжоуского Китая, был пожалован, как упоминалось, Тай-гуну, самой яркой после Чжоу-гуна личности среди деятелей раннего Чжоу: о его деяниях и заслугах подробно рассказано в «Ши цзи» [296, тл. 32, с. 485—487; 101, т. 4, с. 34—40]. В отличие от Лу и других уделов Ци развивалось наиболее быстро и успешно, причем этому способствовали два важных фактора — благоприятные условия среды и умелая администрация Тай-гуна[86]. В «Ши цзи» сказано, что Тай-гун, прибыв в свой удел, усмирил местных лай и успешно наладил систему управления: сообразуясь с нравами населения, он упростил обычаи, улучшил условия деятельности ремесленников и торговцев, содействовал развитию добычи рыбы и соли, торговому обмену с другими уделами. В результате все умельцы стали тянуться к нему и стекаться в Ци, вследствие чего удел начал интенсивно развиваться [296, гл. 32, с. 486—487; 101, т. 4, с. 39—40].
Легенда, зафиксированная в «Ши цзи», гласит, что как-то, интересуясь успехами своего сына Бо Циня по управлению его уделом, Чжоу-гун узнал, что Бо Цинь «изменил нравы жителей своего удела, обновил их обычаи». Обратившись с аналогичным вопросом к Тай-гуну, Чжоу-гун услышал, что тот «упростил обычаи и позволил населению сообразовываться с его нравами». Сравнив оба ответа, Чжоу-гун призвал сына учиться административной мудрости у его соседа [296, гл. 33, с. 502; 101, т. 4, с. 101]». Конечно, ситуация в Лу и Ци была различной: в Лу традиции чжоусцев и иньцев были преобладающими, чего нельзя сказать о Ци, и это не могло не обусловить различный подход к методам управления. Однако в принципе административная деятельность Тай-гуна, судя по всему, была много более гибкой и прагматичной, что в конкретных условиях отдаленного удела с гетерогенным и достаточно отсталым в массе населением могло дать эффект — наряду с умелым использованием выгод географического положения приморского района.
Как бы то ни было, Ци развивалось быстрее других, в том числе и Лу. Значит ли это, что оно развивалось как-то иначе? Конечно, Тай-гун при всех его заслугах не был фигурой, равной Чжоу-гуну, вследствие чего культ основателя удела был здесь мало заметен. Впрочем, так было и во всех других (кроме Лу) уделах. В то же время сила клановых традиций и в Ци была весьма ощутима, а процесс феодализации социально-политической структуры там протекал примерно так же, как и везде, включая и Лу. Соответственно нельзя сказать, что концепция «государство — это большая семья» была вовсе чуждой цисцам, где клан дома Тай-гуна долгие века был единственной силой, сплачивавшей вокруг себя все население удела. Значит, в структурном плане в Ци действовали примерно те же закономерности, что и в Лу и других уделах. Однако при всем том разница все-таки была. Действие всех факторов и закономерностей, о которых идет речь, было в Ци много более слабым, нежели в Лу, где они намертво цементировались культом Чжоу-гуна и выкристаллизовывались в виде теоретических постулатов. Кроме того, ускоренное экономическое развитие Ци создавало объективные предпосылки для более быстрой эволюции некоторых слоев населения, не связанных непосредственно с аристократией правящего клана, в частности занятых в сфере редистрибуции чиновников («торговцев» — по лексике Сыма Цяня), не говоря уже о большей склонности структуры Ци в целом к реформам.
История Ци, как и Лу, до рубежа VIII—VII вв. до н. э. не изобиловала событиями, зато затем драматический накал их стал быстро нарастать. В 697 г. до н. э. на престол вступил Сян-гун — весьма мрачная фигура даже на общем фоне уже довольно быстро катившейся к упадку моральной нормы, принятой среди высшего слоя клановой знати. Он вступил в кровосмесительную связь с собственной сестрой, супругой луского Хуань- гуна, убитого по его приказу во время визита луского правителя с его женой в Ци. Об этой связи и о сопутствовавших ей кровавых событиях много и с негодованием говорится в «Цзо чжуань» (18 г. Хуань-гуна, 4, 5 и 7 гг. Чжуан-гуна). Падением авторитета Сян-гуна попытался было воспользоваться его кузен У Чжи, бывший любимцем отца Сян-гуна, Си-гуна, и потому пользовавшийся немалым престижем в Ци. У Чжи, по свидетельству «Цзо чжуань» (8 г. Чжуан-гуна), убил Сян-гуна, но занять престол не сумел: в возникшей усобице он вскоре погиб [313, т. 29, с. 345; 296, гл. 32, с. 488; 101, т. 4, с. 46]. Следствием переворота было обострение борьбы за власть, в которой наиболее активное участие приняли двое младших братьев Сян-гуна, бежавших в свое время от его крутого нрава и живших в эмиграции неподалеку от Ци, в Лу и в Цзюй. В борьбе братьев за престол важную роль сыграли их советники Бао Шу-я и Гуань Чжун.
Их имена тесно связаны в китайской историографической традиции. Более того, они окружены легендами, и разобраться в истинных реалиях обстоятельств их жизненного пути весьма нелегко. Начать с того, что оба они не принадлежали, судя по всему, к каким-либо знатным кланам Ци. Однако этого далеко не достаточно для вывода, что они были выходцами из низов. Дело в том, что оба они, согласно версии Сыма Цяня, были торговцами, во всяком случае в молодости [296, гл. 62, с. 735]. И хотя многое в биографии Гуань Чжуна выглядит анахронизмом, ибо в VII в. до н. э. торговцы еще явно не были частными предпринимателями (Сыма Цянь говорит о бедности Гуань Чжуна и о том, что именно поэтому он брал себе большую часть прибыли, оставляя меньшую Бао Шу-я, который все понимал и не сердился [68, с. 51—52]), несомненно, что оба друга были не столько странствовавшими купцами, сколько чиновниками царства Ци (разумеется, одно никак не исключало другое). Торговля в Ци в VII в. до н. э. была уже весьма развитым, важным и, быть может, даже высоко престижным занятием, которым призваны были, скорее всего, заниматься члены наследственной корпорации торговцев, считавшиеся служащими правителя, чиновниками администрации царства. Более того, бывая по делам службы вне Ци, такого рода торговцы (те самые, что жили в 3 дистриктах-сянах столичной зоны) должны были быть не только и не столько умелыми практиками обмена, сколько вообще. хорошо информированными и знающими, служащими, которые именно в силу этого немаловажного обстоятельства могли, особенно если они обладали природным умом и талантом, оказаться в роли советников правителя или владетельного аристократа, в том числе и едва ли не в первую очередь бежавшего на чужбину и лишенного потому широкого выбора приближенных.
Надо полагать, что все эти обстоятельства сыграли свою роль в том, что Гуань Чжун и Бао Шу-я оказались в роли близких советников соперничавших в борьбе за циский престол братьев Сян-гуна. Неясно, что развело друзей молодости, приведя их в соперничающие станы. Опыт же обоих, информированность и талант сыграли, (во всяком случае должны были сыграть) свою роль в том, что оба они выдвинулись в первые ряды помощников своих патронов.
Удача в борьбе сопутствовала младшему из братьев: после ряда драматических перипетий он утвердился на престоле отца под именем Хуань-гуна. Но когда встал вопрос о первом советнике-министре, ближайший помощник нового правителя Бао Шу-я, отказавшись от этой должности, стал настоятельна просить о назначении на нее Гуань Чжуна, обладавшего, по его словам, исключительными талантами, включая умение общаться с людьми, соблюдать нормы поведения, управлять, делая упор на главное и т. п. [274, гл. 6, с. 77]. Долго колебавшийся Хуань-гун, который не забыл, как Гуань Чжун в бою едва не убил его, в конце концов согласился и, хитростью выманив Гуань Чжуна из луского плена (под предлогом, что сам предаст его заслуженной казни), назначил его своим советником [313, т. 27, с. 346—352; 274, гл. 6, с. 77; 101, т. 4, с, 46—49].
О Гуань Чжуне и его реформах существует богатая литература, особенно в связи с тем, что его именем назван трактат «Гуань-цзы», детально излагающий множество принципиальных нововведений, идею которых традиция приписывает именно ему [77][87]. Трудно определить, однако, к чему сводилась в конечном счете суть его реформ [21а, с. 18]. Сыма Цянь ограничивается лаконичным указанием, что было укреплено государство, создана крепкая армия, достигнуто соблюдение законов, улучшено состояние хозяйства, что все были сыты и довольны, что соблюдались нормы этики [296, гл. 62, с. 735]. Согласимся, что все это достаточно впечатляет. Но что характерно: коль скоро речь, заходит о конкретизации реформ, например о сложной административно-территориальной схеме с иерархическим соподчинением мелких административных ячеек (начиная с пятков семей) более крупным и т. п., ситуация существенно осложняется. Совершенно очевидно, что изложенные, скажем, в «Го юй» [274, гл. 6, с. 78—82] схемы не только нереальны, но и выглядят явным анахронизмом применительно к началу VII в. до н. э., когда характер патриархально-клановых связей и структура деревенской общины были совершенно иными, явно не готовыми к столь серьезной структурной ломке.
Разумеется, Гуань Чжун немало сделал для укрепления централизованной власти Хуань-гуна, ставшего первым гегемоном и главой правителей царств и княжеств чжоуского Китая. Его советы помогали достичь успехов в войнах и дипломатической борьбе, в укреплении Ци и т. п. Но конкретно о них известно мало, а то, что известно, вызывает оправданные сомнения. Ясно одно: Гуань Чжун выдвинул новый принцип территориально-административного членения, что служило делу укрепления централизованной власти и было, видимо, одной из основ роста могущества циского Хуань-гуна.
После смерти Гуань Чжуна, а затем и Хуань-гуна в Ци началась ожесточенная борьба за власть, в ходе которой большое влияние получили могущественные кланы, включая и неродственные правителям. К числу последних относились кланы Гуань-Чжуна и Бао Шу-я, а также клан Тянь, ведший происхождение от некогда бежавшего в Ци родственника правящего дома княжества Чэнь, которого Хуань-гун сделал руководителем корпораций ремесленников в Ци [296, гл. 32, с. 489; 101, т. 4, с. 51], что весьма способствовало укреплению и возвышению клана Тянь. В поисках популярности и влияния этот клан широко практиковал щедрые раздачи[88], чем снискал себе поддержку населения в борьбе за власть. Как известно, именно клан Тянь (Чэиь) в конце VI в. до н. э. был уже практическим вершителем дел в Ци, а в 379 г. до н. э. его представители и формально заняли престол [296, гл. 32, с. 496—498; 101, т. 4, с. 74—87].
Циская модель эволюции демонстрирует, таким образом, ряд важных особенностей и принципиальных отличий от луской. Во-первых, несомненная склонность к реформам, к радикальной ломке структуры, базировавшейся вначале на тех же принципах патриархального клана, перераставшего в систему феодальной иерархии и раздробленности, что и в Лу. Во-вторых, явно подчеркнутая ставка на аутсайдеров, на незнатные неродственные кланы, основанные приближенными к правителю сановниками,— такие кланы, в частности Тянь, в конечном счете вытеснили не только коллатеральные линии, но и клан самого правителя. Наконец, в-третьих, энергичные темпы развития, во многом связанные с неземледельческими видами хозяйства, что было как причиной, так и следствием остальных особенностей этой модели.
Все указанные особенности восходят прежде всего к личности и деятельности Гуань Чжуна, который в известной степени был их олицетворением и воплощением. Конфуций, отнюдь не бывший единомышленником Гуань Чжуна и не очень-то ему симпатизировавший[89], заметил как-то («Луньюй», гл. 14, § 17): «Гуань Чжун, будучи министром Хуань-гуна, помог ему стать гегемоном и навести порядок в Поднебесной. Люди и поныне пользуются тем, что он сделал. Если бы не Гуань Чжун, мы и сейчас ходили бы с растрепанными волосами и запахивали халаты на левую сторону» [287, с. 314; 31, т. 1, с. 165]. Несмотря на полемические преувеличения (запахивать халат на левую сторону — обычай варваров, каковыми чжоусцы все-таки не были), эта оценка в целом справедлива. Будучи предтечей легизма, его первым провозвестником, Гуань Чжун заложил основы администрации легистского типа, сущность которой сводилась к укреплению центральной власти за счет ослабления феодально-децентрализаторских тенденций, основанных на патриархально-клановых связях. Быть может, цискую модель не следует считать легистской в полном смысле этого слова (роль закона в развитии Ци была явно невелика), однако она заложила основы для последующих успехов легизма в чжоуском Китае.
Близкой к цискому пути была и модель развития царства Цзинь, расположенного на западных окраинах Чжоу и не имевшего ни заметного иньского компонента, ни благоприятных условий для экономического роста. Правда, удел был одним из крупнейших по размерам, что, возможно, сыграло свою роль в ускорении процесса феодализации внутренней структуры. Во всяком случае именно в Цзинь в 745т. до н. э. впервые в истории чжоуских уделов, насколько можно судить по данным источников, был создан крупный субудел. Вскоре после перенесения столицы чжоуского вана на восток цзиньский Чжао-хоу самостоятельно и от своего имени (не от имени вана!) пожаловал своему дяде Чэн-ши важный укрепленный центр Цюйво. Чэн-ши быстро укрепился в Цюйво, превратил его в свою вотчину и повел активную борьбу за престол Цзинь. На протяжении ряда десятилетий его потомки продолжали эту борьбу с переменным успехом, пока, наконец, в 679 г. до н. э. цюйвоский У-гун не довел ее до конца, став правителем Цзинь [296, гл. 39, с. 541; 101, т. 4, с. 253—256; 256, с. 17—20].
Не впервые в чжоуских уделах братья и дядья поднимали внутренние мятежи в борьбе за престол — так случалось и прежде, до VIII в. до н. э. Но то была борьба внутри правящего клана. Теперь в Цзинь был создан новый удел-клан в пределах удела-царства, и именно этот близкородственный удел-клан оказался причиной крушения правящего дома. Урок был поучительным. Неудивительно, что пришедший к власти после смерти У-гуна его сын Сянь-гун прежде всего предпринял ряд решительных мер против своих ближайших родственников из клана Чэн-ши, уничтожив большую часть их и изгнав остальных. В противовес близкой родне Сянь-гун приблизил к себе сановников из числа неродственных ему групп и, награждая их за верную службу уделами[90], пытался тем самым укрепить власть центра. Но на этом он не остановился.
В источниках подробно повествуется, как престарелый правитель стал жертвой коварной наложницы, которая с помощью хитрых интриг оклеветала его старших сыновей и заставила Сянь-гуна провозгласить наследником ее сына (см. [274, гл. 8, с. 92—112]). Не останавливаясь подробно на деталях повествования, стоит отметить, что едва ли Сянь-гун был жертвой интриги. Многое говорит за то, что он был активным ее участником, хотя и стоял в стороне. Ведь он хорошо понимал, как важно освободить наследника от давления со стороны его братьев, каждому из которых Сянь-гун вынужден был датъ собственный удел. Дело кончилось тем, что старшие сыновья были один за другим изгнаны (первый из них покончил с собой), но и младший не сумел удержать власть, после смерти Сянь-гуна, так что вскоре правителем в Цзинь стал проведший многие годы на чужбине еще один сын Сянь-гуна — Чжун Эр, принявший имя Вэнь- гуна [25].
Вэнь-гун правил недолго (636—628 гг. до н. э.), но сделал немало. О добродетелях и мудрости его в «Го юй» повествуется чуть ли не взахлеб [274, гл. 10, с. 121—139]. Этот действительно незаурядный правитель сумел успешно продолжить политику Сянь-гуна, направленную на укрепление власти центра. В, результате, его деятельности в Цзинь были проведены реформы, направленные на упорядочение администрации, налогообложения. Были выдвинуты те из помощников и сотрудников, чьи таланты и заслуги были несомненны. Опираясь на их поддержку, Вэнь-гун щедро жаловал им уделы, так что они стали родоначальниками, по меньшей мере 11 новых неродственных правителю кланов. Наконец, Вэнь-гун проводил активную внешнюю политику и, одержав во главе коалиции ряда царств верх над Чу в 632 г. до н. э., настолько упрочил свой авторитет, что стал гегемоном-ба, вторым после циского Хуань-гуна [274, с. 121— 139; 101, т. 4, с. 282—308; 256, с. 70—98].
После смерти Вэнь-гуна его преемники существовали в основном за счет его наследства. Зато все большую силу в царстве набирали влиятельные кланы, сменявшие друг друга у руля правления. К концу VI в. до н. э. из них выделилось шесть наиболее крупных, ведших в течение ряда десятилетий жестокую междоусобную борьбу, в ходе которой особую силу приобрели три — Хань, Чжао и Вэй. Именно они поделили в 403 г. до н. э. между собой царство Цзинь, причем каждое из трех новых государств было весьма влиятельным и крепким и приняло активное участие в борьбе семи царств чжоуского Китая в V—III вв. до н. э.
Цзиньская модель во многом напоминает цискую: та же ставка на аутсайдеров, та же склонность к реформам, направленным против центробежных тенденций. И хотя ни то, ни другое не было панацеей и не могло радикально приостановить или хотя бы резко затормозить процесс удельной раздробленности и нарастания усобиц (неродственные кланы в Ци и Цзинь столь же эффективно ослабляли власть центра, как и родственные в Лу, так что в этом смысле выводы Б. Блэкли заслуживают внимания), все-таки они в конечном счете сыграли свою роль. Модель развития в Ци и Цзинь была динамичнее и эластичнее, она более всего способствовала ослаблению патриархально-клановых связей и наиболее энергично вела к трансформации социально-политической структуры. Существенно отметить, что оба варианта модели имели свои особенности. Так, циский — при всей значимости реформ Гуань Чжуна — в последующем преодолевал центробежные тенденции медленнее и в основном за счет экономического развития с опережающим ростом неземледельческих сфер хозяйства. Цзиньский шел по тому же пути более быстрыми темпами, преимущественно за счет изменений в характере внутренних административно-политических связей.
В целом же циско-цзиньская модель, опиравшаяся на реформы легистского типа, в середине I тысячелетия до н. э. в конкретных условиях чжоуского Китая была наиболее удачным вариантом решения сложных проблем. Именно она обеспечивала успех столь желанного для центральной власти процесса последовательного укрепления эффективной администрации. Неудивительно, что развитие по этой модели стало генеральным путем, по которому с охотой следовали все те царства, чьи правители были намерены сосредоточить в своих руках реальную власть и добиться наибольшего политического успеха. Выразителем идей и архитектором институтов, обеспечивавших успех такого развития, оказался легизм. Именно легисты стали один за другим выступать в качестве министров-реформаторов, предлагавших свои услуги правителям царств, включая такие, как Цинь и Чу.
Более того, именно в Цинь достигло своего наивысшего развития теоретическое осмысление пути легистских реформ. Опираясь на принципы и методы, апробированные в определенной степени еще патриархом легизма Гуань Чжуном, наиболее известный и добившийся самых значительных результатов в ходе проводившихся им реформ легист Шан Ян (IV в. до н. э.) сформулировал в своем трактате классический афоризм «Сильное государство — слабый народ». Смысл этой установки четко сводился к тому, что только ослабление народа (т. е. всех тех, кто противостоит политической администрации, начиная с удельной знати и кончая уже поднимавшими в то время голову нарождавшимися частными собственниками, включая, естественно, и общинное крестьянство, чьи традиционные социально-семейные связи также надлежало подорвать) может дать надежную гарантию прочности власти.
Словом, все шло к тому, что циско-цзиньская модель, особенно в ее более позднем циньско-шаньяновском варианте должна была стать генеральным путем сложения и упрочения древнекитайского государства. И до поры до времени так оно и было. Но прежде чем мы обратимся к описанию процесса трансформации чжоуского Китая в этом направлении, необходимо сделать одну существенную оговорку.
Речь о том, что обе модели развития древнекитайской государственности — луско-конфуцианская и циско-цзиньско-легистская, опиравшиеся на весьма различные исходные постулаты и ставившие перед собой разные цели, были кое в чем близки друг другу, может быть, даже более близки, нежели то кажется на первый взгляд. Прежде всего, луская модель не была чужда реформам в той же степени, в какой циско-цзиньская учитывала значимость тезиса «государство — большая семья». Конфуций, как хорошо известно, так же энергично выступал за высший авторитет правителя, как и легисты [18, с. 178]. Другими словами, лейтмотивом обеих моделей было стремление к укреплению политической централизации, что и сыграло свою роль в последующем развитии событии.
Социально-экономические изменения в Чуньцю
Процесс феодализации, кульминация которого приходится примерно, на. VII в. до н. э., протекал в царствах чжоуского Китая не только в условиях заметного ослабления власти центра и ожесточенных внутренних усобиц, но также и на фоне достаточно энергичного развития социально-экономических отношений во всех, «срединных государствах». В то время как амбициозные политические лидеры и честолюбивые аристократы изощрялись в интригах, вели искусную дипломатию, уничтожали друг друга в войнах (нередко больше напоминавших рыцарские поединки, нежели массовые сражения, хотя не обходилось и без них), чжоуский Китай не только энергично развивался, но и переживал период серьезных структурных изменений. Последние, во многом вызванные к жизни именно: ситуацией удельной раздробленности, включая постоянные войны и необходимость все более активной мобилизации средств как для них, так и для престижного потребления знати, сводились прежде всего к стремлению возложить все утяжелявшееся бремя возраставших расходов на плечи производителей, главным образом крестьян-общинников. Именно этим была вызвана серия реформ, прокатившаяся в VII и особенно VI вв. до н. э. по всем развитым царствам. Реформы, о которых идет речь, достаточно хорошо известны и описаны в специальной литературе, что позволяет коснуться их лишь вкратце.
Начало серии реформ было положено, как упоминалось, Гуань Чжуном. Уже говорилось, что информация о его реформах во многом имеет характер утопическо-дидактических спекуляций, не лишенных смысла и интереса, но явно не относящихся по возможности их практической реализации к VII в, до н. э. [21а, с. 16—20]. Все это заставляет относиться к сообщаемым в «Го юй» или «Гуань-цзы» данным о реформах Гуань Чжуна со сдержанностью, хотя в них, возможно, содержится зерно истицы.
Согласно упомянутым текстам, Гуань Чжун провел ряд реформ, направленных на изменение принципов налогообложения: «Если взимать налоги в соответствии с характером земель, люди не будут перемещаться» [274, гл. 6, с. 82]. Употребленный здесь знак чжэн («налог»), применительно к началу VII в. до н. э. встречается впервые. Однако несколькими десятилетиями позже, он в том же смысле упомянут в «Цзо чжуань» (15 г. Си-гуна), в тексте, имеющем отношение к царству Цзинь, а еще позже, в 616 г. до н. э. (11 г. Вэнь-гуна),— в отрывке, повествующем о том, как некий Эр Бань в Сун кормился за счет налогов-чжэн [313, т. 28, с. 559, 779]. Но если в VII в. до н. э. термин «чжэн» использовался в разных царствах чжоуского Китая в значении «налог», то и сообщение о применении его в том же смысле в ходе реформ Гуань Чжуна в принципе вполне может заслуживать доверия. Позже, в VI в. до н. э., этот термин, как явствует из «Цзо чжуань» (20 г. Чжао-гуна), стал использоваться в более широком смысле — для обозначения и понятия «военный налог» (откуп от повинности) — в Лу,— и пошлины [313, т. 31, с. 1995; 17, с. 67—68].
Начатые Гуань Чжуном преобразования были продолжены спустя полвека в Цзинь, где ряд важных реформ провели Вэнь-гун и после его смерти — захвативший реальную власть в царстве Чжао Дунь, глава удела-клана Чжао. Вэнь-гун, согласно данным «Го юй», упорядочил администрацию в царстве, урегулировал налогообложение, облегчил долю неимущих, поддерживал способных и т. п. [274, гл. 10, с. 136—137; 165, с. 94—95]. Чжао Дунь, по сообщению «Цзо чжуань» (6 г. Вэнь-гуна), тоже упорядочил администрацию, систему правовых норм и провел ряд других преобразований, включая меры по поимке беглых [313, т. 28, с. 742]. Эстафета реформ в Цзинь не прерывалась и в VI в. В 573 г. до н. э. (18 г. Чэн-гуна) Дао-гун предпринял ряд мер для облегчения налогов, улучшения жизни вдов и сирот и вообще нуждающихся, упорядочил практику использования чиновников, назначения их на должности [313, т. 29, с. 1141 — 1143].
Серия реформ аналогичного характера была проведена в VI в. до н. э. в Лу. В 594 г. (15 г. Си-гуна) там была введена практика обложения налогом домохозяйств в зависимости от количества используемой ими земли [313, т. 29, с. 969], причем это новшество было расценено в «Цзо чжуань» как не соответствующее принятым нормам. Почти сразу же вслед за тем, в 590 г. до н. э. (1 г. Чэн-гуна), в Лу был введен военный налог цю [313, т. 29, с. 991], а в 562 и 537 гг. до н. э.— налог-чжэн, о котором уже упоминалось. Очевидно, что V.I век до н. э. был для Лу периодом активной мобилизации средств для ведения тех ожесточенных внешних и внутренних межклановых войн, которые требовали немалых усилий и средств.
Реформы, сущность которых сводилась к упорядочению налогообложения и администрации, проводились и в Чу, о чем сказано в «Цзо чжуань» под 597 и 548 гг. до н. э. (12 г. Сюань-гуна 25 г. Сян-гуна) [313, т. 29, с. 920—921, т. 30, с. 1458—1461], причем во втором случае были составлены описи земель и определены налоги на них. В царстве Чжэн в середине VI в. до н. э. реформатор Цзы Чань, согласно сообщению того же источника (30 г. Сян-гуна, 4 г. Чжао-гуна), провел серию реформ, связанных опять-таки с учетом земель и созданием новой системы налогообложения, а также с упорядочением администрации, внедрением системы пятидворок в крестьянских поселениях и т. п [313, т. 30, с. 1602, т. 31, с. 1704].
Если попытаться подытожить сущность и направленность всех этих реформ, выявится достаточно любопытная картина. Во-первых, все они так или иначе были связаны с изменением или усовершенствованием системы редистрибуции. Увеличение населения, резкий рост потребностей во все большем количестве избыточного продукта для нужд государственного аппарата, включая в первую очередь военные потребности, диктовали необходимость упорядочения норм поступлений. Старые патриархальные формы, базировавшиеся на принципе разовой мобилизаций в случае острой нужды, когда все, поднатужившись, вносили свой вклад в общее дело, были уже явно недостаточны и потому неудовлетворительны. Требовалось четкое определение: кто, когда, сколько, кому и за что должен вносить, будь то крестьянин или аристократ, обязанный воинской службой (подробнее см. [173]).
Во-вторых, реформы были связаны с упорядочением администрации, причем его суть сводилась не столько к выдвижению способных, хотя это и существенно, сколько вообще к усилению роли чиновников в административной системе. Следует также добавить, что в ходе реформ — чем дальше, тем больше —делался явственный акцент на необходимость соблюдения фиксированной нормы, постановлений, текущих указов и законов, причем с целью придания авторитета вновь вводимым нормам в ряде царств были созданы и сводные письменные кодексы, зафиксированные на металлических сосудах, к сожалению, до нас не дошедших. Такие своды были созданы в 535 г. (6 г. Чжао-гуна) в Чжэн и в 513 г. до н. э. (29 г. Чжао-гуна) в Цзинь [313, т. 31, с. 1744, т. 32, с. 2154].
В-третьих, обращает на себя особое внимание заинтересованность реформаторов в упорядочении системы аграрных отношений (описи земель, забота об укреплении внутренней структуры крестьянской общины-деревни и — едва ли не главное — беспокойство по поводу усиления практики бегства, ухода со своих земель крестьян).
Само по себе разрастание крестьянской деревни-общины с последующим отпочкованием дочерних групп и расселением их на новых землях — явление естественное и практиковавшееся издревле. В нем не могло быть ничего нового. Более того, подобное естественное явление, если оно протекало в нормальном ритме, не должно было беспокоить администраторов. Рефреном же проходящие в источниках упоминания о том, какие меры необходимо предпринять, дабы крестьяне не перемещались, встречающиеся уже при описании реформ Гуань Чжуна [274, гл. 6, с. 82], свидетельствуют о том, что норма как-то нарушалась.
Очевидно, речь может идти о том, что на новых землях — вначале, может быть, достаточно далеких от уже освоенных и потому вроде бы «ничейных» — налоги были слабее, если не отсутствовали вовсе, а повинности сводились к минимуму (известно, что в практике более поздних периодов китайской истории осваивавшие новые земли по крайней мере первое время получали значительные налоговые льготы, а то и вовсе освобождались от повинностей). Уход же какой-то части населения с уже давно освоенных мест означал пусть небольшое, но уменьшение податного населения и, следовательно, уменьшение избыточного продукта, попадавшего в сферу редистрибуции, А это больно ударяло по казне, по интересам правителей и нуждам администрации. В том, что так оно и было, позволяют убедиться некоторые из сравнительно поздних песен «Ши цзин» (примерно VI в. до н. э.):
Ты, большая мышь, жадна, Моего не ешь пшена, Мы трудились — ты хоть раз Бросить взгляд могла б на нас. Кинем мы твои поля — Есть счастливая земля, Да, счастливая земля, Да, счастливая земля! В той земле, в краю чужом, Мы найдем свой новый дом [76, с. 137].В этой песне («Шу шу» — № 113) в аллегорической форме высказан тот социальный протест, который, видимо, зарождался под влиянием роста нормы извлечения избыточного продукта и усиления отчуждения производителей от управителей. Дистанция между теми и другими все увеличивалась, чем наносился непоправимый удар по патриархально-клановым традициям. Тем же духом проникнута и песня «Фа тань» (№ .112):
Вы ж, сударь, в посев не трудили руки И в жатву не знали труда — Откуда ж зерно с трехсот полей В амбарах ваших тогда?. Мы вас благородным могли б считать, Но долго ли будете вы поедать Хлеб, собранный без труда? [76, с. 135]Социально обличительные мотивы приведенных песен достаточно убедительно свидетельствуют о тенденции к усилению поборов с крестьян в VI в. до н. э. Такая тенденция легко объяснима: для ведения активной политики н постоянных войн нужны были средства, которые можно было получить за счет утягощения повинностей с крестьян. Крестьянам это, естественно, не нравилось, и они при первом удобном случае уходили с насиженных мест. Отсюда и проблема закрепления крестьян, столь хорошо знакомая всем феодальным структурам. Однако в условиях Чуньцю она решалась иначе, чем в других аналогичных ситуациях. Хотя все реформаторы стремились создать условия, при которых нежелательное перемещение крестьян было бы если не приостановлено вовсе, то по крайней мере взято под контроль, одновременно были приняты меры, сводившиеся к тому, чтобы взять на учет все вновь создаваемые поселения и вообще постепенно перейти в системе учета и редистрибуции от патриархально-клановых норм старины к новым. Все старые нормы с характерными для них отработками на общем поле, чрезвычайными мобилизациями для исполнения важных проектов, спорадическими повинностями и десятиной-чэ, функционально близкой к взиманию дани, использовались при взаимоотношениях администрации с недифференцированным и подчас даже несосчитанным коллективом, с общинами. Отсюда значительная неопределенность, неточность и нечеткость в учете. Не случайно еще чжоуский Сюань-ван в IX в., когда владения его и соответственно доходы сильно сократились за счет автономизации периферийных уделов и уменьшения притока продуктов извне, настаивал на том, чтобы провести перепись населения. Объективная потребность в усовершенствовании учета и контроля за продуктом и трудом производителя становилась все более острой и необходимой по мере усиления процесса распада патриархальной общины.
Специальное изучение процесса развития аграрных отношений и эволюции общины в чжоуском Китае показало, что этот процесс шел в направлении индивидуализации форм землепользования и постепенного превращения поселения-общины — по меньшей мере с VII—VI вв. до н. э.— в основную административно-фискальную единицу (ли, и, шэ, шушэ), исчислявщуюся по количеству дворов-домохозяйств [14, гл. 4]. В ходе такой трансформации в недрах до того нерасчленённой общины выделились индивидуальные хозяйства малых семей (т. е. малая семья как хозяйственно автономная ячейка приходила на смену семейно-клановой группе, столь характерной для ранних общин), причем каждое из них было ответственно за выплату той доли налога, которая соответствовала обрабатываемому наделу. Именно в этом смысле понимают и трактуют исследователи смысл упомянутых выше фискальных реформ: налог должен взиматься с семей-хозяйств в соответствия с количеством и качеством земли.
Таким образом, если в других ранних феодальных структурpax проблема закрепления крестьянства решалась законодательным либо фактическим прикреплением их к землям того или иного землевладельца, то в чжоуском Китае традиционный путь был иным и сводился к введению санкционированных центром норм налогообложения и превращению именно налога в главную форму редистрибуционной системы. Последствия такого курса были весьма далеко идущими: выдвижение на передний план определенной суммы поступлений, нормы налога превращало извлечение избыточного продукта в общественно-централизованную функцию и изымало это дело из компетенции владетельного аристократа, что постепенно вело к трансформации всей структуры. Показательно, что в VI в. до н. э., если судить по дошедшим до нас свидетельствам в текстах и надписях, уже не было или почти не было пожалований уделов типа княжеств, местностей, недифференцированных территорий (удел Чжао, удел Го и т. п.). Для того времени характерны были уже иные принципы пожалования.
В 546 г. один из родственников и сановников вэйского правителя, Мянь Юй, оказал ему важную услугу, устранив всесильного временщика. В награду правитель пожаловал ему 60 поселений. Далее в «Цзо чжуань» (27 г. Сян-гуна) идет дидактический текст, суть которого сводится к следующему: Мянь Юй отклонил пожалование на том основании, что он уже владеет примерно таким же числом поселений-и и что, приняв подарок, но не имея должности-ранга цина, будет иметь больше поселений-и, чем положено иметь цину (а ему в Вэй причиталось 100 и). Создается впечатление, что с помощью такой псевдодобродетельной фигуры благородства Мянь Юй попросту набивал себе цену и домогался ранга цина [313, т. 30, с. 1510]. Но для нас важно другое: в середине VI в.. до н. э. в царстве Вэй существовали нормы, согласно которым сановнику-цину полагалось иметь уже не неопределенный по размеру и численности подданных удел (как то было в том же, VI в. в Лу, Цзинь и некоторых других царствах), а именно 100 поселений-и (хотя размер их не определен, а они бывали разными — от нескольких десятков до нескольких тысяч дворов [16, с. 92]). Впрочем, определенные изменения в том же направлении были и в других царствах. В том же Лу, несмотря на существование влиятельных уделов-кланов, в VI в. все чаще упоминается о пожаловании поселений-и в качестве кормления чиновникам и награды сановникам.
Так, согласно «Цзо чжуань», в 537 г. до н. э. (5 г. Чжао- гуна) одному из аристократов клана Цзи, Нань И, предложившему удачный план, направленный на вмешательство в дела клана Шу и ослабление его, в награду было пожаловано 30 поселений-и за счет отторгнутых у упомянутого клана [313, т. 31, с. 1730—1731]. Из приведенного сообщения явствует, что и в Лy, где практически все царство в то время было поделено между тремя влиятельными уделами-кланами, в качестве единицы пожалования использовались уже поселения-и, причем и уделы состояли из них (во всяком случае на них дробились).
Аналогичная ситуация была и в Цзинь, где уделы-кланы в VI в. были весьма сильны. В середине этого века ведавший наделением кормлениями сановник Шу Сян заявил: «Цин в большом царстве имеет земли, равные одному люй, а старший да-фу— земли, равные одному цзу». Комментарий поясняет, что люй— отряд в 500 воинов, а земли одного люй — наделы 500 воинов (по 100 му каждый); соответственно цзу — наделы 100 воинов по 100 му [274, гл. 8, с. 170—171]. Из цитаты явствует, что в Цзинь сановникам и чиновникам уже давали не уделы, а строго фиксированные (соответственно рангу) кормления, состоявшие из определенного числа земельных наделов. Вполне возможно, что имелось в виду такое количество земли, налоги с которой обеспечивали бы нормальное существование соответственно 100 и 500 воинов, хотя не исключено, что речь идет о налогах, которые выплачивали со своих наделов 100 или 500 крестьян; однако такое толкование менее убедительно, ибо с наделов воинов налоги обычно не взимались (поскольку земля им выделялась в качестве платы за службу).
Сходной была картина и в Ци. В одной из надписей на бронзовом сосуде, датируемом примерно VI. в. до н. э., встречается упоминание о пожаловании: «Хоу дарит тебе и, всего 299 и» [272, т. 8, с. 210]. Другими словами, правитель царства Ци жалует одному из своих сановников уже не удел в его безоговорочно-неопределенном. виде, а четко определенное число поселений-и. Следует добавить, что, хотя размеры таких поселений бывали различными, о чем уже говорилось, обычно при упоминании о многих десятках безликих поселений-u имелась в виду рядовая крестьянская община, среднее количество дворов в которой было около 100.
Совершенно очевидно, что все эти и многие другие аналогичные материалы свидетельствуют об одном и том же. Структура феодальных уделов в царствах чжоуского Китая менялась, причем сдвиги шли в нескольких направлениях. Уделы дробились на более мелкие административно и организационно автономные ячейки, поселения-и[91]. Количество таких поселений заметно увеличивалось за счет расселения умножавшегося крестьянства на новых землях в пределах тех же уделов и царств, т. е. за счет освоения необрабатывавшихся прежде земель. Соответственно рушились и рвались патриархально-клановые связи и устанавливались (особенно в новых поселениях) новые, административно-территориальные, с двором-домохозяйством в качестве фискальной единицы. Объем налогов, взимавшихся с определенного числа таких домохозяйств (при расчетах округленно бралось 100 хозяйств в поселении-и), служил единицей кормления все новых и новых поколений чиновников, численность которых с увеличением населения и усложнением структуры чжоуских царств и уделов-кланов все время и довольно быстрыми темпами росла.
Таким образом, описанный процесс трансформации социально-экономической структуры, включая изменения в сфере редистрибуции и разложение патриархальной общины, шел в тесном соответствии с изменениями административно-политической и социально-политической структуры общества периода Чуньцю. Рассмотрим теперь более основательно эти важные сдвиги.
Трансформация административно-политической структуры
Как упоминалось, на протяжении всей эпохи Чжоу друг другу противостояли две тенденции политического развития — центробежная и центростремительная. Первая порождала децентрализацию, междоусобицы и раздробленность, причем апогеем ее был VII век до н. э. Вторая, весьма сильно и эффективно действовавшая в начале Чжоу, с переносом столицы вана на восток практически перестала играть роль во всекитайском масштабе. Но зато в каждом из царств, возникших на базе западночжоуских уделов, она возродилась, а в VI в. до н. э. стала набирать силу и задавать тон.
О социально-экономическом аспекте рассматриваемого процесса только что было сказано. Но как эта сторона его отразилась на административно-территориальной структуре царств Чуньцю? Здесь следует обратить внимание на те данные источников, которые позволяют проследить возникновение и развитие территориальных связей и административно-бюрократической системы управления территориальными подразделениями царств и крупных уделов. Речь идет прежде всего о территориальных единицах сянь, бывших вначале чем-то вроде анклавов в удельной структуре Чуньцю и постепенно превратившихся в основную, а затем и в повсеместную единицу административного членения Китая (совр. «уезд»).
Посвятивший специальное исследование анализу проблемы возникновения сянь в чжоуском Китае, Г. Крил пришел к выводу, что впервые этим термином стали обозначать территориальные единицы в двух царствах-аутсайдерах чжоуского Китая, в Чу и Цинь, причем происхождение института сянь следует искать в Чу [117].
Расположенное в междуречье Хуанхэ и Янцзы, царство Чу долгие века формально не входило в. чжоуский Китай и даже практически не соприкасалось с ним, хотя существует версия, что чжоуский Чжао-ван нашел свою погибель в длительном походе на юг, в сторону Чу. Вожди Чу, ведшие свое происхождение от легендарного Чжуаньсюя, не принимали активного участия в завоевании Инь чжоусцами, но впоследствии они настаивали на том, что именно первые чжоуские ваны дали чускому Сюн И его удел и титул [296, гл. 40, с. 561; 101, т. 4, с. 340].
Удел довольно быстрыми темпами развивался и уже в начале IX в. до н. э. стал столь значительным, что его вожди приняли титул «ван». Это было неслыханным для любого чжоуского удела-царства и возможно лишь для «варвара», каковым, явно рисуясь, называл, себя чуский правитель [296, гл. 40, с. 562]. На рубеже VIII—VII вв. до н. э. владения Чу на севере вплотную приблизились к границам Чжоу, а чуские правители стали активно приобщаться к чжоуским стандартам. Особенно энергично эту политику проводил чуский У-ван, а его внук Чэн-ван (стоит обратить внимание на их имена) был как раз тем правителем, который весьма миролюбиво встретил направленную в Чу экспедиционную армию во главе с Гуань Чжуном, от имени циского гегемона-ба и чжоуского вана потребовавшим у правителя Чу объяснений и извинений. Объяснения (по поводу гибели Чжао-вана, от причастности к которой Чу отказалось) и извинения (в частности, обещание регулярно посылать чжоускому вану ритуальные подношения) были даны, и тем самым чуский правитель продемонстрировал свое желание быть принятым в союз царств и княжеств Чжоу [296, гл. 40, с. 563, гл. 32, с. 490; 101, т. 4, с. 52—53, 346; 313, т. 28, с. 483— 485].
Тактика эта имела успех, и Чу стало играть активную и политически заметную роль, а его нажим на чжоуские княжества и царства с юга становился все ощутимее. Как явствует из «Цзо чжуань» (15, 19 гг. Си-гуна), Чу принимало участие в коалициях и войнах [313, т. 28, с. 547, 568, см. также с. 631, 635]. В 606 г. до н. э. оно оказало помощь чжоускому вану, за что чуский Чжуан-ван был удостоен высочайшей благодарности (разумеется, в текстах «Цзо чжуань» и вообще в официальных документах Чжоу он не именовался ваном — только титулом «цзы», весьма низким в чжоуской табели о рангах) [296, гл. 40, с. 564; 101, т. 4, с. 351]. После этого Чу стало играть еще более активную роль в политической жизни Чжоу. Оно принимало ведущее участие в совещаниях правителей [313, т. 29, с. 1013— 1014], а под 597 г. (12 г. Сюань-гуна) в «Цзо чжуань» помещено даже похвальное слово чуским правителям, которые упорядочили администрацию, соблюдают нормы и правила, отличаются добродетелями и т. п. [313, т. 29, с. 920 и сл.; см. также 296, гл. 40, с. 565; 101, т. 4, с. 354—356]. Словом, Чу было сильным и жизнеспособным государством, игравшим важную, а позже даже ведущую роль в чжоуском Китае, демонстрировавшим завидную прочность своей централизованной структуры, несмотря на временами раздиравшие его внутренние распри, на свержения и гибель отдельных правителей, на достаточно частые интриги и заговоры. Что же способствовало этой структурной цельности и прочности?
По данным Б. Блэкли, в Чу заправляли в основном родственные, кланы, так что по этому показателю оно стоит рядом с Лу [90, ч. 3, с. 106—107]. Между тем нет никакого сомнения в том, что развитие Чу шло не по луской модели. Пытаясь раскрыть закономерности чуского пути, Мэй Сыпин еще в 1930 г. обратил внимание на то, что в нем отличались от чжоуских не только номенклатура должностей, но и функции высших администраторов. Суть различий сводилась к тому, что в Чу существовали территориальные единицы-сяни и что управлявшие ими сановники-инь не были феодалами [291, с. 165—166]. И хотя такая постановка вопроса представляется излишне категоричной, ибо в Чу были и мощные уделы-кланы, выступавшие против вана своими силами, так что тезис Мэй Сыпина справедливо ставится специалистами под некоторое сомнение [117, с. 151, прим. 112], в нем все же, безусловно, есть определенное рациональное зерно.
По мнению Г. Крила, аристократические кланы в Чу действительно были в общем и целом менее крепкими, в них не было столь явно выраженной клановой солидарности, как на севере [92], и хотя некоторые из них, как Жоао в 605 г. до н. э., выступали даже против вана, в целом система централизованного контроля (особенно в ее реформированном после восстания Жоао виде), позволявшая перемещать управителей с одной должности на другую, была достаточно эффективна с точки зрения укрепления администрации центра. Разумеется, стройность и последовательность этой системы не стоит преувеличивать. «Цзо чжуань» (30 г. Чжуан-г.уна, 17 г. Ай-гуна) сообщает, например, что в 689—688 гг. до н. э. завоеванные Чу княжества Шэнь и Си были превращены в сяни, однако на должности их администраторов были назначены бывшие правители княжеств, превратившиеся таким образом в полувассалов-полуадминистраторов чуского вана [313, т. 28, с. 432, т. 32, с. 2425]. Если принять во внимание, что они сохранили и свои титулы, а Шэнь- хоу продолжал активно действовать на политической сцене чжоуского Китая (правда, на стороне Чу) еще долгие десятилетия, то трудно уловить слишком уж существенную разницу между обычным владетельным аристократом, главой феодального удела, и управителем чуского сяня. Но, видимо, некоторая разница все-таки была.
Мэй Сыпин предположил, что в Чу в отличие от других царств правители уделов не жили за счет доходов с них, но получали довольствие из казны [291, с. 167]. Тезис этот, едва ли полностью справедливый даже для VI в. до н. э., не может быть безоговорочно принят для начала VII в. до н. э. Однако нет сомнения, что эффективность административного управления всеми землями со стороны центра в Чу была, видимо, большей, чем где-либо еще в чжоуском Китае. И свою роль в этом играла система административных единиц-сяней, отличавшихся от обычных уделов (которые в Чу тоже были) хотя бы тем, что допускали определенное вмешательство из центра.
Было ли Чу единственным царством, знакомым с системой сяней в начале VII в. до н. э.? Видимо, нет. Подобная система была в то время уже известна по меньшей мере в двух царствах чжоуского Китая — в отсталом полуварварском Цинь и в очень развитом Ци. Вопрос лишь в том, какую роль сыграло Чу в появлении института сяней в Цинь и Ци.
Цинь, расположенное на западных окраинах чжоуского Китая, возникло позже других. Правитель небольшого полуварварского государственного образования помог чжоускому Пин-вану переехать на восток, в награду за что получил титул гуна и право владения теми землями бывшего чжоуского домена, которые Пин-ван навсегда покинул. Царство Цинь, как и Чу, развивалось быстрыми темпами, осуществляя различные реформы и заимствуя у более передовых соседей все, что можно. В частности, Цинь находилось в контакте и с Чу, по крайней мере в середине VII в. до н. э., как о том свидетельствует история некоего Байли Си, бежавшего в Чу и вытребованного назад циньским Му-гуном после специальной переписки [296, гл. 5, с. 89; 69, с. 23]. Правда, нет прямых свидетельств более ранних контактов, хотя можно допустить, что они были — прямые или косвенные.
Во всяком случае доподлинно известно, что, когда в 688 г. до н. э. циньский У-гун захватил у соседей-жунов местности Гуй и Цзи, а в 687 г.— Ду и Чжэн, все они были превращены в сяни [296, гл. 5, с. 88]. Крайняя лаконичность приведенных сведений Сыма Цяня, по-видимому, свидетельствует о случайности данного эпизода. Достаточно весомым представляется довод Г. Крила, отметившего, что, когда полвека спустя, в 623 г. до н. э., Цинь присоединило к себе еще 12 местностей тех же жунов, о сянях в этой связи более не упоминалось [117, с. 144, прим. 91]. Затем в течение трех веков о сянях в Цинь ничего не сообщается, пока в середине IV в. до н. э. они — уже в сложившейся форме уездов — не были введены там реформатором Шан Яном. Следовательно, первые сяни в Цинь в отличие от Чу представляли собой нечто, чужеродное и эпизодическое. Но они там все-таки были, если верить Сыма Цяню (источники, из которых он почерпнул такие сведения, нам неизвестны),— в начале VII в. до н. э. Стоит подчеркнуть указанную дату: ведь именно тем же временем датируются не только первые точные сведения о наличии сяней в Чу (приоритет Чу перед Цинь в этом смысле едва ли может быть поставлен под сомнение), но и деятельность Гуань Чжуна, которому приписывается множество реформ, в том числе и административно-территориальную, элементом которой было введение в Ци системы административных единиц, включая и сяни.
Об административной реформе Гуань Чжуна уже шла речь, хотя и вкратце. Согласно «Го юй», она сводилась к созданию особых административных схем для двух разных зон — пристоличной и периферийной. Первая должна была состоять из 21 дистрикта-сяна (15 для воинов-ши и по 3 —для ремесленников и торговцев), причем каждый сян состоял примерно из 2 тыс. семей, организованных по административно-иерархической системе: пять семей — гуй; 10 гуй — ли; 4 ли — лянь и 10 лянь — сян. Вторая тоже должна была быть организована по той же системе, хотя и с иной номенклатурой и численностью единиц: 30 семей —и; 10 и —цзу; 10 цзу — сян; 3 сяна — сянь; 10 сяней — шу. Каждое шу, состоявшее из 90 тыс. семей, должно находиться под началом да-фу, причем всего их было пять [274, с. 80—83].
Нежизненность, нереальность подобной схемы для начала VII в. до н. э. очевидна. Видимо, именно поэтому Г. Крил в анализе проблемы уездов-сянь даже не упомянул о реформах Гуань Чжуна в Ци. Но интересно, что — независимо от вопроса о реальности схемы Гуань Чжуна — в некоторых источниках можно встретить данные, говорящие о существовании сяней в Ци во времена Гуань Чжуна или чуть позже. Так, в «Янь-цзы чунь цю» (гл. 7) сообщается, что циский Хуань-гун в свое время «пожаловал Гуань Чжуну Ху и Гу, всего 17 сяней» [340, с. 201]. Две местности, территория и население которых, видимо, составили основу удела-клана реформатора, состояли, если верить Янь-цзы, из 17 сяней. Впрочем, не исключено, что на сяни этот удел стал делиться позже, лишь при Янь-цзы, что и было им зафиксировано. Во всяком случае в VI в. до н. э. сяни в Ци уже были, как о том свидетельствует одна из надписей на сосуде, имеющем отношение к Ци. В ней среди прочего сказано: «Твоих сяней всего 300» [272, т. 8, с. 203]. Г. Крил отказался от использования этого свидетельства в своем анализе, сославшись на то, что речь идет, явно не о тех сянях, что термин «сянь» мог быть использован в ином смысле (пригородные территории) и не обозначать административные единицы [117, с. 143, прим. 88].
Следует согласиться с тем, что 300 сяней надписи не могут быть поставлены в один ряд с чускими — для этого их слишком много; такие сяни были, видимо, близки к тем поселениям-и, о 299 которых в том же Ци упоминается в надписи, помещенной в собрании Го Можо рядом с только что процитированной. Велика и цифра 17 сяней применительно к землям удела потомков Гуань Чжуна. Однако и в этом случае на обе стоит обратить внимание, ибо само упоминание о сянях как административных единицах применительно к Ци VII—VI вв. до н. э. означает, что там шел процесс административно-политической трансформации, сравнимый с теми, которые протекали в других развитых царствах чжоуского Китая, в первую очередь в Цзинь.
Сведения о появлении сяней в Цзинь относятся ко второй половине VII в. до н. э., причем Г. Крил связывает их возникновение в этом наиболее крупном в то время царстве с историей Чжун Эра, побывавшего в дни своих скитаний в Чу и реализовавшего заимствованные из Чу принципы административного управления тогда, когда он стал цзиньским Вэнь-гуном [117, с, 156]. Первое упоминание о существовании управляемого администратором сяня в Цзинь зафиксировано в «Цзо чжуань» под 627 г. до н. э. (33 г. Си-гуна) [313, т. 28, с. 687]. Но уже несколько десятилетий спустя, в середине VII в. до н. э., все царство Цзинь было поделено на 49 сяней, причем это никак не мешало существованию там крупных уделов, каждый из которых подразделялся на несколько сяней. Иными словами, сяни в Цзинь были достаточно крупными. Еще более крупными они, видимо, были в VI в. до н. э. в Чу: когда в 597 г. до н. э. (11 г. Сюань-гуна) Чу завоевало княжество Чэнь, его правитель заявил, что он готов к тому, чтобы его княжество было превращено в сянь и существовало в таком качестве в составе Чу наряду с другими девятью сянями [313, т. 29, с. 906].
Похоже на то, что сяни в Ци, Цинь, Цзинь и Чу были весьма различными не только по величине, но и по степени автономии. Но одно несомненно: в целом появление системы сяней означало, что столь характерные для Чжоу уделы уходили в прошлое. На смену патриархально-клановым личностным связям, свойственным нерасчлененной вотчине, приходили административно-территориальные связи, в рамках которых личностный момент постепенно вытеснялся служебными отношениями. Это и неудивительно. Уделы в ходе ожесточенных междоусобиц укрупнялись, управление ими становилось порой столь же сложным, как и в некоторых царствах. Возникавшие в результате внутренние смуты и распри прекратить можно было лучше всего при посредстве выдвижения на чиновно-административные должности не претендующих на родство аутсайдеров, благо число их, особенно эмигрантов, все возрастало.
Вот интересный пример из «Цзо чжуань» (17 г. Чэн-гуна). В луском уделе-клане Ши в 574 г. встал вопрос, кому быть управителем делами клана (цзай). Были выдвинуты кандидатуры, и гадание показало, что назначить следует некоего Куан Гоу-сюя. Однако он отказался от должности в пользу беженца из Ци аристократа Бао Го, правнука Бао Шу-я, мотивируя свое решение тем, что Бао Го справится с делами лучше. В результате циский беженец получил указанную должность, а с ней — жалованье-кормление, состоявшее из поселения-и в 100 дворов [313, т. 29, с. 1135]. Отсюда явствует, что, во-первых, на важную административную должность в уделе-клане славившегося своими патриархально-клановыми традициями царства Лу уже в первой четверти VI в. до н. э. можно было назначить чужестранца; а, во-вторых, должностные посты в уделе уже оплачивались служебными кормлениями, т. е. своего рода прилагавшимся к должности жалованьем.
Если вспомнить, что примерно в то же время в Цзинь существовала шкала должностных кормлений, которая в общем и целом соответствовала жалованью, исчислявшемуся в поселениях-и, то станет очевидным, что процессы социально-экономических и административно-политических преобразований шли бок о бок, гармонично сочетаясь друг с другом. Изменение системы редистрибуции, реформы налогообложения с перенесением центра тяжести его на домохозяйство позволяли и даже вынуждали переходить к оплате труда чиновников в форме жалованья-кормления, что, в свою очередь, позволяло шире использовать труд неродственных служащих для укрепления центральной власти, будь то власть правителя царства или сановника, главы удела-клана. Тот и другой чем дальше, тем больше и очевиднее становились главами развитой административно-бюрократической структуры, шедшей на смену патриархально-клановой, феодально-аристократической. Картина будет неполной, если не остановиться еще на одном аспекте общего процесса — на социальных переменах, столь характерных для чжоуского Китая VI и тем более V—IV вв. до н. э.
Трансформация социально-политической структуры
Специалисты довольно единодушно фиксируют заметные структурные изменения, происходившие в чжоуском Китае на рубеже Чуньцю и Чжаньго (т. е. в VI—V вв. до н. э.) в сфере социально-политических отношений. Отмечается сильно возросшая социальная мобильность населения, в том числе вертикальная, тесно связанная с отмечавшимся уже процессом перехода к административно-территориальным связям и выдвижения на чиновные должности аутсайдеров, не связанных с правителями и крупными аристократами клановьм родством. На фоне общей трансформации древнекитайского общества от удельно-кланового, феодально-децентрализованного в сторону централизованно-бюрократического социально-политический ее аспект сыграл весьма важную роль. Имеется в виду формирование специфического слоя служивых ши, которые в этой своей структурной функции просуществовали в централизованной китайской империи вплоть до XX в., занимая ключевые позиции в административной системе (шэньши).
Этимология понятия «ши» уходит по меньшей мере к началу Чжоу. Судя по текстам, излагающим суть реформ Гуань Чжуна в Ци, термином ши в то время именовались воины-землепашцы, т. е. организованные по-военному привилегированные общинники [274, гл. 6, с. 79—80]. Возможно, генетически они восходили к тем военнопоселенцам, которые были включены в свое время в число восьми иньских армий и долгое время обитали в районе Лои. Независимо от того, в какой степени указанная связь реальна, само вычленение в схеме Гуань Чжуна воинов-ши означало, что слой ши в то время мыслился как реально существующая социальная общность. Быть может, военнопоселенцы в то время еще не именовались термином «ши» (схемы Гуань Чжуна в этом смысле — не убедительное доказательство). Но то, что впоследствии они были названы именно так, может быть воспринято как свидетельство существования определенного функционально-генетического родства между раннечжоускими и гуаньчжуновскими воинами-военнопоселенцами, с одной стороны, и более поздними воинами-ши — с другой.
Существовал, однако, по меньшей мере, и еще один важный источник возникновения ши как социального слоя. Речь идет о, захудалых коллатеральных линиях знатных аристократических кланов. Как то бывало и в других раннефеодальных структурах (в частности, в средневековой Европе), отпрыски захудалых линий обычно уже не имели средств к существованию и в то же время не желали смириться с этим и оказаться в рядах обычных крестьян-общинников (хотя некоторым из них приходилось довольствоваться именно таким положением). Отличаясь от обычных крестьян некоторой степенью родственной близости к власть имущим и имея потому несколько более благоприятные стартовые возможности (получение необходимого образования, приобщение к нормам аристократической этики, несколько больший достаток — хотя бы в молодости), довольно многочисленные представители низшей прослойки господствующего слоя аристократии уже в период Чуньцю стали представлять собой немалую социальную силу.
Статус ранних ши (VII в. до н. э.) не вполне ясен и, видимо, не был единым для всех. Одни из аристократических отпрысков, как упоминалось, смирялись со своей участью и переходили практически на положение землепашцев (видимо, именно эта часть ши по статусу сближалась с теми воинами-ши, которые существовали и ранее,— похоже на то, что отличие их от обычных крестьян-общинников заключалось как раз в том, что они не платили податей, но зато были обязаны нести военную службу господину). Они становились теми воинами, наделы которых, как упоминалось, позже становились единицей отсчета для пожалования кормлений в некоторых царствах, например в Цзинь. Другие (в частности, видимо, более образованные и способные) могли переключать сферу своей активности в русло гражданской администрации, становиться чиновниками, управителями чужих владений, мастерами церемониала, наконец, учителями [162, с. 8]. Данные «Ли цзи» (гл. «Ван-чжи») дают основание считать, что в период Чуньцю, когда это было важным и имело значение, ши как низший слой знати еще были причастны и к формально-ритуальным привилегиям: если ван имел право на семь храмов-алтарей в честь его предков, чжухоу соответственно на пять, а да-фу на три, то ши имели право на один такой храм, тогда как простолюдины-ши подобных прав не имели [286, т. 20, с. 569, см. также т. 22, с. 1081].
Материалы «Цзо чжуань», наиболее полно и подробно рисующие социально-политическую структуру чжоуского Китая в VIII—VI вв. до н. э., позволяют заключить, что динамика изменений здесь сводилась вначале к значительному усилению роли феодальной знати, крупных аристократов-сановников (цинов и да-фу) в политической жизни и администрации царств [162, с. 31—34], о чем уже шла речь выше. Однако со второй половины этого периода и особенно заметно в VI—V вв. до н. э. ситуация стала изменяться. В то время как истребление в феодальных междоусобицах привело к значительному сокращению общего числа владетельной знати с резким возвышением и укреплением социально-политических позиций немногих за счет остальных, общая масса членов низших слоев знати — слоя ши — начала заметно расти. Численный рост ее сопровождался переходом к ши многих из тех функций, что раньше были достоянием и даже прерогативой весьма многочисленного слоя феодальной знати — цинов и да-фу. Однако новый слой ши уже заметно отличался от того слоя цинов и да-фу, функционально заменить который он был призван.
Статистика приведенных в «Цзо чжуань» описаний событий и деяний, связанных с деятельностью представителей слоя ши, показывает, что вплоть до середины VII в. до н. э. ни один из них конкретно не назван: слой ши, судя по всему, в то время еще не был общественно значимым. Из пятерых ши, упомянутых в текстах второй половины VII в. до н. э., трое были воинами (включая телохранителей), один — управителем аристократического владения и еще один — спутником Чжун Эра в его странствиях (из тех, что не получили удела по воцарении господина, т. е. из стоявших в социальном плане сравнительно низко и сделавших для господина сравнительно не так уж много,— возможно, он тоже был телохранителем). В текстах середины VI в. до н. э. ши встречаются чаще — прежде всего как воины и офицеры армий различных царств, а ближе к концу VI в. до н. э.— как чиновники-управители чужих владений. В текстах рубежа VI—V- вв. до н. э. видное место занимают ши новой генерации — Конфуций и его ученики,— по большей части выступавшие в функции администраторов, но одновременно и офицеров. Кое- кто из них уже делал заметную карьеру, выдвигаясь в результате заслуг в ряды важных сановников. Такая же картина и в последних по времени, текстах «Цзо чжуань». Приведший эту статистику Сюй Чжоюнь приходит к резонному выводу, что в конце периода Чуньцю значение представителей слоя ши в социально-политической структуре чжоуского Китая заметно усилилось, причем некоторые из них —наиболее удачливые — достигали большого влияния и играли важную роль в политической жизни [162, с. 34—37].
С истреблением и исчезновением с политической сцены феодально-клановой знати, владетельных аристократов, не только их функции, но и их прерогативы — по меньшей мере частично — переходили к новому слою служивых-ши. Речь идет, в частности, о кодексе чести и этики. Воспитанные в домах знати, служивые-ши — во всяком случае в лице их первого потока — впитали в себя основы этого кодекса, бывшего для всех них ключом, открывавшим двери наверх. С увеличением числа и роли ши кодекс чести и добродетельного поведения стал моральной основой служебного долга каждого из них, что и послужило фундаментом для дальнейшего возвеличения этической нормы, для создания эталона цзюнь-цзы в учении Конфуция [18, с. 98 и сл.].
Переключение в этике ши центра тяжести с клановых связей на моральные нормы было заметным еще до Конфуция. Уже в первой половине VI в. до н. э. были нередки случаи использования чужаков-аутсайдеров на службе, причем получавший должность в чужом владении, а то и чужом царстве чиновник ревностно доказывал свое право отправлять ее, идентифицируя себя с господином в соответствии с нормами этики. Эта идентификация стала со временем нормой поведения. Правители различных царств чжоуского Китая в V—IV вв. очень охотно брали себе на службу чиновниками и министрами чужаков, знания и опыт которых — при отсутствии кланово-патриархальных связей и при вынужденной идентификации чужака с господином—играли немалую роль в осуществлении реформ, ведших к укреплению централизованной администрации, как то было с У Ци в Чу, Шэнь Бухаем в Хань, Шан Яном в Цинь и др.
Упадок патриархально-клановых связей, цементировавших внутреннюю структуру уделов, имел наряду с дезинтеграцией крестьянской общины большое значение в изменении характера социально-политических отношений и еще в одном существенном аспекте — во взаимоотношениях власть имущих с народом, от позиции и поддержки которого зависело столь многое, особенно в условиях перманентной нестабильности. Если в Западном Чжоу и даже в начале Чуньцю жители того или иного удела-клана поддерживали все акции своего господина практически автоматически, полностью идентифицируя себя с ним и разделяя его судьбу, то со второй половины Чуньцю ситуация начала меняться. Жители столиц и крупных поселений городского типа (го-жэнь) все чаще и все более определенно вмешивались в политические события, принимая сторону того или другого претендента на власть, заключая соглашения, отдавая предпочтения, выдвигая требования и т. п. [11]. Если принять во внимание, что количество таких поселений постоянно и быстро увеличивалось, что разрыв патриархально-клановых связей и дезинтеграция в рамках мелких поселений, земледельческих общин превращали массу податного производительного населения в весьма аморфную совокупность социальных групп и даже индивидов, условия жизни, поведение и настроения которых во многом зависели от характера и достижений администрации, то легко увидеть, сколь сложной стала задача управлять царством и даже крупным уделом. Неудивительно, что реформаторы и мыслители искали наиболее оптимальных решений этой проблемы и что аналогичными поисками были насыщены многие из хорошо известных древнекитайских трактатов. В конце Чуньцю такие поиски только начинались, основная доля их приходится на период Чжаньго. Однако они уже шли, и весьма активно, причем первые решения сводились к элементарным и основанным на традиционных принципах реципрокности раздачам и подаркам.
Здесь стоит напомнить, что метод щедрых раздач приносил свои дивиденды и в ожесточенных междоусобных войнах в рамках типично феодально-клановой структуры начала Чуньцю. Так, в 613 г. до н. э. один из претендентов на циский трон добился желаемого тем, что раздал все свое имущество. «Цзо чжуань» (14 г. Вэнь-гуна) пишет, что, когда у него не хватало собственных доходов, он апеллировал к запасам правителя-гуна и других лиц. В результате этот претендент собрал вокруг себя немалое количество клиентов (здесь употреблен тот самый знак ши, которым позже обозначали чиновников) и после смерти правителя занял его место [313, т. 28, с. 792]. Еще пример из того же источника (9 г. Сян-гуна). Когда в 564 г. до н. э. после очередного конфликта с Чу цзиньский правитель возвратился домой, он предпринял щедрые раздачи, открыв все свои амбары и склады, с тем чтобы расположить народ к себе. Раздачи сделали свое дело: народ был удовлетворен, так что в последующих трех столкновениях с Чу правитель Цзинь пользовался прочной поддержкой подданных и держался крепко [313, т. 29, с. 1243].
Этот метод еще активнее применялся, когда на фоне распада патриархально-клановых связей от умелого политического лавирования зависело все больше и больше. Для примера стоит еще раз напомнить о возвышении клана Чэнь (Тянь) в Ци, щедрые раздачи которого способствовали тому, что в междоусобных схватках с другими цискими уделами он неизменно пользовался поддержкой цисцев и выходил победителем [313, т. 21, с. 1821, т. 22, с. 2342]. В сообщении «Цзо чжуань» под 544 г. до н. э. (29 г. Сян-гуна) рассказано, как в двух царствах — Чжэн и Сун — знатные кланы Хань и Юэ (соответственно) приобрели престиж и власть щедрыми раздачами в голодный год [313, т. 30, с. 1560]. Но если применительно к VI в. до н. э. речь идет по преимуществу о таких же раздачах, как и в древности (открывались амбары, кормились голодные), то с начала V в. до н. э. появляется в этом плане и кое-что новое.
Так, согласно «Цзо чжуань», в 493 г. до н. э. (2г. Ай-гуна) цзиньский всесильный сановник Чжао Ян, обращаясь к армии перед решающей битвой с войсками Чжэн, пообещал, что в случае успеха каждый будет щедро вознагражден: высшие да-фу получат по сяню, низшие да-фу — по округу-цзюнь, ши — по 100 тыс. му, тогда как простолюдины и рабы — соответственно продвижение и освобождение [313, т. 32, с. 2313—2314]. И хотя вся эта шкала наградных от начала и до конца выглядит не более чем схемой, к тому же довольно сомнительной[93], смысл всей речи очевиден: каждый может добиться награды и повышения вне зависимости от статуса, клановых связей, места в иерархии и т. п. Иными словами, на смену феодально-иерархической структуре с характерным для нее определением места человека в обществе в зависимости от его происхождения, от степени генеалогического родства и во многом обусловленной ею должности в обществе снова вышла на передний план идея меритократии с тесно связанной с ней практикой социальной и индивидуальной вертикальной мобильности. В новых условиях укреплявшейся централизации всей социально-политической структуры это означало, что в административной системе делается сознательный акцент на привлечение и поощрение честолюбивых, активных, способных, и амбициозных выходцев из низов, из числа которых правители стремятся создать жизнеспособный и эффективный централизованный аппарат управления.
Его создание в разных царствах чжоуского Китая заняло практически весь период Чжаньго, V—III вв. до н. э. Усилиями выдающихся администраторов и реформаторов того времени, едва ли не в первую очередь, по мнению Г. Крила, Шэнь Бухая [118], была заложена основа той бюрократической административной системы, которая затем на протяжении свыше двух тысячелетий была стержнем, институциональной базой, фундаментом китайской империи.
Процесс приватизации и сложение основ развитого государства в Древнем Китае (вместо заключения)
Середина I тысячелетия до н. э. была периодом кардинальной ломки всей древнекитайской структуры. На фоне рассмотренной уже трансформации ряда ее аспектов, хорошо видно, почему именно тогда бурно проявил себя уже достаточно давно вызревавший процесс приватизации. Рост престижного потребления знати, разложение общины, замена связанных с традициями общей собственности ранних форм редистрибуции новыми, сводившимися к индивидуальному налогу, быстрый рост народонаселения и резкое усложнение общества в целом — все это содействовало развитию частной собственности в древнем Китае.
Разумеется, элементы ее были и раньше, может быть уже на рубеже Западного Чжоу и Чуньцю (едва ли ранее), когда стали появляться первые образцы металлических денег, а торговля становилась все более регулярной и насущно необходимой для нормального функционирования экономики царств. Однако едва ли стоит преувеличивать степень развития частнособственнических отношений в ту пору: весь контекст общественных отношений в VIII—VI вв. до н. э. в чжоуском Китае свидетельствует, что ни частный торговый обмен, ни разорение неимущих, ни иные формы товарно-денежных отношений не достигли сколько-нибудь заметного уровня развития в то время. Ситуация решительно изменилась лишь в середине I тысячелетия до н. э., на рубеже Чуньцю и Чжаньго.
Обычно специалисты обращают внимание на то, что этому способствовало вступление Китая в железный век. Дешевые железные орудия производства стали доступными всем, что привело к улучшению обработки пашни, освоению новых земель, развитию ирригации, дорожного строительства и вообще всей инфраструктуры. Новые производительные силы, стимулированные распространением железа, энергично способствовали развитию земледелия и различных видов ремесла, что, в свою очередь, создало основу для распространения частнособственнических отношений. Однако процесс не был столь прямолинейным, как то может показаться.
Новые орудия труда — лишь фундамент, основа кардинальной ломки общественных отношений. Условия же для такого рода ломки были подготовлены всем ходом предшествующего социально-экономического и социально-политического развития, о котором шла речь в последней главе. Именно в благоприятных условиях и получили достаточный простор для своего развития явления, связанные с процессом приватизации. Речь идет о появлении свободного рынка и товарного производства, о быстром расцвете денежных отношений, вызвавших принципиальную возможность отчуждения имущества, которое до той поры практически было неотчуждаемым. В первую очередь имеется в виду земельный надел.
Не сразу, но примерно с IV в. до н. э. в позднечжоуском Китае появились лишенные средств производства общинники, которые утратили свой надел и вынуждены были брать землю в аренду или идти в батраки-наемники. Они же пополняли ряды наемных работников в мастерских разбогатевших и работавших теперь на заказ и на рынок ремесленников, в конторах богатых купцов, на промыслах преуспевших откупщиков. Часть их, лишившись всего, нередко оказывалась даже в положении долговых рабов. Что же касается разбогатевших собственников, то их число тоже росло столь угрожающими темпами, что, как это хорошо известно, лейтмотивом реформ Шан Яна наряду со стремлением прикрепить разорявшихся крестьян к земле была решительная борьба со стяжателями, которых реформатор предлагал попросту обращать в рабство и уж во всяком случае лишать богатства посредством умело налаженного механизма его ограничения (продажа социальных рангов, приобретение которых за очень большие деньги позволяло их обладателям повысить статус и получить некоторые привилегии).
Как упоминалось в первой главе, борьба со стяжателями, с частными собственниками, эксплуатация которыми неимущих вела к потере казной той самой доли ее дохода, которая теперь переливалась в карманы нуворишей, становилась с определенного момента важной задачей государства, развивавшегося по неевропейскому образцу. Древнекитайское чжоуское государство может считаться в некотором смысле эталоном, ибо едва ли где-нибудь еще борьба с частным собственником велась столь последовательно и решительно и была осмыслена на столь высоком теоретическом уровне, как то было в Китае, в частности в реформированном Шан Яном царстве Цинь, которому было суждено одолеть все остальные царства и объединить Китай в мощную централизованную империю. Именно борьба с собственником способствовала вызреванию тех важнейших институтов (писаный закон; принуждение; специализированная и строго упорядоченная административная система, дополненная хорошо продуманной системой социальных рангов, поощрений, выдвижений и т. п.; наконец, четкое административно-территориальное членение страны со стоящими во главе подразделений сменяемыми и ответственными перед центром чиновниками), благодаря которым развитое древнекитайское государство не только устояло под натиском поначалу энергично расцветавших и постепенно набиравших немалую силу «стяжателей», но и сумел в конечном счете выработать такую формулу власти, которая без существенных изменений, несмотря на спорадические социальные и политические катаклизмы, потрясавшие страну до основания, а то и ставившие ее на грань гибели, просуществовала до XX в.
В процессе выработки конечной формулы сыграли свою роль обе модели развития, о которых упоминалось выше и которые, несмотря на существенную разницу между ними в исходных постулатах, были кое в чем (в частности, в кардинальном вопросе отношения к частному собственнику, к государству) достаточно близки друг к другу, что не замедлило сказаться на результатах. Что касается циско-цзиньской модели, оптимальная модификация которой была реализована в ходе реформ Шан Яна в Цинь и затем с доведенной до абсурда последовательностью навязана всей содрогнувшейся от ее тяжести и потому просуществовавшей менее полутора десятков лет тоталитарной империи Цинь, то с ней все более или менее ясно. Иное дело — луская модель.
Вначале у нее, казалось бы, не было никаких шансов на успех, что было продемонстрировано и судьбой самого царства. Но позже положение изменилось. Во-первых, бурные темпы социальных перемен в последний период Чжоу, завершившийся чудовищным экспериментом легистов в форме империи Цинь, на протяжении ряда веков рождали в жителях чжоуских царств определенное ощущение идейно-политического дискомфорта. Доброе старое время с его замедленными темпами и патриархально-клановыми традициями на этом фоне многим могло казаться более предпочтительным. Во-вторых, отредактированные Конфуцием и его последователями нормы этого «доброго старого времени» привели с течением веков к выработке определенной идеализованной системы социальных, моральных, и духовных ценностей, потенциал которой наращивался, передаваясь от поколения к поколению, особенно в условиях, когда следование таким нормам могло быть формой социального протеста недовольных. Наконец, в-третьих, крушение империи Цинь создала идейно-институциональный вакуум, заполнить который после дискредитации легизма как доктрины оказалась в состоянии лишь выработанная на луской основе конфуцианская доктрина. В результате именно луская патерналистская модель государства сыграла ведущую роль в сложении конечной формулы древнекитайского государства. Синтез ее с легистской циско-цзиньско-циньской моделью и привел к тому, что представляла собой китайская империя на протяжении двух с лишним тысячелетий, т. е. к органическому и непротиворечивому слиянию воедино обоих кардинальных принципов («государство — большая, семья» и «слабый народ — сильное государство»).
Библиография
1. Маркс К. К критике политической экономии.— Т, 13
2. Маркс К. Капитал. Т. III.— Т. 25. Ч. 1—2.
3. Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому производству, — Т. 46. Ч. 1.
4. Энгельс Ф. Анти-Дюринг.— Т. 20.
На русском языке
5. Андрианов Б. В. Древние оросительные системы Приаралья. М., 1969.
6. Аристотель. Политика. СПб., 1911.
7. Бахта В. М. Папуасы Новой Гвинеи: производство и общество — «Проблемы истории докапиталистических обществ». М., 1968.
8. Бородай Ю. М., Келле В. Ж. Плимак Е. Г. Наследие К. Маркса и проблемы теории общественно-экономических формаций. М., 1974.
9. Бромлей Ю. В. Этнос и этнография, М., 1973.
10. Бутинов Н. А. Папуасы Новой Гвинеи. М., 1968.
11. Васильев К. В. Данные о социальном слое гожэнь в период Чуньцю,— Социальные организации в Китае, М., 1981.
12. ВасильевК. В. Религиозно-магическая интерпретация власти вана в западночжоуских эпиграфических текстах.— Китай, общество и государство. М., 1973.
13. Васильев К. В. Центральная власть и органы местного управления в годы расцвета Западного Чжоу.— История и культура Китая. М:, 1974.
14. Васильев Л. С. Аграрные отношения и община в древнем Китае. М., 1961.
15. Васильев Л. С. Проблема цзин тянь.— Китай. Япония. История и филология. М., 1961.
16. Васильев Л. С. Эволюция древнекитайского термина «и».— ВДИ. 1961, № 2.
17. Васильев Л. С. Эксплуатация земледельцев и формы присвоения в древнем Китае, — НАА. 1968, № 6.
18. Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.
19. Васильев Л. С. Традиция и проблема социального прогресса в истории Китая. — Роль традиций в истории и культуре Китая. М., 1972.
20. Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. М., 1976.
21. Васильев Л. С. Возникновение и формирование китайского государства.— Китай: история, культура и историография. М., 1977.
22. Васильев Л. С. Идея предопределения в исторических текстах эпохи Чжоу.— Десятая научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Ч. 1, М., 1979.
23. Васильев Л. С. Становление политической администрации. — НАА. 1980, №1.
24. Васильев Л. С. Протогосударство-чифдом как политическая структура, — НАА. 1981, № 6.
25. Васильев Л. С. Феодальный клан в древнем Китае. — Социальные организации в Китае. М., 1981.
26. Васильев Я. С. Политическая интрига в царстве Цзинь (VIII—VII вв. до н.э.). – Общество и государство в Китае. М.,1981
27. Васильев Л. С., Стучевский И. А. Три модели возникновения и эволюции докапиталистических обществ. — ВИ. 1966, № 6.
28. Всемирная история. Т. 1. М., 1955.
29. Гегель Г. В. Ф. Философия истории.— Сочинения. Т. 8. М.—Л., 1935.
30. Го Мо-жо. Эпоха рабовладельческого строя. М., 1956.
31. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
32. Древнекитайская философия. Т. 1—2. М., 1972, 1973.
33. Думан Л. И. Система родства и реальные формы брака в эпоху Инь (XIV—XI вв. до н.э.).— «Краткие сообщения Института народов Азии». Т. 53. М., 1962.
34. Дьяконов И. М. Общественный и государственный строй древнего Двуречья. Шумер. М., 1969.
35. Дьяконов И. М. Проблемы собственности. О структуре общества Ближнего Востока до середины II тыс. до н.э. — ВДИ. 1967, № 4.
36. Илюшечкин В. П. Система и структура добуржуазной частнособственнической эксплуатации. М., 1980, вып. 1—2
37. Исследования по общей этнографии. М., 1979.
38. История Сибири. Т. 1. Новосибирск, 1968.
39. Кабо В. Р. Первобытная община охотников и собирателей (по австралийским материалам).— Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1968.
40. Карапетьянц А. М. Формирование системы канонов в Китае— Этническая история народов Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и средние века. М., 1981.
41. Кейзеров Н. М. Власть и авторитет. Критика буржуазных теорий. М 1973.
42. Книга правителя области Шан (Шан цзюнь шу). Пер. с кит., вступит. ст. и коммент. Л. С. Переломова. М., 1968.
43. Кнорозов Ю. В. Иероглифические рукописи майя. Л., 1975.
44. Кокин М., Папаяв Г. «Цзин-тянь». Аграрный строй древнего Китая. Л., 1930.
45. Кочанова Н. Б. Города-государства йорубов. М., 1968.
46. Крюков М. В. Род и государство в иньском Китае.— ВДИ. 1961, № 2.
47. Крюков М. В. Формы социальной организации древних китайцев. М., 1967.
48. Крюков М. В. Социальная дифференциация в древнем Китае.— Разложение родового строя и формирование классового общества. М., 1968.
49. Крюков М. В., С о ф р о н о в М. В., Ч е б о к с а р о в Н. Н. Древние китайцы: проблемы этногенеза. М.,. 1978.
50. Куббель Л. Е. Потестарная и политическая этнография.— Исследования по общей этнографии. М., 1979.
51. Кучера С. Китайская археология. М., 1977.
52. Кучера С. Некоторые проблемы истории Китая в свете радиокарбонных датировок.— Этническая история народов Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и средние века. М., 1981.
53. Лубо-Лесниченко Е. И. Шелководство в иньском Китае. — Одиннадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Ч. 1. М., 1980.
54. Маретин Ю. В. Община соседско-большесемейного типа у минангкабау.— Социальная организация народов Азии и Африки. М., 1975.
55. Маркарян Э. С. Очерки теории культуры. Ереван, 1969.
56. Мартынов А. С. Сила дэ монарха.— Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник. М., 1974.
57. Массон В. М. [Рец. на:] К. Ренфрю. Возникновение крито-микенской цивилизации.— ВИ, 1974, № 7.
58. Мечников Л. И. Цивилизация и великие исторические реки. М., 1924.
59. Морган Л. Г. Древнее общество. Л., 1934.
60. Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв. М., 1956.
61. Никифоров В. Н. Восток и всемирная история. М., 1975.
62. Община в Африке. Проблемы типологии. М., 1978.
63. Попов П. С. Китайский философ Мэн цзы. СПб., 1904.
64. Принцип историзма в познании социальных явлений. М.,, 1972.
65. Семенов Ю. И. Как возникло человечество. М., 1966.
66. Семенов Ю. И. Теоретические проблемы «экономической антропологии».— Этнологические исследования за рубежом. М., 1973.
67. Семенов Ю. И. Первобытная коммуна и соседская крестьянская община.— Становление классов и государства. М., 1976.
68. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962.
69. Сыма Цянь. Избранное. М., 1956.
70. Сына Цянь. Исторические записки. Т. 11 М., 1972.
71. Текеи Ф. К теории общественных формаций. М., 1975.
72. Тер-Акопян Н. Б. Развитие взглядов Маркса и Энгельса на азиатский способ производства и земледельческую общину.— НАА. 1965, № 2, 3.
73. Файнберг Л. А. Возникновение и развитие родового строя.— Первобытное общество. М., 1975.
74. Фань Вэнь-лань. Древняя история Китая. М., 1958.
75. Xазанов А. М. Разложение первобытнообщинного строя и возникновение классового общества.— Первобытное общество. М., 1975.
76. Xазанов А. М. Классообразование: факторы и механизмы. — Исследования по общей этнографии. М., 1979.
77. Чешков М. А. Очерки истории феодального Вьетнама. М., 1967.
78. «Шицзин» (пер. А. А. Штукнна). М., 1957.
79. Штейн В. М. Гуань-цзы. Исследование и перевод. М., 1959.
80. Юань Кэ. Мифы древнего Китая. М., 1965.
На западноевропейских языках
81. Adаms R. М. The Evolution of Urban Society: Early Mesopotamia and Prehispanic Mexico. London — Chicago, 1966.
82. Adams R. N. Energy and Structure: A Theory of Social Power. Austin — London, 1975.
83. Andreski St. Elements of Comparative Sociology. L., 1964.
84. Andreski St. Social Sciences as Sorcery. L., 1972.
85. Badcock C. R. Levi-Strauss: Structuralism and Sociological Theory. L., 1975.
86. Bagley R. W. P'an-lung-cheng: A Shang Sity in Hupei.—AA. 1977, vol. 39, № 3.
87. Barbu Z. Society, Culture and Personality. An Introduction to Social Science. Ox., 1971.
88. Ваrnаrd N. Bronze Casting and Bronze Alloys in Ancient China. Tokyo, 1961.
89. Вendix R. Kings or People. Power and the Mandate to Rule. Berkeley, 1978.
90. Вenedict R. Pattern of Culture. N. Y., 1964.
91. Вiоt E. Le Tcheou-li ou rites des Tchton. Vol. 1—2, P., 1851.
92. В1ake1eу B. Functional Disparities in the Sociopolitical Traditions of Spring and Autumn China. Pt. 1—3.— «Journal of the Economic and Social History of the Orient». 1977, vol. 20, № 2, 3; 1979, vol. 22, № 3.
93. Bodde D. Myths of Ancient China — Mythologies of the Ancient World. N. Y., 1961.
94. Boserup E. The Conditions of Agricultural Growth. The Economics of Agrarian Change Under Population Pressure. L., 1965.
95. Bottger W. Die Ursprunglichen Jagdmetoden der Chinesen. В., 1960.
96. Carneiro R. L. A Theory of the Origin of the State —«Science». 1970, № 169(3947).
97. Сarneirо R. L. Political Expansion as an Expression of the Principle of Competitive Exclusion. — Origins of the State. Philadelphia. 1978.
98. Chang Kwang-chih. Some Dualistic Phenomena in Shang Society.— «The Journal of Asian Studies». 1964, vol. 24, № 1.
99. Chang Kwang-chih. The Archaeology of Ancient China. New-Haven — London, 1977.
100. Chang Kwang-chih. The Origin of Chinese Civilization: A Review.—JAOS. 1978, vol. 98, № 1.
101. Chang Kwang-chih-. Shang Civilization. New-Haven — London, 1980.
102. Chang Tsung-tung. Der Kult der Shang Dynastie im Spiegel der Orakelinschriften. Wiesbaden, 1970.
103. Chavannes E. Memoires historiques de Se-ma Ts'ien. T. 4. Leiden, 1967.
104. Chen P. M. Law and Justice. The Legal System in China. N. Y.—L„ 1973.
105. Cheng T'e-k'un. Archaeology in China. Vol. 2. Shang China. Cambridge, 1960.
106. Cheng T'e-k'un. Archaeology in China. Vol. 3. Chou China. Cambridge, 1963.
107. Claessen. H. J. M. The Early State: A Structural Approach.—The Early State. The Hague, 1978.
108. Claessen H. J. M. Early State in Tahiti.—The Early State. The Hague,
109. Claessen H. J. M. Introduction.— Political Anthropology. The Hague,
110. Claessen H. J. M. The Balance of Power in Primitive States.—Political Anthropology. The Hague, 1979.
111. Claessen H. J. M., Skalnik P. (eds). The Early State. The Hague, 1978.
112. Cohen R. The Natural History of Hierarchy: A Case Study. — Power and Control. Social Structure and Their Transformations. Beverly Hills, 1976.
113. Cohen R. Introduction.—Origins of the State. Philadelphia, 1978.
114. Cohen R. State Foundations: A Controlled Comparison.— Origins of the State. Philadelphia, 1978.
115. Cohen R. State Origins.—The Early State. The Hague, 1978.
116. Сreel H. G. The Birth of China. N. Y., 1937.
117. Сreel H. G. Studies in Early Chinese Culture. N. Y., 1954.
118. Creel H. G. The Origins of Statecraft in China. Vol. 1. The Western Chou Empire. Chicago — London, 1970.
119. Creel H. G. The Beginnings of Bureaucracy in China: The Origin of the Hsien —Creel H. G. What is Taoism and Other Studies in Chinese Cultural History. Chicago — London, 1970.
120. Creel H. G. Shen Pu-hai, A Chinese Political Philosopher of the Fourth Century В. C. Chicago—London, 19i74.
121. Dalton G. Primitive, Archaic, and Modern Economies: Karl Polanyi's Contribution to Economic, Anthropology and Comparative Economy.— Essays in Economic Anthropology. Seattle, 1965.
122. Debnicki A. The «Chu-shu-chi-nien» as a Source to the Social History of Ancient China. Warszawa, 1956.
123. Dewali M. Pferd und Wagen in fruhen China. Bonn, 1964.
124. Ear1e T. Economic and Social Organization of a Complex Chiefdom: The Halelea District, Kana'i, Hawaii. Ann Arbor, 1978.
125. Eberhard W. Conguerors and Rulers. Leiden, 1952.
126. Ecsedy H. Cultivators and Barbarians in Ancient China.—«Acta Orientaliа». 1974, bd 28, Hf 3.
127. Eisenstadt S. N. Social Differentiation and Stratification. Glenview — London, 1971.
128. Escarra J. Le droit chinois. Peking — Paris, 1936.
129. Finley M. I. The Ancient Economy. Berkeley - Los Angeles, 1973.
130. Flannery К. V. The Origins of the Village as a Settlement Type in Mesoarnerica and the Near East. A Comparative Study.—Man, Settlement and Urbanism. Hertfordshire, 1972.
131. Forde D. Primitive Economics.—Man, Culture and Society. N. Y., 1960.
132. Forde D. The Governmental Roles of Association among the Yako.— Comparative Political Systems. Austin — London, 1967.
133. Franke O. Geschichte des chinesischen Reiches. Bd 1. В., 1930.
134. Fraser E. D. H., Lockhart J. H. S. Index to the Tso chuan. Ox., 1930.
135. Fried M. H. On the Evolution of Social Stratification and the State.— Culture in History. Essays in Honor of Paul Radin. N. Y., 1960.
136. Fried M. H. The Evolution of Political Society. N. Y., 1967.
137. Fried M. H. On the Concepts of «Tribe» and «Tribal Society».—Essays on the Problem of Tribe. Seattle, 1968.
138. Fried M. H. On the Evolution of Social Stratification and the State.— The Rise and Fall of Civilizations. Menlo Park, 1974.
139. Fried M. The Notion of Tribe. Menlo Park, 1975.
140. Fried M. H. The State: the Chicken and the Egg; or What Came First? — Origins of the State. Philadelphia, 1978.
141. Friedman J. Tribes, States and Transformations.—Marxist Analyses and Social Anthropology. L., 1975.
142. Godelier M. Economy and Religion. An Evolutionary Optical Illusion.— The Evolution of Social Systems. L., 1977.
143. Goldman I. The Evolution of Polynesian Societies.—Culture in History, Essays in Honor of Paul Radin. N. Y., 1960.
144. Goldschmidt W. Man's Way. A Preface to the Understanding of Human Society. N. Y., 1959.
145. Goldschmidt W. Comparative Functionalism. An Essay in Anthropological Theory. Berkeley, 1966.
146. Goldstein K. Concerning the Concept of «Primitivity».—Culture in History. Essays in Honor of Paul Radin. N. Y., 1960.
147. Goody J. Technology. Tradition and the State in Africa. L., 1971.
148. Haloun G. Contributions to the History of Clan Settlement in Ancient China.— «Asia Major». Vol. 1. 1924.
149. Harris M. The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories of Culture. N. Y., 1969.
150. Harris M. Cows, Pigs, Wars and Witches: The Riddle of Culture. N. Y., 1974.
151. Harris M. Cannibals and Kings. The Origins of Cultures. N, Y., 1977.
152. Harris M. Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture. N. Y., 1979.
153. Hassan F. A. Determination of the Size, Density, and Growth Rate of Hunting Gathering Populations.— Population, Ecology and Social Evolution. The Hague, 1975.
154. Helm J. (ed). Essays in Economic Anthropology. Seattle, 1965.
155. Helm J. (ed). Essays on the Problem of Tribe. Seattle, 1968.
156. Herskovitz M. J. Economic Anthropology. A Study in Comparative Economics. N. Y., 1952.
157. Herzfeld E. Iran in the Ancient East. L.—N. Y., 1941.
158. Hindess В., Hirst P. Q. Pre-capitalist Modes of Production. L., 1975.
159. Hindess В., Hirst P. Mode of Production and Social Formation: An Auto — critique of Pre-capitalist Modes of Production. L., 1977.
160. Hobhotise L. Т. a. o. The Material Culture and Social Institutions of the Simple Peoples. N. Y., 1965.
161. Hocart A. M. Kings and Councillors. An Essay in the Comparative Anatomy of Human Society. Cairo, 1936.
162. Hоebe1 E. A. Man in the Primitive World. N. Y.— L., 1958.
163. Hoebel E. A. The Nature of Culture.—Man, Culture and Society. N. Y., I960.
164. Hoebel E. A. Anthropology: The Study of Man. N. Y., 1966.
165. Hsu Cho-yun. Ancient China in Transition. Stanford, 1965.
166. Hsu Cho-yun. Early Chinese History: The State of the Field.—«Journal of Asian Studies». 1979, vol. 38, № 3.
167. Hunt E., Hunt R. C. Irrigation, Conflict, and Politics: A Mexican Case. — Origins of the State. Philadelphia, 1978.
168. Imber A. Kuo-Yu: An Early Chinese Text and Relationship with the Tso Chuan. - Stockholm. 1975, vol. 1.
169. Isаакs H. R. Idols of the Tribe. N. Y., 1975.
170. Janssen J. J. The Early State in Ancient Egypt.— The Early State. The Hague, 1978..
171. Kane V. C. The Chronological Significance of the Inscribed Ancestor Dedication in the Periodization of Shang Dynasty Bronze Vessels.— AA. 1973, vol. 35, № 4.
172. Kane V. C. The Independent Bronze Industries, in the South of China Contemporary with the Shang and Western Chou Dynasties.— «Archives of Asian Art». 1974/75, vol. 28.
173. Kane V. C. A Re-examination of An-yang Archaeology.— «Ars Orientalis». 1975, № 10.
174. Karlgren B. The Authenticity of Ancient Chinese Texts.—BMFEA. 1929, № 1.
175. Karlgren B. The Early History of the Chon Li and Tso Chuan Texts.— BMFEA. 1931, № 3.
176. Karlgren B. Legends and Cults in Ancient China.—BMFEA. 1946, № 18.
177. Karlgren B. Glosses of the Book of Documents.—BMFEA. 1948, № 20; 1949, № 21.
178. Karlgren B. The Book of Documents.—BMFEA. 1950, № 22.
179. Keightley D. N. Religion and the Rise of Urbanism.—JAOS. 1973. vol. 93, № 4.
180. Кeight1eу D. N. Sources of Shang History. Berkeley, 1978.
181. Kirchhoff P. The Principles of Clanship in Human Society.— «Davidson Journal of Anthropology». 1955, vol. 1.
182. Krader L. Formation of the State. Englewood Cliffs, 1968.
183. Krader L. The Asiatic Mode of Production. Assen, 1975.
184. Krader L. The Origin of the State Among the Nomads of Asia.—The Early State. The Hague, 1978.
185. Landtman G. The Origin of the Inequality of the Social Classes. Chicago, 1938.
186. Latourett K. S. The Chinese. Their History and Culture. N. Y., 1934.
187. Le Vine R. A., Campbell D. T. Ethnocentrism: Theories of Conflict, Ethnic Attitudes, and Group Behavior. N. Y., 1971.
188. Leach E. Levi-Strauss. L., 1974.
189. Leach E. Culture and Communication. Cambridge, 1976.
190. Legge J. The Chinese Classics. Vol. 1—7. Hongkong — London, 1861— 1872.
191. Lenski G. E. Power and Privilege: A Theory of Social Stratification. N. Y., 2966.
192. Levi-Strauss C. The Family.—Man, Culture, and Society. N. Y., 1960.
193. Levi - Strauss C. Structural Anthropology. L., 1967.
194. Levi-Strauss C. The Social and Psychological Aspects of Chieftainship in a Primitive Tribe: The Nambikuara of Northwestern Mato Grosso. — Comparative Political Systems. Austin — London, 1967.
195. Levi - Strauss C. The Elementary Structures of Kinship. L., 1970.
196. Levi - Strauss C. The Scope of Anthropology. L., 1971.
197. Lewin G. Zur Genese des Staats in China, Staatliches Museum fur Volkerkunde, Dresden. Abhandlungen und Berichte, Bd. 36. В., 1978.
198. Lewis H. S. Typology and Process in Political Evolution. Essay on the Problem of Tribe, Seattle, 1968.
199. Li Chi. The Beginnings of Chinese Civilization. Seattle, 1957.
200. Li Chi. Anyang: A Chronicle of the Discovery, Excavation and Reconstruction of the Ancient Capital of Shang Dynasty. Seattle, 1977.
201. Linton R. The Study oi Man. An Introduction. N. Y.— L., 1936.
202. Lloyd P. C. The Traditional Political System of the Yoruba.— Comparative Political Systems. Austin — London, 1967.
203. Loehr M. The Bronze Styles of the Anyang Period (1300—1028 В. C.).— «Archives of the Chinese Art Society of America». 1953, № 7.
204. Loehr M. Chinese Bronze Age Weapons. Ann-Arbor, 1956.
205. Lоn Кan - jоu. Histoire sociale de l'epoque Tcheou. P., 1935..
206. Lоwie R. H. The Origin of the State. N. Y., 1927.
207. Lowie R. H. Social Organization. L., 1950.
208. Lowie R. H. Primitive Society. N. Y., 1961.
209. Lowie R. H. Political Organization Among the American Aborigines. — Comparative Political System. Austin — London, 1967.
210. Mair L. P. Primitive Governement. Harmondsworth, 1962.
211. Mandelbaum D. G. Social Groupings —Man, Culture, and Society. N.Y., 1960.
212. Maranda P. Structuralism in Cultural Anthropology. — «Annual Review of Anthropology». Vol. 1, 1972.
213. Maspего H. Legendes myphologiques dans le Chou King — «Journal Asiatique». 1924, vol. 202.
214. Maspero H. La Chine Antique. P., 1927.
215. Mauss M. The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies L 1970
216. Midd1etоn J., Tait D. Tribes Without Rulers. L., 1958.
217. Murdock G. P. Social Structure. N. Y., 1949.
218. Murdock G. P. How Culture Changes.—Man, Culture, and Society, N. Y., 1960.
219. Murdock G. P. Ethnographic Atlas.—«Ethnology». Vol. 1—6, 1962— 1965.
220. Murphу R. The Dialectic of Social Life. N. Y., 1971.
221. Murra J. V. On Inca Political Structure.— Comparative Political Systems. Austin — London, 1967.
222. Nadel S. F. Nupe State and Community.—Comparative Political Systems. Austin— London, 1967.
223. Nage1 J. Description and Explanation in Power Analysis.— Power and Control. Beverly Hill, 1976.
224. Nzimiro Ikenna. Anthropologists and Their Terminologies.— The Concept and Dynamics of Culture, The Hague — Paris, 1977.
225. Оppenheimer F. Der Staat. Frankfurt a. M., 1907.
226. Ottenbein K. F. The Evolution of a War: A Cross-Cultural Study, New Haven, 1970.
227. Parsons T. Towards a General Theory of Social Action. Cambridge, 1951.
228. Pearson H. W. The Economy has no Surplus: Critique of a Theory of Development.— Trade and Market in Early Empires. N. Y., 1957.
229. Pe1о G. H., Pe1lо P. J. The Human Adventure. N. Y., 1976.
230. Polany K., Arensberg С. M., Pearson H. W. (eds) Trade and Market, in the Early Empires. Glencoe, 1957.
231. Pо1any К. Primitive, Archaic and Modern Economics. — Essays of K. Polany. N. Y., 1968.
232. Polgar S. Population, Evolution and Theoretical Paradigms.—Population, Ecology and Social Evolution. The Hague, 1975.
233. Poulantzas N. Political Power and Social Classes. L., 1978.
234. Powell H. A. Competitive Leadership in Trobriand Political Organization. Comparative Political Systems. Austin — London, 1967.
235. Price B. J. Secondary State Formation: Explanatory Model.— Origins of the State. Philadelfia, 1978.
236. Re а у M. Present-Day Politics in the New Guinea Highlands.—Comparative Political Systems. Austin — London, 1967.
237. Red field R. The Primitive World and its Transformations. Ithaca, 1953.
238. Redfield R. How Human Society Operates.— Man, Culture, and Society. N. Y., 1960.
239. Sah1ins M. Social Stratification in Polynesia. Seattle, 1958.
240. Sahlins M. The Origin of Society —«Scientific American», 1960, vol.203, № 30.
241. Sahlins M. D. The Segmentary Lineage: on Organization of Predatory Expansion. — Comparative Political Systems. Austin — London, 1967.
242. Sah1ins M. D. Tribesmen. New Jersey, 1968.
243. Sawer M. Marxism and the Question of the Asiatic Mode of Production. The Hague, 1977.
244. Schaedel R.P. Early State of the Incas.—The Early State. The Hague, 1978.
245. Schapera I. Government and Politics in Tribal Society. L., 1956.
246. Seaton S. L. The Early State in Hawaii.— The Early State. The Hague, 1978.
247. Serviсe E. R. Primitive Social Organization. N. Y., 1962.
248. Service E. R. Origins of the State and Civilization The Process of Cultural Evolution. N. Y„ 1975.
249. Service E. R. Classical and Modern Theories of the Origin of Government.— Origins of the State. Philadelphia, 1978.
250. Shepardson M. The Traditional Authority System of the Navajos.— Comparative Political Systems. Austin — London, 1967.
251. Ska1nik P. The Early State as a Process. — The Early State. The Hague, 1978.
252. Steele J. The I-li, or Book of Etiquette and Ceremonial, vol. 1—2. L., 1917.
253. Steinhart E. I. Ankole: Pastoral Hegemony.—The Early State. The Hague, 1978.
254. Steward J. H. Theory of Culture Change, The Methodology of Multilinear Evolution. Illinois, 1955.
255. Stover L. E., Stover Т. K. China. An Anthropological Perspective. Pacific Palisades, 1976.
256. Sumner W.G. Folkways. N. Y., 1906.
257. Sу1va n V. Silk from Yin Dynasty. — BMFEA. 1937, № 9.
258. Terrау E. Marxism and «Primitive» Societies. N. Y. — L., 1972.
259. Toкei F. Sur le mode de production asiatique. Budapest, 1966.
260. Tschepe A. Histoire du Royaume de Tsin (1106—452). Chang-Hai, 1910.
261. Tung Tso-pin. Fifty Years of Studies in Oracle Inscriptions. Tokyo, 1964.
262. Vandermeersch L. Wangdao ou la voie royale: recherche sur Esprit des institutions de la Chine rarchaique. Т. 1. Structures cultuelles et structures familiales. P., 1977.
263. Wachuku A. N. Law and Negative Sanctions in African Societies.— Political Anthropology. The Haque, 19.79.
264. Walker R. L. The Multi-State System of Ancient China. Westport, 1953.
265. Walter E. V. Terror and Resistance: A Study of Political. Violence. N.Y., 1969.
266. Weber M. The Theory of Social and Economic Organization. Glencoe, 1964.
267. Whea1leу P. The Pivot of Four Quarters. Chicago, 1971.
268. Wi11fоge1 K. A. Oriental Despotism. N. Y., 1957.
На китайском и японском языках
269. Амано М. Эволюция земледельческих орудий в Китае.— «Тохо гакухо». 1956, № 26.
270. Ань Цзиньхуай. О фундаменте шанской городской стены в Чжэнчжоу (городище Ао).— ВУ. 1961, № 4—5.
271. Ань Ч ж им инь. Некоторые проблемы в связи с шанским городищем в Чжэнчжоу. — КГ. 1961, № 1.
272. Ван Говэй. Собрание сочинений Гуань Тана. Т. 1—4. Пекин, 1961.
273. Ван Гуйминь. Землевладение дома вана в Шан по надписям на гадательных костях.— «Чжунго ши яньцзю». 1980, № 3.
274. Ван Юйган и др. Доклад о раскопках шанской стоянки в Шанцзе, близ Чжэнчжоу, пров. Хэнань.— КГ. 1966, № 1.
275. Ван Юйчжэ. О системе наследования от брата к брату в эпоху Шан и о характере общества, предшествовавшего Инь-Шан.— «Нанькай да сюэ сюэбао». 1956, № 1.
276. «Вэньу цднькао цзыляю» (с 1959 г.— «Вэньу»).
277. Го Можо. Толкование надписи «И хоу Не гуй».— КГСБ. 1956, № 1.
278. Го Можо. Толкование надписей на бронзе обеих эпох Чжоу. Т. 1—8. Пекин. 1957.
279. Го Можо. Толкование надписей на бронзовых предметах из Чжанцзя по, близ Чанани.— КГСБ. 1962, № 1.
280. Гоюй. Шанхай. 1958.
281. Гуань-цзы.— Сер. «Чжуцзы цзичэн». Т. 5.
282. Дин Шань. Род и его строй по надписям на костях и панцирях черепах. Пекин, 1956.
283. Дун Цзобинь. Иньский календарь. [Бэйцзин], 1945.
284. Или. - Сер. «Шисань цзин». Т. 15—18. Пекин, 1957.
285. Индекс к «Ши цзин». Бэйпин, 1934.
286. Инь Вэйчжан. Заметки о культуре Эрлитоу,—КГ. 1978, № 1.
287. «Каогу».
288. «Каогу сюэбао».
289. Ли Сюэцинь. О системе родства в Инь — ВШЧ. 1957, №11.
290. Ли Янсун. Доклад об археологическом обследовании южного берега р. Ихэ, уезд Яньши, пров. Хэнань.— КГ. 1964, № П.
291. Ли Янун. Жизнь общества в эпоху Инь. Шанхай, 1955.
292. Ли цзи.—Сер. «Шисань цзин». Т. 19—26. Пекин, 1957.
293. Лунь юй.— Сер. «Чжуцзы цзичэн». Т. 1, ч. 1. Пекин, 1956.
294. Люйши чунь цю.— Сер. «Чжуцзы цзичэн». Т. 6, ч. 2.
295. Масааки Мацумото. Воцарение Чжоу-гуна — исследование ранних материалов «Шан-шу».— «Сигаку дзасси». 1968, т. 77, № 6.
296. Мо-цзы.— Сер. «Чжуцзы цзичэн». Т. 4, ч. 2. Пекин, 1956.
297. Мэй Сыпин. Политика в период Чуньцю и политическая мысль Конфуция.— «Гуши бянь». Т. 2. Пекин, 1930.
298. 292.. Мэн-цзы.— Сер. «Чжуцзы цзичэн». Т. 1, ч. 2. Пекин, 1956.
299. Сиань, Баныю. Пекин, 1963.
300. Цзягу вэньбянь. Пекин, 1066.
301. Сун Минь. К дискуссии в КНР по проблеме азиатского способа производства.— ЛЯ. 1980, № 5.
302. Сы Вэйчжи. Предварительное исследование истории раннего Чжоу,— ЛЯ. 1978, № 8.
303. Сяма Цянь. Шицзи.— Сер. «Эрши сы ши». Т. 1. Пекин, 1958.
304. Сюй Ляньчэн. Территориальная организация Инь по надписям на костях.— «Шаньдуи дасюэ сюэбао». 1957, т. 2:
305. Сюй Чжуншу. Исследование о «лэй» и «сы».— «Лиши юйянь яньцзю соцзикань». 1930, т. 2, № 1.
306. Сюй Чжуншу. Западное Чжоу — феодальное общество.— ЛЯ- 1957, № 5.
307. Сюй Чжуншу. Датировка и отождествление надписи «Юй дин».— КГСБ. 1959, №3.
308. Сюнь-цзы.— Сер. «Чжуцзы цзичэн». Т. 2. Пекин, 1956.
309. Ся Най. Датировка по радиокарбону и доисторическая археология Китая,— КГ. 19.77, № 4. "
310. Тан Лань. Толкование надписи «И хоу Не гуй»,— КГСБ. 1956, № 2.
311. Тан Лань. Атлас публикаций изделий из бронзы. Шэньси. 1960.
312. Тун Чжучэнь. Проблема возникновения государства в Китае с точки зрения модели культуры типа Эрлитоу.— ВУ. 1975, № 6.
313. У Жудзо. О культуре Ся и процессе ее генезиса.—ВУ. 1978, № 9.
314. Фан Юшэн. Сообщение о раскопках в Эрлитоу, уезд Яньши, пров. Хэ-нань.—КГ. 1965, № 5.
315. Фань Сяньюн. Исправления и дополнения к «Губэнь чжушу цзинянь цзицзяо». Шанхай, 1957.
316. Хоу Вайлу. Об истории древнекитайского общества. Пекин, 1955.
317. Ху Хоусюань. Использование удобрений в земледелии в эпоху Инь,— ЛЯ- 1955, № 1.
318. Ху Хоусюань. Шанди и ван-ди в надписях на иньских гадательных костях. Ч. 1—2,—ЛЯ. 1959, № 9, 10.
319. Хуа Чжунъянь. Вопрос о календаре в песне «Ци юэ».— ЛЯ. 1957, № 2.
320. Цзо чжуань, — Сер. «Шисань цзин». Т. 27—32. Пекин, 1957.
321. Цзо у Хэн. Чжэнчжоуское шанское городище — столица Чэн Тана Бо.— ВУ. 1978, № 2.
322. Цзо у Хэн. Некоторые проблемы в связи с культурой Ся.— ВУ. 1979, №3.
323. Цзян Хун. Паньлунчэн и южные территории династии Шан.—ВУ. 1976, № 2.
324. Цзянь Боцзань. Очерк истории Китая. Т. 1. Шанхай — Чунцин. 1946
325. Ци Сыхэ. Изучение обряда инвеституры в Чжоу.— «Яньцзин сюэбао». 1947, № 32.
326. Чжан Чжаншоу. Бронзовая утварь периода Инь-Шан.— КГСБ. 1979, № 3.
327. Чжан Чжэнлан. Пользование землей по гадательным надписям и некоторые проблемы, связанные с этим.—КГСБ. 1973, № 1.
328. Чжао Гунсянь. Об обмене землей в Западном Чжоу по надписям на сосуде, найденном в Шэньси.— «Бэйцзин шифань дасюэ сюэбао». 1979, № 6.
329. Чжао Фэн. Сельское хозяйство и жертвоприношения в Инь по надписям на керамике из Цинцзян, пров. Цзянси.— КГ. 1976, № 4.
330. Чжоу ли—Сер. «Шисань цзин». Т. 11—14. Пекин, 1957.
331. Чжушу цзинянь.— Lеggе J. The Chinese Classics. Vol. 3. Prolegomena. Hongkong — London, 1865.
332. Чжэнчжоу, Эрлиган. Пекин, 1959.
333. Чэнь Банфу. Толкование надписи «Не гуй», — ВУЦКЦЛ. 1955, № 5. 327а. Чэнь Ли-синь. Остатки жилищ культуры Яншао, обнаруженные в Дахэ близ Чжэнчжоу,—КГ. 1973, № 6.
334. Чэнь Мэнцзя. Хронологическое изучение западночжоуских бронзовых изделий,— КГСБ. 1955, т. 9, 10, 1966, № 1—4.
335. Чэнь Мэнцзя. Надпись «И хоу Не гуй» и ее содержание,— ВУЦКЦЛ, 1955, № 5.
336. Чэнь Мэнцзя. Свод сведений о надписях на иньских гадательных костях. Пекин, 1956.
337. Чэнь Цз ычжань. Толкование избранных песен раздела «Го фэн» «Ши цзин». Шанхай, 1957.
338. Шан цзюньшу.— Сер. «Чжуцзы цзичэн». Т. 5, ч. 2. Пекин, 1956.
339. Ши цзин.— Сер. «Шисань цзин». Т. 5—10. Пекин, 1957.
340. Шу цзин.— Сер. «Шисань цзин». Т. 3—4. Пекин, 1957.
341. Шэ Шучэн. К проблеме азиатского способа производства.— «Сюэшу яньцзю». 1981, № 5.
342. Эръя.— Сер. «Шисань цзин», Т. 36. Пекин, 1957.
343. Юй Шанъу. О шести и восьми армиях в бронзовых надписях Западного Чжоу и об их размещении.—КГ. 1964, №.3.
344. Ян Куань. История Чжаньго, Шанхай. 1955.
345. Ян Куань. К вопросу о сельскохозяйственных орудиях и агротехнике в Западном Чжоу.— ЛЯ; 1957, № 10.
346. Ян Сянкуй. Экономический строй царства Ци до эпохи Цинь.— ВШЧ. 1954, № 11, 12'.
347. Янь-цзы чунь цю,— Сер. «Чжуцзы цзичэн». Т. 4, ч. 2. Пекин, 1956.
Список сокращений
ВДИ — «Вестник древней истории».
ВИ — «Вопросы истории».
ВУ — «Вэньу».
ВУЦКЦЛ — «Вэньу цанькао цзыляо».
ВШЧ — «Вэнь ши чжэ».
КГ — «Каогу».
КГСБ — «Каогу сюебао».
НАА — «Народы Азии и Африки».
АА — «Artibus Asiae».
BMFEA — «Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities».
JAOS — «Journal of the American Oriental Society».
Примечания
1
Вообще следует заметить, что с точки зрения всемирной истории исключением является именно развитие Европы от античности до современности, тогда как остальной мир (и Восток как его наиболее явственный символ) являет собой не столько специфику, сколько норму (см. в частности[81, с. 167]).
(обратно)2
Стремлением снять все возражения и разногласия по поводу приемлемости понятий «рабовладельческий» и «феодальный» способы производства для характеристики любых докапиталистических обществ, вышедших из недр первобытности, отличается, например, призванная подвести итог дискуссии книга В. Н. Никифорова «Восток и всемирная история» [60], причем именно такой подход побудил автора прибегать к конструкциям, не отражающим реальной структуры традиционных обществ Востока.
(обратно)3
В том, что сам Маркс смотрел на это именно так, убеждает ряд сопоставлений, приводимых в тексте «Капитала», где автор в различной связи не раз сопоставляет друг с другом выступающих в аналогичной функции представителей эксплуататорской верхушки, олицетворяющих все три упомянутые формы: «При рабовладельческих отношениях, при крепостных отношениях, при отношениях дани (поскольку имеется в виду примитивный общественный строй) присваивает, а следовательно, и продает продукты рабовладелец, феодал, взимающее дань государство» [2, ч. 1, с. 358]; «Помимо того, что торговый капитал живет за счет разницы между ценами производства различных стран (и в этом отношении он оказывает влияние на выравнивание и установление товарных стоимостей), купеческий капитал при прежних способах производства присваивает себе подавляющую долю прибавочного продукта, отчасти как посредник между обществами, производство которых в основном еще направлено на потребительную стоимость и для экономической организации которых продажа части продуктов, вообще поступающей в обращение, следовательно вообще продажа продуктов по их стоимости, имеет второстепенное значение; отчасти потому, что при прежних способах производства главные владельцы прибавочного продукта, с которыми имеет дело купец,— рабовладелец, феодальный земельный собственник, государство (например, восточный деспот), представляют потребляющее богатство, которому расставляет сети купец» [2, ч. 1, с. 363].
(обратно)4
Некоторое время назад в отечественной историографии возникла тенденция к пересмотру тезиса о «верховной собственности», по меньшей мере на Ближнем Востоке в древности [34]. Следуя И. М. Дьяконову, отдельные авторы склонны даже считать эту идею доказанным фактом чуть ли не для всего древнего Востока [60, с. 231—232]. Между тем сомнение в существовании верховной собственности явно неоправданно. Многочисленные и обстоятельные исследования современных социальных, экономических и политических антропологов позволяют заключить, что в ранних политических структурах, о которых идет речь, существовал феномен власти-собственности политического лидера, который и следует рассматривать в качестве модификации «верховной собственности» (см. [22; 23]). Этот факт подтверждает принципиальную правоту тезиса Маркса и побуждает отвергнуть упомянутую тенденцию.
(обратно)5
Стоит привести небезынтересное суждение на сей счет: «Понятие "азиатский способ производства", гипотетически введенное Марксом, в дальнейшем могло быть снято самим развитием исторической науки, если бы оказалось, что оно противоречит фактам. Но все дело в том, что этого не произошло. Как раз наоборот! Факты исторической науки убедительно свидетельствуют, что понятие "азиатский способ производства" выражает реальную и весьма важную проблему исторического знания, обойти и игнорировать которую невозможно» [54, с. 168]. Отметим также, что за последнее время резко увеличилось внимание к проблеме «азиатского способа производства» и в историографии КНР [294; 334], где еще недавно абсолютно господствовала пятичленная схема формаций, причем в ее весьма догматической модификации (см. [29]).
(обратно)6
Парная нуклеарная семья, как это показано специальными современными исследованиями, с ее половыми, репродуктивными, экономическими и воспитательными функциями возникла на заре общества [214, с. 1—11], что не исключало роли коллектива (группы) в регулировании и даже в обеспечении реализации упомянутых функций, особенно экономической и воспитательной. Роль нуклеарной семьи была в доземледельческих группах весьма значительной [226, с. 315].
(обратно)7
Этническая общность четко фиксировалась даже в тех случаях, когда тотемические роды реально не были очерчены, как, например, у эскимосов [74, с. 103; 205, с. 177—185; 208, с. 294]. Символика родственных связей в такой общности обычно воплощалась в форме обязательного церемониала, четко фиксировавшего автоматическую солидарность всех сегментов общности [25, с. 74—76].
(обратно)8
Конформность вела к первобытному этноцентризму, четко делившему мир на «своих» и «чужих» [166; 184; 252]. Культуру своей общности индивид автоматически считал лучшей и даже единственно возможной формой существования [198, с. 221]. Подобные представления отражались в мифах и в концентрированном виде были представлены в стандартах и стереотипах лексики, символики, обряда, поведения, в использовании имен и т. п.
(обратно)9
Похоже, что именно к этой древнейшей привилегии восходит столь типичная впоследствии для высших слоев общества практика полигамии. Как специально заметил Р. Лоуи, полигамия — привилегия немногих [205, с. 40— 45].
(обратно)10
Впрочем, у некоторых народов, например у арабов или курдов, брачные связи строятся на несколько иной основе: дочь одного брата и сын другого, т. е. кузены по мужской линии, не только имеют право, но и должны вступать в брак друг с другом [204, с. 9].
(обратно)11
В случае матрилокальности или иных вариантов структура существенно не изменялась — менялись отношения родства. Функции патриарха, например, выпадали чаще всего на долю брата старшей женщины в группе (но не на нее: представления о матриархате в этом смысле давно отвергнуты наукой [53, с. 68 и сл.]).
(обратно)12
К ним в этом отношении близки и те общины, где земледелие еще не вытеснило полностью охоту и собирательство (например, многие поселения индейцев Америки).
(обратно)13
В современной историографии существует точка зрения, согласно которой термина «политическая» по отношению к доклассовым структурам следует избегать, заменяя его новообразованием «потестарная» [49, с. 242—246]. Предложенное Ю. В. Бромлеем [9, с. 15], это слово, на мой взгляд, приемлемо лишь в том случае, если точно известны характер структуры и время, когда она становится классовой. Применительно к государствам Востока такой ясности нет, и я предпочитаю пользоваться термином «политическая», имея в виду суть дефиниции и абстрагируясь от споров вокруг нее.
(обратно)14
Хорошо разработанная и подкрепленная достаточным количеством данных, теория Фрида выглядит весьма убедительно и получила признание [195, с. 102; 232, с. 179—183]. Даже те, кто не склонен принять ее целиком, отмечают исключительную, важность внешнего импульса для ускорения развития периферийной структуры в процессе трибализации ([112, с. 155—156]; см. также [80, с. 225—227; 152]).
(обратно)15
В специальных работах мне не приходилось встречать конкретного, выраженного в цифрах показателя плотности населения, которая была бы необходима и достаточна для возникновения подобного импульса. Видимо, он варьируется в зависимости от условий. Для того чтобы был ясен приблизительный масштаб цифр, напомню, что древнемесопотамские поселения на начальном этапе развития цивилизации и урбанизации имели, по разным подсчетам, плотность от 200 до 400 человек на гектар [56, с. 200].
(обратно)16
Еще А. Смит писал о том, что цель восточного государя — максимизация производства и дохода [67, с. 525; 240, с. 29].
(обратно)17
Что, видимо, сыграло свою роль в процессе гипертрофирования этой функции. Описанная в свое время Л. Г. Морганом [58, с. 86, 121, 145], она, как известно, легла затем в основу тезиса о «военной демократии» как об универсальном и обязательном этапе в истории общества. Ныне совершенно очевидно, что «военная демократия» таким этапом не была [74, с. 126], что это лишь частный случай, вызванный к жизни определенным стечением обстоятельств и знакомый ряду народов мира, включая, например, варягов и викингов средневековой Европы.
(обратно)18
Привычный стереотип рассматриваемой проблемы долгое время сводился к настойчивым попыткам найти частную собственность, пусть неразвитую, пусть в зародыше, но обязательно частную, ибо без нее нет классов как экономической категории, а без классов — государства. А коль скоро государство уже вырисовывается, должны быть классы, должна быть частная собственность (см. [60, с. 198—203]). Только сравнительно недавно этот вопрос под нажимом неопровержимых фактов стал пересматриваться все решительнее (см. [35, вып. 1, с. 24—25; 36]).
(обратно)19
У йоруба, например, кроме общинных земель, часть урожая с которых в виде подарков подносилась старейшинам, существовали так называемые дворцовые земли, урожай с которых шел на общие нужды [44, с. 79—85].
(обратно)20
Э. Сервис со ссылкой на А. Хокарта [158, с. 217] отмечал, что было бы ошибочным разделять сооружения на полезные (каналы, дороги и т. п.) и «бесполезные» (гробницы-пирамиды, храмы), так как все они равно были необходимыми для процветания и самоутверждения общества, были ритуально важными для самих работающих [245, с. 297, 307].
(обратно)21
Специалисты по античной экономике обращают внимание на принципиальную разницу, отличающую античную экономическую структуру с господствовавшими в ней частновладельческими отношениями от восточной, где эти отношения были вторичными и не доминировали [127, с. 28—29].
(обратно)22
Своеобразие классовых связей, характерных для обществ подобного типа, не раз было объектом внимания специалистов. Предлагались различные варианты, давались разные дефиниции, призванные пояснить суть описываемой структуры. На мой взгляд, более других это удалось М. А. Чешкову, который определил ее как государственный феодализм (название не вполне удачное, но приемлемое), и, главное, отметил при этом, что в данном случае государство образует с господствующим классом единое целое («государство-класс») и является субъектом производственных отношений [75, с. 243—245].
(обратно)23
Успехи китайской археологии несомненны, они особенно заметны в последние десятилетия. Но специфика археологического факта такова, что для интерпретации его — особенно в сфере интересующей нас проблематики — необходим авторитет аутентичного письменного источника.
(обратно)24
В подлиннике дословно «меч и пилу». Как явствует из специальных комментариев [41, с. 210, 296], смысл этого выражения идентичен приведенному в переводе. Разумеется, это отнюдь не означает, что о «законах с наказаниями» может реально идти речь в легендарные времена Хуан-ди. Имеется ввиду лишь символическое обозначение направленности реформ этого лидера.
(обратно)25
Следует отметить, что приведенная выше схема явно не вписывается в те хронологические рамки, которые отводятся ей традицией (примерно XXVI— XXI вв. до н.э.), во всяком случае в свете современных археологических данных. Ни одна из известных пока китайских археологических культур, общин облик которой дает хоть какие-то основания для выводов о существовании ранних форм политической интеграции, не выходит за рамки середины II тысячелетия до н. э.
(обратно)26
Стоит напомнить в этой связи о затруднениях, которые вставали в связи с рациональным объяснением трехсотлетнего периода правления Хуан-ди. Д. Бодд приводит — со ссылкой на «Дадан лицзи» (гл. 62) — приписываемый Конфуцию диалог с его учеником по поводу столь необычного долголетия. Конфуций с позиций рационализма поясняет, что жил Хуан-ди всего сто лет, но народ пользовался благами его управления еще сто лет и следовал его указаниям еще сто, поэтому-то и упоминается о трехстах годах [91, с. 373— 374].
(обратно)27
В тексте употреблен знак «и» («поселение», «город», позже «община»), который применительно к ранним периодам истории Китая, в частности к эпохе Шан, означал поселение того или иного клана, а то и региональную политическую структуру типа небольшого чифдом. Впрочем, этим же знаком обозначалась и столица крупного составного чифдом, каким было Шан-Инь. Подробнее об эволюции понятия «и» см. [16].
(обратно)28
Данные о перемещениях Ся, имеющиеся в различных древнекитайских источниках, включая «Ши цзи» и обе версии «Чжушу цзинянь», собраны и проанализированы Г. Крилом [115, с. 120—123].
(обратно)29
Реконструкция Ван Говэем восьми пунктов, где были иньские «столицы» от Се до Чэн Тана, в свете современных данных неудовлетворительна, что уже было отмечено [69, с. 283]. В еще большей степени это относится к попыткам реконструкции местопребываний Ся [115, с. 124].
(обратно)30
Нечто подобное в свое время предположил и Г. Крил: по его мнению, династии Ся не существовало, но было государство Ся, причем именно этот факт нашел при Чжоу отражение в том, что термином Ся стали пользоваться для обозначения всего исконно китайского — государственности, культуры н т. п. [115, с. 130].
(обратно)31
В ряде древнекитайских памятников, например в «Люйши чуньцю» [288, гл. 6, с. 159—160], более подробно рассказывается о том, как Чэн Тан послал И Иня в Ся в качестве лазутчика и как на основе полученной информации Чэн Тан принял решение выступить против распутного Цзе [69, с. 285].
(обратно)32
В 1977 г. в Китае было опубликовано предварительное сообщение об обнаружении недалеко от Сиани (в 100 км к западу) 127 гадательных надписей, предположительно сделанных чжоусцами при Вэнь-ване (XI в. до н.э.). Некоторые из них посвящены описанию жертвоприношения предпоследнему шанскому правителю Ди И, именуемому «иньский вап» [177, с. XVII].
(обратно)33
Эти сомнения перекликаются с выдвинутым в 1970 г. известным японским синологом Миядзаки Итисада предположением, что обнаруженное и раскопанное археологами знаменитое шанское городище в Сяотуии (Аньян) — не позднеиньская столица, а своего рода город мертвых с гробницами правителей, ритуальными центрами (архивы гадательных надписей) и обслуживающим его персоналом, тогда как настоящую столицу еще следует искать. Упомянув, что точка зрения Миядзаки встретила возражения прежде всего со стороны японских синологов (Сато и Мацумару, опубликовавших критические статьи в 1971—1972 гг.), Д. Китли обратил внимание на весомость некоторых его аргументов, в частности на отсутствие в Аньяис городской стены, на очевидную скромность размеров и интерьера зданий, которые можно считать дворцами (особенно по сравнению с недавно раскопанными дворцовыми строениями досяотуньского времени в Эрлитоу, Чжэнчжоу и Паньлунчэне), на кратковременность их существования [177, с. 537—538].
(обратно)34
Предложенная в последней книге Чжан Гуанчжи удревненная датировка этих слоев (1880±150 и 1910±160 соответственно [99, с. 344]), основанная на использовании различных методов калибровки (аргументы в пользу которых Чжан не приводит), недостаточно обоснована и но всяком случае пока не принята специалистами, ориентирующимися на приведенные в тексте данные радиокарбонного анализа [51, с. 130, табл. 8].
(обратно)35
По подсчетам Ань Цзиньхуая, для строительства такой стены был необходим труд 10 тыс. работников на протяжении примерно 18 лет при 330 десятичасовых рабочих днях в году [264, с. 77]. И хотя впоследствии эти подсчеты были оспорены и несколько изменены в сторону уменьшения конечной цифры [176, с. 531], они по-прежнему производят внушительное впечатление н свидетельствуют о существовании организованного и управляемого центром коллективного производства в рамках крупной политической структуры, объединяющей, возможно, десятки тысяч людей, во всяком случае многие тысячи их.
(обратно)36
В «Луньои» приведен любопытный диалог, имеющий прямое отношение к тому, как воспринималась близость и преемственность между всеми тремя древнекитайскими династиями в исторической перспективе. Отвечая на вопрос своего ученика Цзы Чжана, как понять преемственность поколений, Конфуций заметил: «Инь следовало нормам Ся, что было добавлено или отвергнуто, можно узнать. Чжоу следовало нормам Инь; можно узнать, что было добавлено и отвергнуто. Поэтому можно знать, что будет и после Чжоу, хотя бы сменилось сто поколений» [287, гл. 2, с. 39]. И хотя этот тезис Конфуция звучит излишне оптимистично, в нем есть свой резон: преемственность культур — великая сила.
(обратно)37
Подобную практику, впрочем, нельзя рассматривать как абсолютно убедительное свидетельство того, что двойной урожай собирался с одного и того же поля, как это практикуется ныне в южной части Китая.
(обратно)38
В 1926 г. при раскопках яншаоской стоянки Сииньцунь Ли Цзи обнаружил разрезанный кокон шелковичного червя [103, с. 241]. Однако последующие археологические находки пока не подтвердили предположения, что шелкводство практиковалось в Китае до Шан, а в 1968 г. было установлено, что на найденный Ли Цзи кокон принадлежал дикому шелкопряду [52, с. 25].
(обратно)39
Проблема аутентичности главы «Пань Гэн», одного из наиболее информативных древнекитайских текстов, повествующих о дочжоуском времени, не раз подвергалась тщательному рассмотрению. В 30-х годах нашего века Г. Крил убедительно доказал, что глава неаутентичиа. Основываясь на серьезном лингвистическом анализе и приняв во внимание характер и фразеологию текста главы, он пришел к выводу, что текст ее не мог быть написан в шанское время и был составлен не ранее периода Восточного Чжоу (VIII— V вв. до н.э.). Его аргументы [115, с. 64—69] не бесспорны. Другие авторы склонны относиться к тексту главы с большим доверием. Но даже наиболее благожелательное отношение к нему не дает оснований датировать его более ранним временем, чем конец Инь и даже начало Чжоу [197, с. 165]. Другими словами, текст в любом случае неаутентичен - и это стоит иметь в виду, коль скоро заходит речь о древнейших «китайских текстах», будто бы относящихся «к иньскому времени» [39, с. 227]. Без серьезной аргументации рассуждения на тему о глубокой древности главы «Пань Гэн» не выглядят убедительно. Что же касается фабулы текста, то к ней можно отнестись с достаточной долей доверия, разумеется имея в виду, что предания, сохранившиеся среди потомков побежденных чжоусцами иньцев (а именно они, надо полагать, легли в основу текста, причем это было сделано в письменной форме едва ли ранее Восточного Чжоу — в данном пункте версия Крила выглядит много убедительнее остальных), были отредактированы и интерпретированы чжоусцами в соответствии с их уже отмечавшимися принципами (этический детерминизм, дидактика, легитимация статуса правителя и т. п.).
(обратно)40
Если принять 1027 год до н.э. как хронологическую грань между Шан-Инь и Чжоу и считать, что с Пань Гэна до этого времени прошло 273 г. (как упоминается в некоторых источниках), то, датируя начало аньянского городища периодом правления Пань Гэна, а не У Дина, мы получим 1300 г. до н.э.?
(обратно)41
Как известно, загадка двойного наименования столь крупной и явно задававшей тон общности до сих пор еще не разгадана. В свое время Го Можо предположил, что наименование «Инь» в устах одолевших Шан чжоусцев отражало их враждебность к шанцам, пренебрежительное отношение к ним [29, с. 15]. Однако обнаруженные в 1977 г. гадательные надписи из столицы чжоуских правителей, датируемые периодом до победы над Шан, свидетельствуют, как упоминалось, что глава чжоусцев (видимо, будущий Вэнь-ван), делая жертвоприношение в честь предпоследнего шанского правителя Ди И, именовал его иньским ваном [177, с. XVII]. Вероятно, это означает, что название «иньцы» было приемлемым для шанцев. В чем же тогда смысл двойного наименования?
(обратно)42
Из текстов «Чжушу цзинянь» о взаимоотношениях Ся и Шан, приводившихся выше, складывается впечатление, что чжоусцы нередко производили этноним из топонима: когда шанцы из Шанцю переместились в Инь, их предводитель стал именоваться «иньским хоу», а после возврата в Шанцю — снова «шанским хоу». Правда, после обоснования Чэн Тана в Бо очередного переименования не последовало. Словом, явственно прослеживаются как определенный принцип, так и непоследовательность в его применении.. Возможно, ситуация имеет какое-то рациональное объяснение, но для уяснения ее пока не хватает материала. Несомненно, однако, что по отношению к названию «Инь» принцип срабатывал. Обратив на это обстоятельство внимание, можно предположить, что то место, куда переселились шанцы в последний раз (район Аньяна), действительно называлось Инь и было одним из прежних местонахождений шанцев (или одной из ветвей протошанцев). Отсюда и этноним «Инь», прочно закрепившийся за шанцами в лексике чжоусцев и, возможно, не только их одних. Сами же шанцы, вполне вероятно, к моменту перемещения в район Аньяна уже достаточно прочно утвердились в своем самоназвании, чтобы не менять его при каждом очередном переселении.
(обратно)43
Здесь нужно оговориться. Как упоминалось, современные специалисты отождествляют сяотуньское городище с Инь. Но было ли оно реальной столицей шанского вана? Сомнения на этот счет все еще существуют, причем не только в варианте Миядзаки («Сяотунь — город мертвых»). Дун Цзобинь, а за ним и Чжан Гуанчжи склонны считать, что подлинной столицей шанского вана был город Шан (Да-и-Шан, Да-Шан-и — «большой город Шан» — в надписях на костях), который они локализуют в современном районе Шанцю, к югу от Хуанхэ. С этой локализацией города Шан согласны такие видные ученые, как Ли Цзи [197, с. 262, карта] и Чэнь Мэнцзя. Но где была все же столица?
(обратно)44
Надо признать, что воспроизведенные Чжан Гуанчжи аргументы Дун Цзобиня весьма весомы [99, с. 211—213]. И все-таки их явно недостаточно для того, чтобы отказаться от давно уже принятого и реально подтверждаемого археологическими находками представления о том, что столицей иньцев было сяотуньское городище. Видимо, это было учтено Чэнь Мэнцзя, который предложил компромиссное решение: встречающиеся в надписях сочетания Цю-шан и наименование Шан он закрепил за районом Шанцю, Да-и-Шан и Тянь-и-Шан отождествил с поселениями в других местностях, а Чжуншан счел обозначением сяотуньского (аньянского) городища [330, с. 258]. Едва ли подобный компромисс приемлем. Ведь в некоторых надписях знак Шан стоит в позиции, равной понятию Чжуншан (т.е. «Шан, расположенный в центре»). Видимо, пока археология еще не в состоянии подкрепить ту интерпретацию, согласно которой Шан следует искать вне сяотуньской столичной зоны, т. е. в Шанцю, целесообразнее исходить из того, что Чжуншан и Шан (равно как и Да-и-Шан, Тянь-и-Шан) все-таки варианты единого понятия, которым обозначали столицу иньского вана в районе Аньяна.
(обратно)45
М. В. Крюков объясняет такого рода совпадения доминированием тотемных эмблем и наименований, которые задавали тон при атрибутации и местности, и группы, и человека [45, с. 4—7; 46, с. 117—118]. Возможно, что применительно к отдельным случаям его трактовка справедлива, хотя это еще следовало бы доказать более строго. Но ведь дело в том, что перечисленные им знаки, включая такие, которые очень соблазнительно считать тотемными, отнюдь не обязательно всегда были таковыми. Они вполне могли возникнуть и в ином контексте. Процесс сегментации общности н освоения ее подразделениями новых территорий, адаптация чужаков, разделение первоначальных кланов на субкланы, затем становившиеся кланами и дававшие начало новым субкланам — вся эта динамика не была тесно связана с тотемными именами и нормами. Они могли продолжать существовать н играть свою роль в конституировании брачных классов, регулировании брачных связей, что было едва ли не основной их функцией, но не могли влиять на каждый шаг общин и везде доминировать. В противном случае и после длительного территориального и социального разъединения родственные кланы одного и того же тотемного рода всегда именовались бы одинаково, чего, как известно, не было. Таким образом, «тотемное» объяснение зафиксированного феномена не может считаться приемлемым.
(обратно)46
Возможно, впрочем, что фан-бо (бан-бо) в большинстве случаев были еще не институционализировавшимися правителями, а теми временными вождями, которые в ситуации внешней опасности вызывались к жизни принципом автоматической (механической) солидарности в аморфных сегментарных структурах, еще не достигших уровня устойчивой политической интеграции. Может быть, этим, а не только "стратегическими успехами Шан, объясняется и столь заметная динамика в количестве племен фан на протяжении небольшого исторического периода.
(обратно)47
Его позиция достаточно противоречива и непоследовательна. С одной стороны, он подчеркивает факт оформления норм конического клана («правила первородства и генеалогического старшинства») в «последний период иньской эпохи» [46, с. 105], а также обращает внимание на то, что, «после того как иньцы стали выделять в родословной своих ванов прямую и боковые линии, в генеалогическое древо включались обычно только «большие предки» [46, с. 100]. С другой стороны настаивает на том, что иньские кланы не были «группами, основанными на генеалогическом старшинстве» [46, с. 104], и пытается постулировать упомянутый уже «порядок наследования», будто бы практиковавшийся иньцами [46, с. 103]. Эти неувязки, явное отсутствие стремления проследить динамику процесса и акцентировать внимание именно на ней, обусловили неубедительность и неточность итоговых результатов в важном вопросе о принципах иньской системы наследования.
(обратно)48
В транскрипции Чжан Гуанчжи — Бу Жэнь [99, с. 167].
(обратно)49
Понятие, клан здесь и далее используется в широком смысле, с учетом различных этнографических моделей клана, включая клан-корпорацию, т. е. эндогамную общность полукастового характера. Клан иньского вана — соединенные дуально-брачными связями различные субкланы в прошлом единого клана. В частности, это хорошо видно на примере брака У Дина с Фу Хао, принадлежавшей к тому же клану Цзы, что и ее муж [276, с. 56; 99, с. 177].
(обратно)50
Известно, в частности, что храм в честь знаменитого Чэн Тана (Да И) именовался сяо-цзун, а храм в честь Шан Цзя — да-цзун [330, с. 473], тогда как оба были наиболее почитаемыми правителями [330, с. 412], о чем свидетельствуют некоторые записи о жертвоприношениях («Шан Цзя—10, Бао И— 3, Бао Бину—3, Бао Дину—3, Ши Жэню—3, Ши Гую—3, Да И—40...» [99, с. 174]). К этому можно добавить, что знак сяо использовался для атрибутации отдельных категорий чиновников (сяо-чэнь), которые по статусу и функциям, как будет показано ниже, не могут считаться какими-то «низшими» или «младшими».
(обратно)51
Этнографическая модель коническо-сегментарного клана необычна, хотя и достаточно широко распространена. Суть ее сводится к тому, что восходящий к эпониму (т.е. к основателю клана, давшему ему имя и вообще существование) конический клан владетельного аристократа накладывался на аморфно-сегментарную - клановую структуру земледельцев-общинников того удела, где этот клан становился правящим. Со временем сеть конического клана за счет разрастания и разветвления с каждым очередным поколением многочисленных боковых линий очень тесно сплеталась с традиционной клановой структурой простолюдинов (низшие ветви конического клана со временем опускались до статуса простолюдина), в результате чего и возникала сложная и этнографически (с точки зрения норм брака, брачных классов, старшинства поколений, рангов и т. п.) пока еще недостаточно ясная социально-клановая структура. Структура такого типа была наиболее типичной в Западном Чжоу и Чуньцю, причем именно ее чаще всего именовали термином цзун-цзу.
(обратно)52
Данные надписей о существовании в Инь трех сотен лучников-шэ (сань-бай-шэ) позволили Чэнь Мэнцзя предположить, что они н являлись подразделениями Сань-цзу [330, с. 513], т.е. что клан-корпорация воинов Сань-цзу состояла из трех рот. Эту идею развил Чжан Чжэнлан, предположивший, что сотни, о которых идет речь, были составлены из воинов (по одному от каждого двора), сочетавших профессиональную военную службу с земледелием [321, с. 110—111], т. е. бывших кем-то вроде казаков. Не исключено, что именно так и были и что практика создания корпоративных групп профессиональных воинов-землепашцев, известная в чжоуском, в ханьском и в послеханьском императорском Китае, восходит, таким образом, к Шан-Инь.
(обратно)53
Можно полагать, что указанный процесс дополнялся и соответствующими изменениями в сфере культа: местное божество приобретало то же общее имя. Специалисты уже отмечали этот факт применительно к Инь, правда ориентируясь на тотемное родовое имя [46, с. 117]. Выше уже отмечалось, однако, что многие десятки региональных подразделений, число которых постоянно росло за счет создания новых поселений и, едва ли можно считать тотемно-родовыми группами с соответствующими, восходящими к тотемам именами-названиями.
(обратно)54
Основываясь на данных Дин Шаня, Чжан Гуанчжи обращает специальное внимание на то, что помимо группы региональных правителей из числа титулованных аристократов существовала другая группа таких же знатных владетельных аристократов, которые жили при дворе вана и имели владения близ столицы [99, с. 193].
(обратно)55
Знак «мин» допускает различную трактовку, вследствие чего о русском переводе «Ши цзи» («триста шестьдесят мужей, известных в народе» [69, с. 189]) оттенок имени исчез. Между тем есть основания полагать, что в оригинале подчеркивалась именитость (т. е. право на имя, на собственный знак) этих мужей, разумеется, «известных в народе».
(обратно)56
В одной из надписей есть упоминание о Чжи-цзу инь, т. е. об инь из клана Чжи. Чэнь Мэнцзя считает его свидетельством существования чиновников-управителей категории инь в региональных подразделениях [330, с. 517]. Это не исключено, даже весьма вероятно, учитывая все сказанное выше, включая практику мимезиса. Но стоит напомнить, что знак чжи, по данным того же Чэнь Мэнцзя [330, с. 97], использовался в надписях в качестве местоимения третьего лица, так что обрывистая формула (чжи-цзу инь) не может считаться абсолютно убедительным свидетельством, тем более доказательством существования управителей инь в региональных подразделениях шанского протогосударства.
(обратно)57
Как известно, среди реформ, приписываемых чжоускому реформатору Гуань Чжуну (VII в. доп. э.), было стремление обеспечить условия для развития специализации в рамках наследственных корпораций [275, гл. «Сяо-куан», с 121; 274, гл. 6, с. 79—84].
(обратно)58
В данном случае речь идет об иной должности тай-ши (обозначенной другими иероглифами).
(обратно)59
На долю ехавшего регентом Чжоу-гуна выпало подавить восстание иньцев, во главе которого стали его братья Гуань-шу и Цай-шу, заподозрившие его в узурпации власти (по мнению некоторых специалистов [289], впрочем, не очень убедительно аргументированному,—не без оснований). Власть чжоусцев была восстановлена в ходе трудного трехлетнего восточного похода, красочно описанного в «Ши цзин» [332а, т. 7, с. 727—729; 76, с. 190].
(обратно)60
Как известно, в ряде случаев исследователи, в частности Цзянь Боцзань ([318, т. 1, с. 306; см. также [69, с. 323]), воспринимали эту схему всерьез в ее идеализированном виде и пытались опровергнуть ее нелепые постулаты. Но, как и в случае с другой известной древнекитайской схемой — цзин-тянь [15], здесь необходимо воспринять лишь суть, принцип построения, который выражен символической схемой достаточно точно.
(обратно)61
Возможно, что во времена Чжоу-гуна рассматриваемая идея была сформулирована лишь в ее самом общем виде, а детальная ее разработка осуществлялась позже. Похоже, что именно в связи с этой идеей в китайский лексикон было введено понятно «божественный указ», выраженное новым знаком мин — модификацией употреблявшегося еще иньцами знака лин («приказ») с детерминативом коу («рот») и со значением сакрализованного приказа: сочетание тянь-лин уступило место тянь-мин в том же значении «мандат Неба» (см. [46, с. 55]).
(обратно)62
Существует мнение, что титулатура подобного звучания («великий наставник», «великий воспитатель») свидетельствует о том, что функции ближайших советников вана были прежде всего сакральными, призванными поддерживать и стимулировать магические силы и возможности правителя [13, с. 121].
(обратно)63
Это та же должность, носитель которой играл столь видную роль в ритуале первовспашки, описанном в «Го юй» (см. с. 138-139).
(обратно)64
Согласно главе «Кан-гао», У-ван, обращаясь к одному из братьев, говорил, что подчиненными следует строго руководить, а за неповиновение — сурово наказывать [333, т. 4, с. 489; 175, с. 40].
(обратно)65
Этот период длился вплоть до смерти Ли-вана в изгнании и официального воцарения Сюань-вана — того самого, который, взойдя на трон, демонстративно отказался от ритуальной первовспашки на поле цзе-тянь, за что осуждался традиционной историографией (в связи с чем и появилось описание ритуала на цзе-тянь, уже приводившееся выше). Существует версия, опирающаяся на сообщение «Чжушу цзинянь» [325, 154] и поддержанная «Люй-ши чуньцю» (288, с. 275], что гуя-хэ — правление некоего Гун-бо Хэ. Много и серьезно обсуждавшаяся (см. [69, с. 328—329; 116, с. 432]), она осталась неопровергнутой. Не ставя целью решение вопроса, замечу, что в свете всего, что известно о сакральной фигуре вана, это предположение маловероятно. Правление же двух гунов опиралось на традицию, и потому версия Сынь Цяня выглядит предпочтительнее.
(обратно)66
Детальная трактовка надписи, данная Го Можо [272, т. 7, с. 142—143], в свое время была принята многими, в том числе и мною [14, с. 145—146]. Ныне представляется более убедительным понимание текста, к которому пришел Г. Крил.
(обратно)67
Ле—нечто вроде английского фунта стерлингов — могло выступать мерой и металла, и шелка, и в любом случае имело отношение к мерилу ценности.
(обратно)68
Мне уже приходилось писать, что факт перераспределения подданных их господами сам по себе еще не может рассматриваться в качестве доказательства рабского статуса переданных [14, с. 191—192]. Речь может идти лишь о большой степени зависимости людей от их господина.
(обратно)69
Гибель Чжао-вана в упомянутой экспедиции впоследствии была использована Гуань Чжуном в качестве предлога для похода на Чу. Не вполне ясно, сумели ли преемники Чжао-вана оправиться от этого поражения. Но наступивший после Чжао-вана перерыв в успешных походах на варваров свидетельствует, возможно, уже о начале упадка былого могущества чжоуских правителей.
(обратно)70
Существенно добавить ко всему изложенному, что, хотя боевые колесницы играли немалую роль в снаряжении, боевой мощи н символике военного могущества чжоусцев, реальной роли в экспедициях против соседних племен, ведших обычно войны партизанского характера, они не играли, о чем уже писали специалисты [116, с. 262—283; 121, с. 184—187]. До периода Чуньцю, в междоусобных войнах которого широко применялись боевые колесницы, последние были скорее элементом престижа.
(обратно)71
В упомянутых в цитате этнонимах (иньские цзу Фань-ши и Фань-ши), однозначно звучащих в русском переводе, первые иероглифы различны.
(обратно)72
Текст надписи, обнаруженной в Китае в 1954 г. и тщательно изучавшийся специалистами [271; 303; 327; 329], был изложен и использован в моей монографии об аграрных отношениях в Чжоу [14, с. 110, 116 и др.], где знак Не был представлен в ином варианте чтения — Цзэ («И хоу Цзэ гуй»).
(обратно)73
Как уже упоминалось, Чжоу-гун управлял восточной частью страны (с центром в Чэнчжоу), а Шао-гун — западной ее частью (Цзунчжоу) [296, гл. 34, с. 510].
(обратно)74
Указывая на развитое искусство составления раннечжоуских текстов на бронзе, Н. Барнард предложил считать уровень развития чжоусцев равным нньскому, если не превосходящим его. Но выдвинутые им аргументы, воспроизведенные П. Уитли, недостаточно убедительны (см. [261, с. 111—112]).
(обратно)75
Не Лин, возможно, был не единственным в своем роде высокопоставленным иньским сановником на службе у чжоусцев. В 1976 г. в Шаньси был обнаружен сосуд с пространной надписью, из которой явствует, что владелец сосуда Цзян был потомком иньца, поступившего на службу к чжоускому вану в качестве придворного историка [282, 1978, № 2, с. 139—158]. Впрочем, существует мнение, что Не Лин был связан родством с владельцем сосуда, о котором идет речь [281, 1978, № 5, с. 315].
(обратно)76
Как известно, в начале IX в. до н. э. подобную «дерзость» позволил себе правитель полуварварского южного царства Чу, бывшего практически вне сферы политической власти Чжоу. Возможно, его пример сыграл определенную роль и в случае с Не-ваном.
(обратно)77
Г. Крил высказал предположение, что удел И прекратил свое существование [116, с. 405, прим. 63].
(обратно)78
Наиболее подробную карту уделов периода Чуньцю см. [131, прил.].
(обратно)79
В «Цзо чжуань» (8 г. Инь-гуна) специально оговорены нормы, согласно которым давалось клановое имя — патроним-ши. Не будучи обязательно связано с этнонимом или личным именем нового главы клана (хотя случалось и то и другое), оно могло быть производным от должности, места происхождения и т. п. [313, т. 27, с. 180—181].
(обратно)80
Следует отметить, что по нормам древнекитайской этики не только насмешка над физическим недостатком, но даже любопытство к голому телу считалось оскорблением. Когда Чжун Эр, странствуя по царствам, попал в Цао, цаоский гун захотел узнать, правда ли, что у Чжун Эра сросшиеся ребра (для чего он подсматривал во время купания). Это было сочтено оскорблением, за которое позже Чжун Эр, став цзиньским Вэнь-гуном, рассчитался [274, гл. 10, с. 124, 135; 165, с. 79, 99].
(обратно)81
Для аристократов война была главным и важнейшим видом деятельности. Достаточно напомнить, что разделения гражданской и военной власти, как это характерно для раннефеодальных структур, не было: каждый администратор, каждый управитель и каждый властитель — прежде всего и главным образом военачальник и воин, предводитель армии и стратег, от умения и опыта которого зависит исход сражения и кампании, судьба удела или царства. Естественно, что забота о войне и подготовке к ней была важнейшим делом администрации не только в Чуньцю, но и позже — вспомним учение Шац Яна, делавшего основной упор на две функции администрации: обеспечение успеха в сферах земледелия и военного дела (332, гл. 3; 11, о. 148—156].
(обратно)82
Песни других чжоуских царств представлены в иных разделах. В разделе гимнов, т.е. официальных песнопений с торжественным ритуальным ритмом, их нет. Включение луских гимнов в этот раздел означало, что правители Лу имели привилегию на использование такого ритма и соответствующей музыки.
(обратно)83
Известно, что к этой хронике впоследствии были прибавлены комментарии. Один из них —«Цзо чжуань». Другой, текстуально и концептуально близкий к «Цзо чжуань», но составленный по иному принципу и не привязанный к тексту «Чуньцю» — «Го юн». И хотя согласно данным специальных исследований [171, с. 179], оба упомянутых комментария не были написаны диалектом, свойственным луской школе, нет никаких сомнений в том, что их авторы использовали в своей работе материалы прежде всего из архивов Лу, хотя, возможно, в их распоряжении были и архивы других царств. В любом случае, однако, авторы комментариев были эпигонами Конфуция.
(обратно)84
Для подкрепления своего тезиса Сюй Чжоюнь сослался на известный пассаж из «Цзо чжуань» (16 г. Вэнь-гуна), согласно которому сановник суиского Чжао-гуна после смерти отца отказался занять полагавшийся ему важный пост, но настоял, чтобы его отдали одному из его сыновей, мотивируя это тем, что сын сохранят наследственное право клана на должность, так что если даже сам он погибнет вместе с недобродетельным правителем, клан сохранит свое [313, т. 28, с. 823]. Существенно заметить, что сунская модель генетически да функционально была близка луской [90, ч. 2, с. 329—335, ч, 3, с 108].
(обратно)85
В источниках сообщается, что в IX в. до н.э. один из правителей Лу был убит домогавшимся власти его младшим братом, а еще один — чжоуским Сюань-ваном, вмешавшимся в практику престолонаследия в Лу [296, гл. 33, с. 502—503; 274, гл. 1, с. 8; 101, т. 4, с. 103—105].
(обратно)86
Около четверти века назад Ян Сянкуй выдвинул на передний план еще один фактор —этнический. Как он считал, своими успехами Ци было обязано тому, что часть его населения составляли иньцы. В качестве обоснования он ссылался на бытовавший в Ци ритуал бо-шэ, отождествив входивший в этот термин знак бо с иным знаком бо, действительно имевшим отношение к иньцам [339, с. 53]. Аргумент не очень весом, ибо отождествление не доказано. Кроме того, сам факт наличия иньского компонента — даже заметного, как в случае с Лу,— не может считаться фактором, безусловно содействовавшим ускорению темпов развития. Может быть, важнее здесь иметь в виду, что этнический состав Ци был достаточно гетерогенным: кроме чжоусцев и иньцев здесь обитали аборигенные племена лай и и, хотя гетерогенность Ци тоже сама по себе вряд ли играла существенную роль в интересующем нас плане
(обратно)87
Как сам трактат, написанный не ранее IV—III вв. до н.э., так и изложенные в нем идеи принадлежат ко много более поздней эпохе по сравнению с годами жизни Гуань Чжуна. Поэтому трудно сказать, сколько и какие из реально высказывавшихся реформатором мыслей нашли в нем отражение и развитие. Возможно, что весьма немногие. Однако Гуань Чжун все-таки не случайно считается первым из великих реформаторов Китая. Очень мало зная о сути его реформ, можно предположить, как это делают некоторые исследователи, что на протяжении жизни десяти поколений клана Гуань Чжуна, о которых писал Сыма Цянь, идеи и предложения реформатора сохранялись, пока не пришло время для их публикации и реализации [251, е. 53]. Предположение не очень основательное, но имеющее и некоторый резон: ведь не совсем случайно многие важные реформы легистов периода Чжаньго традиция и текст «Гуань-цзы» связывают с именем Гуань Чжуна.
(обратно)88
Согласно свидетельству «Цзо чжуань» (3 г. Чжао-гуна), вложенному в уста влиятельного циского сановника Янь Ина (Янь-цзы), жившего столетие спустя после Гуань Чжуна и считающегося вторым после него мудрецом в Ци, клан Тянь приобрел популярность в Ци подкармливанием неимущих и убыточными для себя ссудами, продажами продуктов — леса, рыбы, соли — по ценам чуть ли не ниже себестоимости [313, т. 31, с. 1648]. Помимо любопытной самой по себе практики щедрых раздач, влекших по закону реципрокности рост влияния дарящего, обращает на себя внимание еще и то, что именно клан, имевший отношение к руководству ремеслом, получал столь широкие возможности. Это лишний раз говорит об особенностях экономического развития в Ци и о роли в нем администраторов, ведавших ремеслом.
(обратно)89
По мнению Конфуция, отраженному в «Луньюй» (гл. 3, § 22), Гуань Чжун в общем-то не отличался выдающимися способностями, во всяком случае в сфере тех отношений — ритуала-ли, соблюдения норм,— которые им ставились так высоко [287, с. 66—69; 31, с. 147]. Это отношение Конфуция, позиция которого была квинтэссенцией луского пути, понятно и естественно в связи с оценкой того, чья деятельность была основой циской модели развития, столь отличавшейся от луской.
(обратно)90
После одного из успешных походов и присоединения к Цзинь трех мелких княжеств, Гэн, Хо и Вэй, два из них были выделены в качестве уделов генералам Чжао Вэю и Би Баню, что привело к возникновению влиятельных уделов-кланов Чжао и Вэй [296, гл. 39, с. 542—543].
(обратно)91
В источниках чаще всего в качестве такой единицы выступает поселение-u (с условно усредненным числом дворов в 100); иногда, хотя и реже,— ли (по данным словаря «Эръя», это то же самое, что и и [335, т. 38, с. 98]); иногда — шэ или шушэ, которое тоже можно приравнять к и. В одном из эпизодов «Цзо чжуань» (25 г. Чжао-гуна) рассказывается, что, когда луский Чжао-гун, попытавшийся было отстоять свои права, был изгнан из Лу и прибыл в Ци, циский правитель предложил ему в качестве кормления территорию размером в 1000 шэ [313, т. 31, с. 2079]. Впрочем, в комментарии к другому тексту «Цзо чжуань» (15 г. Ай гуна), в котором упоминаются 500 шушэ [313, т. 32, с. 2403], говорится, что шэ — единица в 25 семей-домохозяйств. Видимо, на практике бывало по-разному.
(обратно)92
Г. Крил напоминает в этой связи об известной цитате из «Луньюй» (гл. 13, § 18): «Шэ-гун сказал Конфуцию: “У нас есть честные люди: если отец украдет барана, сын уличит его”. Конфуций возразил: “У нас честность отличается от вашей: сын покрывает отца, отец — сына”» [287, с. 291]. Крил подчеркивает, что Шэ-гун был именно чуским сановником.
(обратно)93
Начать с того, что распоряжаться сянями Чжао Ян явно не мог: считанные сяни в Цзинь принадлежали влиятельным аристократам (одним из них был сам Чжао) и явно не служили разменной монетой. Что касается округов-цзюнь, то они только появлялись в начале V в. до н. э., так что статус их применительно к 493 г. неясен. Возможно, что сяни уже делились на округа и пожалование округа-цзюнь означало в этом контексте лишь высокую чиновную должность. Что касается ши, то 100 тыс. му каждому отличившемуся дать просто было невозможно — цифра явно преувеличена. Простолюдины могли получить продвижение, но остается не вполне ясным, что делали в войске ремесленники и торговцы, перечисленные рядом с крестьянами как отдельные социальные категории простолюдинов. Для схемы такое перечисление годится и понятно, для реальной речи — сомнительно. То же относится и к рабам, к тому же нескольким категорий.
(обратно)


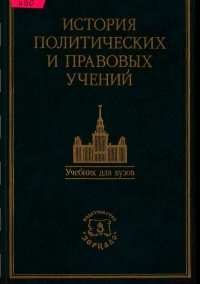
![Охота в ревзаповеднике [избранные страницы и сцены советской литературы]](https://www.4italka.su/images/articles/522360/primary-medium.jpg)
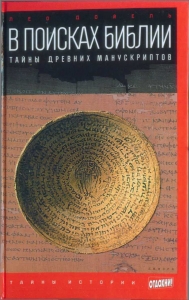


Комментарии к книге «Проблемы генезиса китайского государства», Леонид Сергеевич Васильев
Всего 0 комментариев