Джон Майкл Уоллес-Хедрилл Варварский Запад. Раннее Средневековье
СПб.: Евразия, 2002.
Предисловие к русскому изданию
Предлагаемая вниманию читателей книга Дж. М. Уоллеса-Хедрилла «Варварский Запад, 400— 1000» посвящена проблеме становления цивилизации средневековой Европы. Необычность подхода автора к рассматриваемой им проблеме заключается в том, что в качестве «варваррких» он рассматривает те государства раннесредневековой Европы, которые обычно не рассматриваются историками как «варварские», поскольку связаны уже с развитыми и сложившимися государствами, такими как, например, Каролингская или Оттоновская империи. Однако в этой нетрадиционности и кроется сила авторской позиции. Для Дж.-М. Уоллеса-Хедрилла понятие «варварство» связано не столько с определенной стадией развития общества, сколько с мерой его включенности в состав или даже просто в орбиту Римской цивилизации.
Автор применяет термин «варвар» как бы с позиции римлянина, для которого «варваром» сперва был всякий иноземец, а затем даже не человек, говорящий на другом языке, а всякий, кто не является гражданином Империи (civis) или фактически подвластным ей gentile или федератом, то есть варваром, находящимся на службе Империи или живущим на союзной с ней территории.
В последние века существования Империи ее территория настолько расширилась и включила в свой состав столько варварских земель, что управлять ими из Рима становилось все сложнее. Поэтому на этих территориях все большее и большее значение приобретает местное население, все больше и больше включающееся в систему Римской цивилизации. Уже в III веке нашей эры многие из них (особенно галлы) настолько романизируются, что из категории gentile или federati переходят в категорию civis, то есть фактически становятся гражданами Империи.
Оставаясь этническими варварами, такие народы настолько воспринимают традиции новой для них римской цивилизации, что становятся римлянами не только по форме, став ее гражданами, но и по существу (например, такие деятели позднеримской культуры как Авзоний, Аполлинарий Сидоний, Рутилий Намициан, которые были галлами по своему происхождению). Начинается процесс романизации Европы к северу от Альп и к востоку от Дуная, то есть территории, населенной до этого в основном германскими племенами.
Вместе с тем роль варварского элемента в самой Империи уже к IV веку настолько усиливается, что это приводит к обратному процессу — наряду с романизацией Европы идет и все более и более активный процесс варваризации самой Империи.
Расширяя свои территории, Римская Империя опять сталкивалась все с новыми и новыми варварскими племенами, которые еще не были охвачены процессом романизации, и представляли мощную силу, постоянно ей угрожавшую. Особенно опасной эта угроза становится тогда, когда в IV веке начинается процесс, получивший название «великого переселения народов». Постоянная угроза со стороны нероманизированных варваров, с одной стороны, и ослабление центральной власти на окраинах Империи, ослабленной непрекращающимися гражданскими войнами, с другой, приводят в итоге сперва к разделению Империи на две части — Восточную со столицей в Константинополе и Западную со столицей в Риме, а затем и к полному распаду западной части империи, которая в 476 году прекращает свое существование, уступив место возникшим на ее территории варварским королевствам. Падение Империи в 476 году европейской историографией XIX века, основанной на романтической традиции, обычно изображалось как разгром и завоевание Рима варварами, чуждыми традициям античной цивилизации и находящимися на низком уровне развития. Однако для самих жителей Империи ее упразднение предводителем германцев Одоакром, вряд ли выглядело как нашествие со стороны. За два десятилетия до этого, в 452 и 455 годах, она подвергалась гораздо более страшным и опустошительным нашествиям — сперва азиатских племен гуннов (452 г.) (движение которых с Востока на Запад собственно и дано толчок «великому переселению народов»), а затем германского племени вандалов (455 г.), которые захватили Рим и подвергли его страшному разорению.
Тем не менее Империя еще продолжала существовать. Окончательное ее падение стало результатом не внешнего нашествия, а непрекращающихся гражданских междоусобиц и борьбы между теми германскими племенами, которые уже давно стали внутренней и неотъемлемой частью ее самой. Романизированные германцы на протяжении практически всего IV столетия уже были настоящими римлянами, они составляли основу римского войска, получали за это во владение землю, становясь римскими же землевладельцами, становились римскими патрициями, избирались на консульские должности. Борьба Одоакра за Рим была не нашествием варваров (по сути дела, он таковым уже и не был), а внутренней междоусобной борьбой за право осуществления полной власти на той территории, которую он контролировал. Свергнув малолетнего императора Ромула Августула и заняв его престол, Одоакр и не думал уничтожать Империю, он просто отказался сам от знаков императорского достоинства, отослав их в Константинополь Восточному императору, который таким образом опять становился единым властелином всей Римской империи, хотя только de jure.
Фактически же Западная империя реально с Восточной не воссоединилась, а превратилась в покрывшую Европу сеть варварских королевств (вестготов, бургундов, вандалов, остготов, лангобардов, франков и англо-саксов), представлявших собой вполне самостоятельные государственные образования.
Традиции романтической историографии XIX века, согласно которой падение Западной Римской империи явилось результатом деструктивной роли, сыгранной варварскими народами, прочно укоренившись в исторической науке, получили свое продолжение и развитие в XX столетии. Согласно этой научной традиции варвары не только разрушили римскую государственность, но и саму цивилизацию. Развитие новой — средневековой европейской цивилизации — по представлению историков этого направления фактически начинается с нуля на основе общественного устройства, уровня экономического развития и культурной традиции варварских, в основном германских, племен и народов. То обстоятельство, что многие из этих варваров уже в течение по крайней мере столетия в процессе романизации фактически влились в римскую цивилизацию, этими историками не учитывается.
Дж.-М. Уоллес-Хедрилл принадлежит к другой научной традиции, последователей которой обычно называют «романистами». Процесс становления средневековой цивилизации рассматривается ими с позиций континуитета между позднеантичной и ранне средневековой Европой, в которой уже в начале I тысячелетия нашей эры был осуществлен германороманский синтез. Для Дж.-М. Уоллеса-Хедрилла возникновение цивилизации средневековой Европы, которая стала началом современной европейской цивилизации,— это процесс обретения варварами самосознания римлян. Именно поэтому, несмотря на кардинальную перемену этнической картины расселения народов, ставшей следствием «великого переселения», социально-экономического устройства мира (феодализация, пришедшая на смену системе рабовладения) и его мировоззренческих основ (христианизация, заменившая язычество как самих римлян, так и варваров), возникшие на развалинах Западной Империи новые государства так или иначе стремились воспроизвести модель развития классического Рима. Отсюда и возникновение варварских империй Запада — сначала империи Каролингов, а затем Оттоновской империи.
Идея возрождения Империи, как показывает Дж.-М. Уоллес-Хедрилл, всегда лежала в основе развития раннесредневековых обществ на Западе. Однако Империи эта уже существенно отличались от классической Империи тем, что, во-первых, это были Римские империи без римлян, и основу их составляли уже собственно варварские государства, а во-вторых, все новые Империи существенно отличалась от классической тем, что каждая из них становилась Империей христиан — «Imperia Christianum».
По представлениям Дж.-М. Уоллеса-Хедрилла, Европа становилась той Европой, которую мы знаем, по мере того как варварские государства, постепенно приобретая черты национальной самобытности, в то же время возвращались к осознанию необходимости некоего организующего единства, главными факторами которого были единство церкви и объединение под властью пусть не единого (этому мешало характерное для феодальной системы обособление территорий), но главного для всех правителя в лице императора. Эти два фактора в итоге и привели к тому, что позднее, когда уже во II тысячелетии нашей эры начинается процесс формирования национальных государств, несмотря на различия в путях исторического развития, формах экономического бытия, политического устройства, культурных традициях и языке, Западная Европа сохранила типологическое цивилизационное единство.
Процесс формирования этой новой цивилизации, характеризующийся «романизацией» варваров без Рима, по Дж.-М. Уоллесу-Хедриллу занял почти целое тысячелетие и продолжался от III-IV до рубежа X и XI веков, постепенно охватывая собой всю территорию Европы. Уже в самом конце этой эпохи в IX-X1 веках в орбиту этого развития были включены последние варвары — славяне и скандинавы, вначале игравшие столь же агрессивную роль по отношению к христианскому миру Европы, что и варвары начала I тысячелетия. Дж.-М. Уоллес-Хедрилл лишь вкратце касается этой проблемы. Более подробно читатель может познакомиться с ней в другой книге, вышедшей в этой же серии в 2001 году,— «Варварские нашествия на Европу. Вторая волна» французского историка Люсьена Мюссе. Книги Дж.-М. Уоллеса-Хедрилла и Л. Мюссе были написаны и впервые изданы на языке оригинала совершенно независимо друг от друга, однако благодаря инициативе издательства «Евразия» отечественный читатель получил уникальную возможность прочитать их как своеобразную дилогию, в которой роль первой части играет книга Дж.-М. Уоллеса-Хедрилла, а второй — Л. Мюссе.
Предисловие
Читателю, нуждающемуся в подробном введении в историю раннего средневековья, лучше всего не откладывая обратиться к общим исследованиям, указанным в конце этой книги, к которым я обращаюсь, будучи совершенно чужд стремления в чем бы то ни было заменить их. В этих и других книгах и статьях, которым, как сразу заметят ученые, я многим обязан, уделяется должное внимание кое-чему из того, что у меня не было возможности охватить, например, истории варварской Испании; таким темам как развитие папства или административная система периода раннего средневековья — в данной работе им отведена второстепенная роль; а также некоторым до сих пор спорным, как мне представляется, вопросам, вроде того, продолжала ли Византия оказывать влияние на западную мысль и образ действия. Это неотъемлемые части общей картины. Мне же принадлежит лишь краткое рассмотрение отдельных аспектов, к которым я испытываю личный интерес, как мне представляется, достаточно ясных из заглавия данной книги: Римский Запад стал варварским, но не переставал оглядываться назад. Он помнил о Риме. Я ставлю перед собой вопрос не «почему?», поскольку ответ на него очевиден, а «как?».
Для кого-то из читателей может оказаться затруднительным следить за хронологией, а кого- то, особенно в последней главе, могут привести в замешательство имена и номера множества правителей. Добавление генеалогических таблиц привело бы к физическому увеличению объема книги, но вы можете получить незамедлительную помощь в книгах, указанных в моей библиографии, или в такой, к тому же легкодоступной, работе, как Исторические таблицы Стейнберга.
Сэр Морис Поуик, мои мать и жена, каждый по-своему, оказали мне незаменимую помощь; и я признателен им за их великодушие. Кроме того, я должен поблагодарить Кембридж Юниверсити Пресс за разрешение использовать карту 28а из сборника карт к «Кембриджской Истории Средневековья»[1].
Подготовка второго издания (1957 г.) дала мне возможность исправить некоторые ошибки и сделать небольшие дополнения к тексту. На один раздел увеличилась и библиография, которая была еще раз пересмотрена к четвертому изданию (1961 г.).
Дж. М. У-Х.
Глава 1. Введение
В течение 376 г. н. э. римляне осознали, что племена, живущие на севере по ту сторону дунайской границы, пришли в движение. Подобное случалось и раньше, и нет сомнения, что регулярные части не спешили довериться будоражащим слухам. Но вскоре стало ясно, что тревога была ненапрасной. На сцене появились гунны, ужаснейший из варварских народов, они двигались на юг, к границам империи, и их появление предварялось потоком беженцев. Первейшая наша задача состоит в том, чтобы выявить некоторые черты той цивилизации, которая вследствие вышесказанного оказалась в опасности.
Прежде всего необходимо отметить, что период, непосредственно предшествовавший нашествию, был далек от безмятежности. Для римлян четвертый век оказался полным тревог. Постепенно тот Мир, о котором мечтал император основатель Август, ушел в прошлое. С тех пор границы Империи давным давно раздвинулись настолько, что защита от внешних угроз стала сама по себе достаточно обременительной, и начала порождать новые внутренние проблемы экономические и социальные. Сами по себе они еще не были гибельными для структуры Империи, но видоизменяли ее. Какими же они были?
Во-первых, существовала проблема рабочей силы. В сочетании с необходимостью использования всех плодородных земель, задача обороны гигантской границы привела к тому, что все трудоспособное население оказалось под строгим и пристрастным государственным контролем. Но, как часто случается, этот процесс оказался самоубийственным, потому что чем прочнее люди были прикованы к своим военным обязанностям, тем меньше становилась способность общества приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. От греков римляне унаследовали глубокое ощущение справедливости социальной иерархии. Каждому слою общества отводились свои функции, которые он был призван исполнять; а слои эти были разделены надежными барьерами. В значительной мере Рим зиждился на рабском труде, а материальные достижения его благосостояния — на принудительной эксплуатации рабочих рук, которым причиталась лишь малая толика полученных преимуществ. Вследствие этого в трудный час рабы предпочитали, чтобы дополнительная нагрузка, ложившаяся на их плечи, была бы по возможности меньше той, которой им не удавалось избежать. Поздняя Империя была питательной средой для восстаний рабов.
Нам кажутся очевидными другие решения этой огромной социальной проблемы. Почему бы, к примеру, было не ввести более строгую экономию для несущественных статей расходов? Почему бы было не уделить большего внимания технологиям и приспособлениям, уменьшающим трудозатраты? Если бы римляне могли ответить, то, вероятно, сказали бы, что вековая привычка полагаться на изобилие рабской силы не способствует технической изобретательности.
Что же касается сокращения расходов, то ни один император не мог бы и на миг задержаться на подобной мысли. Главной опорой римского образа жизни были прекрасные города и крупные фамильные владения. И потому императоры продолжали жить на широкую ногу, ведь альтернатива у них была только одна — не жить вовсе. В любом случае мы не можем быть уверены, что экономия во внутренней жизни существенно помогла бы Риму справиться с огромными дополнительными расходами на военную оборону своей гигантской границы.
Но в большинстве сфер социальной активности стали проявляться косность мировоззрения и недостаток адаптивности. Растущие налоговые притязания на землю имели следствием снижение, хотя ни в коем случае не постоянное, производительности. Эпидемии чумы и военные потери еще больше сократили численность сельского населения, уже начинавшего находить привлекательность в альтернативе — массовом разбое. Документы четвертого века говорят об уменьшении площади обрабатываемых сельскохозяйственных земель по всему римскому миру, особенно в приграничных районах. Крупные землевладельцы видели происходящее и делали все, что могли, чтобы держать этот процесс под контролем. Иногда это им удавалось. Имперская администрация тоже это осознавала, но не могла найти единой замены политике заселения покинутых поместий и пополнения легионов за счет варварских кланов.
Именно здесь и кроются некоторые из тех материальных затруднений, которые в четвертом веке видоизменили и очертания, и саму природу Империи, хотя, разумеется, были и другие, и большинство из них уходило своими корнями в глубокое прошлое.
Что думали об этом римляне? Им была свойственна привычка к философским размышлениям, но не о себе, как о личностях, а об обществе и искусстве управления. Их всегда интересовала политическая форма, и появление новой силы, угрожавшей их Империи, только усилило это стремление к общим рассуждениям. Они осознавали, что их мир уже не был замкнутым грекоязычным Средиземноморьем, в котором жили их предки, и над которым довлели традиции Рима. Теперь это было нечто большее. Неотъемлемой частью в него вошли варвары — представители племен, не знавших ни греческого, ни латыни. И действительно, крупнейшие провинции, Италия, Испания и Галлия, уже начали отдаляться друг от друга, формируя различные языковые группы. Люди мыслили и осознавали себя как европейцы, но все еще именовали себя древним названием — римляне.
Иногда для описания того мира, в котором они жили, некоторые из них даже употребляли новое слово, Romania. Самосознание такого рода не было ни новым, ни неестественным, хотя иногда оно производит на историков именно такое впечатление. Но интерпретировать его непросто. Авторы сочинений, на которые мы опираемся, писали о том, что любили и ненавидели в накаленной атмосфере кризиса. Ожидать от них беспристрастности мы не вправе, да и не находим ее. Напротив, мы встречаемся с искажениями, распространявшимися, не в последнюю очередь, из-под пера по-настоящему великих людей, которыми ни в коем случае не был обделен четвертый век. Таким образом, на первый взгляд, существует два Рима: один, обветшавший материальный Рим, разложение которого завораживает воображение историка экономики; и другой — Рим умопостигаемый, который со всей живостью встает перед нами из строк памятников письменности. Задача историка заключается в том, чтобы удержать перед своим мысленным взором оба эти Рима и увидеть, что они суть одно.
По мере обострения физической угрозы римляне с растущей озабоченностью размышляли о своем культурном наследии. Оно было сложным и многосторонним. В него входил пласт религии — культ языческих богов, в условиях которого развивался древний мир; литературы набор классических произведений поэзии и прозы, от которых к нашему времени протянулись отдельные нити; и, наконец, пласт права, и об этом последнем необходимо сказать несколько больше, какой бы сложной ни была эта тема.
Юриспруденция была краеугольным камнем римского искусства управления. Оно ревностно оберегалось и адаптировалось как при республике, так и при Империи, примерно так же, как наше обычное право. Его толкователями были не узкие специалистызаконники, а образованные аристократы, которые никогда не упускали из виду истинной цели закона. Поэтому наиболее одаренные люди четвертого века считали право и науку о нем своим бесценным наследием. По выражению Гиббона, это был «общественный разум римлян». Задача сохранения этого наследия и даже сам технический процесс закрепления традиции в письменной форме неизбежно таили в себе опасность закоснения. Как и само общество, юриспруденция, подобно горной реке, проходящей через теснину, обуславливалась очертаниями своего русла. И все же на этом конечном этапе классическая юриспруденция не была чем-то, уцелевшим лишь случайно. Как и во все времена, она оставалась живым искусством. Тот самый век, который произвел на свет предшественника великих сводов законов Феодосия II и Юстиниана[2], дал жизнь и новому явлению — сличению римского права с законом Моисея. Более того, по всей Европе продолжалось преподавание в юридических школах, и, возможно, с неизмеримо большим постоянством, чем некогда предполагалось, и, как на Западе, так и на Востоке, правовую традицию по-прежнему берегли образованные люди, приученные любить юриспруденцию, как прекрасный цветок античности.
Социальная нестабильность оказалась не слишком благоприятной для существовавших в Империи языческих культов. Богов — а их было немало,— которых во дни побед римляне благословляли, теперь привлекали к ответу, как это часто случается с богами в тяжелые времена. Появлялись приверженцы и у других религиозных культов, в частности, все большую и большую силу набирало христианство. Разумеется, оно уже не было в положении новичка. Современные исследования склоняются к тому, что христианские общины стали создаваться на Западе раньше, чем это некогда считалось возможным. Но на рубеже четвертого века самые строгие приверженцы языческой традиции Рима взирали на христианство как на своего самого сильного врага и главный элемент социальной разобщенности, которую они стремились предотвратить[3]. Историк не может согласиться с их приговором в той форме, в которой он вынесен, как и безоговорочно принять христианское возражение, согласно которому христианство, будучи абсолютно чуждо стремления к уничтожению античности, сохраняло все то, что в ней было лучшего. Он увидит, что в обоих утверждениях есть своя доля правды, и поймет, что оба являются плодом глубокой личной убежденности.
Для того чтобы оценить преобладающую роль христианства в оказавшейся под угрозой Империи и понять, почему будущее Европы было тесно связано с его победой, нам нужно взглянуть на его отношения с Римом в более ранний период. Но сначала следует провести грань между тремя основными течениями христианской традиции. Одному из них — арианству — направлению христианства, которое исповедовали германские завоеватели Западной Империи, мы в дальнейшем уделим изрядную долю внимания и потому сейчас можем им пренебречь. Две другие — это западная (особенно та, что получила распространение в римской Африке) и восточная традиции.
Восточное христианство произросло на пересечении эллинистической и восточной культур. Оно кое-что почерпнуло из обеих — впрочем, достаточно для того, чтобы заставить некоторых утверждать, что при этом были потеряны из виду некоторые неудобные религиозные истины, связанные с пониманием истории. Древние христиане-римляне рассматривали Царство Бога на земле как символ Царствия Небесного и только во вторую очередь как историческую реальность, имеющую силу благодаря факту Воплощения и Воскресения. По этой
причине оказался уязвимым для критики величайший из восточных Отцов, Ориген Кесарийский. Один из его оппонентов, Порфирий, даже заявил, что, будучи христианином по образу жизни, он был эллином по своему религиозному мировоззрению и приспосабливал к толкованию Священного Писания неоплатонизм. Это, конечно же, грубое упрощение; Ориген был одним из немногих, чьи труды учили христиан не бояться языческой культуры; но в этом есть зерно правды. Другой житель Кесарии, Евсевий, в своих произведениях, оказавших глубокое влияние на императоров, возвел учение Оригена на новую ступень развития в качестве политической и социальной силы. Для Евсевия римский Император был Избранником, Давидом христианских пророчеств, а его Империя — Мессианским Царством. Подобные толкования дают больше поводов для объяснения перемены во взглядах на христианство самих императоров, эволюционировавших от яростной вражды, через периоды терпимости, к личному, а в конце концов и официальному признанию, чем размышления на тему, почему христианство овладело умами масс. Военное превосходство всегда приносит публичным политикам усиление власти и погоню за всем, что в состоянии повысить их личный престиж. Такого же рода был и неприкосновенный позднеримский империализм. Ориген и Евсевий дали возможность Императору Константину, после должного рассмотрения, приветствовать в лице христианства самый успешный из мистических культов, в котором сила Имени Христова совершала великие дела для Его рабов, обещая им благополучие в мире и победу на войне. Короче говоря, официальное христианство Константина и новой столицы, которую он основал на восточной оконечности своей Империи, было христианством «без детонатора». Август и Константин были совершенно разными Pontifex Maximus.
На Западе христианство пошло другим путем и встретилось с более жестоким врагом, поскольку Рим был исторической колыбелью классического язычества. На то, что современники вполне осознавали этот контраст, указывают некоторые памятные монеты, выпущенные по случаю открытия новой восточной столицы, Константинополя. На них мы видим бюсты персонифицированных Нового и Старого Рима. Новый Рим, женская фигура, держит на плече земной шар, уравновешенный Крестом Христовым. Древний Рим изображается в виде Волчицы с ее близнецами, над которыми нависает Пантеон языческого Рима. На некоторых монетах даже можно видеть пастухов, приближающихся к пещере близнецов, как будто наперекор пастухам Вифлеема.
Константин попытался превратить Древний Рим в престол нового имперского культа Христа, но проиграл. Запад был полон христиан, но только не Рим. Сенаторские семейства твердо стояли на своем и вытеснили его в Новый Рим, где он мог быть христианином сколько душе угодно. Политическим следствием этого стала окончательная изоляция Константина и его преемников от Рима — тенденция, уже получившая достаточное развитие за годы войны. В этот период Кельн, Сирмий, Милан и Антиохия нередко оказывались более удобными центрами, чем Рим; теперь к этому списку добавился Константинополь, древний Византии. Но в сфере религии победа сенаторов была еще более важной, поскольку она подчеркивала изоляцию Западной Европы не только от императоров, но, до некоторой степени, и от христианства имперского образца. Она открыла путь для более жесткого, но никак не нового влияния христианства Африки. И основным проводником этого влияния для латинского христианства должен был стать Рим, еще недавно столько же греческий, сколько и латинский город. Греческий перестал быть общим языком средиземноморского мира; не был им, если не считать образованных людей, и латинский.
И здесь мы встречаемся с самой значительной фигурой поздней античности, св. Августином, епископом Гиппонским и главой африканской церкви в начале пятого века. Он был детищем и приверженцем африканской или западно-христианской традиции. Несмотря на то, что Африка была сильно романизирована, это был мир, которому был чужд компромисс. Африканские христиане рано научились распознавать своих врагов, предавать проклятию еретиков и язычников и пожинать плоды мученичества, излюбленной пищи фанатизма. Они не щадили и не ждали пощады. И, что еще важнее для нашей темы, они видели то, чего иногда недоставало Константинополю: историческое значение Воплощения и Воскресения. Историческое понимание Нового Завета предполагало, что верующий получал покой после смерти, но не прежде нее. «Царство Мое не от мира сего».
Ни у св. Августина, ни у его африканских предшественников не было ни малейших сомнений по этому поводу: христианство не является государственной религией, а почитание императора (даже если он христианин) не заменяет прямого общения между Богом и человеком при посредничестве Христа. Пришествие Царствия будет следствием прекращения существующего в мире порядка. Далее, св. Августин обладал глубоким и возвышенным умом, и было бы удивительно, если бы он никогда не предавался размышлениям о теориях управления, функциях государства и роли личности в обществе. В конце концов он был сыном Рима. И, соответственно, мы находим рассеянные в его объемных произведениях мысли на эти темы. Действительно, можно выделить и сличить эти отрывки и назвать их автора первым политическим теоретиком новой эпохи. Его персону можно рассматривать как личность, осознанно создававшую средневековую церковную структуру.
Но св. Августин не мог предвидеть Средних веков, и они его не интересовали. Дело, которому он посвятил свою жизнь, было гораздо более насущным. Это было ни что иное, как активная защита полноты христианского учения; в опасности было христианство, а не христианский мир. И он выполнил свою задачу со всем мастерством античного ритора.
Что же, спросим мы, могло грозить христианству теперь, когда оно пользовалось поддержкой Империи? Его врагами были ересь и язычество. Первая, эндемичная Африке, усилилась при жизни св. Августина за счет вторжения вандалов, так как они были арианами. Последнее, снова со всей пылкостью возрождаемое в Риме, находило новых приверженцев и даже из числа христиан, особенно представителей знатных фамилий.
Некоторые отблески этой ситуации можно разглядеть в рассказе о знаменитом эпизоде, который имел место в 382 г. в Риме. Чтобы умиротворить сенаторов-христиан, из алтаря в здании сената по приказу императора была убрана статуя Победы, символ славы Рима со времен Августа. Это вызвало сдержанный протест лидера языческого большинства, Квинта Аврелия Симмаха. Он сказал то, что хотел сказать, без горячности, как можно ожидать от аристократа, ученого[4] и выдающегося общественного деятеля. Он не призывал к запрещению христианства, а просил христиан о терпимости по отношению к древней религии его класса. Должно быть, он считал, что мир состоит из разных людей, а император ничего не добьется отказом от обычаев, которым следовали и которые любили его предшественники. К чему ведет подобное святотатство? Разве римская религия (и в этом самая суть дела) не неразрывно связана с римским правом? Если растратить одну часть наследства, не ожидает ли такая же участь и другую?
Положение христиан спасло вмешательство св. Амвросия, епископа Медиоланского. Наряду со своим младшим современником, св. Августином, св. Амвросий был самым выдающимся христианским апологетом своего поколения. Приобретя опыт на императорской службе, он был избран епископом великого города Медиолана волеизъявлением народа. Как и многие другие, если не все, епископы того времени, он был избранником толпы. И теперь он выступил против Симмаха. В своем письме к императору он прямо и честно подверг разбору проблемы, поднятые язычником, но сделал это, исходя из совершенно других посылок. Эти двое использовали одни и те же слова, но присваивали им разные значения. Религия св. Амвросия состояла в искреннем почитании Бога, пришедшего на землю, чтобы принести на нее Свой мир, который есть меч, и для Которого мирские искусства ничего не значат. При таком рассмотрении христианство не было игрой для интеллектуалов.
Напротив, религия, которую защищал Симмах, была не больше (и не меньше), чем ритуальным аспектом поведения цивилизованного человека. Вероятно, именно поэтому она не нуждалась в мученичестве. Вольно или невольно, язычество и христианство вступили в бой по всей линии фронта. Ставкой было все наследие античности.
Но в письме св. Амвросия было кое-что еще: простая угроза, что епископы будут рассматривать решение императора, как своего рода вотум доверия. Если он будет потворствовать язычникам — «тем самым, которые так мало берегли нашу кровь и превращали в груды камней наши церкви»,— то в будущем ему не придется рассчитывать на поддержку христианских епископов. Священники новой официальной религии Империи уйдут со службы.
Таков был образ действия христиан.
Однако император не раздавил языческий Рим. Симмах и его друзья до 395 г. продолжали лично служить святилищам своих богов, и им это дорого обошлось. В другом древнем городе, Афинах, в руках убежденных язычников оставались наставления молодежи в ученых традициях классической цивилизации. Официально, христианство было в безопасности, но и язычество во всем его бесконечном разнообразии все еще было живо. Постоянным опасением христианских учителей, вроде св. Амвросия и св. Августина, было то, что оно может никогда не умереть, а, наоборот, возродиться к новой жизни. И вполне вероятно, что взятие Рима готами в 410г. многие связывали с тем, что он отказался от своих древних культов.
Люди снова думали о примере, который показал им великий отступник император Юлиан, не так давно отказавшийся от Христа ради богов своих отцов. И в самом деле, имеется свидетельство о том, что в то время, о котором мы пишем, Юлиан был своеобразным героем. Св. Августин прилагал все усилия, чтобы доказать, что материальное благополучие Империи было разрушено христианством в той же мере, в какой создано язычеством. Его падение побудило его определить и высказать христианский взгляд на политику и историю.
Обращаясь к рассмотрению материального положения западной церкви на рубеже четвертого века, как нам теперь надлежит сделать, будем держать в памяти тех, кто приводил в волнение епископа Гиппонского своим криком: «О, если бы мы еще приносили жертвы богам!»
Когда св. Августин писал о земной Церкви, как он часто делал, он размышлял о человеческом обществе, а не о территориальной организации, отдаленно напоминающей средневековую церковь. Он даже не думал о такой Церкви, какой всего двумя веками позже правил папа Григорий Великий. Начиная с того, что в четвертом веке римские епископы еще не обладали устойчивой властью над остальными, кроме того, церковные соборы проводились редко. Короче говоря, Церковь еще не располагала отлаженным механизмом координации действий. Каждый епископ правил своей общиной во многом так же, как светский администратор civitas, то есть городского округа; и зачастую епархия и civitas точно соотносились. Далее, подобно тому, как несколько городских районов объединялись в провинцию, несколько епархий образовывали провинцию церковную, и главы обеих были склонны иметь резиденцию в одном и том же центре, или metropolis. Таким образом, древняя церковь Запада приняла на себя структуру самой Империи; и по этой причине на епископов часто возлагались обязанности их отсутствующих светских коллег. Епископы были городскими жителями, а не селянами. Те массы, которым была адресована их весть о личном спасении — спасении из реально существующего демонического мира,— состояли из ремесленного и торгового населения промышленных и коммерческих центров. Именно там, в таких крупных городах как Медиолан и Карфаген, бурливших от социальной нестабильности, которую с необходимостью порождал острый контраст между богатством и нищетой, встречал отклик призыв людей, подобных св. Амвросию. Нетрудно понять и то, как город-епархия оказался естественной и удобной административной единицей, не нуждающейся в контроле сверху, поскольку его члены были достаточно малочисленными, чтобы осознавать себя и действовать как община, гордая своими местными традициями (и, особенно, мучениками) и готовая последовать за своим епископом, куда бы он ни повел.
Тот же тип местной автономии отражался в монашеских общинах того времени. Они же стали естественным выходом из затруднения, испытываемого многими христианами, мужчинами и женщинами, при попытке вести христианскую жизнь в неустроенном мире. Признания христианства со стороны Империи было недостаточно. Только уйдя от трудностей мирской жизни в общины, построенные по их собственным правилам, они могли обрести мир, которого искали. Современник св. Августина, Иоанн Кассиан, покинул уединенные обители Египта и Святой Земли, чтобы основать в Марселе монашескую общину, в которой неистовый аскетизм его наставников был умерен чуткостью именно к этим нуждам. Его учение наметило будущий путь западного монашества, а его произведениям было суждено стать источником вдохновения для еще более великого монаха, чем он сам, св. Бенедикта. Но, возможно, доля правды присутствовала и в недружелюбном замечании последовательного язычника, Рутилия, говорившего, что монахи одинаково боятся как подарков судьбы, так и ее ударов. На самом деле, он имел в виду, что христианский и римский образы жизни не могут и не должны смешиваться. Христианство не есть просто новое название античности.
Св. Августин умер в стенах своего города-епархии, когда снаружи его окружали вандалы. В недалеком будущем Гиппону было суждено пасть. Несмотря на то, что голос св. Августина прозвучал во всем христианском мире с силой, данной немногим, его наиболее насущной задачей всегда было руководство своей собственной общиной, Гиппонской Церковью. Размышляя об общности всех христианских душ в мире, он скорее радел о бесчисленных маленьких общинах, вроде его собственной, каждая из которых имела свои устои и сталкивалась со своими трудностями, нежели о чем-то более значительном. Неудивительно, что он страшился будущего и «не надеялся на князи». До конца он оставался приверженцем учения о том, что земные царства по самой своей природе обречены на самоуничтожение, поскольку их задачи преходящи. Град земной и Град Небесный всегда остаются разными, даже если по природе вещей люди оказываются гражданами и того, и другого. Истинная цель человека и единственное занятие, в котором он в состоянии обрести счастье, это служение Богу, однажды явившему себя в лице Христа. Это служение есть любовь. Другой любви, другого служения и другого счастья не существует. Классический взгляд на роль личности в истории имел с этим мало общего.
Когда историк взирает на Империю накануне последнего варварского натиска, сильнее всего его должно поразить ни что иное, как простой факт того, что многие люди вслух говорили о самих себе и о том, во что они верили. В этой грозовой атмосфере они были напуганы — не столько недостатками имперской администрации, изменяющимся обликом общества и варварской угрозой (на которые первыми обращает внимание современный наблюдатель), сколько зрелищем самих себя, оказавшихся в поле действия новой, христианской, философии истории. Античность осознавала себя в понятиях взаимодействия двух сил, человеческого характера и божественного вмешательства, которое понималось как рок или фортуна. Вместе они произвели на свет Вечный Рим, такой, чтобы о большем материальном благополучии нельзя было и подумать. Форма была задана. Человечеству оставалось от поколения к поколению наполнять ее содержанием. Сложность состояла в том, чтобы согласовать этот взгляд с тем, что фактически происходило в реальном мире. Как можно было увязать его с историей Поздней Империи — или, короче говоря, с фактом перемены? Христианство разбило эту форму, поместив на место Вечного Рима бессмертную душу каждого отдельного человека, мужчины или женщины, спасение которой является достойным делом жизни, и к которой судьбы империй просто не имеют отношения.
В этом столкновении полуосознанных противоречивых верований мы должны тщательно выбирать себе путь в поисках того, что мы готовы принять в качестве свидетельства. На наших глазах люди ведут спор за свою жизнь — христиане с язычниками, язычники с христианами. Особенно печально то, что большая часть этой антихристианской полемики погибла. Она не интересовала средневекового переписчика, и, в результате, она исчезла. Пергамент, папирус, надпись, легенда, монеты и другие виды свидетельств сходятся воедино, чтобы поведать одну и ту же историю; но это ужасающе ненадежное дело.
У нас никогда нет уверенности в том, что же именно тогда происходило. Но зачастую мы можем высказать предположение, каково было мнение современников о происходящем. Мы можем увидеть, что материальные бедствия их времени обострили, а не вызвали у них чувство неудовлетворенности как классическим, так и христианским объяснением функции человека в обществе.
Некоторые утверждали, что античность умирает, а другие, что нет; одни — что христианство и классическая культура прекрасно сочетаются друг с другом; а другие, включая некоторых христиан,— обратное. История этого времени состоит, скорее, в факте этого спора, чем в его результате.
И вот на этот мир обрушились гунны.
Глава 2. Наше море
В течение третьего века н. э. в юго-восточной Европе возникли две варварские конфедерации. Письменные источники не сообщают нам о них почти ничего, а археология немногим больше. По крайней мере нам известно, что обе включали племена восточногерманских народов — народов, за плечами которых была долгая история миграции[5]. Это были древние народы с устоявшимися обычаями и сложными традициями; это были варвары, но не дикари.
Обе принадлежали к подразделению германских народов, которые называются готскими. Восточная группа остготов занимала или контролировала степи, лежащие между Крымом и реками Дон и Днестр. Западная группа, вестготы, обитала на землях между Днестром и Дунаем. И те, и другие были в значительной мере скотоводческими народами; и, должно быть, им, как и большинству из них, обычно с трудом удавалось прокормиться. Фактически, они бы и не смогли этого делать, если бы не вели постоянной торговли с Римской империей.
Дальше за ними, к северу, жили азиаты (а не германцы) гунны; и именно внезапное и до сих пор необъяснимое нападение этих племен опрокинуло более стабильные германские конфедерации и дало импульс массовому переселению варварских народов, сдержать которое оказалось невозможным для сил империи на востоке. Принять в себя отдельные племена в качестве поселенцев или наемников было одно дело: у Империи уже имелся большой опыт такого рода; но неожиданно встретиться с тысячами переселенцев это совсем другое дело. Вооруженное столкновение было неизбежным. Оно произошло 9 августа 378 г. вблизи Адрианополя, недалеко от столицы Восточной Империи. Наемники Империи были наголову разбиты мощной кавалерийской атакой, а сам император погиб. Это была катастрофа первостепенной важности.
С этих пор восточные провинции были открыты для разорения и грабежа, в которых сыграли свою роль и готы, и гунны, и подчиненные им племена, гонимые голодом. Все, что смог сделать Константинополь,— это уберечь себя от уничтожения.
Запад также был беззащитным перед лицом нападения. Но у нас нет возможности поинтересоваться подробностями этих атак. Достаточно сказать, что Империя полностью осознавала опасность, в которой она оказалась, и принимала все меры, какие могла, чтобы отвести в сторону натиск катившегося на нее вала и направить его воды в какое-то русло. Нельзя сказать, чтобы предпринимаемые усилия были совершенно безуспешными. Но за это пришлось заплатить полной варваризацией армии и передачей императорами всей исполнительной власти в руки варварских военачальников. В последовавшей сумятице — а это был не такой уж хаос, как иногда считают,— часто трудно определить направление государственной политики; но именно она кроется за этой борьбой за выживание. Некоторые провинции, побережья и города всегда считались достойными того, чтобы за них бороться, а другие — нет. Вероятно, западные императоры, чувствовавшие себя в безопасности за болотами Равенны, были марионетками. Но их веревочки заслуживали того, чтобы за них тянуть.
Величайшим варварским военачальником, оборонявшим Рим от своих собственных соплеменников, был вандал Стилихон. Быстро поднявшись по лестнице военной иерархии, он занял свое положение посредством женитьбы на племяннице императора Феодосия I, который, умирая, разделил Империю между двумя своими сыновьями. Стилихона он назначил опекуном младшего (Гонория), которому отходил Запад. Но десятилетие искусных военных операций против готов не смогли внушить римлянам любви к Стилихону. Он спасал Рим дважды (Аларих овладел им вскоре после его смерти), но тем не менее оставался излюбленной мишенью римских авторов, которые предпочитали видеть в нем человека, подкупленного врагом. Почему так случилось? По-видимому, отчасти из-за того, что он был готов помириться с готами, пытаясь вырвать из-под контроля Константинополя восточные области Иллирика, бывшие предметом усиленных домогательств. Еще отчасти потому, что повышенное внимание к событиям в Италии и на Балканах оставляло открытой для нападений Галлию. А также потому, что его оборонительная политика обернулась значительными расходами для класса сенаторов. Но самое главное потому, что для римлян, видимо, он знаменовал собой приход арианства. То, почему для западных ортодоксов отождествление готов и вандалов с этой формой христианства было таким естественным и таким пугающим, нуждается в некотором разъяснении; поскольку именно от этого, в очень большой степени, зависит история заселения Запада варварами.
Готы восприняли христианство из рук грека по имени Вульфила. Он проповедовал в их среде в течение семи лет (341—348 гг.), и, более того, перевел на их родной язык Священное Писание. Но он был арианином — то есть приверженцем ереси, приписываемой Арию, верившего в божественность Отца, но не Сына. В результате готы, как и их соседи вандалы, тоже стали арианами. Можно с легкостью снять вопрос о яростной оппозиции западных ортодоксов — твердых последователей Августиновой теологии — как о естественной реакции на вмешательство в свои дела сформировавшейся церкви, уже прошедшей через суровую борьбу за выживание. Как и у крупных римских землевладельцев, у Церкви было что терять, но она этого делать не собиралась. Об этом следует постоянно помнить. Но, с другой стороны, полнота учения о Троице является самым сердцем исторического христианства. Римлян и варваров разделяли и кровь, и язык, но эти пропасти были еще вполне преодолимы по сравнению с расхождением в вере.
Следовательно, Аларих был арианским правителем; и когда в 410 г. он в конце концов взял Рим, не стоило ожидать, что его сравнительно сдержанное поведение во граде св. Петра, могло вызвать чрезмерно положительную реакцию со стороны западных авторов. Он должен был разграбить Рим, и потому считалось, что он это сделал. Однако на самом деле он не мог испытывать особенного интереса к этому городу, коль скоро он пал, поскольку его люди отчаянно нуждались, скорее, в пище, нежели в добыче, а ее-то, как замечает св. Иероним, в Риме не было.
Где же можно было раздобыть пищу? Едва ли в Италии, где сельской продукции не хватало даже на то, чтобы прокормить более крупные города. Римское население снабжалось зерном и маслом из африканской провинции, а наместник Африки без колебаний прекратил поставки, услышав о том, что вестготы осадили Рим. Блокада была козырной картой в колоде императоров с тех пор, как они стали контролировать Африку и морские пути. Вестготы попытались добраться до Африки, всегдашней цели варваров, но потерпели неудачу. Поскольку путь через Балканы был прегражден следующей волной варваров, единственным возможным выходом оставалось отступление из Италии вдоль Средиземноморского побережья. И готы воспользовались им.
Племена, искавшие пищи и плодородных земель, передвигались быстро. Можно предположить, что они обращали мало внимания на права держателей земли, и столько же на права друг друга. Но тем не менее всего через одно-два поколения германские народы поселились среди римлян на западных землях, которым, в целом, суждено было стать их постоянным обиталищем; в Африке, после невероятного путешествия через Галлию и Испанию осели варвары; в Испании и Южной Галлии — вестготы; в Северной Галлии — франки; в Восточной Галлии — бургунды; а в Италии, вслед за вестготами,— остготы. Отношения этих поселенцев с местным населением, признание ими римской власти и отношение к цивилизации, с которой они встретились, обычно следовало единому образцу. Это нам известно не только из письменных источников (полностью римских или романизированных), но также из археологии и изучения географических названий и языковых форм. Варвары захватывали лучшие сельскохозяйственные земли, и этого следовало ожидать. Что может показаться менее очевидным, так это их явная готовность учитывать, в меру своего понимания, специфику местной практики землевладения. Даже когда они решали жить совместно исключительно германскими общинами, они обращали внимание на образ жизни тех, кого вытесняли. Одно из возможных объяснений этому может заключаться в их относительно небольшой численности. По большей части, они были землевладельцами, а не работниками, свободными крестьянами, а не рабами; они желали жить за счет сельской местности самым выгодным, то есть наиболее проверенным, образом. Римская сельскохозяйственная структура не пострадала по той простой причине, что была плодом не политических измышлений, а выработанной с годами рациональной адаптацией к ограничениям, налагаемым качеством почвы и климатом. Лишь усовершенствование сельскохозяйственной технологии могло повлечь за собой серьезные изменения; но превзойти Рим было трудно. В Галлии, Испании и Италии мы можем наблюдать тот же запутанный процесс перераспределения земли; варвары завладевают поместьями, или их частями, беспокоятся об установлении их границ, учатся, как лучше использовать пашню, тщательно соблюдают права собственности; короче говоря, они ведут себя как hospites, гости римского мира. Это не было изощренным притворством. Как в прошлом их предки, новые варвары пришли, хотя и в гораздо большем количестве, чтобы пользоваться землей Рима; и тот факт, что они обнажили свои мечи, ни в коей мере не уменьшал их решимости вести себя как римляне. В конце концов они были старыми знакомыми. Именно поэтому готские географические названия в Галлии так часто содержат личный и так редко готский топографический элемент (например, ручей, лес); ведь готы хорошо знали римлян и оттого понимали топографические термины латинского происхождения. Их заветной мечтой было укрепиться в традициях Запада и сблизиться с императорами. Возможно, это затормозило уже далеко зашедший процесс дифференциации между занятыми ими частями Империи. (Специалисты по поздней латыни согласны в том, что базовые расхождения между французским, испанским и итальянским языками относятся к доварварскому времени.) Внутри этой общей гармонии нужно отметить разногласия и затруднения. И прежде всего на землях вестготов.
Несмотря на свою численность — в Аквитании могло находиться до 100000 воинов,— вестготы, по-видимому, были не способны, или не желали противиться тенденциям к постепенной романизации. Нас не должна вводить в заблуждение похвальба их предводителя Атаульфа, что он некогда подумывал о том, чтобы превратить Romania в Gothia, но потом придумал нечто лучшее. Это пересказ его слов. А факты заключаются в том, что если бы вестготы не были арианами, то очень скоро они могли бы перестать существовать. Например, их юридическое наследие говорит о том, как их обычный образ жизни вдруг оказался под влиянием, и очень сильным, римских правовых норм. Опять же, смешанные браки должны были разбавить не только их кровь, но и язык. Для многих готов второго и последующих поколений родным языком стала латынь.
В течение пятого века Аквитания, Гасконь, Нарбонн, Прованс и большая часть Испании оказались под контролем готов. Следует ли нам расценивать это как запланированную экспансию?
Первое вторжение готов в Южную Галлию произошло в поисках пищи. Атаульф известил императора, что война должна начаться снова, потому что вопреки обещанию его народу не было поставлено зерно; голод вынудил его совершить еще одно перемещение, из Галлии в Испанию. Флот Империи установил надежный заслон и держал средиземноморские порты свободными от варваров столько, сколько это было в человеческих силах. Готы могли селиться на атлантическом побережье, если хотели, и могли квартировать на земельных участках внутри Аквитании; равным образом варварам в случае необходимости можно было предоставить Британию и северные провинции Империи; но крупные средиземноморские порты Галлии и Испании надо было удержать любой ценой. Именно по одному этому вопросу императоры Востока и Запада высказывались единодушно и были готовы к сотрудничеству. Из этого становится ясно, что огромные участки земли, населенные различными готскими племенами, привлекли их лишь по той причине, что те территории, которые оставались у них за спиной, никогда не были в состоянии избавить их от голода. Будучи отрезан от африканских поставок, римский Запад едва мог прокормить сам себя, что же говорить о вновь прибывших?
Вероятно, можно выделить два противоположных типа отношения римлян к кочующим не по своей воле готам. Первый тип отношения — это отношение к ним земельных собственников, вынужденных находиться в их среде, второй — это отношение чиновников, в чьи задачи входило задерживание готов на границах запретных зон.
Один из земельных собственников, жертва, лишенная своих владений, оставил подробный рассказ о своих треволнениях. На землях Павлина из Пеллы, галло-римского аристократа, вблизи Бордо поселились готы. Грабеж в сочетании с политическим просчетом лишил его всех его владений; тогда он бежал в Марсель, и там узнал, что значит жить в стесненных обстоятельствах. На его пути удача улыбнулась ему только один раз: «Незнакомый мне гот,— пишет он,— желая купить кое-какое мелкое имущество, которое некогда было моим, фактически прислал мне за него плату — конечно, не такую, которая хоть как-то отражала бы его истинную ценность,— но я, признаюсь, принял ее как дар свыше; поскольку она позволила мне как-то собрать обрывки моего растерзанного имущества и даже чуть-чуть убавить кривотолки, которые меня ранят». Павлин был, видимо, ортодоксальным христианином.
Что касается римских чиновников, то на Западе не было никого более влиятельного, нежели патриций Аэций, фактический правитель Италии и Галлии. Его задача заключалась в том, чтобы защитить Галлию от полного поглощения варварами; опасность грозила ей отовсюду. Со временем он сумел этого добиться путем стравливания вождя с вождем и племени с племенем. Однако создается впечатление, что его мотивом при этом не была та благородная лояльность по отношению к Империи, которая, по-видимому, была присуща его современникам. (Однажды он сознательно сдал варварам одну из провинций Империи.) Он был крупным землевладельцем, представителем династии, имевшей врагов при дворе, человеком, который ни при каких обстоятельствах не мог позволить себе оставаться беспристрастным; поэтому в каждом его решении тесно переплетались государственные и личные соображения. Он был тем, что в Средние века историки назвали бы феодальным магнатом высшего ранга, крупным приграничным землевладельцем, интересы которого простирались повсюду. Чтобы спасти Восточную Галлию от бургундов, Аэций призвал из Центральной Европы гуннов, где они в тот момент пребывали, зажатые между двумя Империями; и гунны успешно сократили численность бургундов до управляемых размеров, а то, как они это сделали, стало главной темой поэзии бардов. Кроме того, гунны были использованы против вестготов, воспользовавшихся занятостью римлян на севере, чтобы усилить свои позиции на юге. В Тулузе готы, осажденные гуннским войском под командованием римского военачальника, не только устояли, но поймали и казнили последнего. Это было в 439 году. Здесь нет никаких оснований полагать, что галло-римская аристократия признала готское владычество как fait accompli. Они были готовы продолжать борьбу и, что еще серьезнее, продолжать ее при помощи посредников, по сравнению с которыми готы показались бы невинными и хорошо воспитанными крестьянами. Вывод, с которым трудно поспорить, о том, что Аэций был заинтересован в основном в сохранении, причем любой ценой, земельных владений своей собственной семьи и своего сословия получает дальнейшее подтверждение в том, что он использовал гуннов и в Западной Галлии, куда они были призваны, чтобы подавить крупное восстание отчаявшихся крестьян и рабов[6]. Это восстание было очень серьезным событием, затронувшим всю Западную Галлию, его причины лежали в глубоком прошлом, будучи связаны с годами плохого управления, вымогательства и пренебрежения. Тем не менее когда буря разразилась, ответ Аэция свелся к обычным репрессиям, а инструментом его стали гунны.
В 451 г. гунны под предводительством Аттилы, их величайшего воителя, обратились против своих бывших хозяев и силой вторглись в Галлию под предлогом нападения на вестготское королевство Тулузу. Опасность оказалась настолько ощутимой, что объединила Аэция с вестготами; и вот летом они бок о бок встретили Аттилу на Каталаунских полях вблизи Труа и нанесли ему поражение. Аттила был выбит из Галлии; его следующим и последним ударом — к ужасу Аэция — стало нападение на Италию. Однако, что интересно, это поражение гуннов могло бы обернуться разгромом, а разорения Италии никогда бы не произошло, если бы Аэций этого захотел; ведь он удержал последнюю атаку вестготов, предпочитая, как выясняется, чтобы гунны выжили для того, чтобы в другой раз сражаться на его стороне и, возможно, с вестготами. Аэций был последним римлянином на Западе, который отстаивал — и защищал с оружием в руках — нечто, хотя бы отдаленно напоминавшее интересы Империи (хотя это, правда, не уберегло его от кинжала императора Валентиниана III). Он сражался вместе с одними варварами против других; он действовал в интересах узкого круга сенаторов, в руках которых по-прежнему находились лучшие владения, еще не захваченные варварами. Его самая заветная мечта, устранение вестготов, осталась столь далекой от выполнения, что вестготское королевство достигло своего зенита всего через несколько лет после его убийства; и тем не менее в глазах современников он был олицетворением чего-то римского, и, что бы это ни было, оно умерло вместе с ним.
Сами того не желая, готы и гунны преуспели в одной области созидательной деятельности, в которой чаще всего им вовсе отказывают. Они придали западной Церкви новое значение. Достигли они этого тем, что благодаря им местное сопротивление повсюду стало отождествляться с епископами; тем, что они напали на Рим; а в случае готов просто тем, что были
арианами.
О реакции епископов на вторжение нам рассказывают многие жизнеописания, некоторые из которых современны описываемым событиям. Естественно, все это пропагандистская литература, требующая осторожности в употреблении. И все же нет оснований сомневаться в значительной точности их общего утверждения — что епископы были на высоте, ведь для христианина напасти являются необходимым элементом жизни. Они были первыми там, где светские власти терпели крах. Например, один аквитанский поэт подарил нам образ престарелого епископа, выводящего свою паству из горящего города; св. Эньян, ободряющий жителей Орлеана; и третью картину — не относящуюся к епископам — на которой св. Геновефа убеждает парижан не пускаться в бегство. Остается впечатление, что епископы или ортодоксальные общины в целом выступали за стабильность. Они предлагали оставаться на своих местах и при своей собственности. В конце концов варвары могли оказаться немногим более нежелательными, чем чиновники имперского правительства в Равенне, чередующие равнодушие с вымогательством. Этим, возможно, объясняется любопытная двойственность тематики аквитанской христианской литературы: с одной стороны, готы приветствовались как избавители от римлян, а с другой — подвергались острой критике за безжалостное обращение с церковным имуществом и, что еще важнее, с ортодоксальными лидерами. Готам понадобилось некоторое время, чтобы оценить значение епископов как посредников между собой и имперским правительством, хотя, даже отдавая им должное, они, будучи арианами, держались особняком. Тем не менее сам факт выживания ортодоксальных общин в римской Галлии можно назвать триумфом; стоит также отметить, что повсюду, за исключением Африки, ариане были гораздо более терпимыми по отношению к ортодоксам, чем ортодоксы по отношению к арианам. В умах людей ортодоксальные епископы уже стали отождествляться с консерватизмом, преемственностью и с той самой римской традицией, которой угрожали их предшественники. Более того, они добились этого без всякой помощи. Так на свет появился галликанизм.
Нападения на Италию также находят отражение в христианских жизнеописаниях. Мы читаем о том, что Максим, епископ Туринский, тщетно призывал свою паству не страшиться гуннов и уповать на Бога, который даровал Давиду победу над Голиафом. Разве в Писании не обещано помилование каждому городу, в котором обрящется хотя бы десять праведников? Турин помилован не был. Но еще хуже пришлось крупному городу Аквилее, само местоположение которого веком позже оказалось трудно определить. Было и много других. Но Рим, величайший из всех, оказался более удачливым. Разумеется, он пострадал от варварских нападений; археологи нашли подтверждения разрушений и пожаров внутри городских стен. Тем не менее до середины шестого века он оставался, в сущности, таким же, каким его знала античность. И, что еще важнее, римские епископы начинали пользоваться подлинным влиянием, еще не над всей Европой, но над самим городом и Италией. Это не было предопределено. Как мы уже видели, сообщество сенаторов, основных землевладельцев Италии, в Риме чувствовало себя лучше всего и именно там пользовалось самой большой властью. Не ослабевал и их контроль над территориальной политикой, так как с течением времени они перестали быть язычниками и превратились в ортодоксальных христиан. Император, несмотря на свою непричастность к ним, также имел среди них своих официальных представителей. Превосходство, которого постепенно добивались римские епископы, следует отнести на счет самых разнообразных причин, причем отсутствие любой из них могло бы оказаться для них роковым.
В числе этих причин можно выделить, во-первых, экономическую власть. Римская епархия была щедро одарена землей императором Константином, и этот дар постепенно разросся до такой степени, что епископы были богаче любого сенаторского рода. Во-вторых, епископы с большой мудростью и талантом приспосабливали к своим собственным нуждам административные традиции империи; самые ранние папские документы (относящиеся к концу четвертого века) имеют своим источником канцелярию, безошибочно воспроизводящую аналогичный институт Римской империи. Здесь имела место преемственность, рассчитанная, намеренно или нет, на то, чтобы усыпить подозрения и вызвать доверие. Более того, у епархии имелась собственная библиотека; и это что-то да значило в городе, некогда славившемся своими коллекциями языческих книг. К тому же римские епископы развивали и насаждали самый мощный христианский культ Средневековья — почитание ап. Петра, первого епископа Римского. Скрывавшееся в этом притязание на первенство над всеми прочими кафедрами никогда не принималось как само собой разумеющееся; слово преемников св. Петра, епископа и мученика, имело особый вес просто потому, что они были его наследниками. К этому добавлялось рвение, с которым они отстаивали полноту тринитарного учения св. Августина и африканских отцов перед лицом германского арианства. Они ратовали за ортодоксию. Наконец, подобно многим другим епископам, они с самой выгодной стороны проявляли себя при политических неурядицах и, справедливо было бы добавить, извлекали из них все, что можно. Они оказались естественными лидерами; и апологеты ортодоксии не позволили людям забыть об этом. Словом, обстоятельства как будто сговорились, чтобы возвысить Римскую кафедру из сравнительной неизвестности в начале четвертого века к славе начала пятого века. Летом 452 года гунны Аттилы приостановили свое продвижение на юг через Италию у Мантуи. Здесь их встретило посольство, в которое, как мы полагаем, входили три самых влиятельных римлянина своего времени, люди, чье назначение на посты было поддержано всем весом сената. Одним из этих троих был папа Лев I. Его церковное первенство, возможно, мало что значило для язычника Аттилы; но в глазах римлян он был естественным выразителем воли императора, должностным лицом, предшественники которого вели переговоры с готами о сохранении города, а земельное богатство которого гарантировало его прямую заинтересованность в том, чтобы остановить продвижение новых варваров. Об этой встрече не сохранилось ни одного свидетельства из первых рук. Возможно, она не оказала существенного влияния на решение Аттилы заключить мир и отойти на север на земли гуннов в Центральной Европе.
Мы знаем, что его войско косили чума и голод. Но будущие поколения римлян не упустили случая связать освобождение своего города от гуннов с именем папы.
Очевидной, но примечательной чертой падения Западной Империи под натиском варваров было равное стремление римлян и варваров придерживаться древних форм политической жизни. В глазах современников западные императоры, в их равеннском плену, даже при той военной силе, которая имелась в их распоряжении, при раздробленности их администрации и несмотря на то, что мысли их в основном были заняты неразрешимыми династическими проблемами, выглядели не менее значительными, чем императоры древности. Их имя и титул продолжали ассоциироваться с самой характерной императорской функцией — изданием законов. Всего за двенадцать лет до вторжения Аттилы император Феодосии II издал свой великий кодекс, или собрание императорских указов и писем, обладавшее равным действием как в Равенне, так и в Константинополе. Историческое изучение этого огромного собрания до сих пор находится в зачаточном состоянии, да и в любом случае сейчас не время для его подробного рассмотрения; но необходимо подчеркнуть, что для демонстрации жизнеспособности систем управления империи в их наиважнейших проявлениях, вероятно, нельзя было придумать ничего более подходящего. И дело не в том, что этот кодекс был просто призван подавлять своим объемом; он предназначался для использования юристами и учеными и с учетом этого был поделен на шестнадцать разделов, последний из которых (об ортодоксальной вере) имел отношение к учению и организации ортодоксальной церкви. Этот кодекс продолжал влиять на юридическую, а значит, и политическую мысль Западной Европы в течение всего раннего Средневековья, и лишь постепенно, и к тому же не повсеместно, был вытеснен позднейшим кодексом императора Юстиниана. Более того, он сразу же и кардинальным образом повлиял на то, что думали о себе и своих отношениях с Римом новые варварские государства. Помимо трех основных варваризированных римских законодательств (остготского, бургундского и вестготского), которые предназначались, преимущественно, для нужд римлян, живших под властью варваров, варвары испытали сильное влияние юридических кодексов Феодосия, когда приступили к фиксации в письменной форме своих собственных обычаев. Например, сохранившиеся отрывки законов вестгота Евриха (464 г.) несут на себе настолько глубокий отпечаток римского права, что невольно задаешься вопросом, сможем ли мы когда-либо провести четкое различие между римским и варварским законодательством: можно утверждать, что в условиях Европы любое право было римским ex hipothesi.
Однако молодому императору Ромулу Августулу, свергнутому варварами в 476 г., не помог весь его престиж; он оказался — чего никто не мог предвидеть — последним западным императором. Насильственная смерть постигла многих императоров; немало из них были обязаны троном поддержке армии или клике могущественных людей; однако прежде не было никого, кто бы остался без преемника. Восточный император Зинон был вежливо осведомлен о том, что в его западном коллеге нет прямой нужды; варвары предпочитают находиться под его непосредственным покровительством. Разумеется, в некотором смысле это должно было значить то самое, что в течение уже некоторого времени говорили папы — подобно и Римской церкви, Римская империя неразделима. Тем не менее при этом хронисты того времени проявляют понимание того, что произошло нечто большее. Один из них пишет: «Так, вместе с Августулом погибла Западная империя римлян — и с этих пор Римом и Италией владели готские правители».
Августул (это было насмешливое прозвище) лишился трона, хотя и сохранил жизнь, поскольку ни он, ни те, кому он покровительствовал, не могли удовлетворить потребности в землях и пище разношерстных варварских орд Северной Италии. Покровительствовал же он, говоря кратко, интересам землевладельцев — сената, церкви и знатных фамилий, которые, все вместе, в качестве определяющего фактора позднеримской политики уступали только самим варварским поселенцам. Военачальником, на долю которого выпало свержение императора, был гунн по имени Одоакр; следует предположить, что какая-то часть его последователей также состояла из гуннов. Этим лучше всего объясняется ненависть, которую питало к нему большинство римлян, и удовольствие, которое они получали, рассказывая повсюду о его гибели от рук гота. Он принадлежал к ужасному народу, который, как полагали римляне, убивал и поедал своих стариков, пил кровь и спал, не сходя с седла; народу, сложившему удивительный варварский плач над телом своего героя, Аттилы, исполненный столь жгучей страсти, что ее доселе несет в себе его латинская версия, которая и дошла до наших дней. Поддержка нескольких римских родов и кажущийся нейтралитет папского престола не должны сделать нас слепыми к непопулярности Одоакра. Как же могло быть иначе с человеком, которого Константинополь заклеймил тираном? Неизбежность его падения определялась не характером его двенадцатилетнего правления Италией (о котором почти ничего не известно), а тем, что ему не удалось добиться официального признания. Он умер так же, как и жил,— предводителем кланов, поселившихся на землях в долине По. И нас не должны вводить в заблуждение титулы и юридические формы.
Победителем Одоакра стал остготский военачальник по имени Теодорих, который привел свой народ с востока в Италию, встречая полное одобрение империи, чтобы лишить гуннов и их союзников владений и всего того, что принадлежало только им. Гунны и готы были еще раз натравлены друг на друга, и полное исчезновение первых чем-то напоминает безжалостную дикость варварских войн героического века. Традиция гласит, что Теодорих убил Одоакра собственными руками. Люди желали верить этому. Для нас интереснее то, что Теодорих и его готы, даже будучи арианами, были сразу приняты римским сенатом и народом. Именно сенат, официальный класс землевладельцев, сокрушил Одоакра и сделал возможным правление Теодориха — и не потому, что Теодорих мог править или правил каким-то отличным от Одоакра образом. Он был послан императором. Этого было достаточно. Здесь, как и во все трудные времена периода разложения античности, мы можем проследить жестокие и эгоистичные интересы сравнительно небольшой группы семей, богатство и влияние которых основывалось на владении землей. Нельзя представить себе более сильного стабилизирующего влияния, чем твердая решимость этих семей сохранить в неприкосновенности свое достояние и не признавать над собой никакого господина кроме римского императора.
Остготы поселились на земельных угодьях долины По, которые раньше возделывались их предшественниками. Это подтверждается изучением географических названий; но было бы натяжкой отрицать, что готы селились и к югу от этой области. На самом деле создается впечатление, что Теодорих не стал сосредотачивать большей части своего народа в долине По не из страха перед римлянами, а, скорее, из-за того, что ему грозила опасность с севера. Изолированным группкам варваров, которые смогли продвинуться дальше на юг, римляне не досаждали. Однако обычно готы занимали земли, оставленные различными племенами, дружественными Одоакру, и им стоило некоторого труда избежать столкновения интересов с римской земельной аристократией, как светской, так и церковной. По-видимому, Теодорих даже назначил римлянина арбитром в делах о распределении собственности.
Как господин своих собственных подданных и признанный представитель императора Теодорих имел полный контроль над Италией. Стоявшая перед ним проблема заключалась не в создании изощренных планов синтеза и унификации, а в том, чтобы править и готами, и римлянами, не делая различий, поскольку благополучие и тех и других было основано на сельском хозяйстве, и защищать и тех и других от опасности появления новых голодных варварских народов. Наделе это означало, что в Италии, как и ранее, продолжалось римское управление; и Теодориху, ввиду его имперского поста, сенат и население Рима оказали прием со всеми почестями. Следовательно, кризис в Италии был не конституционным, а политическим и, особенно, землевладельческим. Но сам факт кризиса подразумевается в каждой строке той своеобразной литературы, которую породило пришествие Теодориха. Можно было бы ожидать, что римские чиновники, которые по роду своей деятельности больше всего соприкасались с этим варварским королем, станут всеми силами подчеркивать соответствие его правления лучшим традициям. Но мы сталкиваемся с чем-то большим — чем-то, не имеющим прецедентов в истории римско-варварского взаимодействия: сознательным усилием, со стороны римлян, представить Теодориха даже более великим варваром, чем он был в действительности. Вдохновителем этого начинания был Кассиодор, римский сенатор редких достоинств и образованности, особым достижением которого стала поддельная родословная Теодориха, связывавшая его с родом Германариха Амала, величайшего готского военачальника в период до нашествия гуннов[7]. В действительности, Теодорих был, до некоторой степени, выскочкой, о чем, по всей вероятности, было известно каждому второму готу. Своим положением он был обязан не крови и предкам, а полководческим успехам. Поэтому готские властители Италии были не расположены принимать слишком близко к сердцу произведения Кассиодора. Современные исследования склонны подвергать сомнению традиционный взгляд, согласно которому германцы более всего заботились о том, чтобы их правители происходили из подходящих династий; власть эти правители добывали своей собственной десницей, и, если могли, передавали ее своим детям. Чье же еще воображение, помимо самих римлян, поразил Теодорих Амал? Не следует ли нам понимать работу Кассиодора в свете жадного интереса знатных домов Рима ко всему, имеющему отношение к генеалогии? Именно это обеспечивало Теодориху уважение.
Но Кассиодор не просто примирил своих друзей с новыми варварами. Он принял активное участие в великом деле сохранения произведений античности для будущих поколений. Необходимо снова подчеркнуть, что римские аристократы этого времени ясно видели, что получили в свои руки крайне неоднородное наследие. Его неотъемлемыми частями были литература, право и религия, так же, как это было в дни св. Амвросия и Симмаха (семья которого по-прежнему вела активную деятельность в Риме). Язычество, естественно, уже не было политической силой, хотя и таилось еще во многих неожиданных уголках. Христианство подавило его. И теперь сенаторы стояли за полноту ортодоксальной традиции св. Августина, или по крайней мере такую ее часть, какую только они были в состоянии.усвоить, точно так же, как некогда они перед лицом имперской оппозиции ратовали за сохранение своих религиозных обрядов, считая их самой драгоценной частью своего наследия. Именно поэтому они взирали на папу как на представителя своей среды. Посему следовало ожидать, что люди, подобные Кассиодору и Боэцию, будут взирать на свою работу в интересах светской науки сквозь призму наследия ортодоксального христианства. Подобно Кассиодору, который, находясь на покое в Вивариуме, где он и его ученики придерживались устава на основе Правила св. Бенедикта, собрал у себя рукописи о римском праве и письма, и Боэцию, который, получив из Африки и Византии основной корпус сочинений Платона и Аристотеля, приступил к грандиозному (но незаконченному) делу их перевода на латынь, все были воодушевлены желанием сделать доступным для римского общества все наследие прошлого. В знаменитом тюремном диалоге Боэция «Об утешении философии» не найти и следа христианства; ученые уже достаточно потрудились, ища его. Но из-под этого же пера вышли и богословские трактаты «О Троице», «О католической вере» и «Против Евтихия». Кассиодор, которому Цицерон и св. Августин были почти одинаково дороги, разделил «Наставления», самый значительный из своих педагогических трудов на две части — богословские и светские письмена; и богословские были помещены первыми[8]. Во вступительных словах своего предисловия он выражает печаль по поводу того, что немало ученых готовы преподавать светские науки, в то время как лишь немногие преподают Священное писание. Это нужно исправить.
Откуда это ощущение неотложности? Из-за того, что остготы были арианами. Ничто, никакие компромиссы по несущественным вопросам, ни почтение по отношению к преемнику св. ап. Петра, не могло скрыть того основополагающего факта, который в конце концов стал камнем преткновения для государства Теодориха — как и любого другого арианского правителя. Арианство было общим врагом, который объединил папство и аристократию и сделал их лояльными подданными Византии. Процветание Италии под властью готов могло скрывать реальную опасность только до возникновения принципиальных проблем.
Кризис, как выяснилось, был делом рук Византии. Императору Юстину удалось прояснить некоторые догматические разногласия, которые отвращали его предшественников от Рима, а затем, в 523 г., издал закон, имевший силу и в Италии, который лишал язычников, иудеев и еретиков — под которыми он подразумевал ариан — права быть занятыми на государственной службе. Был ли этот закон направлен против Теодориха, неизвестно; но готы, конечно же, отреагировали так, как если бы это так и было, и последние годы жизни Теодориха были отмечены гонениями на ортодоксальных христиан. Боэций был лишь одной из его жертв. Важно не рассматривать этот внезапный поворот событий как непредвиденный. Взаимные преследования были привычными как для ортодоксов, так и для ариан, и существует множество свидетельств о трениях, возникавших между ними в Италии в течение всего периода остготского завоевания. В качестве примера можно привести ту ярость, с которой восприняли римляне разрушение готами ортодоксальной церкви у ворот Вероны, хотя не могло быть особых сомнений, что это было сделано с единственной целью обеспечить возможность достройки городских укреплений. Папа Иоанн I даже не пытался скрывать свою враждебность к арианам, и его смерть в готской тюрьме стала причиной его почитания как ортодоксального мученика. Теодориха," умершего вскоре после этого, сочли жертвой божественного правосудия.
Особенное несчастье Теодориха состояло в том, что у него не было сына, чтобы наследовать ему. Он был один из немногих варварских правителей, чьи успехи были столь велики, что он вполне мог бы стать основателем династии. Его дочь была замужем за вестготом, о котором в противном случае было бы ничего неизвестно, уникальность же его состояла в том, что в его венах действительно текла кровь Германариха. Но он умер прежде своего тестя, предоставив своей жене править готами, насколько она была в состоянии это делать. За этим не мог не последовать распад.
Иногда утверждают, что Теодорих рассматривал себя как главу германской федерации Европы. Это было не так. Но нельзя усомниться в том, что он активно интересовался событиями во франкской Галлии, вестготской Испании и вандальской Африке; и не в последнюю очередь потому, что он их боялся. Первые годы его правления были посвящены борьбе с готами, захватившими земли в Иллирике и Паннонии, и на Балканах, землях, через которые он сам некогда прошел, и безразличие по отношению к которым для властелина Италии всегда было непозволительным. А затем, в 507 г., его взгляды обратились на запад. Результатом явился ряд династических браков, связавших его род с семействами других варварских королей. Чего он надеялся достичь таким путем? Вполне вероятно, что он хотел обезопасить себя от интриг со стороны императора с франками Галлии. Отлучения от авторитетности императорской власти и смещение имперских интересов в сторону франкского короля могло опрокинуть остготское королевство за одну ночь. Отсюда и стремление Теодориха заинтересовать бургундов, вандалов и вестготов событиями у себя дома[9]. Отсюда, опять же, его особенная чувствительность ко всему, что касалось богатых и незащищенных земель Прованса, которые соединяли его с вестготской Септиманией. Кассиодор сохранил для нас часть уникальной дипломатической переписки, имевшей место в этот период между Теодорихом и его соседями. На этом основании зиждется бесспорный вывод: стабильность на территории Западного Средиземноморья в значительной мере зависела от событий в Северной Галлии. Это было неизбежным, исходя из географических соображений. Так же, как некоторые его римские и варварские предшественники в Италии, Теодорих ясно видел, что он не может позволить себе игнорировать Галлию. Его брачные альянсы, как бы искусно они ни были заключены, не имея другой глубинной цели, были призваны просто удерживать франков за пределами средиземноморского мира. В течение последующих веков европейская история, в большой степени, обуславливалась их проникновением туда.
Наконец, мы должны рассмотреть то влияние, которое оказало на Европу вандальское завоевание римской Африки. С первых же дней после своего прибытия на Запад варвары инстинктивно устремлялись в Африку; она была житницей Европы, значит, Меккой для голодных и не имеющих пристанища германцев. Если бы у Алариха были корабли, чтобы добраться туда, его преемник не отправился бы из Италии в Южную Галлию. Восточный и Западный императоры в конечном счете были солидарны, считая абсолютно необходимым как можно дольше не допускать варваров до средиземноморских портов, морских перевозок и даже знаний о кораблестроении. Согласно указу 419г. были наказаны смертью несколько римлян, открывших вандалам секреты кораблестроения. Но было уже слишком поздно. Всего за несколько лет вандалы осуществили переправу из Испании в Африку.
В Африке вандалы приобрели влияние, несоразмерное с их численностью, и это несмотря на то, что они не были единым народом. Мы можем отнести это за счет трех факторов. Во-первых, вандалы, контролировали жизненно важные для Европы пути и могли (да и делали это) по своему желанию перерезать поставки зёрна и масла; во-вторых, они принадлежали к самым ярым арианам, в то время как африканцы находились в числе самых ярых ортодоксов; и, в-третьих, они владели провинцией, которую можно было с наибольшим основанием считать интеллектуальным центром римского мира. Можно добавить, если угодно, что в самый критический период ими правил вождь выдающихся способностей, Гейзерих. Один историк даже назвал его самым тонким государственным деятелем своего времени.
Сведения о вторжении вандалов сравнительно многочисленны благодаря тому потрясению, которое оно причинило африканской Церкви. Подобно своим европейским коллегам, африканские епископы вдруг превратились в лидеров местного сопротивления безжалостному врагу. Некоторые, и среди них бл. Августин, стояли непоколебимо. Другие пускались в бегство вместе со своей паствой или без нее. А некоторые даже стали арианами. Нетрудно представить себе, что у зажиточных африканцев было больше оснований искать почвы для согласия с завоевателями, чем у всех прочих; на карту были поставлены огромные состояния. Компромисс шел рука об руку с коррупцией. Когда это не увенчалось успехом, последовали гонения более жестокие и, в некотором смысле, более желанные, чем где-либо еще на Западе. Когда же настал черед ортодоксов, они оказались такими же безжалостными. Какое-то время императоры были не в состоянии вмешаться. Они наблюдали за продвижением вандалов вдоль побережья из города в город, за уничтожением значительной части богатств провинции и истреблением ортодоксальной Церкви. Они видели, как голодает Рим, и как вандалы беспрепятственно нападают на побережье Италии. Константинополь также ощутил сокращение средиземноморской торговли. И действительно, похоже, что экономика Средиземноморья так и не оправилась от хаоса, в который она тогда оказалась ввергнута. Восток и Запад, разумеется, не были полностью отрезаны друг от друга, нельзя также сказать и того, что товары из Африки перестали достигать Европы и Леванта; но контакты были эпизодическими, уверенность торгового сословия поколебалась; шел поиск новых рынков. Страх перед тем, к чему это могло привести, должно быть, стал решающим фактором, подвигнувшим Восточных императоров к тому, чтобы оказать содействие своим западным коллегам, а когда их не стало, в одиночку заняться восстановлением власти империи в Западном Средиземноморье. Вторым, но не менее важным, был фактор религии. В частности, восточные императоры были глубоко вовлечены в религиозные споры, которые, хотели они того или нет, превратили их в богословов и теократов. Не услышать вопль католической Африки и католической Италии было бы равноценно отказу от исполнения основополагающей функции империи, подразумеваемой в трудах не только Константина, но и самого Августа. Питая эти интересы, Константинополь направил силы под командованием своего лучшего военачальника, варвара Аспара, чтобы помочь Западу отстоять от вандалов то, что еще оставалось от римской Африки, а после отступления западной армии продолжать войну в одиночку, но тщетно. В 440 г. уже во второй раз крупная морская экспедиция отправилась из Константинополя, чтобы отвоевать Карфаген,— и это тогда, когда самому Константинополю грозила серьезная опасность со стороны гуннов. Это позволяет оценить, насколько жизненное значение имела Африка в глазах восточных римлян. Ни та ни другая экспедиция не достигла успеха. Еще менее удачными были те, которые Запад планировал самостоятельно. Разработка и осуществление того, что стало известно под названием Реконкисты, выпало на долю императора Юстиниана.
Юстиниан происходил из Иллирика, и родным языком для него была латынь. Исходя из этого, ученые иногда делают вывод о том, что он питал больший интерес к событиям на Западе, чем если бы на его месте был император-грек. В пользу этого суждения говорит немногое. Наиболее яркой чертой Юстиниана была чрезвычайная консервативность ума, которая заставляла его действовать, стремясь как можно более соответствовать своим представлениям о действиях предшественников. В основе его озабоченности делами Запада — в ущерб даже собственной восточной границе, находившейся под постоянной угрозой со стороны Персидской империи — лежал не голос крови, а точная оценка интересов и задач империи. Изображать Реконкисту в виде грубого и бесполезного анархизма значит иметь абсолютно неверное представление об интересах Византии в шестом веке. Причину неудачи здесь следует искать не видее, а в ужасающей дороговизне и разрушительности Реконкисты.
Грек по имени Прокопий, имевший доступ к придворным кругам, оставил подробный рассказ о трех великих войнах Юстиниана (Персидской, Вандальской и Готской), которые вместе с предпринятой им новой кодификацией римского права позволяют нам считать его величайшим и наиболее ортодоксальным из последних императоров. Как хотел заверить своих читателей Прокопий, обе войны, составившие Реконкисту, были начаты при полной поддержке порабощенных римлян Запада. Частые разочарования не притупили их жажды освобождения от ариан — вандалов и готов. Когда решение о вторжении было, наконец, принято, оно основывалось, скорее, на религиозной почве, чем на советах военачальников, часть которых говорила императору, что при отсутствии опорных точек на Сицилии и в Италии никакое нападение на Африку не может увенчаться победой. Однако Велизарий согласился возглавить операцию.
Падение вандальской Африки было стремительным. Если верить имеющимся источникам, то значительная часть римского населения приветствовала своих избавителей, снабжала их продовольствием и открывала перед ними свои города. Но окончательное поражение вандалы понесли на поле битвы.
Последовавшее новое заселение Африки римлянами поднимает две интересные проблемы. Во-первых, купцы, похоже, вернулись к традиционным торговым маршрутам без особой ох9ты; Юстиниану так и не удалось уговорить средиземноморский мир признать, что вандалы были всего лишь эпизодом. Осуществленное им возвращение сельскохозяйственной собственности и земельных владений потомкам лишенных имущества римлян было гораздо успешнее его коммерческой политики. И, во-вторых, его религиозное возрождение превзошло самые смелые надежды африканской Церкви, которая не только вновь обрела свое отнятое имущество, но еще и получила возможность (и не упустила ее) начать преследование арианских иерархов. Вот отрывок из послания африканского духовенства, по случаю его первого собора в Карфагене в 534 г., папе Иоанну II:
«Мы жаждем возрождения прекрасных обычаев прошлого, упраздненных вековой тиранией и пленом, несмотря на единодушные протесты. И потому мы снова созвали собор всей Африки в базилике Юстиниана в Карфагене — и мы оставляем Вашему Святейшеству представить себе, каким потоком льются наши радостные слезы в таком месте».
Почти без передышки Юстиниан перешел к действиям, которые выглядят вполне логичным продолжением одержанной им победы. Он взялся за восстановление власти империи над Италией. Но здесь проблема была сложнее, поскольку варварское владычество было более мягким, а арианские гонения менее жестокими, чем все то, что испытали на себе африканцы. Следовательно, приветствия римской Италии в адрес войск императора могли быть не столь уж чистосердечными. Далее, итальянцам недоставало чувства сплоченности и провинциальной гордости, которая позволяла африканцам мыслить и действовать сообща. Но прежде всего имперские военачальники неверно оценили силу и разум остготов. Для того чтобы завершить Итальянскую войну, понадобился не один год, а двадцать; и за это время Италия была разорена от края до края, а ее города разграблены так, как никогда прежде.
Значительную часть этого ущерба можно отнести за счет жестокости имперских наемников, у которых было меньше оснований охранять права собственности, чем у осевших здесь готов. Городам Италии, и самому Риму, был нанесен удар, от которого они так никогда полностью и не оправились. Но все равно часть бедствия была связана с естественными причинами, особенно с голодом и чумой, которые почти не могли контролироваться войсками. Если бы освобождение Италии было осуществлено с той же скоростью, что и Реконкиста в Африке, не было бы никаких серьезных сомнений в том, что Юстиниан был бы встречен как избавитель. Но этому помешала эпоха военных столкновений и разрушений длиной в целое поколение. И когда Рим, наконец, пал, итальянский сепаратизм, антигреческие настроения и местные интересы соединились, чтобы обеспечить имперским войскам очень прохладный прием.
К сожалению, освобождения Италии не воспел ни один эпический поэт.
Юстиниан осуществил цель своих предшественников — восстановление Римского мира, обнимающего Средиземное море,— ценой непомерных человеческих и финансовых потерь. Африканские, итальянские и даже испанские порты были снова открыты для римского судоходства. Мог ли этот мир, при благоприятных условиях, вернуть себе свое древнее благосостояние, сказать невозможно; через очень короткое время лангобардам и арабам было суждено упразднить результаты Реконкисты. Но Юстиниан верил, что это было возможно; и в течение этих коротких лет его правления, особенно в Италии, наблюдались некоторые приметы восстановления, указывающие на обоснованность его веры.
Итак, подведем итог: на протяжении всего периода дезинтеграции постоянным фактором оставалась твердая решимость римских императоров восстановить империю.
Глава 3. Италия и Лангобарды
роблем, которая привела их к фиаско.
Мы бы знали относительно мало о лангобардах в Италии и бесконечно меньше об их ранней истории, если бы один из них, Павел Диакон, сын Варнефрида, не решил последовать примеру Иордана, написав, как это сделал бы римлянин, прозаическое повествование о подвигах своего народа. И потому будет справедливо предоставить первое слово ему.
Излишне говорить, что подобно другим «национальным» историкам того времени, Павел, несмотря на всю силу своей этнической гордости, думал о прошлом с точки зрения становления структуры христианства; его народ, некогда языческий, а впоследствии арианский, наконец (хотя и совсем недавно) обратился в католичество. Его темой стала победа ортодоксии, а не победа лангобардов. Сам Павел вырос в Павии при дворе короля Ратхиса. В 775 г. или вскоре после того он постригся в монахи в Монте-Кассино, приняв обет по уставу св. Бенедикта, и оставался там до тех пор, пока через семь лет семейные дела не привели его на север ко двору первейшего из всех варваров, Карла Великого. По-видимому, он немало прожил в Меце, родовом гнезде семьи Каролингов. Он много писал на различные темы. В небольшой, но авторитетной книге о епископах Меца он воспользовался случаем (а может быть, в этом и. состояла истинная цель его работы) изложить древнюю историю предков Карла Великого и, особенно, епископа Арнульфа. Он писал просто, выказывая образованность и живость — качества, которым Каролинги всегда умели находить применение; и только проведя на севере около пяти лет, он получил возможность вернуться в Монте-Кассино. Там он продолжил свою литературную работу. Она включала гомилии, очень ценившиеся во франкских землях (мы до сих пор не располагаем их критическим изданием), и историю лангобардов, начиная со времени, когда они впервые выступили с побережья Балтийского моря до смерти короля Лиутпранда (744 г.). Если бы Павел прожил дольше, то, возможно, он захотел бы продолжить эту историю, отчасти идя по стопам Григория Турского, поскольку остановился он на моменте, который для него являлся началом современной истории. Но, несмотря на все разнообразие его интересов, его страстью было прошлое и особенно влияние Рима и христианства на его предков-варваров. Он написал краткую историю Рима, достаточно небрежную, но чрезвычайно важную для нас, как свидетельство того, что по-настоящему поражало воображение варваров в восьмом веке.
История лангобардов Павла пользовалась безмерной популярностью. Она сохранилась во многих рукописях. Почему? Не потому, что она предоставляла образованным лангобардам более подробную или более живую картину их легендарного прошлого, чем та, которую они могли почерпнуть из устной традиции или песен своих собственных бардов (которыми пользовался Павел), и не потому, что она успокаивала их в момент капитуляции лангобардов перед лицом Карла Великого, а потому, что она показывала им самих себя, отраженными в римском зеркале. Само по себе чтение или составление истории было обычным римским занятием; мыслить о себе в историческом контексте значило мыслить по-римски; быть ортодоксальным христианином было то же, что быть римлянином. Нам не так сложно представить себе ту картину, которую они видели в этом зеркале, как помнить о том, что это зеркало вообще существовало.
Рассказ Павла о миграции лангобардов это не более чем краткий очерк, и можно сколько угодно терять время в бесполезных дискуссиях по поводу его источников. В целом, его рассказ о передвижении из Скандинавии через Центральную Европу в Паннонию не так уж бездоказателен, хотя его детали подчиняются литературному шаблону, введенному Кассиодором и Иорданом, писавшими о миграции остготов. Но это не должно нас беспокоить: кочующие германские племена во многом следовали одному и тому же пути, поэтому в описании их перипетии оказались взаимозаменяемыми в интересах повествования. Еще задолго до времени Павла существовал общепринятый свод германских легенд о миграции, на который с большей или меньшей долей вероятности опирались все германские авторы. Несмотря на то, что Павел был лангобардом и писал для лангобардов, у него отсутствовало стремление обелить своих предков. На самом деле он ставил перед собой задачу подчеркнуть их дикость. Она проявлялась в их вендеттах с соседними племенами, которые не становились менее яростными по мере того, как они все сильнее и сильнее подпадали под влияние Рима и христианства. Во время захвата степного пространства между Тиссой и Дунаем, около 500 г., они впервые встретились с арианским миссионером и стали номинально христианами. Под командованием свирепого Альбоина и в союзе с азиатами-аварами они напали на гепидов и уничтожили их, захватив богатую добычу. Доля самого Альбоина включала Розамунду, дочь Кунимунда, убитого правителя гепидов, из черепа которого этот лангобард сделал кубок, на его языке называвшийся scala. Натиск аваров, любовь к грабежу и потребность в нем, чтобы вознаградить своих соратников, а к тому же и неотступная проблема поиска новых земель для питания, привела Альбоина на юг, в Италию. Переход через Альпы был скорее отходом, чем наступлением. У нас нет никаких оснований для того, чтобы оценить численность его свиты, или определить, какая ее часть состояла из настоящих лангобардов, но маловероятно, чтобы их было столь же много, как остготов под командованием Теодориха. Второй момент, в котором лангобарды уступали остготам, состоял в том, что в Италию они вошли не как federati, или союзники Империи, а как враги. Восточные императоры не забыли об этом и в течение двух веков делали все, что было в их силах, чтобы изгнать их. Ненависть лангобардов ко всему грекоязычному населению Империи была плодом страха; власть лангобардов над Италией так и осталась весьма зыбкой.
Равнины Северной Италии, куда лангобарды спустились в начале 568 г., не были такими цветущими, какими увидел их Теодорих. Масштабы любой войны и разрухи легко преувеличить, но фактом остается то, что Италия послужила ареной долгой и ожесточенной борьбы между греками и готами, а также их наемниками, борьбы, затронувшей как города, так и сельскую местность. Вследствие этого конец шестого века для Италии был периодом непрекращающегося голода и чумы. Лангобарды обострили эту проблему, а не породили ее. Голод с чумой и облегчение после них являются неизменным фоном для роста политической и территориальной власти папства в Италии.
Историки до сих пор спорят об отношении лангобардов к жителям Италии и землям, которые они возделывали. Многое зависит от смысла единственной фразы в главе 16 третьей книги «Истории» Павла (эта глава представляет собой определенную шкалу), где утверждается, что у лангобардов не было причин умышленно навлекать страдания на итальянцев или лишать их собственности; имеется свидетельство о том, что некоторые крупные землевладельцы сохранили за собой свои владения и просто платили лангобардам дань. С другой стороны, трудно поверить, чтобы даже первое поколение лангобардских военачальников удовлетворилось (или могло удовлетвориться) обработкой лишь пустующих земель на севере, куда Рим традиционно поселял своих германских наемников. Несмотря на то, что ортодоксальная иерархия Северной Италии не была полностью истреблена, а римские землевладельцы не были поголовно обращены в рабство, лангобарды Альбоина относились к римлянам с подозрением и, насколько это было возможно, держались от них на расстоянии.
(Одной из сфер, в которых изоляция была с самого начала невозможна, являлась торговля.) Павел рассказывает нам, что они взяли с собой своих жен и детей, и имеющиеся свидетельства убедительно подтверждают, что лангобардам дольше, чем любому другому германскому народу, когда-либо селившемуся на римской территории, удавалось сохранять в неприкосновенности свою этническую самобытность, независимость и язык.
В Италии характерной для них социальной единицей была fara, или группа семей, живших на военном положении в каком-нибудь укрепленном пункте, откуда можно было организовывать набеги на соседние территории, и где можно было сосредотачивать и распределять добычу. Нет сомнения, что fara, до-итальянские по времени своего происхождения, видоизменились в результате контакта с высокоразвитой цивилизацией Италии; но их сохранение указывает на убежденность лангобардов в необходимости сохранения своих исконных институтов семьи, которые фактически были одним из способов выживания[10]. Только к двенадцатому веку слово fara получило значение «род». Другими словами, кровные отношения, более глубинные, нежели те формы, которые привнесло в общество наследственное владение землей, даже на тот момент еще не были полностью утрачены из виду. Этой картины не опровергает и археология. Древнейшие в Италии погребальные клады лангобардов, как и в Паннонии, являются чисто германскими и очень напоминают захоронения всех прочих германских народов языческого периода, включая остготов. Возможно, они не дают нам права говорить о самобытном искусстве лангобардов, но они действительно говорят нам о народе, еще полукочевом, зажатом между владениями людей, чьей цивилизации они еще не были в состоянии подражать. Говоря словами Бери, умом они все еще были в лесах Германии.
То, что в период после смерти Альбоина положение и взгляды лангобардов стали стремительно меняться, было в значительной мере связано с великим папой Григорием I и св. Бенедиктом, учителем Григория. Эти два человека вместе внесли определяющий вклад в стабилизацию варварской Европы.
Св. Бенедикт известен нам только по краткому житию, составленному Григорием примерно через 45 лет после его смерти. Оно образует вторую книгу Диалогов последнего. Естественно, можно возразить, что, не имея в поддержку никаких свидетельств, подобное повествование может почти не содержать исторической правды. Мы вправе принимать его на веру или нет, как нам угодно. Ученые в основном отказались доверять ему.
Григорий говорит, что Бенедикт родился в зажиточной семье в провинции Нурсия. Можно заключить, что произошло это примерно в 480 году. Образование он получил в Риме. Подобно другим представителям своего поколения, он еще в молодости ощутил призвание к аскетической жизни, которую вел сначала в Субиако, недалеко от развалин дворца Нерона, а потом на огромной высоте Монте-Кассино, нависающей над дорогой из Рима в Неаполь. Каковы бы ни были его личные желания, он собрал вокруг себя значительное количество учеников; и именно ради наставления этих людей (а не по приказанию какого-либо папы) он в конце концов письменно изложил свой общинный устав, опирающийся на основополагающие принципы смирения, милосердия, послушания, постоянства места, нищеты и веры в Провидение, соблюдения которых он всегда требовал от своих соратников. Эти принципы не были новыми, так же, как и монашество не представляло собой нового образа жизни. Но заслугой Бенедикта стало их объединение. Великий монах — как и большинство его первых последователей, он так и не стал священником — был также чудотворцем. Это не только принесло ему славу при жизни, но стало частью арсенала его подражателей в последующие века. Чудотворение и культивация всего сверхъестественного принадлежали к числу самых стойких увлечений бенедиктинцев.
Устав св. Бенедикта сохранился в списке, сделанном в Аахене для Карла Великого с экземпляра, присланного ему Теодемаром, аббатом Монте-Кассино. Этот экземпляр непосредственно воспроизводил рукопись самого св. Бенедикта; и, следовательно, список
Карла Великого, по-видимому, представляет собой уникальный случай в области древних текстов — это копия, отделенная от оригинала-всего одним промежуточным звеном. А значит, мы с полным правом можем быть уверены в том, что именно было написано св. Бенедиктом.
В данной работе мы не имеем возможности подвергнуть этот устав сколько-нибудь подробному рассмотрению. В нашем случае интересен сам факт существования этого документа, с трудом находящий свои основания в прошлом, и в то же время отвечающий запросам новой варварской эпохи — аккурат между античностью и Средними веками. Об этом говорит даже язык; дело в том, что св. Бенедикт писал не на классической латыни, которой его могли обучить в Риме, а на вульгарной, то есть на языке его современников. Его устав был рассчитан на практическое применение.
Он предназначался для кеновитов, то есть монахов, которые в соответствии с уставом и под руководством отца, или аббата, живут общиной, будучи связаны с ней клятвой относительно постоянства места до самой смерти, в обители, отвечающей всем их потребностям. Вступление в подобную общину не обязательно было легким. Но это, в конечном итоге, не помешало распространению общин, следующих уставу св. Бенедикта, или какой-то его версии, по всей Западной Европе, тем самым как разрешая, так и порождая социальные проблемы, о которых будет более подробно рассказано в других частях этой книги.
Св. Бенедикт с большим искусством дал определение тому, как должны были строиться его общины, и каким образом им следовало проводить время. Он не ждал, что его монахи будут, подобно отцам-пустынникам, практиковать крайний аскетизм, напротив, они должны были вести размеренную жизнь одной семьей, наверное, похожей на лучшие римские фамилии прошлого, работая на земле и находясь под руководством аббата, положение которого не радикально отличалось от римского paterfamilias, хотя аббатом (Abbas), то есть «отцом», он был назван не из-за этого.
Устав разделял день монаха на уравновешивающие друг друга должным образом периоды ручного труда, чтения и присутствия на божественных службах. Все три эти составляющие понимались как части духовного целого, но лишь последняя было его сердцевиной и целью. Соблюдение четкой дисциплины было средством и никогда не превращалось в самоцель. Дисциплина строго упорядоченной общинной жизни делала возможным то, чего неизмеримо труднее добиться в миру,— беспрепятственное возношение хвалы Богу и молитву о спасении душ, следующих пути, проложенному Римской Церковью и описанному в ее законах. Главной целью св. Бенедикта было дать мужским общинам возможность осуществлять свой священный христианский долг с целеустремленностью, которой редко могло добиться епархиальное духовенство. Но его бы в содрогание привело известие о том, что однажды его монахи, теперь образованные и рукоположенные, станут противниками епархиального и мирского духовенства.
Св. Бенедикт умер в Монте-Кассино в марте 547 г. или вскоре после этого; там же он был и похоронен рядом со своей сестрой св. Схоластикой. На момент его смерти его уставу в Италии уже определенно следовали три общины, и, несомненно,, существовали и другие. Но через тридцать лет по Италии прокатились лангобарды, уничтожая все религиозные структуры. Известно, что на территории, контролировавшейся лангобардами, сохранился только один монастырь — св. Марка в Сполето. Некоторым монахам из Монте-Кассино удалось ускользнуть от ярости Зотто, герцога лангобардов, и достичь Рима, принеся с собой рукопись своего устава. Папский престол сохранил труд св. Бенедикта и обратил его на собственные нужды.
Главным действующим лицом в этом акте был папа Григорий, известный потомкам, но отнюдь не современникам, как Великий. То, что его авторитет при его жизни не был так высок, и то, что самое раннее его жизнеописание столь коротко, само по себе ничего не говорит[11]. Тем не менее остается фактом, что короткое упоминание о его жизненном пути, вставленное в конце седьмого века в Liber Pontificalis (бесценная серия полуофициальных жизнеописаний пап), имеет мало общего с тем образом, который позволяют нарисовать его собственные произведения, и еще менее с тем портретом, который предпочитали воспроизводить средневековые биографы (особенно английские). С уверенностью можно сказать одно — этот бескомпромиссный папа возбудил против себя ненависть, отзвуками которой являются и сдержанное упоминание в Liber Pontificalis, и предание о том, что после его смерти толпа хотела сжечь его библиотеку. Однако в действительности достижений Григория не может быть сомнений. Его деятельность и труды говорят сами за себя и не нуждаются в помощи биографов. Они представляют нам первого великого папу средневековья, ученика одновременно и св. Бенедикта, и св. Августина.
Подобно св. Бенедикту, Григорий принадлежал Риму. Там он вырос. Но, в отличие от св. Бенедикта, он был глубоко вовлечен в римскую политику, поскольку до того, как отречься от мирской суеты и превратить свои фамильные владения на Сицилии и на Коэлийском холме в монашеские обители, он являлся префектом своего города. Произошло это в 575 г., за два года до разграбления Монте-Кассино и за три — до кончины престарелого Кассиодора. В начале 590 г. он был вызван из своего Коэлийского монастыря, посвященного св. Андрею и следовавшего бенедиктинскому уставу, чтобы сделаться папой. Его предшественник умер от чумы, которая тогда опустошала Италию; и Павел в своей «Истории лангобардов» связывает эту чуму с разливом Тибра, в водах которого было замечено множество змей, включая необыкновенной красоты дракона, которые плыли к морю. Григорий начал свою деятельность с семичастного просительного молебствия, в ходе которого не меньше восьмидесяти его участников упали мертвыми. Не вдаваясь в подробности, мы можем увидеть в этой истории отражение реальной обстановки времени его понтификата. Это было время отчаянного кризиса, чумы, голода и разрухи.
Григорий не был первым папой, встретившимся с испытаниями такого рода: его современникам, естественно, приходила на ум аналогия со Львом Великим. Он также не был первым папой, получившим образование в Риме, или получившим хорошую школу в качестве дипломата в Константинополе, или посвятившим много времени размышлениям над сложными произведениями св. Августина. Но он был первым из учеников св. Бенедикта, кто занял престол св. Петра, Из-за своей преданности литературе св. Бенедикта, отразившейся в житии последнего, то есть во второй книге «Диалогов», он получил от византийских греков титул «Двоеслов», призванный отличить его от тезок.
С точки зрения некоторых ученых, это житие имело такое же значение для огромной популярности устава, как и собственные достоинства последнего. Оно образует часть работы, первоначально и более удачно названной « Чудеса итальянских Отцов», но впоследствии известной как «Диалоги» по причине используемого автором метода. Поиск материалов для этой книги не составил труда. В переписке папы содержится несколько просьб прислать те или иные сведения, и примеры того, как он торопился расспросить стариков, чьи воспоминания могли быть ему полезны. Он предостерегает своих читателей от легковерия, призывая их искать подтверждений якобы совершившимся чудесам, подтверждения, скорее, не того, что они имели место, а того, что поручившиеся за это люди ведут высоконравственную жизнь. Для средневекового ума агиографическое и историческое свидетельство никогда не были вещами одного порядка. Таким образом, Григорий, возможно, внес не последний вклад в формирование средневековой агиографии, этого удивительного литературного жанра, обширное историческое богатство которого до сих пор едва нащупано. При помощи чудес и новой христианской мифологии стало возможным обуздать и победить суеверный разум варвара.
Однако литературная деятельность папы лежала за рамками агиографии. Она охватывала исследования по литургическому богословию (плодом которых стал григорианский распев) и экзегетике; толкование на книгу Иова, обладавшее большим авторитетом; и Liber Regulae Pastoralis, прекрасное описание пастырского призвания — не просто к жизни в вероучительном христианстве, как это часто бывало в прошлом, но к нравственной чистоте,— которое впоследствии король Альфред избрал для перевода на свой родной английский. Вся эта работа создала прецедент, которого средневековый Рим не мог забыть. Последующие папы нечасто вели жизнь такого духовного уровня, как Григорий I. Но лишь немногие забывали о том, что защита христианства имеет литературный аспект, забота о котором является их обязанностью. Однако заложение основ средневекового папства Григория не интересовало. Для него его литературные труды, осуществляемые с большим пылом, были лишь частью мощных пастырских усилий спасти от проклятия души римлян и варваров. Если им недостает лоска, то это потому, что их автор не мог позволить себе терять время. Он был больным человеком, умиравшим не от голода, подобно своей рассеянной пастве, а от физических немощей, которые он рисует в своей переписке. Историки любят привлекать внимание к беспрестанной деятельности Григория в качестве землевладельца. Его письма создают образ папы, который, несмотря на весь апокалипсизм своего мировоззрения, каждый день был готов защищать патримонии своих предшественников от лангобардских мародеров и побуждать своих служителей к дальнейшим трудам. Огромное земельное богатство средневекового папства многим обязано этому человеку, который был готов защитить свое собственное достояние, но не только его, поскольку, собственно говоря, оборона Рима была обязанностью не папы, а Восточного императора. Именно в этом, говорят нам, и лежали зачатки распада: растущая озабоченность территориальной властью должна была лишить пап их духовного авторитета. Однако Григорию эта проблема виделась в несколько ином свете.
По крайней мере можно сказать, что он смотрел на насильственное лишение собственности в основном так же, как любой другой римский аристократ, и имел достаточно сил для защиты земель, которые унаследовал. Но дело было не только в этом. Его паства, в буквальном смысле, питалась с церковных земель и на пожертвования верующих. Италия представляла собой страну, народ которой долго жил в состоянии непреходящей неуверенности. Ее дороги были полны бродяг, нищих и сирот; и только церкви были в состоянии помочь им. Григорий подходил к этой проблеме с точки зрения нравственности, а не экономики. Велизарий пытался превратить изголодавшихся римских безработных в воинов, пригодных для того, чтобы сражаться под знаменами Империи; но у Григория не было подобной утилитарной цели. Через посредство церквей и монастырей он создал систему пособий для бедных, больницы и бесплатную раздачу хлеба, которые им дорого обходились. Потраченные средства уже никогда не вливались обратно в их казну. Он неоднократно заявлял, что его патримония существует для того, чтобы помогать бедным. Для себя он не желал более почетного титула, чем dispensator in rebus pauperum, распорядитель вспомоществования бедным. Вот каков был его взгляд на милостыню: «Земля — это общее достояние всех людей — когда мы подаем бедным необходимое для жизни, мы возвращаем им то, что уже и так им принадлежит,— мы должны думать об этом больше как об акте справедливости, чем сострадания».
При таких принципах, как реагировал Григорий на лангобардов? Разумеется, без непримиримой вражды. Вероятно, он думал о них в основном так же, как св. Августин о вандалах, то есть как об ужасном, но необходимом наказании; а может быть, и как о посланном Богом знаке приближающегося конца мира, победы антихриста. «Какие радости еще остаются в этом мире? — вопрошает он в своей шестой гомилий на книгу Иезекииля.— Со всех сторон мы видим войну, со всех сторон мы слышим стоны. Наши города разрушены, крепости стерты с лица земли, деревни заброшены. Некому возделывать поля, и почти некому удерживать города. На уцелевших, на эти жалкие отбросы человечества, ежедневно совершаются нападения. Но до сих пор удары божественного правосудия не прекращаются — кто-то обращен в рабство, кто-то искалечен, кто-то убит. И снова я спрашиваю, братья мои, какие нам еще остаются радости? — смотрите, во что превратился Рим, когда-то властитель мира. Измученный своими великими и непрекращающимися горестями, лишившийся своих сыновей, сокрушенный своими врагами, разрушенный; итак, мы наяву видим осуществление приговора, произнесенного в древности над городом Самарией пророком Иезекиилем».
Остальное время Григорий посвящал делу спасения душ везде. Отсюда его стойкий интерес к бенедиктинской миссии в среде англосаксонского населения Кента и к начинающемуся обращению вестготов в Испании. Эти варвары казались ему очень близкими. Но все же еще ближе были дотоле необузданные лангобарды. «Какими только ежедневными убийствами,— спрашивает он в 602 г.,— и какими только беспрестанными нападениями не угнетали нас лангобарды за эти долгие тридцать пять лет?» Высказывания такого рода рассеяны по всем его работам. Это дурной народ, люди, которым нельзя доверять, которые никогда не выполняют своих обязательств, разорители церквей и монастырей. Григорий вел переговоры с королем Агилульфом под стенами Рима, а однажды, в 591 г., несмотря на нелюбовь к кровопролитию, он был готов оказать вооруженное сопротивление лангобардскому герцогу Сполето. Но это еще только половина истории. Если лангобарды и были Божьей карой народу, то были они и полем для миссионерской деятельности; и они также иногда подвергались истреблению. Одним из самых захватывающих отрывков «Истории» Павла является рассказ о послании Григория своему представителю в Константинополе, о послании, которое было предназначено для передачи императору Маврикию: «Ты можешь сказать его Величеству, что если бы когда-либо я по своей воле начал стремиться к убийству, даже к погибели лангобардов, этот народ сегодня был бы повержен в полный хаос и не имел бы ни королей, ни герцогов, ни графов». Далее, согласно Павлу, папа считал, что и лангобарды стоят того, чтобы их спасти, не только отдельных их представителей, но все семьи и весь народ. Его труды во имя их спасения заключаются в значительной мере в ограничении вендетты, характерной кровавой вражды, которая представляла собой германский способ улаживания семейных разногласий и поддержания порядка. Ограничивая последствия кровной мести, церковь, несомненно, уберегала германские племена от этой разновидности самоубийства, но, делая это, она меняла природу и структуру их общества.
Во время своего прихода в Италию предводители лангобардов, были главным образом арианами, а шедшие за ними — либо арианами, либо язычниками. Мы никогда не сможем удовлетворительным образом установить, в какой степени сохранилась католическая иерархия Северной Италии, но эта степень не могла быть ощутимо большой. Однако неизбежное дипломатическое общение с Римом и с византийской Равенной, как и обычные деловые контакты с «аталийцами», должны были незамедлительно оказать воздействие на лангобардов особенно со стороны католической церкви; а ко времени Григория Великого перспектива их обращения в католичество как народа уже не казалась слишком отдаленной. Случилось так, что папе удалось использовать в политических целях баварскую принцессу Теодолинду, которая к тому же была привержена католической вере. Эта баварская принцесса умудрилась стать королевой двух лангобардских провинций (королевств). (Точно так же он использовал и франкскую принцессу Берту, праправнучку Хлодвига и жену правителя Кента Этельберта.) Не религия Теодолинды была причиной того, что лангобарды пожелали видеть ее своей королевой, а кровь, поскольку по материнской линии она происходила из лангобардского королевского рода Летингов. Более того, баварцы и лангобарды были старыми друзьями и соседями, для которых, как оказалось, Альпы не были серьезной преградой. Вместе они образовали сильный фронт против таких врагов, как франки, и их соединяли многие социальные и экономические связи. Григорий извлек из благочестия Теодолинды все, что мог. В Монце, недалеко от Милана, она построила церковь, которую наделила землями и драгоценностями, включая несколько серебряных сосудов сиро-палестинской работы, присланных ей папой. Шестнадцать из них сохранились. Его дары, возможно, включали также оклад или шкатулку для Евангелия, теперь считающуюся принадлежавшей Теодолинде, и золотой крест из Византии. Павел описывает варварские росписи, изображавшие сцены из лангобардской истории, которыми она приказала украсить стены своего дворца.
Но религиозные помыслы Теодолинды были обращены не к одному только Риму. Она жила в той части Италии, которая рассорилась с папством, когда митрополиты Аквилеи, Равенны и Милана. не пожелали подчиниться Риму по определенным важным вопросам. К тому же она водила дружбу с ирландскими монахами. Ирландцу Колумбану, бежавшему от франков и всегда устремленному на борьбу с арианством, было позволено основать монашескую обитель в Боббио, на территории лангобардов. Через каких-нибудь двадцать лет Боббио принял бенедиктинский устав; но по своему происхождению это был чисто иностранный монастырь, не имевший никакой связи с Римом. Роль Боббио в истории культуры, и, особенно, пересылки рукописей, настолько важна, что нам стоит забыть о том, что своей своеобразной безопасностью он, возможно, был обязан желанию Агилульфа и его жены поддерживать через Колумбана контакт с жизнью Европы, лежащей к северу от Альп. Вторым монастырем, созданным Теодолиндой, стал Сан-Далмаццо в Педоне; и Павел говорит, что были и другие. Но только во времена короля Перктарита (671—688 гг.) лангобарды почувствовали себя достаточно уверенно, чтобы прямо-таки поощрять создание монашеских обителей и приветливо встречать римских миссионеров. Конечно же, миссионерские усилия Теодолинды были достаточно действенны, чтобы вызвать среди предводителей лангобардов мощную антикатолическую реакцию; и едва ли можно предположить, что к моменту смерти (за десять лет до прибытия Колумбана) папе Григорию удалось многое сделать. Единственной христианской иерархией, пользовавшейся поддержкой короля, была арианская; и эта иерархия признавала не Рим, а Павию. Лангобарды еще не были цивилизованы.
Замечательным памятником стойкости лангобардского сепаратизма является собрание норм обычного права, составленное и записанное при короле Ротари (643 г.), и известное как Эдикт Ротари[12]. Древнейшая из существующих ныне рукописей (сент-галленская) была создана примерно пятьюдесятью годами позже; но сопоставление с другими манускриптами позволяет судить об оригинальном своде законов, состоявшем из 388 глав или разделов, предварявшихся введением и списком лангобардских королей. Этот сборник чрезвычайно ценен, поскольку позволяет историку не только исследовать лангобардское общество во всех подробностях, но также сравнивать его с другими варварскими народами, особенно скандинавским, франкским и англосаксонским, которые примерно в то же самое время решили, безусловно, под аналогичными влияниями, записать положения своего обычного права. Для всего корпуса варварского права характерно единообразие, которое объясняется двумя причинами. Во-первых, несмотря на свой племенной характер, оно строится на формальном основании римского права, гражданского и канонического; и, во-вторых, различные его ветви весьма много заимствуют из общего и не слишком отдаленного германского прошлого.
Итак, в своем предисловии, а потом и эпилоге Ротари заявляет, что состояние дел в его королевстве и, особенно, угнетение бедных богатыми, побуждает его к исправлению законов, насколько они ему известны, их изменению, дополнению, а при необходимости, изъятию из них каких-то положений. (Варварские законодатели позаимствовали эту фразу из 7 Новеллы Юстиниана.) Пересмотренные законы он собрал в одном своде с тем, чтобы, зная их, люди смогли жить в мире друг с другом. После этих слов король приводит список предшествовавших ему лангобардских правителей. Их шестнадцать, и не все они принадлежат к одному роду. Третьего из них зовут Лет, и его корону наследуют шесть его прямых потомков; но, по-видимому, имя Летингов не обладало никаким особым очарованием. Сам Ротари не был Летингом. Он был обязан своим венцом не крови, а выборам, то есть силе своей десницы и уважением братьев-военачальников. Однако несмотря на то, что он первым в своем роду возложил себе на главу корону, Ротари знал своих предшественников до одиннадцатого колена и полагал, что их письменный перечень заинтересует и произведет впечатление на его преемников.
Эдикт был написан не на языке лангобардов, а на латыни. Причина, возможно, состоит в том, что лангобардское наречие не было письменным, а латынь являлась языком западного права. С другой стороны, лангобарды все еще были гордым народом. Они не любили ни римлян, ни греков. Короли Кента смогли записать свои законы на местном языке, и, как я полагаю, нельзя считать непреложно установленным, что франки не сделали того же самого. Истинная причина может быть в том, что фактически сама компилятивная работа была проделана, для собственного же удобства, чиновниками, знакомыми с великим первообразом, законами Моисея, только по латинской Библии. В основе варварских законов лежит книга Второзакония.
Ротари был арианином, хотя двор не был застрахован от появления ортодоксов. В своем Эдикте он признает христианство, не только восклицая in del nomine, но и другими способами; его мысли возвышаются до уровня нравственности, что является очевидным плодом христианского влияния. Оно отчетливо проступает в его продуманных действиях с целью ограничить влияние традиции семейной вендетты. Он устанавливает размер денежных компенсаций, призванных удовлетворить честь свободной семьи, член которой понес физическое увечье, каким бы легким оно ни было, и завершает это положение словами: «Для всех вышеупомянутых ран, рубленых и колотых, могущих произойти между свободными людьми, мы обеспечили большее вознаграждение, чем наши предшественники, для того, чтобы, получив такое вознаграждение, люди оставляли faida (то есть вражду), и более не имели друг к другу никаких претензий, и не таили злобы; и чтобы раздор считался исчерпанным, и возобладала дружба». Здесь говорится не о том, что месть дурна сама по себе, но только о том, что не следует осуществлять ее после того, как участники ссоры согласились на альтернативную форму сатисфакции. Глава 189 Эдикта специально дозволяет месть семье свободной женщины, которая спит с мужчиной, не являющимся ее мужем; мужу разрешалось убить неверную жену. Почти двумя веками позже Павел с одобрением рассказывал о маленьком карлике, который, желая отомстить за своего хозяина Годеперта, спрятался в куполе над источником, чтобы свеситься вниз и заколоть врага своего хозяина, а сделав это, упал вниз на мечи охранников своей жертвы, «...но, несмотря на то, что он умер, он все же замечательно отомстил за обиду, нанесенную его хозяину». В Италии, как и в других местах, вендетта умирала медленной смертью и только по прошествии веков стала восприниматься как явление безнравственное и ненужное. Для Ротари и его современников она просто означала бессмысленные людские и материальные потери и несла в себе опасность для маленького общества во враждебном мире.
Вендетта это лишь один из многих вопросов, затронутых в Эдикте, хотя для нас он и стоит в числе наиболее поучительных. Ротари также уделяет внимание преступлениям, нарушающим его покой, убийствам, неповиновению, нанесению телесных повреждений рабам и, двигаясь в сторону закона о наследовании, равному разделу собственности между наследниками мужского пола, необходимости вручения даров в присутствии многочисленных свидетелей; и, наконец, закону, относящемуся к положению женщин и освобождению от рабства.
Все это указывает на общество, значительно превосходящее состояние племенной организации и способное к восприятию опыта Рима и его влияния. Тем не менее эта внешность несколько обманчива. Дикость лежит у самой поверхности. Возьмем, например, главу 381 Эдикта: «Если некто в гневе назовет другого человека arga (трус) и не сможет отрицать этого, но признает, что сказал это во гневе, он должен клятвенно заверить, что на самом деле тот не является трусом; а затем он должен уплатить двенадцать solidi (солидов) в качестве компенсации за это слово. Но если он упорствует в сказанном, то должен доказать это, если может, на дуэли, иначе он, несомненно, должен заплатить компенсацию». Лишь при помощи такой значительной суммы король мог надеяться предотвратить бесконечную вендетту, которая в обычном случае должна была последовать за произнесением злого слова. И снова в главе 376 читаем: «Пусть ни один человек не дерзает убить рабыню или служанку другого человека на том основании, что она ведьма (или masca, как мы их называем); поскольку христианский разум отказывается верить тому, что женщина может поедать живого человека изнутри». Христианский разум мог бы, правда, заодно отказаться верить и в вампиров, но только не разум лангобардов.
Эдикт Ротари возник в том же году, что и «Житие св. Колумбана», написанное Ионой из Боббио. Эти два текста составляют скромный ренессанс лангобардской Италии. Несмотря на все свои варваризмы, Эдикт представляет собой законодательство, доступное пониманию римлян, в то время как Житие, написанное в монастыре, не отличается совершенством исполнения. И тот, и другое являются признаком более спокойных времен и своеобразным признанием того, что варвары понимали — их путешествие подошло к концу: из Италии им не было пути ни вперед, ни назад; и уже определялись условия мира с римской цивилизацией во всех ее проявлениях, правовом, церковном, художественном и торговом.
Проследить здесь дальнейшее развитие лангобардского права нет возможности. Как мы только что видели, вкладом Ротари стали первые 388 глав этого свода. В течение века его примеру последовали Гримоальд (9 глав), Лиутпранд (153), Ратхис (14) и Айстульф (22); к этому списку следует добавить небольшой корпус законов, источником которых стало лангобардское герцогство Беневенто. Все это дело рук варваров, причем варваров, менее развитых, чем франки или бургунды; тем не менее оно яснее любого повествования показывает падение под неумолимым давлением западной цивилизации сначала одного, а потом других основополагающих социальных принципов. Воспитанные в духе культа меча, строя свою нравственную жизнь на простейших принципах крови, доблести и верности, лангобарды не слишком ценили человеческую жизнь. Однако с годами (их официальное обращение в католичество можно датировать 653 г.) они стали признавать за жизнью личности большее значение и растущую потребность в ее защите со стороны того, что мы бы назвали, а римляне называли, государством. В результате менее существенной стала выглядеть жизнь семьи, как мельчайшей социальной и правовой единицы.
Постоянные усилия короля по ограничению вендетты ослабили не только семью, но и фару (fara), то есть группу семей. Еще более тяжелый удар был нанесен Церковью, которая поощряла пожертвования со стороны индивидов, как в форме семейной собственности, так и сыновей для монашеского пострига. Насколько возрастало социальное значение монастырей, настолько же теряла его варварская семья. («Монаха созидает его собственный обет или набожность отца»,— отмечал Грациан.) Еще одним ударом стало то, что Церковь ограничила те пути, которыми семья могла увековечить свой род, запретив полигамию, конкубинат и развод.
Существовали две варварские социальные концепции, на которые Церковь не могла с легкостью повлиять, это были mundium и guidrigild (аналогичный англосаксонскому wergild). Mundium означал покровительство или владычество, осуществляемое семьей, мужем или королем над женщинами, и, следовательно, право определять ценность или цену женщины, или любого лица, не являющегося sui iuris (т. е. раба), в гражданском законодательстве. Без mundium жизнь свободной женщины была не более возможной, чем без души. Когда она выходила замуж, ее супруг приобретал его за некоторое вознаграждение у ее семьи. Разумеется, mundium служил женщине или рабу действенной защитой; но в то же время он являлся утверждением преимущественного права семьи, а при ее отсутствии, короля над индивидом. Это право могло быть очень жестким, и инстинкт Церкви противился ему. Guidrigild означал цену крови индивида или меру уголовной ответственности и менялся в зависимости от социального положения. Он основывался на представлении о том, что пролитие крови и даже убийство могут быть возмещены без привлечения виновного к ответственности. Церковь приветствовала замену вендетты компенсацией на базе guidrigild, но в то же время настаивала на том, что кровопролитие подразумевает наличие нравственной проблемы; за этим должно следовать наказание. Этим объясняется и составление пенитенциарных книг (самая ранняя из них принадлежит св. Колумбану), которые предусматривали Божью кару в соответствии с установленным тарифом и независимо от отношения к совершенному преступлению семьи или государства. Бог должен получить
удовлетворение. Таков был взгляд св. Августина, его же придерживались церковные ученые и правоведы. Это, не в последнюю очередь, со временем склонило лангобардов к тому, чтобы взирать на кровопролитие и лишение жизни с точки зрения, которую можно определить как западную.
Если не считать вендетты, Церковь ни к одному способу установления правоты не относилась с таким неодобрением, как к дуэли, или испытанию поединком. Но и он был глубоко присущ всем западным варварам. Лиутпранд ставит проблему следующим образом: если некто обвиняется в убийстве, наказанием за которое является лишение всей его собственности, и вызван на дуэль, на которой терпит поражение, он должен отдать не все свое имущество, а только guidrigild жертвы, как предусматривалось старым законом, «поскольку мы не можем быть уверены относительно Божьего Суда и слыхали о человеке, несправедливо проигравшим свою тяжбу посредством поединка. Тем не менее мы не можем воспретить поединки, потому что это древний обычай нашего лангобардского рода». Церковь не могла уничтожить дуэль, но сделала ее более гуманной.
Божий Суд или испытание огнем или водой, о котором упоминает Лиутпранд, представлял собой аналогичную процедуру установления правоты, которая применялась, когда все остальные заканчивались неудачей, и вендетта казалась неизбежной. Церковь не была ее автором, а только редактором, она же наблюдала за ее применением, какой бы иррациональной она ни была. Христианское испытание огнем или водой было торжественной религиозной церемонией, так как возлагало бремя доказательства вины или непорочности подозреваемого на Самого Бога; и, вне всякого сомнения, оно было менее кровавым, чем дуэль.
Еще одним обычаем, по поводу которого Церкви пришлось добиваться компромиссного решения, было рабство. Рабы были самым ценным товаром из известных варварам, а война поставляла их в изобилии. Папа Григорий не испытывал удивления, видя, как после похода на Рим лангобарды уводили своих пленников в рабство на поводках, как собак. Но католическая Ломбардия была более мирным местом, чем та, которая была известна Григорию, и рабы дорожали и становились менее легкодоступными. Не стоит думать, что их участь всегда оказывалась счастливой; мы можем вспомнить слова из Юстиниановых дигестов — servitutem mortalitatifere comparamus — «...мы говорим, что, в сущности, рабство есть смерть». Но они были необходимы для возделывания земли, и несвободный или полузависимый крестьянин, работающий и живущий на арендуемой им земле, не был чем-то необычным и вовсе необязательно бедствовал. Теоретически в пользу рабства не было аргументов — то есть в пользу того, чтобы рассматривать одного человека и его детей как движимое имущество другого без всяких законных оснований. Но на практике рабство было неистребимым, сохраняясь в течение веков. Поэтому Церковь делала все, что могла, чтобы облегчить рабскую долю, особенно в брачных отношениях. Поощрялось освобождение рабов, как путь к спасению души их хозяина. До наших дней дошло множество документов об освобождении от рабства. Но форма освобождения бывала очень разной. Оно редко оказывалось полным. Иными словами, вольноотпущенник, даже пользуясь новым законным статусом, вполне мог желать продолжения работы на земле своего господина. Обязательным оставалось послушание (obsequlum); собственник по-прежнему мог призвать своего вольноотпущенника, aldio, на службу в своем войске или при дворе и даже повысить ему арендную плату. Вольно-отпущенник, со своей стороны, продолжал пользоваться покровительством своего бывшего хозяина. Таким образом, сделка была не такой уж плохой. В одной лангобардской вольной освобожденный провозглашает: «Вульпо, Митилдис, их сыновья, дочери и родные заявили, что они не желают идти на все четыре стороны полной свободы, но будут рады в будущем пользоваться своей свободой под покровительством и защитой священников и диаконов церкви Великой Девы Марии в Кремоне».
Освобождение от рабства, конечно же, стоило денег. Вольные грамоты являются одним из нескольких видов свидетельств, указывающих на явно свободное и обильное обращение золота на территории лангобардов, такое, какого можно было бы ожидать на землях, примыкающих к византийскому экзархату. Однако здесь несложно впасть в заблуждение. Хотя лангобарды научились золотом измерять стоимость, это вещество всегда ценилось ими как драгоценное. Оно по-прежнему было желанным военным трофеем, даром, которого ожидали от иностранца, хотящего произвести впечатление. Впоследствии потоки золота стали стекаться из Западной Европы в Византию, где оно и оставалось в основном изъятым из обращения в виде церковных ценностей, вплоть до частичного высвобождения в результате исламского завоевания. Нам известно, что solidus (солиды) лангобардской Италии содержал (что привело бы в ужас чеканщиков классического Рима) только четыре грамма золота. Но это ничего не говорит о его покупательной способности. Что можно было купить за один solidus (солид)! В 718 г. за 8 solidi (солидов) продавалась оливковая роща; в 749 г. за 50 solidi (солидов) можно было приобрести двух лошадей; хотя один конь со сбруей порой обходился и в 100 solidi (солидов); в 720 г. половина дома стоила 9 solidi (солидов), а в 725 г. 15 solidi (солидов) было достаточно для покупки огорода. Самый крупный штраф предполагал уплату 1200 solidi (солидов) за убийство чьей-либо жены — сумма почти немыслимая, доступная разве что очень богатому человеку. За взлом погребального склепа взималось 900 solidi (солидов), и такая же сумма за изнасилование свободной женщины. Ротарий установил штраф в 1 solidus (солид) для виновника выкидыша у кобылы, и 3 solidi (солид) за аналогичное преступление в отношении женщины-рабыни. Создается впечатление, что циркуляция золота не оказывала решающего влияния на экономическую жизнь лангобардской Италии, фокусировавшуюся вокруг ее мельниц, пастбищ, лошадей, садов и рабов. Лангобардских монет сохранилось немного, те же, которыми мы располагаем, это tremissi (тремисси) (tremissis был третьей частью solidus), изготовленные в основном из золота, а некоторые — из серебра. По мастерству исполнения они сильно уступают худшим из монет, какие только могли произвести византийцы. Короче говоря, лангобардам деньги были известны, и золото они любили, но, до некоторой степени, все еще продолжали жить за счет обмена.
Самыми безжалостными врагами лангобардов, народом, которого они больше всего боялись, были византийцы. Италия досталась лангобардам не в силу их военного искусства или численного превосходства, а из-за истощения имперской армии, чумы и голода. «Тогда у римлян недоставало мужества для сопротивления, потому что мор, который разразился во времена Нарсеса, уничтожил очень многих»,— пишет Павел. И поэтому римляне (то есть жители Италии) заключили мир. Но Византия взирала на это лишь как на временную неудачу и строила далеко идущие планы второй реконкисты. Она располагала городами, к помощи которых можно было прибегнуть, богатством, достаточным, чтобы заставить других варваров объявить войну лангобардам, и господством на море. Италия уже была подготовлена к локальной обороне при помощи сети крепостей (castra), укомплектованных имперскими и местными войсками, куда также могли отступить и испуганные крестьяне. Один лишь голод мог стать, и становился, причиной их капитуляции. Так пала хорошо укрепленная Павия, где Альбоин установил трон лангобардских королей[13], и другие города, вроде Сполето в центре и Беневенто на юге, где лангобардские вожди или герцоги унаследовали положение своих византийских предшественников.
Маловероятно, чтобы лангобарды (и даже Лиутпранд) имели у себя перед глазами ясную цель, вроде завоевания всей Италии. Прежде всего они сами были разобщены; и в течение какого-то времени они даже обходились без королей, пока угроза вымирания не заставила их осознать необходимость военной и политической согласованности.
Четыре города — Рим, Неаполь, Генуя и Равенна — оказали лангобардам самое упорное сопротивление, и римским традициям в них не было позволено угаснуть. Оборона Рима осуществлялась папами, Геную и Неаполь отстаивали их жители, в то время как Равенна, защищенная болотами, стала штаб-квартирой экзархов, военных и гражданских представителей императора в Италии.
В течение двух веков императоры, серьезно занятые на востоке, тратили на освобождение Италии все время и средства, какие могли. Иногда они были близки к успеху. Можно было подрядить франков, чтобы они вторглись в Италию с северо-запада и разграбили долину По. Однажды, в 663 г., император Констанций II вступил в Рим во главе своего войска, но через двенадцать дней счел благоразумным отойти на Сицилию. Случалось, что лангобарды заключали мир с Равенной, как это было при Перктарите. Но, по правде говоря, патовая ситуация была неизбежна. Императоры так и не смогли осуществить свои притязания на Италию, а лангобарды так и не смогли избавиться от своего страха перед тем, что будет, если императорам это удастся. Между ними стоял папа, сначала лояльный подданный империи, но вскоре, все в большей и большей степени, независимый защитник Romanitas на Западе. Растущую пропасть между Римом и Византией подчеркивали богословские расхождения, хотя очень сомнительно, что Рим полностью оставил надежду на вторую реконкисту. Возможно, помощь Византии всегда была бы предпочтительнее, чем ужасная альтернатива обращения к франкам.
Можно сказать, что Византия одержала победу в одном отношении. Она цивилизовала своих врагов. Искусство лангобардов, по мере своего развития в седьмом и восьмом веках, несло на себе все больше следов близости с Равенной, городом имперских ремесленников. Например, в их захоронениях византийский растительный или анималистический орнамент вытеснил лангобардские переплетения. Эта победа не ограничивалась лангобардской Италией.'Сицилия и Калабрия по своей культуре остались греческими. Тысячи греческих монахов, спасаясь от иконоборческих гонений, поселились в Южной Италии, проникая на север до самого Рима. Не будет преувеличением сказать, что между 600 и 750 гг. Рим был снова эллинизирован. Отчасти это было делом рук экзархов, связи которых с Римом были более тесными, чем иногда считается. Но еще в большей степени этот процесс был активизирован самими папами. В течение этого периода не менее тринадцати из них были грекоязычными выходцами с Востока. Устав св. Бенедикта во многих римских монастырях сменился уставом св. Василия, а папа Захарий (741-751 гг.) перевел на греческий написанное Григорием Житие св. Бенедикта.
Мы более не вправе, по примеру прошлых лет, отрицать лангобардскую цивилизацию, как полностью вторичную. Нельзя утверждать и того, что она не оставила следа. Лангобардские топонимы широко разбросаны по всей Италии; их можно встретить даже в местах, которые никогда не знали политического подчинения лангобардам; а в итальянском языке присутствует множество лангобардских слов. Тем не менее лангобарды не оставили по себе впечатления, сопоставимого с тем, которое произвели на Северную Галлию франки. Их было меньше по численности, а противодействие им было более внушительным; к тому же они были более примитивными. И все же, рассматривая различные пласты германского влияния на Италию, как нам обрести уверенность в том, что мы в состоянии правильно отличить готское от лангобардского, а лангобардское от франкского? Археологи обнаружили, что их сомнения, вместо того, чтобы уменьшаться, только растут. Историк также проявит мудрость, если воздержится от выводов.
Павел Диакон, составляя свою историю в монастыре Монте-Кассино, который его народ и уничтожал, и восстанавливал, по-видимому, не считал позором падение национальной династии.
В конце концов Карл Великий был таким же германцем, как и Лиутпранд, и он правил своими новыми подданными в качестве Rex Langobar-dorum (короля Лангобардов), без намерения или надежды на то, что они станут франками. Возможно, дело было также в том, что лангобарды должны были покориться таким же варварам, как они сами, а не византийцам. Лангобардские землевладельцы остались на своих местах, обрабатывая свои владения, торгуя с городами 'И портами полуострова, по вечерам слушая эпические песни о своем прошлом, от которого не осталось почти никакого следа. Все еще полудикие — среди их королей не было никого ужаснее Айстульфа, умершего в 756 г.,— они в скором времени сделали для римского христианства в Северной Италии почти столько же, сколько сами папы. Великие бенедиктинские монастыри, которые появились в Италии в восьмом веке, были лангобардского или франкского происхождения. Как и всегда жадные (и вынужденные быть таковыми) к земле, военачальники получили достаточно, чтобы выделять из своих патримоний средства для обслуживания чудотворных святынь в сельской местности и превращения их в обители переписчиков, благодаря которым суждено было сохраниться многим достижениям древней учености, которыми сегодня располагает Европа. И они были потомками племени, которое некогда Веллий Патеркул назвал gens etiam germana faritate ferocior, народом, более свирепым, чем даже германцы.
Глава 4. Франки (1)
Франки нарушили покой семнадцати провинций римской Галлии далеко не первыми. Удаленность ее северных окраин от Рима и географические особенности ее сухопутных границ (ее огромный горный амфитеатр не может служить естественным барьером ни с какой точки зрения) делали падение Галлии, бывшей жертвой завоевателей с севера и востока, неизбежным, и когда это произошло, ее превосходная дорожная сеть должна была оказаться скорее помехой, чем подмогой. В течение всего периода Поздней империи она сочетала беспокойный дух независимости с удивительной неспособностью устраивать свои собственные дела. Например, ее западные провинции находились в состоянии хронических волнений, и вполне вероятно, что неугомонность Bagaudae (разбойничьих банд и восставших рабов) была тесно связана с тем, что последним галло-римским правителям не удавалось сдерживать напор извне. Однако даже если полностью оставить в стороне политическую изоляцию и социальный хаос, Галлии недоставало этнической сплоченности; различия населявших ее народов (кельто-галлов с уже сильной примесью германских coloni (колонов) в сельской местности и греко-сирийцев в городах), с точки зрения их интересов и природы, не сильно уменьшились в результате победы латыни над другими языками. Не вызывает сомнений то, что в четвертом и пятом веках в Галлии все еще действовала римская или романизированная администрация, так же, как и то, что в ее городах по-прежнему процветала торговля, а галло-римская аристократия продолжала жить, пользуясь всеми удобствами, развивать на своих виллах римское искусство и поставлять большую часть чиновников для управления civitates и епархиями. Галлия еще была богатой и еще принадлежала к Romania, средиземноморскому миру. Но она была не в силах помочь самой себе.
Мы уже упоминали о том, как через Галлию проходили восточные германцы — вандалы, дальнейший путь которых пролегал через Испанию в Африку, и готы, которым было позволено селиться в южной Галлии, пока они в конце концов не отправились дальше, в Испанию. Нас теперь будут интересовать, главным образом, западные германцы, селившиеся вдоль берегов Рейна и на песчаных пустошах в северной части устья Рейна. Римские авторы, мастера присваивать имена вещам и народам, никогда не были полностью уверены, кем являются эти западные германцы и к какому классу их отнести. Одну из племенных групп они называли Franci — это имя, возможно, произведено от германского frak илиfrech, то есть «свирепый» или «гордый», но очень сомнительно, что этих Franci или франков когда-либо связывало что-то большее, нежели случайное (а затем военное) ощущение единства. Ближе всего к Северному морю, вдоль реки Иссель, жили салианы, или салические франки; по крайней мере так, по словам Аммиана, их называл император Юстиниан. Некоторым императорам потребовалась вынести нелегкую борьбу, чтобы удержать их к северу от Рейна; и, наконец, в тяжелый период в конце третьего века они в больших количествах смогли переправиться и поселиться.на негостеприимной равнине северной Токсандрии. Давление сзади и спокойные реки (например, Шельда и Лис), ведущие на юг к более богатым сельскохозяйственным землям, скоро стали причиной того, что салические франки, численность которых могла достигать примерно 100 000 человек, покинули Токсандрию и в качестве римских federati отправились искать счастья в страну, сегодня называемую Бельгией. Так они и двигались, не встречая особых препятствий, пока не достигли местности, защищенной холмами и лесом (Silva Carbonarid), через которую примерно по оси запад-восток проходила крупная римская дорога из Болоньи в Кельн, пересекая Бове и Тонгре. Здесь они наткнулись на сопротивление и были вынуждены остановиться, поселившись под управлением своих военачальников в крепостях, вроде Турне. Об этой остановке свидетельствуют как топонимы, так и современное распределение языков в Бельгии, хотя отсутствие какого бы то ни было систематического изучения варварских могильников на этой территории не позволяет сделать вывод об их первоначальной численности. Они достигли северных частей провинции Belgica Secunda, в которой находились важные города, такие как Реймс и Суассон, и которая была плотно заселена. Поэтому дальнейшее продвижение могло облечься лишь в форму набегов или случайных поселений среди групп, которые было нелегко вытеснить. И действительно, чем дальше на юг продвигались салические франки, тем меньше у них оставалось шансов избежать поглощения уже смешанной, но латиноязычной средой. В двух словах можно сказать, что поселения салических франков, как правило, небольшие и замкнутые, были привычными в южном направлении вплоть до Сены и Луары, и чрезвычайно редкими к югу от последней[14]. Их можно идентифицировать на основании изучения топонимов (один из многих примеров — добавление суффиксов -court и -ville к франкским именам собственным) и захоронений на франкских могильниках.
У франков было принято хоронить своих собратьев таким образом, что их можно сразу отличить от галло-римлян, а также, хотя и с меньшей долей вероятности, от других германцев. Как правило, франка, завернув его в плащ (от которого сохраняется только металлическая пряжка), укладывали лицом на восток без гроба прямо в землю. Припасы, необходимые для его будущей жизни, помещали рядом с ним в сосудах, а кроме того, с ним обязательно было его оружие, в изготовлении которого его соотечественники проявляли большое искусство. Это был короткий меч (scramasax), метательный топор (francisca, характерное франкское оружие) и, очень редко, длинный меч; но этот последний был характерен для конных воинов, а франки в тот период, за некоторым исключением, обычно передвигались и сражались пешком. В этом отношении они являли разительный контраст с аламаннами, и еще больший — с негерманским племенем гуннов, вся жизнь которых проходила в седле. Наконец, франкский могильник может дать еще одно безошибочное свидетельство о варварском язычестве: церемония посмертного обезглавливания и ритуальные костры. Вот таким предстает перед археологом, исследователем топонимов и, хотя и с гораздо меньшей ясностью, антропологом франк, еще не ассимилированный, или лишь отчасти ассимилированный галло-римским обществом. Но точно так же он оживает для нас на страницах национального историка франков, Григория Турского; к нему нам и следует обратиться, прежде чем проследить ход великого движения из Турне в Реймс и далее.
Григорий жил во второй половине шестого века, что означает, что его франкские современники принадлежали к третьему поколению после переселения в Галлию. Сам он был галло-римским аристократом из Оверни, где его семья долгое время занимала высокие посты, как светские, так и церковные. В свое время и он унаследовал епископство Турское, которое можно было бы назвать почти семейной вотчиной. Здесь у нас нет возможности уделить внимание его деятельности в качестве епископа (которую он бы счел первой по важности) и политика. Нас должно заинтересовать то, что он был еще и писателем. До наших дней дошло несколько агиографических трудов, вышедших из-под его пера,— здесь нужно отметить новое Житие св. Мартина Турского, его патрона — некоторые произведения более специального характера и «Историю франков» (заглавие автору не принадлежит).
Его История является одним из величайших повествований о Темных веках и по своему пафосу и стилю напоминает другие истории варварских колонизаторов Запада — особенно готов, лангобардов и англов. Разумеется, то, за что взялся Григорий, не было беспристрастным рассказом о франкских делах: он был не более «новатором», нежели Беда, подобно которому его иногда наделяют мыслями, которые никогда не могли бы прийти в его полный предрассудков разум. Короче говоря, иногда он крайне нуждается в понимании со стороны историка. Но по меньшей мере то же самое можно с уверенностью сказать и о его подходе к задаче, которую он перед собой поставил: прежде всего он был христианином-католиком, жившим в Галлии, по-прежнему находившейся под угрозой со стороны ужасной (с его точки зрения) ереси арианства; и во франках (уже объединившихся с его собственным народом, если не считать самых знатных родов с обеих сторон) он видел не разрушителей, а спасителей христианской Галлии, может быть, невольных. Они ведь напрямую обратились в ортодоксальную веру, минуя какую бы то ни было арианскую стадию, и при своем первом великом правителе защищали ортодоксальное дело, хотя в то же время не забывали и о более земных интересах. Они обрушились на галло-римских отступников, подобно очистительному огню, признали руководство ортодоксальной иерархии, и Григорий был им благодарен. Чего он не мог ни понять, ни принять (как это не под силу и некоторым более современным историкам), так это то, что франкские вожди второго и третьего поколения откровенно погрузились в состояние бесконечной гражданской войны, которая явно не отвечала интересам Церкви, и, следовательно, заслуживала лишь осуждения как безнравственная. Подобно Гильдасу в Британии, Григорий был озабочен тем, чтобы отвратить своих современников от порочного образа жизни, и делал это, разворачивая перед ними картину их собственной недавней истории — не бессвязные эпические поэмы их бардов, а целенаправленный рассказ о принятии христианства. Да, они были «родовитыми мужами», но и носителями особой миссии. Именно это постоянное напоминание о триумфах их дедов и делает подход Григория к своим современникам столь обманчивым, и именно благодаря ему от его рассказов так непреодолимо веет атмосферой социального перелома.
Теперь, приняв все вышесказанное за основу, мы можем вернуться к истории похода франков, постоянно помня о том, что имеем дело, главным образом, с повествованием Григория и только время от времени со сведениями из других источников.
В 446 г. под ударами франков пал Турне. Вождям, которые его взяли и сделали его своей штаб-квартирой, удалось основать династию, первые годы существования которой, естественно, теряются в области мифа. Одним из древних представителей этого рода был Меровей («морской воин»), под командованием которого его народ, в качестве лояльных federati (федератов), бок о бок с галло-римлянами сражался с Аттилой и гуннами на Каталаунских полях недалеко от Труа. Он передал свое имя потомкам, Меровингам (так они были известны автору Беовульфа). Его сын Хильдерик оказался более неудобным для римлян и был силой выдворен из северной Галлии, оставив после себя множество франкских поселенцев. Великолепие его погребального чертога, открытого в Турне в 1653 г., красноречиво говорит о том, что он не был просто дикарем. Внутри хранились украшения, оружие и монетный клад, свидетельствующий о широких контактах с империей, а также варварским миром. Хильдерик был богатым человеком.
В лице его сына, Хлодвига, «благородного воина», мы встречаемся с героем Григория, эпической фигурой варварского вождя.
Здесь вполне уместным может быть вопрос, зачем употреблять слово «вождь», а не «король»? Умение успешно и жестоко руководить военными действиями, несомненно, было первейшим качеством, которое требовалось от всякого варварского предводителя, хотя и не было единственным; и оно могло дать ему, если не его детям, право на те формальные проявления личного превосходства, которые привык допускать его народ. Может это или нет быть основанием для того, чтобы называть его королем, а не вождем (то, что римляне называли regulus),— это дело вкуса. Считается, что начиная с дохристианских шведских обрядов коронации сакральный элемент играл какую-то роль в ритуалах по «крайней мере других германских народов, не забывших страны, откуда они некогда отправились в путь. Но сравнительному изучению положения короля на германских территориях предстоит пройти долгий путь, прежде чем можно будет определить, насколько широко в таких церемониях был представлен магический элемент, и позволяет ли это взглянуть на их власть таким образом, чтобы признать, например, за франкскими вождями более высокий, более мистический статус, нежели тот, на который сегодня указывает легкость, с которой от них избавлялись в случае неуспеха. Разумеется, у германских народов бытовало слово, от которого происходит наше «король» (king); но его исходное значение настолько туманно, что, кажется, лучше не привлекать его, рискуя тем самым присвоить ему что-то от его позднейшего значения.
Хлодвиг сменил своего отца в 481 г. в возрасте пятнадцати лет, но не в качестве Rex Francorum (короля франков), поскольку таковой отсутствовал, а как вождь франкских племен, признающих главенство Турне. (Заметим, что некоторые ближайшие соседи держались в стороне от него, за что впоследствии поплатились.) Не позднее, чем через пять лет, он повел войско на юг в область Суассона, чтобы разбить Сиагрия, последнего независимого римского правителя Галлии. Целью этого франка, разумеется, была добыча и новые земли, чтобы вознаградить своих соратников. Он получил то, чего хотел, а вдобавок вскоре оказался признанным преемником Сиагрия в северной Галлии. Возможно, причиной признания этого fait accompli стали некоторые галлоримские епископы, особенно св. Ремигий Реймсский; в некотором смысле это не было слишком трудным делом, поскольку Хлодвиг, естественно, принял из рук Сиагрия земли имперской казны, но очень трудным в другом отношении — ведь Хлодвиг был язычником, не получившим признания византийского императора.
Наши оценки последующего пути Хлодвига могут быть весьма различными в зависимости от того, когда и почему, по нашему мнению, он обратился в христианство; и это непростой вопрос, поскольку хронологию его правления трудно восстановить. Может быть, Григорий поместил его обращение слишком рано — лет на десять, что дало ему право рассматривать все его последующие кампании как крестовые походы. С другой стороны, современные ученые настойчиво относят дату обращения примерно к 503 г.— а это примерно за восемь лет до его смерти. Из этого не следует, что Григорий исказил факты, нет, просто его разум, поглощенный последствиями этого обращения, отказывался признать возможность того, что Хлодвиг мог предпринять какую-либо крупную операцию в Галлии, если только это не было ради укрепления ортодоксального христианства. Таким образом, Григорий не отрицал яростной жестокости завоевательных походов своего героя, но расценивал ее как божественное мщение; находил он в нем и спасительное мужество, самое ценное для варвара качество, делавшее его еще более подходящим для того, чтобы повести за собой Галлию против арианских угнетателей — вестготов. Мы, со своей стороны, готовы согласиться с Григорием в том, что Хлодвиг был великим и прекрасным воином (magnus et pugnator egregius — это его собственные слова), фигурой, достойной того, чтобы окружить ее преданиями и легендами, возможно, даже еще при жизни. Но мы поступим благоразумно, если поищем и другие мотивы, помимо тех, на которые, естественно, ссылается Григорий. Вполне вероятно, что, когда наконец произошло обращение Хлодвига, он искренне принял христианского Бога как подателя победы (самого драгоценного дара), этот Бог был лучше, нежели те, которых знали его отцы, и продолжить борьбу стоило под Его покровительством и вместе с Его служителями. Однако это ни в коем случае не ослабило действия тех движущих сил, которые вывели его из Турне,— жажды наживы, стремления воспользоваться благами цивилизации и ненависти к другим варварским народам, корни которой, наверное, лежали в междоусобицах глубокой древности.
Хлодвиг недолго довольствовался землями, отобранными у Сиагрия. Он посвятил годы — сколько, теперь сказать нельзя — подчинению беспокойного населения западной Галлии, продвинувшись на юг до самой Луары, где он должен был войти в прямой контакт с вестготами Аквитании. Это наиболее неясная часть его продвижения. Но его основной головной болью были варвары восточной Галлии и Рейнской области.
Одна ветвь франков, известная под названием рупериан, не последовала за салическими франками в Токсандрию и далее на юг, в Belgica Secunda. Вместо этого они с востока подошли к среднему Рейну в области Кельна и в конце концов переправились через него, поселившись посреди городов и деревень западного берега. В настоящее время разрушение римской торговли и культуры в Рейнской области и упадок там городской жизни больше не считаются столь катастрофическими, как было принято ранее. Города сильно пострадали, разрушены были здания, крепостные стены пришли в негодность, а население значительно сократилось. Тем не менее жизнь в Кельне, Трире, Меце и других городах продолжалась. Например, нам известно, что сирийские стекольщики Кельна выжили и нашли готовые рынки сбыта в долине Мозеля и окрестностях. Франкам городская жизнь на римский лад, наверное, не слишком нравилась — не больше, чем жизнь в полузаброшенных поместьях, вроде огромной виллы Неннига в Люксембурге. Но это было лучше, чем лесные вырубки центральной Германии.
В течение некоторого времени Silva Carbonaria служила естественным барьером между салическими франками и руперианами, хотя, возможно, он оказывался не слишком надежным. Где-то в Лотарингии эти две ветви франков встретились и объединились; и, вероятно, вскоре после этого рупериане решили просить у Хлодвига покровительства, претворение которого в жизнь заняло у последнего многие годы. Врагами, которых они страшились, были аламанны, самое жестокое среди западных германцев племя. (All-mann значило «люди отовсюду», «люди, действующие сообща», и, преимущественно, относилось к многочисленным ответвлениям швабской ветви западных германцев, которые и составили это племя.) Обладая превосходным оружием (замечательные образцы которого были найдены в их захоронениях при раскопках в Шрецхейме), аламаны к тому же были конными воинами. Поэтому когда они начали двигаться из Эльзаса в северо-западном направлении, рупериане встревожились, но в союзе с салическими франками встретили их лицом к лицу. Итогом стала знаменитая битва при Толбиаке (современный Цюльпих), в которой франки разбили аламаннов и распространили свою власть в южном направлении вплоть до Байе. Григорий полагал, что Хлодвиг был обязан этой победой внезапному решению воззвать к помощи Христа, и что вскоре за этим последовало его крещение в Реймсе. Может быть, так и было. Но даже если и нет, уничтожение как минимум северной части аламаннского союза и немедленный переход южной его части, охваченной ужасом, под власть Теодориха, устранил важный барьер, который до этого времени разделял франков и остготов. Известно, что обеспокоенный Теодорих предупредил Хлодвига, чтобы тот не двигался дальше; но Хлодвиг, решив бросить дерзкий вызов всей империи готов, совершил логический шаг, связавший его с врагами готского арианства — а именно ортодоксальной иерархией Галлии и, хоть и менее тесно, с самим императором в Константинополе. Так франки появились на средиземноморской политической сцене. Примерно в то же время Хлодвиг напал и на бургундов, некогда могучий восточногерманский народ, поселившийся в долине Роны, где они претерпели серьезную романизацию. Помимо историков, бургунды представляют большой интерес» для археологов и лингвистов; но здесь можно отметить лишь то, что, следуя логике семейной распри, в которую была вовлечена его супруга бургундка, Хлодвиг отважился ликвидировать еще одну преграду между франками и готами.
Обстоятельства сложились так, что решающей стала битва с вестготами. Предание гласит (как это часто бывает в подобных случаях), что на поле Вуйе вблизи Пуатье Хлодвиг собственноручно убил вестготского короля Алариха II. Как бы то ни было, победа была достаточно неожиданной. Владычество вестготов пусть и не в Испании, но хотя бы в Аквитании, было сломлено, и Хлодвигу, прежде чем с триумфом вернуться и воздать хвалу Богу в церкви св. Мартина в Туре, удалось разграбить сокровищницу своей жертвы в Тулузе. Аквитания не была ассимилирована франками, и, находясь в руках своих новых хозяев, она ощущала на себе их контроль лишь эпизодически. Но с этих пор она присоединилась к борьбе католической Европы против Европы арианской.
Аквитания это еще не все Средиземноморье. Некоторые из крупнейших городов южной Франции располагаются в Провансе, самой римской из провинций Рима. И Теодорих вместе с бургундами основательно позаботился о том, чтобы по крайней мере Прованс не достался франкам. С географической точки зрения, он был настолько тесно связан с Италией, что Хлодвиг решил больше не рисковать и не пытаться овладеть страной, которую остготы могли с такой легкостью защитить. Таким образом, береговая линия Средиземного моря с ее богатыми портами, тянущаяся от Генуи до Барселоны, осталась в руках готов. Хлодвиг до моря так и не дошел.
Будучи в Туре, Хлодвиг принял посла от императора Анастасия, привезшего с собой письма, в которых Хлодвигу даровался титул консула; «...и с этого дня,— говорит Григорий,— его возглашали как консула Августа». Историки много потрудились над толкованием этого эпизода. Каковы бы ни были нюансы, общий его смысл таков, что император признает еще одного варварского вождя в качестве фактического правителя римской провинции. Далее, это означает, что император в течение некоторого времени поддерживал контакт с франками и был рад, в благоприятный момент, признать их в качестве противовеса готскому владычеству на западе. Франки пришли, чтобы остаться, а галло-римляне, всегда преданные идее империи, были достаточно благоразумны, чтобы принять это и сотрудничать с пришельцами. В этом деле была еще одна заинтересованная сторона — турская Церковь. Не исключено, что хранители праха св. Мартина, первого галльского святого, сыграли некоторую роль в предшествовавших переговорах и давно видели в Хлодвиге франкского Константина. Если так, то успех их был лишь частичным. Интересно было бы знать, не вынашивались ли в Туре подобные планы во времена Карла Великого и Алкуина, когда их, на самом деле, можно было бы назвать осуществившимися. Сам Григорий составил звено этой литературной традиции. Хлодвиг не остался в Туре, а поспешил на север, в Нейстрию, область, недавно завоеванную и освоенную франками, ключом к которой был Париж. Там, на холме св. Женевьевы, он выстроил церковь. Впоследствии она приняла под свои своды его останки. Он умер в возрасте сорока пяти лет — для варвара возраст зрелый. Ни один читатель Григория Турского не смог бы заявить, что христианство смягчило его сердце или отвратило его от его естественных склонностей. Он жил и умер как франкский вождь, охотник за золотом и воин героического века, чьи руки были обагрены кровью.
Но он создал Францию, и создал ее в рамках Римской империи.
Одним из последствий этого личного достижения I стало то, что после его смерти вновь завоеванные земли оказались разделены между четырьмя его сыновьями. В Галлии администрация римского образца, насколько она сохранилась, действовала на уровне civitas и поэтому не пострадала от этого расчленения. Возможно, галло-римляне согласились бы с франками в том, что расчленением это вовсе не было и не влекло за собой ухудшения положения. Сама по себе административная разобщенность не была ни новым, ни катастрофическим явлением; но гражданская война и ее социальные последствия — дело совсем иное, по крайней мере так это было для галло-римлян. И далее мы должны обратиться к специфической трудности изучения Галлии на протяжении века после смерти Хлодвига: дело в том, что она стала родиной варваров с пестрым багажом семейных распрей, которые из-за свежих проблем в связи с землевладением только обострялись. Братоубийственные ссоры этого века не были столь бесцельными и безнравственными, как полагал Григорий. Они были частью жизни варваров, даже тех, которые подвергались стремительной романизации. Некоторое представление об этой жизни можно получить из собрания норм франкского обычного права, известного как Lex Salica, или Салическая правда. Необходимо подчеркнуть, что этот свод, в том виде, в каком он дошел до нас, конечно, ни в коем случае не является первозданной версией шестого века. В целом, он может правдиво отражать обычаи шестого века, но он перерабатывался и дополнялся в течение этого и последующего веков. Напыщенное вступление более длинной версии, вероятно, принадлежит к восьмому веку, а целиком свод оформился, возможно, к девятому. При всем при том это не официально провозглашенный кодекс, в смысле Кодекса Феодосия, а собрание положений, предназначенное, скорее всего, для справок и для изучения духовенством. В этом отношении Салическая правда подобна большинству других варварских кодексов, принадлежащих приблизительно к одному периоду; они близки по содержанию и вдохновляющей идее, и изучать их выгоднее всего как единое проявление интереса к обычному праву.
В своей повседневной жизни, как становится ясно из Салической правды, франки очень походили на современных им англосаксов и бургундов, и не слишком сильно отличались от лангобардов. В ее основании лежало юридическое различие франка и римлянина, которое, должно быть, уже утратило четкость, и фактически не препятствовало объединению этих двух народов. Франкская система оценки увечий и соответствующих штрафов разработана еще тщательнее, чем у лангобардов; точно так же имеет место прейскурант на кражи, возмещение которых меняется в зависимости от состояния и возраста украденного имущества. Самое суровое наказание назначается только за разграбление могил. Семья является социальной единицей, наиболее нуждающейся в защите, даже ценой жизни одного из членов семьи. Если индивид желает оставить свою семью, он может сделать это, но лишь с выполнением при свидетелях очень торжественного и регламентированного ритуала. Самая известная из салических норм (номер 92) предупреждала отчуждение патримонии посредством брака — а именно, женщина не могла наследовать землю, пока в живых находился возможный наследник мужского пола. Патримонию можно было разделить между сыновьями, как поступил сам Хлодвиг, но под неусыпным контролем семьи. Деревенские семьи могли объединиться, чтобы выжить чужака, желающего поселиться в их среде, причем для того чтобы добиться его ухода, достаточно было только одного враждебного голоса. Тем не менее не следует думать, что целью франков была сознательная изоляция от галло-римлян. Их законы вступали в силу и истолковывались на регулярных собраниях смешанных франко-римских судов. Прерогативой таких советов, в которые входили boni homines (лучшие люди) или rachin-burgii (рахинбурги), как их называли франки, было обнародование закона в трактовке, которая давалась закону во время заседаний конкретного суда; а это, в смешанном обществе со смешанным языком[15] и к тому же смешанными браками, должно быть, требовало постоянных компромиссов и гибкости. Остановить процесс интеграции на юридическом уровне было невозможно, даже если бы кто-то этого захотел. Мы не должны думать, что Салическая правда представляет или отражает собой неизменный кодекс для всех франков всех времен. Он просто дает нам драгоценное общее представление о том, как они жили в то конкретное время.
Сыновья Хлодвига независимо правили своими частями разделенной Галлии из Меца, Орлеана, Парижа и Суассона. Но, помимо них, они унаследовали от своего отца религию и взгляд на нефранкский мир, которые время от времени побуждали их действовать как единое целое. Они согласились отдать свою сестру замуж за Альмариха, вестготского короля Испании и отослали ее туда с «грудой драгоценных украшений», как пристало варварской принцессе. Однако вскоре они сочли необходимым вызволить ее из рук ариан и привезли ее обратно с еще большим количеством украшений. Они достигли согласия по поводу экспедиции против бургундов, которая привела к политической смерти этого некогда могущественного народа и распространению власти франков на Прованс и, главное, на крупный средиземноморский порт Марсель. Эту немотивированную агрессию можно объяснить по-разному — страхом, племенной враждой, вендеттой или всегда насущной нуждой в грабеже для вознаграждения своих сторонников и в рабах. Каждый год весной банды франков пускались в подобные мероприятия, поскольку война была таким же занятием для хорошей погоды, как попойки — для скверной[16].
Вождь, правивший из Меца восточными или австразийскими поселениями франков, сталкивался с большими опасностями, чем его братья. С берегов Рейна он контролировал дугообразную территорию с беспокойным и голодным населением, уже начинавшим ощущать позади себя давление славян. Это были даны, саксы, тюринги и бавары. Сражаясь с ними и держа их в страхе, Теодерих и его сын Теодеберт (современные французские имена Тьерри и Тибер) снискали славу, которая запечатлелась в германском эпосе, и закрепили за франками право контролировать передвижение племен в сердце Германии, силой вмешиваться в племенные раздоры и, при возможности, взимать тяжелую дань скотом и рабами.
В частности, Теодеберт был фигурой европейского значения, поскольку, если не считать его северных кампаний, он был до некоторой степени связан с уничтожением средиземноморской державы готов императором Юстинианом. Он неоднократно посылал в северную Италию военные экспедиции и, разумеется, вел переписку с Византией. Нам не следует делать из этого вывод, что Византия уже предвидела возникновение империи франков, хотя, используя ортодоксов-франков в качестве противовеса арианам-готам, Византия по крайней мере допускала появление на западноевропейской политической сцене новой силы. Точно так же нам не стоит думать о католичестве франков как о чем-то неизменно прочном. Оказывается, что и сыновья, и внуки Хлодвига заигрывали с арианством не менее, а то и более романизированных вестготов, и, конечно, Григорий видел в арианстве весьма актуальную опасность — и, может быть, еще более грозную для ортодоксальной иерархии, чем своенравная жестокость франкских вождей; ведь в понимании Григория жестокость вполне простительна при условии, что она направляется в надлежащее русло, как в случае Хлодвига и Теодеберта. Если битва между ортодоксией и арианством еще продолжалась, то между ортодоксией и язычеством она, конечно, уже завершилась — за исключением, разумеется, сельской глубинки. Франки без колебаний приносили благодарственные пожертвования в храмы галльских святых чудотворцев, вроде св. Мартина, под покровительством которого они выигрывали свои битвы и накапливали свои богатства; и их не преследовало чувство нравственного бесчестья или, хотя бы, неуместности, когда они, покинув церковь, отправлялись резать глотки своим нелюбимым родичам. И если они воспринимаются в наши дни погрязшими в пороках и абсолютно равнодушными к благополучию Галлии, то это не их вина, а Григория, который даже не говорил на их языке. Проследить за ходом междоусобиц, гражданские войны (bella civilia), которые внушали Григорию такой ужас, непросто, и здесь мы не можем слишком углубляться в эту тему. Но тем не менее мы в состоянии дать им оценку, выделив многие из тех мотивов, которые их вдохновляли. Такие распри дорого обходились — опустошались плодородные земли (особенно церковные), уничтожались постройки, и, может быть, страдала галло-римская торговля и культура. Но разорение не было целью франков: они получили в наследство то, что с трудом могли понять, и поэтому нельзя было ожидать, что они станут хранителями этого наследия. Не лишенные интеллекта, они продолжали жить своей жизнью под критическим и недружелюбным взором галло-римлян до тех пор, пока в один прекрасный день различие между ними не исчезло.
По-видимому, с конца шестого века франкская история вошла в новую фазу; ведь Григорий Турский умер. В поисках нарративных источников мы должны обратиться к так называемой хронике Фредегара, возможно, бургундского происхождения, являющейся вторичной по отношению к хронике Григория в той части, что описывает события до 584 г., и самостоятельным источником в том, что касается последующего периода. К Liber Historiae Francorum (История Франков), нейстрийской хронике, которая представляет ценность только для изучения периода после середины шестого века; и к житиям, страданиям и чудесам святых, которыми мы обязаны литературной традиции, заложенной Григорием Великим, а также независимой традиции ирландских монахов, примерно в это же время достигших Галлии. Величайший из них, св. Колумбан из Люксей и Боббио, чей образ предстает перед нами во всей полноте на страницах великолепного жизнеописания, составленного Ионой Сузским. Подобные произведения отличаются значительным объемом и имеют высокую историческую ценность. Тем не менее им не хватает пламенной страсти Григория, и зачастую они весьма неважно написаны.
Но действительно ли они приоткрывают новую политическую картину? Стремятся ли меровингские короли седьмого века к целям, неизвестным их предшественникам? Конечно, они правят более тесно интегрированным обществом, экономическое положение которого изменилось, которое абсолютно ортодоксально; но задача политического объединения Галлии стоит не острее, чем в прежние времена, и историки зря тратят время, доказывая обратное. Иногда всей Галлией правит один Меровинг, единственный выживший в своем поколении. (Если не брать в расчет убийств, королевский дом уже страдал оттого самого физического вырождения, которое стало причиной его конца.) Но при этом он редко покидает пределы своей родной части Галлии и довольствуется тем, что остальные пребывают в руках местных магнатов. Так, нейстриец Хлотарь II (584—629 гг.) не предпринимал попыток подчинить своей воле австразийских франков, но предоставлял им фактическую независимость под контролем наместника или своего мажордома. Впоследствии он отправил своего малолетнего сына Дагоберта жить под опекой величайших австразийских магнатов, Пипина из Ландена и Арнульфа из Меца (предков каролингской династии), прекрасно сознавая, что когда он вырастет, интересы Австразии будут его собственными.
Подобно Хлодвигу, Дагоберт стал особым любимцем Церкви и, в частности, аббатства Сен-Дени вблизи Парижа. Случилось так, что судьбы французской монархии и крупных монастырей оказались тесно сплетены. Они росли вместе. Св. Дионисий Парижский (Сен-Дени), первый епископ Парижа, принял мученическую смерть в середине третьего века. К концу пятого века прочно сформировалось местное почитание этого святого. В течение следующего века оно распространилось по всей Галлии, и св. Дионисий приобрел репутацию покровителя животных и всех, чьей жизни грозит опасность. К началу седьмого века в день празднования памяти святого (9 октября) его усыпальницу стали регулярно посещать паломники из-за пределов Галлии. В своей династии Дагоберт был не первым, кто проявлял интерес к этому культу и брал под покровительство земли и имущество этой общины; но он оказал ей особое благодеяние, богато украсив церковь золотом и драгоценными камнями (возможно, под присмотром хранителя своей сокровищницы, св. Элигия, впоследствии епископа Нуайонского), и дал ей право проводить ежегодную ярмарку по случаю октябрьских празднований. Необходимо добавить, что община представляла собой свободное братство духовных и светских людей, живших под управлением св. Мартина, а в бенедиктинский монастырь с независимостью от епископальной юрисдикции она превратилась лишь в конце седьмого века.
Многие средневековые ярмарки произошли от какого-нибудь религиозного праздника. Возможно, ярмарка св. Дионисия исходно была задумана лишь как продуктовый рынок, способный обеспечить питанием многочисленных паломников, и для начала в основном сводилась к торговле зимними припасами. Но в дальнейшем торговля приносила такие прибыли, что значение этой ярмарки стало стремительно расти, пока она не превратилась в главный источник немалого благосостояния аббатства. Торговцы с севера со своими мехами и шерстью прибывали из Англии и Скандинавии, чтобы обменяться с южанами, привозившими вина и мед. Такого рода деятельность предполагает, что с наступлением Темных веков ориентированная на Средиземноморье торговля римской Европы уступила место другой, центром тяжести для которой являлся север. Но слишком настаивать на этом неблагоразумно, поскольку, с одной стороны, средиземноморская торговля шестого и седьмого веков была плохо документирована, а с другой — археологи все более склонны находить подтверждения значительному, при всей нерегулярности, ввозу во франкскую Галлию товаров из Леванта в течение- этого же периода. Проблема заключалась не в том, что товары вроде специй или папируса из Леванта были недоступны в Галлии, или что они там находили холодный прием, а просто в том, что у франков не было ничего, что можно было бы экспортировать в обмен, за исключением оружия и рабов. Поэтому-то торговый баланс был сильно не в пользу Запада, и по крайней мере до денежных реформ каролингской эпохи утечка золота на Восток становилась все более обременительной. Действия вандалов, а позже арабов в Средиземном море только усугубляли такое положение вещей.
То, что Меровинги унаследовали страну, все еще богатую золотом, не вызывает сомнения; и это, в самом деле, явилось дополнительным стимулом в пользу их решения двигаться на юг. Присваивая себе владения империи (vumflscus), они также восприняли и традицию налогообложения, которой их вассалы не могли ни понять, ни одобрить. Григорий Турский приводит несколько примеров сопротивления франков постоянно растущим поборам, причем этот протест был в меньшей степени связан с представлением о неоправданности налогообложения в силу его непродуктивности (т. е. в результате выигрывали Меровинги, а не государство), чем с еще более старым воззрением, согласно которому королю надлежит пополнять свою казну за счет грабительских походов за пределы собственной территории. Подобные походы предпринимались нередко в Италию, Испанию или куда угодно еще; например, всего один поход в Испанию принес Дагоберту 200 000 золотых solidi (солидов); но этих поступлений было недостаточно. Тем временем плюс к грабежу и налогам Меровинги могли рассчитывать на случайные, но весьма крупные вливания из Византии, и еще менее предсказуемые находки сокровищ из языческих храмов. Таким образом, по крайней мере во времена Дагоберта, Меровинги в избытке владели золотыми монетами, не подверженными колебаниям в весе. Это были жизнеспособные деньги, указывающие на наличие бойкой торговли.
Начиная с шестого века морская торговля северо-запада все больше и больше оказывалась в руках фризов. Их суда активно курсировали между Англией, Скандинавией, Галлией и даже дальше. Уже при Дагоберте они сделали более частыми ярмарки св. Дионисия, возможно, принеся с собой свой самый характерный товар, отрезы фризской ткани, или pallia Fresonica, шерсть для которой вполне могла закупаться на рынках Лондона или Йорка. Чтобы помочь финансированию этой торговли, Дагоберт расположил в Дорестаде, около устья Рейна, монетный двор; начиная с его времени, или вскоре после него, золото, в качестве излюбленного на севере металла для изготовления монет, начинает заменяться серебром. Спустя век после Дагоберта галльские серебряные монеты, включая англосаксонские sceattas, выдают проникновение англо-фризских торговцев вглубь франкской территории и, особенно, вдоль побережий Рейна. Именно здесь, в городах вроде Меца, северные торговцы входили в соприкосновение с древними галло-римскими торговыми обществами и встречались с южанами, которые пересекали Альпы и поднимались по долине Рейна, а иногда Роны, со своими средиземноморскими товарами. Иногда высказывается мнение, что теперь некоторые новые художественные веяния достигали севера именно этим путем, а не через Прованс или Аквитанию; но такие свидетельства сложно объективно использовать, а правда, как представляется, заключается в том, что в Темные века ни один торговый путь никогда не получал непреложной монополии надолго.
Дороговизна фризских тканей и пошлины, которыми можно было обложить их в порту, объясняют тот интерес, который проявлял Дагоберт и его преемники к району устья Рейна. Здесь они готовы были строить крепости, особенно в Утрехте, и поощрять миссионерскую деятельность среди фризов, которые были язычниками и часто поднимали мятежи. В опасной работе по их обращению, которая следовала рука об руку с франкским политическим и коммерческим контролем, приняли участие и монахи из Ирландии, и бенедиктинцы. Правильная оценка значимости рейнской торговли поможет нам объяснить и решимость Дагоберта защищать австразийских франков от угрозы со стороны аваров.
Аварами называлась группа конных кочевых племен, родственных гуннам и не чуждых их мужества и свирепости. Вытесненные турками на запад из своей прикаспийской прародины, они осели в Паннонии и сделали ее центром внушительной империи. Со времени своей первой стычки с франками в 562 г. они представляли постоянную угрозу спокойствию племен, живших под франкским протекторатом к востоку от Рейна. Некоторые Меровинги воевали с ними или оттесняли их. Дагоберту удалось объединить для сопротивления не только франков, но также и германцев, и, в частности, он воспользовался предложением помощи со стороны саксов, что обезопасило Рейнскую область до конца его правления. Условием саксов была отмена ежегодной дани размером в 500 коров, которую франки уже привыкли с них взимать. Деяния Дагоберта произвели колоссальное впечатление на современников: он был одним из великих франкских героев, отстоявших свои земли от восточных орд. Даже такие далекие народы как бавары искали его сюзеренитета и получали его.
Дагоберт умер в январе 639 г. и был похоронен (как и большинство его преемников) в церкви аббатства Сен-Дени. Ему было тридцать шесть. Нам известно то, чего не знали его современники,— он был последним великим Меровингом. Он обладал неуемной энергией Хлодвига и хитростью Карла Великого. По воле случая он стал единым правителем всех франков и тем самым в формообразующий период их истории подчинил их личной унитарной власти. Но говорить о том, что франкское государство противодействовало центробежным силам, было бы неверно. Дагоберт не надеялся передать свою власть единственному наследнику неразделенной. Он прекрасно знал, что у франков Австразии и Нейстрии (не говоря уж об аквитанцах и бургундах) очень разные интересы, и они недолюбливают друг друга. Поэтому он оставил Австразию своему сыну Сигеберту (который должен был и воспитываться австразийцами), а Нейстрию и Бургундию — младшему сыну Хлодвигу. На протяжении своего долгого правления Дагоберт шел по пути своих отцов.
Повторяя рассказ Григория о свадьбе родителей Хлодвига, Хильдерика и Базины, Фредегар интерполировал собственную историю о том, как в брачную ночь Базина трижды посылала Хильдерика наружу, прося рассказать ей об увиденном. В первый раз он рассказал о львах и леопардах, во второй — о медведях и волках, а в третий — о более мелких животных размером с собаку. «Таковы же,— сказала Базина,— будут твои потомки». Что бы ни лежало в основе этой легенды, личное предубеждение или народное предание, но Фредегар говорил не что иное, как чистую правду. Меровингские преемники Дагоберта и были этими самыми «более мелкими животными». Даже если сделать скидку на крайнюю трудность истолкования сохранившихся записей, а также и на вероятность того, что ранние Каролинги сделали все возможное, чтобы опорочить имя тех, на чье место они пришли, фактом остается то, что поздние Меровинги были mis faineants, бездельниками, чуждыми воинского духа, в которых (по выражению Эйнхарда) больше не было жизни. Они сидели дома, играя неизвестно какую роль в жизни своего народа, и бесцельно разъезжали вокруг своих имений на телегах, запряженных быками. Примечательно, что они были единственной варварской династией, кровь которой оставалась священной еще долго после того, как они перестали быть воинами. Меровинги седьмого и восьмого веков в целом умирали раньше, чем их предшественники. Смерть некоторых из них была насильственной, но большинство гибло еще в детстве или в молодости от естественных причин. Они были физическими дегенератами.
Таким образом, весьма туманной кажется возможность изобразить Галлию седьмого века иначе, чем с точки зрения неуклонного упадка королевской власти и столь же неуклонного усиления влияния аристократии, особенно рода Арнульфингов. Историков завораживает этот контраст, когда они, по долгу службы, рассматривают конец этой истории — захват королевской власти мажордомами-Арнульфингами, потомками Пипина из Ландена и Арнульфа из Меца. Но Арнульфинги не могли взирать на вещи таким образом. Они не могли видеть прогрессирующего вырождения Меровингов, как и того, что однажды папский престол поможет им, восполнив недостаток благородности происхождения ореолом святости иного рода. У них не было movement ascensionnel de la dynastie (постепенное возвышение династии Силой Арнульфингов была земля. Они обладали богатыми поместьями в Арденнах и Брабанте, два из которых — Ланден и Герсталь — дали свои имена членами семьи. Вполне возможно, что были и другие магнаты, как в Австразии, так и в Нейстрии, равные им по значимости своих имений; но судьба меньше позаботилась о сохранении их памяти для потомков. Во всяком случае Арнульфинги не делали ничего выходящего из ряда вон, используя свое растущее богатство для того, чтобы создавать или одаривать религиозные общины, например, в Нивеле, Сент-Юбере и Анденне. Здесь с удобством могли проводить свои дни дамы этого семейства, такие как Гертруда и Бегга, или сохраняться семейные сокровища и документы. Возникновение бесчисленных мелких монастырей также связано с богатствами аристократических семей; и, естественно, память о таких основателях или защитниках бережно хранилась на протяжении веков. Мы можем пойти дальше и сказать, что в случае Арнульфингов такие учреждения монастырей были тесно связаны с деятельностью ирландских и римских миссионеров. Одним из тех, кто работал под их покровительством, был св. Аманд.
Ненависть австразийцев к нейстрийцам и стремление и тех, и других избежать контроля со стороны друг друга, является более важной чертой франкской жизни, чем любые предполагаемые попытки магнатов урезать власть своих королей. Между этими двумя народами лежала полоса богатой ничьей земли, особенно в окрестностях Реймса, по поводу которого и возник спор. С этими землями и с притязаниями на них не государств (поскольку Австразия и Нейстрия едва ли могли ими называться), а семей и церквей, в значительной мере связаны и запутанные междоусобицы пятидесятилетнего периода после смерти Дагоберта, когда Меровинги и мажордомы метались по сцене в явном замешательстве. Событием нерядового значения стала битва при Тертри (около Сен-Кантена), где в 687 г. австразийцы во главе с Пипином II разбили нейстрийцев. На фоне упадка нейстрийских мажордомов это поражение знаменовало собой фактический конец старого меровингского административного центра и позволило Арнульфингам произвольно вмешиваться в политику Нейстрии. Но история Меровингской династии на этом не закончилась.
Теперь Пипин II взял на себя одну очень характерную королевскую функцию: защиту Франции от внешнего нападения. Прежде всего после многих лет борьбы он вытеснил фризов из области Утрехта и Дорестада, заключил семейный союз с их королем Радбодом и поставил англичанина Виллиброрда для руководства миссионерской деятельностью в Утрехте. Важным аспектом этого сотрудничества было то, что они оба опирались на Рим. Таким образом, частично с английской помощью, исходный интерес Арнульфингов к ирландским монахам естественным образом перерос в союз с римской церковью. Кроме того, Пипин возглавил походы против своих восточных соседей, которые начинали проявлять своеволие,— аламаннов, франконов[17] и баваров. И снова мы сталкиваемся с фактом активного взаимодействия ирландских и римских миссионеров, и это напоминает нам о том, что враждебность между этими двумя церквями была непродолжительной.
Нейстрийская «Книга об истории франков» или «История франков» Liber Historiae Francorum заканчивает жизнеописание Пипина простой фразой: «В то время (т. е. в декабре 714 г.) Пипин заболел лихорадкой и умер. Он правил под властью вышеназванных королей в течение двадцати семи с половиной лет». Он так никогда и не завладел короной, да и не ставил перед собой такой цели, хотя, если это правда, с легкостью мог бы это осуществить. Он доказал в бою, и церковь признала это, что его огромные владения дают ему право делать все по-своему. Тем не менее он не смог оставить своей обескровленной семье ничего нового помимо права осуществлять очень нерегулярный контроль над сильными мира сего во Франции. И для того чтобы обеспечить мирное наследование своих богатств, у него было не больше средств, чем у Меровингов. По-прежнему основным делом жизни оставалось улаживание нескончаемых семейных претензий; а возникающие в результате этого вендетты не означали стремления к расколу всего общества.
Фактическим преемником Пипина стал его незаконный сын, Карл Мартелл. Он первым в своей семье носил имя Карл, давшее всему его роду общее наименование Каролингов, под которым в конце концов он и получил известность. Это фигура в равной мере легендарная и историческая, вокруг которой сплетали свои повествования средневековые jongleurs (жонглеры); так что восстановить внутри этого пестрого ковра его собственные, в отличие от других Карлов, деяния и даже доброе имя не всегда просто. Здесь он должен интересовать нас как человек, энергично проводивший в жизнь то, что оставил незаконченным его отец. Как крупнейшего землевладельца Австразии его больше всего заботила защита северо-востока Франции и франкской территории Гессена и Тюрингии к востоку от Рейна от беспокойных соседей: нейстрийцев, фризов, саксов и, реже, баваров. Карательные экспедиции, к которым привела его политика, поразили воображение современников: они были делом рук настоящего вождя, короля, и стали скорее причиной, чем плодом, периода относительного спокойствия внутри франкский территории.
В установлении мира и спокойствия на периферии его вселенной Карлу помогали два великих миссионера. Одним из них был друг его отца Виллиброрд, а вторым еще один выходец из Англии, св. Бонифаций (Германский). Северные фризы, жившие между Зюдер-Зее и нижним Везером, цеплялись за свое язычество до тех пор, пока насильственное обращение саксов Карлом Великим не лишило их последней опоры. Между 719 и 739 г. Виллиброрд продолжил свои труды, в основном из Утрехта, где Арнульфинги наделили его церковь изрядной долей имущества. Но его излюбленным местопребыванием был Эхтернах около Трира в самом сердце рейнской Австразии. Кажется убедительным, что, находясь в Эхтернахе, Виллиброрд мог первым организовать миссионерскую работу среди племен к востоку от Рейна, хотя основную заслугу здесь следует отвести св. Бонифацию.
Как и Виллиброрд, св. Бонифаций черпал силу, опираясь на папство. Рим он посетил трижды. При первом визите он получил имя Бонифаций (в честь римского мученика), и на его плечи была возложена миссия проповедовать среди язычников; в ходе второго он был возведен в сан епископа и принес клятву послушания св. Петру; а во время третьего он стал архиепископом германской церкви — новой церковной провинции. Однако его работа продвигалась медленно. Отчасти это могло быть связано с враждебным отношением других епископов Рейнской области; но главная причина заключалась просто в том, что сами германцы были страстно привержены своим языческим богам и справедливо отождествляли установление франкского владычества с гибелью своей веры. Излюбленным методом Бонифация, встречавшим одобрение и со стороны Рима, было создание бенедиктинских монастырей как центров просвещения и проповеди. Среди них были такие как Аменебург, Фрицлар и Ордруф. Монахи жили от плодов земли, на которой поселились, и, соответственно, расчищали леса и пустоши для своих нужд. Это способствовало появлению в тех же самых районах крестьянских поселений, а вследствие этого постоянно расширялась разработка целинных земель, и германцы утрачивали те немногие остатки первобытного священного трепета перед лесными глубинами, где, не тревожимые никем, жили их племенные боги. Удовлетворены были одновременно и нужды миссионерских церквей, и жажда племен к владению землей. Монахи стали движущей силой, стоявшей за всем процессом колонизации — за земледельцами и торговцами, финансистами и строителями, врачами, учителями и священниками.
В южной Германии на тот момент уже встречались оранизации, отдаленно напоминающие церковные, причем существовали они со времен поздней Империи. Епископские кафедры располагались в Бале, Констанце, Куре и Аугсбурге, а в Рейхенау (на острове в озере Констанц) и Мурбахе имелись важные монастыри. Последний был основан Пирмином, вестготским изгнанником, ставшим другом Карла Мартелла. В Баварии ни одного епископства не сохранилось. Но оставались монастыри в Регенсбурге, Фрейзинге, Зальцбурге и Пассау; и все четыре стали центрами епархиального деления. Необходимо подчеркнуть, что здесь, как и в центральной Германии, деятельность первых епископов была успешной ровно настолько, насколько они учитывали племенные особенности и заручались поддержкой вождей. Но все это было только началом; на поверхности язычества появились лишь незначительные царапины, и огромные территории, вроде Саксонии, были еще совершенно не затронуты, но полны враждебности. Однако св. Бонифаций сделал жизненно важный шаг в сторону того, чего природа, кажется, не имела в виду,— к объединению Германии.
Внутри старых франкских земель Карл крепко держал в руках и церковь, и ее крупнейших деятелей. Грань между светскими и церковными магнатами была не особенно четкой. Они были из одного теста и одинаково ощущали необходимость семейных распрей. Их земли лежали бок о бок, и нередко их было трудно различить. Потому и Карл обращался со всеми своими магнатами одинаково. Если он в чем-то и вышел за рамки обычая, так это в своем отношении к церковной собственности. У него была привычка конфисковывать церковные земли, как только они требовались ему для его воинов. Масштабы и даже последствия этих конфискаций неизвестны. Церковь, естественно, протестовала против связанной с этим потери доходов; но ее владения были очень обширными, а у Карла, как и у многих других варварских королей (включая и Альфреда), не было другого выхода, кроме как взять то, что ему требовалось. Старые земли Империи в Галлии, то есть унаследованный Хлодвигом fiscus, уже давно был растрачен Меровингами на подарки; и в самом деле это стало одной из главных причин их растущей политической слабости. Последовавший упадок франкской церкви часто ставят в вину Карлу Мартеллу. Но связь потери земель и доходов с понижением дисциплины у духовенства трудно доказуема.
Кроме того, не стоит думать, что Карл был безразличен к поддержке церкви. Мощной опорой для него служили крупные монастыри, вроде Сен-Дени, которым он делал подарки. По крайней мере в одном случае мы располагаем свидетельством о церкви в Марселе, которой он фактически вернул ее имущество. Он был не менее верующим, чем любой другой франк, и, без сомнения, насильственному отнятию всегда предпочитал добровольное пожертвование. На деле он практиковал и то, и другое.
Военные нужды Карла Мартелла были тяжкими. Его непрерывные войны означали необходимость содержать огромную армию. Наградой воинам служили, по большей части, земельные владения, поскольку денег для оплаты их ратных трудов наличными не хватало. Некоторые историки утверждают, что особая цель этих земельных подарков заключалась в том, чтобы их адресат мог поставлять армии отряды вооруженных всадников, и что вследствие этого на свет появился по крайней мере один составной элемент того, что мы называем феодализмом. Это мнение связано с представлением о том, что враги Карла в южной Галлии вынудили его уделить небывалое внимание кавалерии. Этими врагами были арабские и берберские завоеватели из Африки, почти в мгновение ока покорившие вестготскую Испанию и перешедшие через Пиренеи, чтобы без помех грабить города Септимании и Аквитании. В октябре 732 г. один такой разбойничий отряд, возможно, направлявшийся в Тур, был встречен и разбит Карлом в окрестностях Пуатье. Испанский хронист Псевдо-Исидор, писавший поколение спустя, говорит, что арабская конница разбилась о франков, как о ледяную стену, и победа, конечно, произвела сильное впечатление. Средневековые люди любили сравнивать ее с еще более знаменательной обороной Константинополя от того же самого врага, которую в 717 г. осуществил император Лев III. Битва при Пуатье была лишь эпизодом в долгом деле изгнания арабов из южной Галлии и убеждения местной аристократии в том, что последних не следует предпочитать Арнульфингам в качестве сюзеренов. Но она была выиграна Christo auxiliante (с помощью Христа) и много значила для репутации династии Арнульфингов.
Но сражались ли арабы верхом? Современные исследования мусульманских источников выявили тот факт, что впервые регулярные кавалерийские части прибыли из Африки только через восемь лет после битвы при Пуатье, и даже тогда участвовали в своих первых сражениях не конным, а пешим строем. И арабская, и франкская кавалерия впоследствии развивались медленно. Возможно, нам придется научиться не связывать земельные пожалования Карла Мартелла с приписываемой ему потребностью в конных воинах и относить начало этого процесса к несколько более позднему времени, когда его наследникам пришлось столкнуться с кавалерией, но не арабской, а лангобардской, фризской и баскской.
В 737 г. Меровинг Теодерих IV умер, не оставив наследника. Четыре года Карл провел без короля, не предпринимая ни малейшей попытки самому стать им. Он разделил земли, которыми правил, между своими двумя сыновьями, заботясь о целостности Regnum Francorum (Королевства Франков) не больше любого другого франка. Карлу Великому досталась Австразия, Алеманния и Тюрингия, а Пипину III — Нейстрия, Бургундия и Прованс. Аквитания и Бавария были оставлены на произвол судьбы: ими мог владеть только Меровинг. Современный историк написал о Карле, что «уничтожая и ломая всякую автономию, грозившую ослабить центральную власть, он спас единство франкской монархии». Но далее тот же самый автор говорит, что «приход к власти сыновей Карла Мартелла был отмечен повсеместным восстанием в отдаленных частях государства». Другими словами, это в той или иной мере был шаг назад. Приписывая этим франкским вождям, от Хлодвига до Карла Мартелла, современную мотивацию, мы пытаемся выстроить их по степени значимости, и тем самым выставляем их в весьма смешном виде. От всех остальных выдающихся людей периода поздних Меровингов Карла отличают не его взгляды на королевскую власть и не его реакции на франкские внутренние проблемы, церковь, удаленные германские племена или даже арабов, а его мужество и героизм. Он обладал некоторыми качествами Беовульфа и стоял к этой эпической фигуре ближе, чем к королям-администраторам Средних веков.
Глава 5. Франки (2)
О королях династии Каролингов современники могут поведать нам больше, чем о Меровингах, и здесь нам уже не придется сдаваться на милость единственного и в основном малополезного повествования, вроде произведения Григория Турского, черпая из него всю информацию о каком-то длинном отрезке истории. Почему это именно так, определить сложнее, чем может показаться на первый взгляд, поскольку при этом нужно предположить не просто предпринятое Каролинга-ми увеличение количества литературной продукции и переписывание хроник, но еще и наличие у них сознательного стремления исказить факты, связанные с предшественниками, и, наконец, непонятное предпочтение, которое в Средние века оказывалось всему каролингскому в ущерб всему меровингскому. Поэтому недостаточно сказать (хотя это и верно), что в более поздний период создались лучшие возможности для литературной деятельности, чем в более ранний, и что каролингский мир с политической точки зрения был стабильнее, чем меровингский.
В тот день, когда последнего Меровинга на королевском троне сменил первый Каролинг, франкское государство и образ жизни не изменились. Но для Каролингов перемена была разительной, и то, как она происходила, отражено в литературных и прочих источниках, которые мы теперь должны рассмотреть. Сторонники Каролингов видели в них новых королей-священников, покровительством которых будет пользоваться не строго традиционное мировоззрение, подобное тому, которое было присуще их предшественникам, а свежая, последовательная и убедительная интерпретация прошлого. Для прославления новой династической линии королей могли быть использованы все доступные средства хроники, легенды, правовые нормы, средства литературы и искусства; до некоторой степени так и произошло. Целью этой главы, собственно, и будет рассмотрение истории правления первых каролингских королей через призму наших источников.
Каковы же наши источники? Во-первых, относительно летописей можно констатировать, что два основных источника по истории Меровингов, продолжение хроники Фредегара и «История франков», прерывают свое повествование о Меровингах. Последний продолжатель Фредегара проговаривается о наличии «заказа» со стороны Арнульфингов, записав под роковым 751 годом: «До этого времени прославленный граф Хильдебранд, дядя короля Пипина, приказывал с величайшей тщательностью записывать историю или gesta (деяния) франков. Но теперь власть перешла к прославленному Нибелунгу, сыну и наследнику Хильдебранда». Это краткая семейная история, и мы не должны отыскивать в ней объективного научного взгляда. Однако до 768 г. эта хроника оставалась без продолжения, и ее место заняли более строгие монастырские анналы, в основе которых лежал распространенный обычай ежегодно заносить важнейшие события в лунные календари, изначально создаваемые Церковью для того, чтобы высчитывать дату Пасхи[18]. Происхождение и взаимоотношения различных франкских анналов до сих пор далеки от определенности, но самые важные из них «Королевские анналы», о которых один ученый написал: «Для них центральной фигурой является король, и они фиксируют его военные кампании и основные действия его правительства». Не будь этих анналов, наши познания об истории и хронологии Каролингов были бы весьма неполными.
На этих анналах основываются некоторые жизнеописания. (Они полностью отличны от «Житий святых», которые продолжают составлять важную часть франкской литературы.) Первая из них — это «Жизнь Карла Великого», принадлежащая Эйнхарду и написанная в трудные дни, последовавшие за смертью императора. Эйнхард близко знал Карла Великого и его семью, и мы должны признать высокую компетентность его работы. Как бы то ни было, «Жизнь» к тому же является политическим сочинением, близко воспроизводящим «Жизнь двенадцати Цезарей» Светония. В какой мере Эйнхард желал отобразить подлинного Карла Великого, или насколько серьезно был искажен его текст при передаче, определить невозможно. Но можно ли было ожидать, что ему удастся вписать своего героя-варвара в тесные рамки классической биографии, не погрешив против истины? Эйнхард писал для своего времени, а не для будущего; и мы должны помнить об этом, когда мы — а мы вынуждены это делать — принимаем из его рук историю Каролингов.
Переписка дошла до нас в больших объемах. Мы располагаем, например, перепиской св. Бонифация, часть которой имела место между ним и папским престолом. Имеется также огромная коллекция корреспонденции между Каролингами и папами, собранная в 791 г. по указанию Карла Великого, и известная под названием «Codex Carolinus». Но помимо этого существует и многое другое, и из сохранившихся писем, значительная доля которых использовалась в качестве эпистолярных образцов, можно немало узнать о таких значительных фигурах как Алкуин, Теодульф и Павел Диакон.
Необходимо упомянуть и об официальных источниках. Они значительно полнее, чем относящиеся к раннефранкскому периоду, но обязывают исследователя к столь же суровой дисциплине. Палеография и дипломатика (т. е. изучение формы официальных документов) играют свою роль, вызволяя историка из ловушек, в которые он, ничего не подозревая, попадается, хотя никто их для него не расставлял. Среди таких документов можно выделить прежде всего дарственные. Это были официальные записи, облеченные в тщательно разработанную словесную форму и удостоверенные различным образом, ими короли оповещали общины и отдельных людей о своих дарах и пожертвованиях, и делали это способом, который представлялся им наиболее неуязвимым и не подвластным времени. Ныне существует около сорока подобных документов эпохи Меровингов, и гораздо большее количество — каролингских. Таким образом, в документальной форме, на папирусе или пергаменте, король может возвестить о предоставлении монастырю какого-либо иммунитета или права (например, избирать какого-то чиновника), или о подтверждении имеющихся привилегий. Цель состояла в том, чтобы произвести впечатление не только на получателя, но также на тех, перед лицом кого получателю и его наследникам, возможно, придется отстаивать свои права. Однако несмотря на все предосторожности, для средневековых писцов не составляло большого труда подделывать дарственные достаточно успешно, чтобы провести соперника; и поскольку Карл Великий представал взору средневековья как самый знаменитый из варварских героев, он также чаще всего становился жертвой монастырей (например, Сен-Дени), желавших возвести происхождение своих привилегий, как правило, находящихся под угрозой к дарителю, чье имя и воспоминание о нем внушают максимальный трепет. Поэтому - то и существует так много подложных дарственных. Те же, которые чужды этого порока, образуют бесценную коллекцию.
Помимо дарственных существуют капитулярии. Это указы, разбитые на главы и отображающие подлинную законодательную деятельность. Большая часть их посвящена административным проблемам в связи с общественным порядком, церковью, королевскими доменами, механизмом правосудия или обороны. Они мало что говорят нам о частном, уголовном или племенном праве. Некоторые применяются ко всему франкскому миру, а другие — только к его части. Это не кодификация обычного права. В своем применении они носят скорее территориальный, чем личный характер, и представляют собой итог обсуждения королем государственных дел с любыми людьми, чей совет мог ему понадобиться. В течение раннего средневековья создавались различные сборники капитуляриев — сборники, включавшие в себя также племенные законы, юридические трактаты и выдержки из анналов. Они предназначались для использования в монастырских библиотеках. Таким образом, сборники, в которых сохранились каролингские капитулярии, ни в коем случае не являются официальными. Это копии второго уровня. И потому информативность этого важного источника оказывается серьезно ограниченной, когда нет возможности найти ему подтверждения.
Подобно лангобардам и саксам, франки интересовались племенными законами и, будучи побуждаемы теми же самыми силами, взяли на себя труд записать их. Мы уже говорили о тех проблемах, которые находят отражение в Салической Правде. Девятый век был временем, когда она, по-видимому, вызывала живой интерес. Точно таким же образом была записана Рипуарская правда, а, кроме того, под руководством франков,— законы саксов и других племен. Они представляли собой все то, что можно было собрать из единого корпуса племенного обычного права, регулировавшего жизнь германского народа, и в деле их изучения достигнуто меньше, чем в анализе капитуляриев и дарственных. В результате, они не могут сказать нам с достаточной точностью, как жили племена в период сразу после миграции, но на самом деле сообщают, что думали об их жизни образованные люди каролингской эпохи, и потому значимы с точки зрения, которая никак не предполагалась их составителями. Это, разумеется, не означает, что племенные обычаи уже не были реальностью: хорошо известное письмо архиепископа Агобарда Лионского описывает, какое смятение вызвало желание народов разной крови жить и быть судимыми в соответствии со своими собственными обычаями в пределах одного города. Но естественный ход жизни обычного права приводит к окаменению, как только оно фиксируется в письменной форме.
Этот краткий обзор лишь затрагивает некоторые письменные источники, на основании которых должен строиться любой рассказ о Каролингах. Он полностью не учитывает ни археологических свидетельств монументального искусства и скульптуры, ни того, что могут сообщить нам мелкие предметы, мозаики, эмали, изделия из бронзы и слоновой кости, книжные иллюстрации, в изготовлении которых франки были мастерами. Это богатство материала является сутью каролингского ренессанса, который рассматривается ниже. Сохранилось немногое, но то, чем мы располагаем, является великолепным жестом в сторону Romanitas.
В предыдущей главе мы заявили, что возвышение Каролингов было не более очевидным для их современников, чем упадок Меровингов. Теперь необходимо сделать следующий шаг: когда государственный переворот свершился, он ни в коем случае не был предсказуемым решением, как не был он и необратимым. Каролингам предстояло на себе испытать, что такое неуверенность. Политическая раздробленность, наступившая после смерти Карла Мартелла в 741 г., носила семейный характер; и на фоне беспорядка и междоусобиц явился еще один Меровинг. Это был Хильдерик III. Анналы о нем ничего не сообщают, что, возможно, объяснимо; но поражает то, что сыновьям Карла Мартелла вообще пришлось взваливать себе на плечи подобную обузу и возрождать королевскую власть Меровингов. Кровь Хлодвига все еще была в цене. Тем временем Арнульфинги все больше сближались с папством. Об этом говорит, например, частота церковных соборов как в Австразии, так и в Нейстрии. Эти соборы были крупными событиями, объединявшими светских и церковных магнатов. Их постановления дают ясную картину беспорядков того времени и усилий, предпринимавшихся высокопоставленными людьми, чтобы обуздать их. Например, они пытались обеспечить правильную и непрерывную преемственность в церковном управлении, поскольку длительное безвластие в этой сфере влекло за собой огромное число злоупотреблений. Защита иерархии была, самое меньшее, политической необходимостью. В этих постановлениях нашла отражение и борьба с сельским язычеством. Четвертое правило собора 743 г. в Эстинне гласит: «Мы также приказываем, как прежде нас приказал наш отец, чтобы всякий повинный в соблюдении языческих обычаев был оштрафован на 15 solidi (солидов)». Другие постановления посвящены брачному законодательству, целибату священников и поведению духовенства. Их общее содержание хорошо изложено в первом правиле австразийского собора, состоявшегося в апреле 742 г., и известного как «Concilium Germanicum»: «По совету моего духовенства и видных людей я поставил в городах епископов и поместил над ними Бонифация как архиепископа — его, который прислан от св. Петра. И я распорядился о ежегодном созыве собора, на котором в моем присутствии могут возрождаться канонические постановления и законы Церкви, а христианская вера — исправляться. Далее, я восстановил и вернул церквям доходы, ошибочно у них отнятые; сместил, лишил сана и усилил наказание для самозванных священников и распутных диаконов и священников». Слова эти принадлежат Карломану, старшему сыну Карла Мартелла, герцогу и владыке франков; но за его спиной стоят миссионеры англосаксонской церкви, а за ними — Рим.
Карломан все больше подпадал под влияние Церкви, настолько, что в 747 г. отказался от власти в пользу своего брата Пипина, правителя Нейстрии, и удалился в монастырь Монте-Кассино, чтобы стать монахом. В результате Пипин остался фактически единственным правителем всех франкских земель — «всех» означает те, на которых он был в состоянии привести свою власть в действие. Но это не было реализацией плана его отца; такова была воля случая. Похоже, что Пипин не разделял чувств своего брата по поводу св. Бонифация, возможно, потому, что в Нейстрии проблема реституции церковных земель была более сложной, чем в Австразии. Но чем сильнее возрастало папское влияние в его владениях, тем более патологическим должно было выглядеть его положение как мажордома. В 746 г. он обратился к папе Захарию по поводу полномочий арихепископов. Папа дал развернутый ответ, не упустив случая сравнить Пипина с Моисеем. В 750 г. Пипин направил в Рим двоих посланников (один из них был аббатом Сен-Дени). Им было поручено выяснить: справедливо ли, чтобы правитель, не имеющий власти, продолжал носить титул короля. Папа ответил отрицательно. Разделение функции и титула правителя было одинаково чуждо римской и германской традиции. Вся практика управления, основанная на Библии и истолкованная Римом, была против аномалии, столь долго одобрявшейся франками. Но даже без учета этих соображений, растущий страх папского престола перед лангобардами не позволял ему перечить Арнульфингам, точно так же, как Арнульфинги не могли решиться на ниспровержение церковного авторитета, под сенью которого выросли. Меровинг Хильдерик III был не слабее своих предшественников и мог бы с легкостью продолжить свою династию. У него был сын. После того как в ноябре 751 г. они оба были лишены своих волос (а может быть, скальпированы) и заточены в аббатство Сен-Бертен, их принудительно и публично лишили наследственных прав, чтобы расчистить путь для Арнульфингов. В этом нет никаких сомнений: Меровинги не просто сошли со сцены, а были свергнуты насильственным путем. И именно Рим подтолкнул Пипина к пропасти, которой он в противном случае, возможно, даже не увидел бы. Арнульфинги, или Каролинги, как мы теперь должны их величать, были королями по воле Рима, и чтобы усилить это их качество, над ними совершался обряд помазания, какого не знал ни один Меровинг[19]. Самуил помазал Давида царем вместо Саула, и потому Церковь, осознавая эту аналогию, помазала Пипина и его преемников. Франки были Божьими избранниками, а их армии — столпами Израиля. Должно быть, процесс отождествления ветхозаветной фигуры Давида, Christus Domini, с каролингским правителем не был трудным для Церкви, уже преуспевшей в отождествлении пап с новозаветной фигурой св. Петра. Лишь у средневековых людей, столь поглощенных изучением Библии, была надежда уловить жизненную актуальность таких параллелей.
Почти вся относящаяся к этому периоду переписка между папами и франками ведется на языке Библии. В равной мере это относится к ценным жизнеописаниям пап того времени, собранным воедино в «Liber Pontificalis» («Книга Пап»). Сложность состоит в том, чтобы за спинами образованных людей разглядеть самих франков.
В январе 754 г. папа Стефан II прибыл на королевскую виллу в Понтионе на Марне. Он прибыл, возможно, при одобрении Византии, чтобы искать содействия франков в Италии, поскольку король Айстульф угрожал самому римскому ducatus. Пипин взялся восстановить экзархат наряду с правами и собственностью, принадлежавшими Respublica Romanorum (Римской республике), и присвоенными Айстульфом. Весьма вероятно, что папа привез с собой из Рима и именно в этот момент предъявил знаменитый Константинов дар (Constitutum Constantini), документ, в котором Константин предоставляет папе Сильвестру I сюзеренитет над всем Западом. Эта дарственная, сохранившаяся лишь в списке девятого века, в каком-то смысле является подделкой. Но ее целью было письменное обоснование привилегий, которые автору могли представляться подлинными[20]. На ее основании папа Стефан наделил Пипина и его сыновей титулом патриция, который прежде носили равеннский экзарх и герцог Римский. Затем он снова помазал семью в монастыре Сен-Дени и наложил строгий запрет на избрание в будущем какого-либо короля, не принадлежащего к этому роду, возвеличенному божественным милосердием, поддержанному и освященному рукой апостольского викария. Таким образом, Пипин сделал все, что было в его силах, чтобы обеспечить какую-то видимость законности своему перевороту, а взамен начал переговоры с лангобардами.
Однако они провалились. Последующие экспедиции Пипина и его потомков через Альпы в Италию предпринимались вовсе не с сердцем. Правда, в прошлом Меровинги не единожды проделывали то же путешествие и обычно возвращались, добыв огромные богатства. Но это были рискованные мероприятия, и недавно закрепившимся Каролингам, разумеется, не нравились обязательства, выполнение которых уводило их так далеко от дома, даже тогда, когда они, действительно, предполагали вернуться multis thesauris ас multis muneribus, с большой добычей и многими дарами. Тогда неверно будет предполагать, что Пипин ощущал какую бы то ни было необходимость во вмешательстве в итальянские дела. Италия никогда не являлась для франкских королей таким магнитом, каким ей было суждено стать для Отгонов.
Современникам казалось, что в Италии, а также и в Германии Пипин совершил менее славные подвиги, чем его сын Карл Великий. Его собственные претензии на исключительность основываются на его аквитанских кампаниях. Южная Галлия влекла франков со времен Хлодвига, и они усиливали свое владычество над ней при первой возможности. Ее стоило пограбить, и то, что там поселились арабы, отнюдь этого не отменяло. Пипину потребовалось семь лет борьбы и переговоров, с 752 по 759 г., чтобы завладеть Септиманией, что удалось ему с помощью вестготского населения. Последней пала арабская крепость Нарбонн, и снова с помощью ее жителей, которым Пипин пообещал, что после освобождения они будут продолжать жить по вестготским законам. Осада Нарбонна была событием огромной важности, о чем свидетельствуют позднейшие chansons de geste[21], в результате весь юг до самой реки Эбро оказался открытым. Но неожиданное низвержение власти арабов в Септимании должно было встревожить аквитанцев, и они восстали. Франкское вторжение в Аквитанию было длительным процессом. Аквитанцы сохраняли лояльность своему герцогу, а он, в свою очередь, был решительным борцом, который мог рассчитывать на помощь басков, прекрасных всадников, находившихся в числе лучших воинов средневековья. Пипин умер, командуя завершающими операциями из Сента. Он уделил аквитанскому сепаратизму большее внимание, чем любой из Меровингов, хотя и сделал это совершенно в их духе. И он правил в Нарбонне и Ниме.
Эти длительные войны не «объединили» Францию, и вызывает сомнение, что Пипин понял бы то, что мы подразумеваем под этим словом. Но он заставил юг ощутить на себе каролингскую власть, и, может быть, сделал бы это еще более действенно, если бы его не отвлекали мятежи в Германии и обязательства в Италии. Он был «экспериментальным» королем, или ветхозаветным царем; и в целом франки одобрили эту пробу.
Один из его сыновей и наследников, Карломан, умер через три года. Другой, Карл Великий, сразу же лишил имущества своих племянников и, таким образом, сделался единственным правителем франков.
О Карле Великом написано много книг. Он всегда был героем западной истории, так же, как и преданий, и стоит никак не последним в ряду Девяти героев мира. Невозможно на нескольких страницах показать целостную картину того, что сегодня кажется важным в его длинной жизни, или определить, насколько глубоко мы можем проникнуть в мотивы и характер этого знаменитого франка, следуя латинским источникам. Мы должны принимать его таким, каким мы его находим, допуская, что большая часть того, что нам необходимо знать для полноты картины, отсутствует. В действительности того, что современный ученый определил как его индивидуальность в качестве государственного деятеля, нет и, возможно, никогда не существовало.
В течение первых десяти лет своего правления Карл Великий был занят традиционными военными делами своего дома в Германии, Ломбардии и в Испанской марке. Если не считать плана превращения западной Саксонии в постоянную марку для защиты франкских земель, ничто не говорило о том, что по своим амбициям и способностям он превосходит Пипина и Карла Мартелла. Он не вынашивал грандиозных завоевательских планов, но активно осуществлял все, за что брался. Это включало приобретение ломбардской короны — естественное следствие многолетней франкской интервенции в Италию. В Испании он совершил грубую ошибку, и все, что ему удалось,— это самому спастись из объятий ислама, а в Ронсевальской долине — от басков. Это произошло в 778 г., году общего восстания во всех его землях. Не существует единого объяснения, способного охватить совпадение волнений в Саксонии, Аквитании, Италии и Франции. Наверное, некоторые всегда были готовы восстать против династии parvenu (выскочек), а другие — половить рыбку в мутной воде. Но многое объясняет и простой факт отсутствия короля и нехватки у него достойных доверия приближенных. С годами Карл Великий собрал вокруг себя группу преданных слуг, мирян и клириков, своих друзей и собутыльников, которые составили его palatium (двор), и которым он мог доверять свои дела; но это, так же, как и впечатление все присутствия, проистекавшее из постоянных перемещений Карла, пришло не сразу, и до 778 г. ничего подобного, разумеется, не было. На следующий год в Герстале король принял некоторые меры по укреплению администрации во франкском и ломбардском королевствах. Из соответствующего капитулярия мы узнаем, что ответственность за отправление правосудия возлагалась им на своих графов; каждого, кто отказывался принять возмещение вместо кровной мести, следовало отправить к королю; никому не позволялось создавать вооруженные отряды с враждебными намерениями: пусть никто не предпринимает коварных деяний. Административные механизмы, посредством которых должна была воплощаться в жизнь воля короля, интересны, но менее важны, чем само это политическое откровение,— на одиннадцатом году правления Карла Великого франки были такими же непокорными, как и всегда.
По окончании кризиса 778 г. Карл Великий вступил в великий и главный период своего пути, который продолжался до 791 года. Это было время военных завоеваний и стремительного развития у него ощущения своей христианской миссии. Одно и другое шло рука об руку. Примечательной особенностью военных действий было присоединение к франкскому королевству великого герцогства Баварии — неизбежный шаг после падения ее соседа, Ломбардии — и захват южных склонов Пиренеев. Карл Великий окружал франков широким поясом буферных территорий. Однако, поглотив Баварию, франки пришли в соприкосновение с ужасными аварскими конниками, владычествовавшими над славянскими народами среднего Подунавья.
Но величайшим предприятием Карла Великого в этот период стало покорение саксов и восточных фризов. Последние, по поводу отличия которых от саксов археологи не имеют единого мнения, были ярыми язычниками, хотя в то же время и хорошими земледельцами, купцами и моряками. При поддержке короля среди них, в области между Балтийским морем и устьем Везера, поспешили начать свою деятельность миссионеры. Необходимо упомянуть о Лиудгере, который сам был фризом и учеником великой миссионерской школы Йорка. Он написал биографию своего учителя Григория Утрехтского, где говорит, что, умирая, Григорий раздал своим подчиненным книги, некогда приобретенные им в Риме. Лиудгеру достался Энхиридион св. Августина, тем самым обогатив уже значительную коллекцию, собранную в Йорке. Оттуда же мы узнаем, что в эту коллекцию входил список поэмы Кедмона, но в целом она, скорее всего, была чисто утилитарной. Людям, обращавшим Северную Европу, нужны были в основном простые тексты, библейские и богослужебные, и календари для установления церковной хронологии; и, собственно, их распространение и было сущностью того, что мы называет каролингским ренессансом. По пятам миссионеров в северо-восточную Фризию проникали графы и другие чиновники, набирая солдат для королевской армии и выполняя другие функции светского правительства. Lex Frisionum (Правда Фризов) сохраняется в качестве удобного свода норм фризского обычного права, как понимали его франки того времени. Но с Фризией дело обстояло так же, как с Баварией: покорив гордый и древний народ, франки уничтожили то самое, что желали создать — преграду на пути гораздо более внушительных врагов. За фризами жили даны.
Со времени ранних Меровингов саксы совершали набеги на франкскую территорию, а франки наносили им ответные визиты. Но у Каролингов были особые интересы, которые нужно было защищать. Их родиной была Австразия, Арденны и страна между Мозелем и Рейном, реками, которые являлись богатыми торговыми путями и потому не могли служить барьером. Далее, Каролинги укрепили свое доброе имя строительством миссионерских церквей в центральной Германии, Гессене и Тюрингии. Королевские интересы всем своим весом сместились в сторону Рейна. Чем богаче становилась Рейнская область, тем сильнее ощущалась потребность оградить подступы к ней от саксонских нападений — и тем сложнее это становилось за отсутствием какой-либо естественной границы кроме Рейна. Франкских авторов вроде Эйнхарда и хронистов саксонские войны Карла Великого интересовали больше, нежели что-либо другое, в силу их прозорливости и интуиции, которая подсказывала им, что судьба его правящего дома неотделима от защиты Рейнской области.
Центральные саксы или ангары жили вдоль реки Везер, по одну сторону от них, вдоль Эльбы, обитали эстфальцы, а по другую, к востоку от Рейна,— вестфальцы. Таковы были три основные ветви саксонского народа. У них не было политического единства, да они в нем и не нуждались, кроме случаев, когда опасность грозила им как народу. Но религиозная сплоченность у них была. Они боролись за сохранение своего язычества с его кровожадными обрядами с упорством, которое франки называли закоснелостью. От исхода зависела их культура и образ жизни.
В 772 г. Карл Великий начал свою первую саксонскую кампанию. Они лишь ненамного превосходила известного рода карательный поход. Однако проник он глубоко и оставил оборонительные пункты с гарнизонами на подступах, но вне пределов тех земель, которые желал защитить. Такими защитными сооружениями часто становились саксонские крепости, мудро расположенные на возвышенности или в стратегических точках на берегах рек. Скорее всего, франками они использовались как для сопротивления, так и для торговли, поскольку в непосредственной близости от них обнаруживаются саксонские монеты. Будучи неудовлетворен достигнутым и захватом заложников, Карл Великий также уничтожил Ирминсуль, огромный древесный ствол, на который, по верованиям саксов, опирался небесный свод. Возможно, он помнил о прецеденте св. Бонифация, который срубил священный дуб Донара в Гейсмаре. Без сомнения, ему было известно, что покорение саксов подразумевает прежде-всего подавление язычества. Уничтожения Ирминсуля и последовавшего за этим принудительного массового крещения ему так и не простили: каждый раз, когда Карл Великий отлучался достаточно далеко, саксы восставали, громили франкские миссионерские центры и вторгались как можно глубже на франкскую территорию. Естественного лидера они нашли в лице некоего Видукинда. Его память на века сохранилась в саксонских легендах, а при фашистском режиме он даже снова появился на сцене в качестве германского героя. На франков он также производил большое впечатление. В 782 г. Карл Великий расположил свой двор в Германии, недалеко от истока Липпе. Все саксонские вожди, кроме последователей Видукинда, прибыли, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение. Может быть, они также приняли крещение, потому что Карл Великий крайне серьезно взялся за искоренение язычества. Церковь наполнила его разум миссионерским пылом, почерпнутым из De Civitate Dei («О Граде Божием») бл. Августина и вложила в его руки копию письма папы Григория Этельберту Кентскому об обращении народов. Его королевский долг и долг его франков заключался в спасении язычников, если потребуется — огнем и мечом. Далее в том же 782 г. франкская армия, двигавшаяся на юго-восток через Саксонию, подверглась нападению и была уничтожена саксами. Среди убитых оказались некоторые важные чиновники, включая двух близких друзей Карла Великого. Это была последняя капля. Франки вторглись в Саксонию силой. Карл Великий одержал победу под Верденом и перебил 4500 пленников, вполне возможно, в качестве акта личной мести[22]. Результатом, разумеется, стало еще более масштабное восстание, на подавление которого потребовалось три года. В конце концов Видукинд сдался и крестился, а его победитель выступал в роли крестного отца. В поздравительном письме папы, в котором он сообщает, что приказал три дня возносить благодарение Господу за эту великую победу христианства, можно уловить некоторые нотки облегчения. Рейнская область и восточнофранкская церковь были спасены. Однако для саксов эта победа означала еще более жестокое подавление, и к тому же навязывание им церковной организации, которому они всеми силами противились. Рассказы хроник тех лет о том, какие меры были приняты франками против язычества, красноречиво говорят о его силе и гибкости. Мы уже упоминали о том, что быстрое развитие у Карла Великого сознания своей христианской миссии было чертой центрального периода его правления. В «Admo-nitio Generalis», официальном отчете о церковной политике, появившемся под его именем в 789 г., нужды его Церкви изложены в восьмидесяти двух статьях. Эта политика должна была отвечать личному желанию короля; но (вопреки Эйнхарду) он был невежественным человеком, и вся эта тщательная работа была проделана его образованными друзьями из среды духовенства, способными привлекать как ранние франкские капитулярии, так и римские своды канонического права. В «Admonitio» уделяется внимание многим темам — в том числе богословским, дисциплинарным, литургическим и образовательным. По этому произведению мы видим, насколько близкими друг другу стали франкская и римская церкви за сравнительно короткое время. Возможно, в некоторых отношениях Каролинги развернули Францию в сторону от Средиземноморья, но по крайней мере в делах религии они связали ее с Римом и, в частности, св. Бенедиктом. «Admonitio» предполагает нечто римское — общество, причем христианское, живущее в мире с собой, объединяемое властью короля и не боящееся ничего, кроме несправедливости. Силу этой вдохновляющей идеи не следует приуменьшать. Она озарила собой горстку образованных людей, которые, в каком-то смысле, спасли варварскую Европу от самой себя. Статья 62 гласит: «Да царит во всем христианском народе, между епископами, аббатами, графами и прочими нашими слугами, великими и малыми, мир, согласие и единодушие; ибо, не имея мира, мы не можем угодить Богу». Так, еще раз мысль св. Августина определяла облик западного общества. Огромная пропасть между теорией и практикой, между концепцией мира и фактом кровопролития, не была преодолена Карлом Великим так же, как и всеми его предшественниками. Тем не менее он знал о ее существовании.
Статья 72 затрагивает соборные и монастырские школы, а также проблему переписывания и исправления используемых ими библейских и литургических текстов; и именно так, скромно и деловито, явился на свет Каролингский ренессанас.
В этой книге уже не раз говорилось, что сознание своего классического наследства и стремление его сохранить было присуще западным варварам почти в той же мере, что и гражданам поздней Империи. Что же тогда подразумевается под словом «ренессанс» восьмого и девятого веков? Если это было возрождением, то чего? Ответы на эти вопросы можно найти, только если помнить, что для Каролингов и их друзей образование и литература не были просто увлечением. Они были условием выживания. Более того, говоря о заслугах Карла Великого, мы часто грешим детальностью, не обеспеченной свидетельствами. Рукописи, предметы искусства и другие материальные свидетельства нередко с трудом поддаются датировке. Ренессанс был культурным процессом, растянувшимся более чем на век; и поэтому, например, то, что мы приписываем Карлу Великому, иногда может принадлежать его внуку Карлу Лысому.
Литературные следы франков докаролингского периода редки, но достаточны, чтобы оправдать мнение большинства ученых, полагающих, что они отражают низкий уровень культуры. Они непривлекательны с точки зрения стиля, языком их является испорченная, но живая латынь бытового общения, читать их неприятно, хотя и необязательно трудно.
Основная черта меровингских текстов — пестрота, отсутствие единства формы, будь они библейскими, литературными или дипломатическими. Но, по сравнению с каролингским, меровингский мир был маленьким, и потому это разнообразие, возможно, не воспринималось как серьезный недостаток.
Каролинги, и особенно Карл Великий, были озабочены подготовкой образованных клириков для того, чтобы проповедовать и жить среди фризов, саксов, славян и аваров, а также контролировать более устоявшиеся части франкского мира. Инструментами этой политики были соборные и монастырские школы. Духовное образование остро нуждалось в стандартизации; иначе за пределами Франции его работа была обречена на провал. Нужны были ученые, способные произвести ревизию тех самых текстов, от которых зависела миссионерская деятельность: Библии, литургии, основных толкований на Священное писание и книг, относившихся к сфере светского образования, от которых следовало переходить к изучению вышеперечисленных. Существовала и потребность в подготовленных писцах, которые могли бы точно, экономно (ведь материалы, использовавшиеся при переписке, были дороги) копировать тексты, причем так, чтобы они были понятны церковнослужителям любой национальности.
Подобно своему отцу, Карл Великий искал помощи заграницей. В первую очередь, у лангобардов, которые, несмотря на всю свою дикость, жили в стране, бесподобно богатой древними рукописями, где традиции каллиграфического письма никогда полностью не прерывались. Лангобардский королевский двор не был чужд образованности: возможно ли было такое под сенью Византии и Рима? Разве король Кунинкперт не повелел некоему мастеру Стефану переложить в латинские стихи историю о том, как король Перктарит, его отец, установил мир в Северной Италии за век до рождения Карла Великого? Алкуин описывает, как однажды в ломбардской Павии он посетил публичный диспут между Петром Пизанским (в дальнейшем присоединившимся к франкскому двору) и евреем по имени Луллий; хотя как раз тогда Павел Диакон, должно быть, создавал свои ранние поэмы и собирал материалы для истории лангобардов, которую ему предстояло написать годом позже в Южной Италии. Из Италии Карл Великий призвал Павлиан Аквилейского, Фардульфа, Петра Пизанского и Павла Диакона.
Но важнейший вклад в ренессанс был островным, то есть англо-ирландским. Узы, соединявшие Англию и Ирландию с континентом в седьмом и восьмом веках, были множественными и запутанными. Каролинги были в долгу перед великой миссионерской школой Йорка за людей и книги, которые им оттуда присылались. В частности, Англия стала перевалочным пунктом для книг, привозимых из Рима и, на самом деле, со всего итальянского полуострова. Это движение книг и людей еще усилилось благодаря решимости английских бенедиктинских миссионеров поддерживать контакт с Римом любой ценой. Достигнув Кентерберийского аббатства, Яарроу, Йорка и Мальмсбери, римские книги переписывались там для нужд английских миссионеров, действовавших за рубежом; а одна большая английская книга, Codex Amiatinus, старейшая из ныне существующих полных рукописей Вульгаты, была в 716 г. привезена из Яарроу в Рим аббатом Кеолфридом. Итак, Англия перемещала и экспортировала знание, этот редчайший товар, в те времена, когда оно было наиболее необходимым. Где бы ни поселялись английские миссионеры, вслед за ними шли английские рукописи. Некоторые достигали крупных библиотек франкских монастырей, вроде Корби, Тура и Сен-Дени, в то время как другие шли еще дальше в миссионерские центры на севере и востоке.,7 в такие места как Утрехт, Эхтернах, Майнц, Лорш, Аморбах, Вюрцбург, Зальцбург, Рейхенау, и, помимо всего прочего, Фульда, любимая обитель св. Бонифация, а затем целого ряда замечательных ученых.
Какие это были книги? Прежде всего Библия и богослужебные тексты — учебные материалы; но также и светские произведения, поскольку без некоторой подготовки в свободных искусствах было невозможно двигаться дальше. В Divine Institutions («Руководство к божественной и мирской словесности») Кассиодор убеждал монахов, что занятие письмом есть наилучший подход к Писаниям, настаивал на том, что переписывание рукописей требует скрупулезности, советовал остерегаться исправлений, даже если они кажутся благовидными, сообщал, как следует переплетать и хранить книги, и даже давал рекомендации по поводу улучшения правописания. Кассиодора в период раннего средневековья читали много; и миссионеры, как бы сильно они ни боялись фатального безумия языческой литературы, прислушались к его совету и серьезно восприняли его толкование диалектики, искусства спора или правильного выражения мыслей. Обратившись после этого к учителям самого Кассиодора, Цицерону, Присциану, Донату и другим, монахи обнаружили, что их произведения сохранились в рукописях, созданных, по большей части раньше седьмого века. Возможно, большая часть найденного была им непонятна, но их наполнял священный трепет перед лицом древности; кроме того, они были исправными копировальщиками, которые к тому же использовали прекрасный шрифт собственного изобретения, являющийся основой и для данной книги.
Алкуин, какое-то время находившийся в близких отношениях с Карлом Великим, возможно, совершил крупнейший вклад Англии в ренессанс на континенте. Но относительно Алкуина нечему удивляться. Он был непосредственным выразителем знаний, почерпнутых у бл. Августина, св. Бенедикта, Кассиодора и Григория Великого, и принадлежал душой и телом итальянской традиции, переданной через Беду и Йоркскую школу. Все, чего он желал, было передать полученное дальше. Именно этим он и занимался. Зычный отголосок его решительного настроя можно уловить в хорошо известном циркуляре Карла Великого для монастырей по поводу необходимости занятия литературой как должного приуготовления к чтению Писаний — документ, о котором англичанин не имеет права не знать, поскольку Вюрцбургская копия (единственная, принадлежащая почти к тому времени) хранится в Bodleian Library (Бодлейанской Библиотеке) в Оксфорде. Но коль скоро Алкуин разделял взгляды своего господина на образование, то он, как и другие, должен был заплатить за это почти постоянным пребыванием при дворе, где он вел жизнь, далекую от аскетизма, безусловно, принимая участие в охотах и попойках. В этих неблагоприятных условиях он все же составил учебники по семи свободным искусствам и снискал заслуженную славу литургиста, экзегета и агиографа. Он стал автором собрания писем, которое является первейшим источником для этого периода; он же играл ведущую роль, в основном в конце жизни, будучи аббатом монастыря Сен-Мартин в Туре, в исправлении текста Библии.
Это последнее лежит в самом сердце каролингского ренессанса. В восьмом веке существовало бесконечное количество различных редакций Библии. Некоторые основывались на латинской Вульгате бл. Иеронима, другие восходили к предшествовавшим ей латинским версиям так называемого типа итала (Itala). Серьезные расхождения встречались даже в Библиях, привезенных английскими миссионерами, особенно в Евангелиях и Псалмах,— чрезвычайно важных в силу их роли в богослужении. В общем послании Карл Великий пишет: «И потому, с Божией помощью во всех делах, мы уже приказали со всем возможным тщанием исправить книги Ветхого и Нового Завета, испорченные по невежеству переписчиков». Мы знаем, что Алкуин играл ведущую роль в этой огромной работе по сличению рукописей, поскольку он сообщает об этом в своем письме сестре Карла Великого, Гисле, аббатисе монастыря Шелл ее, и самому Карлу Великому, которому он послал в Рим исправленный текст в качестве подарка, приуроченного к Рождеству 800 года.
В общем, если сосредоточить внимание на библейских изысканиях как основной теме каролингского возрождения, то и другие его грани встают на свои места, и становится понятным, что мы подразумеваем, называя его скромным и деловитым, как и то, насколько неисчислимы были его корни. Это не были новые Афины, лучше прежних: интеллектуальная реформа и критическое изучение текста стали необходимой подготовкой к реорганизации духовенства и исполнению Opus Dei (Дела Божьего). Куда бы ни упал наш взгляд, повсюду мы видим аббатства и соборы, библиотеки и скриптории, ученых, которые, даже будучи столь разными, как Теодульф и Дунгал Ирландец, заботятся о делах короля самым заметным образом. Что действительно впечатляет, так это весомость их общих достижений, о которых говорят рукописи и предметы, которые мы и теперь можем взять в руки. Все это выглядит настолько целенаправленным, и так хорошо сочетается с тем, что сами реформаторы рассказывают нам о всеохватывающем влиянии Карла Великого. Почему же мы не решаемся принять как достоверный, нарисованный ими облик каролингского ренессанса? Почему, помимо всего прочего, мы не дерзаем признать правдивость знаменитой, даже если и противоречивой, работы Эйнхарда, хотя она относится к периоду лишь на тридцать лет позже?
Вот, что писал Эйнхард. Во-первых, он отдает должное красноречию короля и его способности изъясняться на латыни так же свободно, как и на своем родном языке (это настоящий парафраз того, что говорит о римских императорах Светоний). А затем продолжает:
«Он неутомимо покровительствовал свободным искусствам и осыпал почестями тех, кто преподавал их, относясь к ним с величайшим уважением» (это также из Светония). «Для изучения грамматики он прибег к Петру Пизанскому, к тому времени уже старцу. В других науках его учителем был Алкуин, звавшийся Альбино, дьякон, как и Павел, но по рождению сакс из Британии и ученейший человек своего времени. Он уделял много времени изучению риторики, диалектики и, вдобавок к этому, астрономии. Он научился исчислению и выказал подлинное умение при расчете движения звезд. И .больше того, он пытался писать, и обычно клал дощечки и листы пергамента к себе под подушку, чтобы в свободные минуты отдыха упражняться в написании букв. Но он взялся за письмо слишком поздно, и плоды не были слишком хороши. С особенным тщанием он относился к соблюдению христианской веры,— как это ни странно, это еще одно заимствование из Светония,— в которой был воспитан с детства. А в Аахене он построил церковь необыкновенного великолепия, украшенную золотом и серебром, канделябрами и балюстрадами и огромными бронзовыми дверями. Колонны и мраморные скульптуры для нее ему привезли из Рима и Равенны, потому что он больше нигде не мог найти их. Будучи в хорошем самочувствии, он всегда посещал богослужения утром и вечером и внимательно следил за тем, чтобы все совершалось как должно. Весьма часто он приказывал ризничим смотреть за порядком в храме. Он даровал множество золотых и серебряных священных сосудов и достаточное количество священнических одеяний, чтобы ни один клирик, как бы нищ он ни был, не должен был появиться без облачения. Наконец, он уделял много внимания правильности чтения и псалмопения; поскольку он был знатоком, хотя никогда ни читал на публике, а пел только в хоре или про себя».
Итак, в этом отрывке Эйнхард делает намеки на большинство, если не на все, аспекты каролингского возрождения. Однако здесь имеют значение не детали этой картины — некоторые из них, возможно, не подтверждаются фактами — а переданное нам автором впечатление о варварском короле, которого все стремились возвеличить и который проявил себя как не имеющий равных меценат своего времени. Будучи невежественным воином (потому что нам не следует буквально воспринимать стилизованное описание Эйнхарда), он собрал своих ученых и художников со всех концов цивилизованного Запада. Они пришли к нему и работали под его покровительством. Наконец, и в варварской Европе законы и учение римской церкви оказались в безопасности. В итоге Рим, помазавший новый королевский род, оказался прав.
Но забота Карла Великого о культуре не означала, что ему и его семье можно было не опасаться утратить почтение своих подданных. На самом деле, в самом разгаре своих преобразований он столкнулся с рядом серьезных восстаний, которые и положили внезапный конец центральному периоду его правления. Семьсот девяносто второй и третий годы были ужасными. Прежде всего урожаи были плохими, и повсюду начался голод. Во-вторых, неспокойно было в Саксонии, Италии и Испании. И, наконец, заговор против короля (уже не первый) чуть было не достиг своей цели. Его возглавил любимый внебрачный сын короля, Пипин Горбун, и втянул в него многих франкских магнатов. Далее, мы не должны воображать, что покровительство Церкви ставило Карла Великого выше кровных распрей его рода и сословия. Он все так же был представителем очень узкого круга варварских вождей, яростно ссорившихся из-за земель и богатств, и которые за пределами своих собственных территорий обычно пользовались презрением.
Очень интересны и важны для будущего меры, принятые королем, чтобы не допустить повторения такого magnum conturbium (великой распре) в среде его собственных родственников и ближайшего круга. Каким образом мог он крепче привязать к себе людей? После более раннего заговора 786 г. он взял со всех своих подданных клятву верности. При Меровингах подобные присяги были нормой, но после смены династии, похоже, имела место нерешительность по поводу применения этой практики. Однако после помазания в 751 г. Пипин III взял клятву верности со своих магнатов, предварив ее актом восхваления.
Верность, или преданность вассала сеньору — это сложное, расплывчатое понятие. В целом оно означало доверие, возлагаемое одним человеком на другого: оно обеспечивало возможность сосуществования. Именно поэтому соблюдение клятвы всеми варварами считалось величайшей добродетелью. Далее, понятие преданности подразумевало такие взаимоотношения между людьми, в которые можно было вступить и, равным образом, разорвать. При Меровингах каждый всегда мог сменить господина. В более узком смысле, преданность означала личное отношение, связывавшее каждого франка с его королем. Восстав против своего господина, франк, не принесший клятвы в верности, вполне мог заявить о своей невиновности в измене; и, фактически, именно об этом заявили в 792 г. младшие участники заговора, результатом чего стал строгий приказ всем людям принести или возобновить свою клятву в присутствии представителей короля. Вот пример клятвы в вассальной верности:
«Я обещаю, что с этого дня и впредь я буду самым верным слугой благочестивейшего императора, моего господина Карла, сына короля Пипина и королевы Берты; и я буду со всей искренностью, без обмана и худых намерений, блюсти верность ему ради чести его королевского сана, как по закону и должен вести себя человек по отношению к своему господину и владыке. Да поможет мне Бог и святые, мощи которых покоятся передо мной; ибо этой цели я посвящу все силы своего ума, дарованные мне Богом, на всю оставшуюся мне жизнь».
Это было нешуточное мероприятие, облеченное всей дополнительной торжественностью и гласностью, которую могла придать ему Церковь. С ним необоснованно связывалась надежда на упрочение позиций Каролингов. Оно обязывало присягнувшего к совершенной покорности королевским приказам, абсолютной сговорчивости по отношению к Ьаппит (т. е. королевскому пониманию правосудия и порядка), уплате тяжелых налогов и исполнению военной службы. Взамен король, через своих посредников, таких как графы и специальные надзиратели (missi domini), должен был обеспечивать каждому человеку отправление правосудия и точность толкования закона.
Но верность это еще было не все. Внутренний круг королевских «верных людей» был связан с ним более тесно посредством клятвы вассалитета. Скорее всего, vassus был чем-то вроде раннефранкского antrustion, личного друга и слуги. Особым условием, закрепляемым клятвой, было послушание, obsequium, которое впоследствии отождествилось с феодальной присягой. При Каролингах оно наделялось особой мистической силой. Вассалы своего господина, короля (vassi dominici), могли либо служить при дворе своего хозяина, либо выполнять его приказы где-то в другом месте. В любом случае их служба могла вознаграждаться земельными пожалованиями, либо на каких-то условиях, либо без них, из вновь завоеванных или конфискованных доменов, как обстояло дело с его вассалами, в большинстве своем австразийскими франками и его родственниками, которые служили Карлу Великому в качестве графов на отдаленных территориях. Так новая династия вознаграждала своих сторонников, устанавливала их власть в качестве крупной земельной аристократии, использовала их всеми возможными способами и покрепче привязывала их к себе специальными клятвами вассальной зависимости.
Далее, Карл призвал всех свободных людей стать не просто клиентами, а вассалами его магнатов, оговорив в качестве особого условия, чтобы это было сделано «для их пользы»; и, таким образом, был создан класс субвассалов, готовых, по крайней мере теоретически, следовать за своими лордами на инициированные королем войны, а не сражаться против него. Предполагалось, что Согласно одному из существующих мнений, узы вассальной зависимости в этот период были настолько тесными, что несли в себе понижение статуса, то есть высокопоставленные люди, как, например, графы, принимали снижение статуса в индивидуальном, а не сословном порядке.
Каждый вассал с бенефицием примерно в 400 акров хорошей пахотной земли будет служить своему хозяину как конный рыцарь в полном вооружении. Помимо того, что этим королю обеспечивалась более жесткая власть над своими магнатами и их ресурсами, это также снимало с плеч короля изрядную долю забот, связанных с комплектованием войска. «Пусть каждый,— приказал король в 819 г.,— так правит подвластными ему, чтобы возрастало их послушание и покорность императорским приказаниям».
Особенную трудность для осуществления этого плана представляло то, что магнаты не всегда отличали, а иногда и не могли, территории, которыми они владели в качестве бенефиция в силу своей службы, от земель, являвшихся личными и неотъемлемыми пожалованиями короля. Когда, например, граф умирал или смещался, графские владения возвращались короне. Но его родственники не всегда видели дело именно в таком свете и иногда были готовы на борьбу ради сохранения за собой всего своего земельного имущества. Обнаруживалась естественная тенденция к превращению в Средние века, как недвижимости, так и постов в наследственные. Однако Каролинги не собирались совершать ошибки, которая довела до нищеты их предшественников, лишив себя неограниченного срока владения королевским фиском или доменом. Напротив, Карл Великий всеми средствами увеличивал свои имения и распоряжался ими с большой эффективностью. Известный капитулярий, De villis («О поместьях»), показывает, что он действовал как землевладелец очень крупного масштаба.
Можно возразить, что на практике Карл Великий был ненамного богаче Меровингов, поскольку там, где они делали своим вассалам подарки навечно, он производил отчуждения на известных условиях, несмотря на то, что иногда они все же оказывались окончательными. Правда, сложности его правления были отчасти вызваны раздражением магнатов, в немалой части церковнослужителей, полагавших, что они в состоянии храбро ветретить его гнев, вызванный подобными проблемами. Однако истина, по-видимому, состоит в том, что большинство его вассалов не отваживалось встретиться лицом к лицу с последствиями восстания. Им было известно об ужасающей бдительности великого воителя и о том, какой может быть и бывает на деле его месть. Тот метод управления, который Карл Великий применял по отношению к людям и землям, был неотъемлемой частью его личности. Именно поэтому глупо предполагать, что его вызывающая столько споров административная система могла бы эффективно или навсегда объединить все те земли, которыми он владел. Поэтому же и его Империя не могла пережить его самого. Как до настоящего времени часто приходилось слышать, именно слияние вассалитета с бенефицием, то есть установление отношений между человеком и лордом на основе феодального лена, составило истинную правовую базу феодального общества. Если это так, то тогда мы должны распознать на землях Каро-лингов, как ив том, что они постоянно пребывали в поиске какого-то компромисса между управлением своими природными богатствами и вознаграждением церковнослужителей и воинов, которым они были всем этим обязаны, вовсе не корни его, а первые плоды.
Восемь лет между восстанием 793 г. и императорской коронацией Карла называют периодом консолидации. Это были годы, когда Карл Великий с трудом восстанавливал свою власть над Саксонией (ценой массовых депортаций), Испанской маркой и среднедунайскими землями аваров. Организация и заселение этих отдаленных приграничных территорий, похоже, производило на современных ему авторов меньшее впечатление, чем военный аспект этой проблемы. Великий воин вывел франкскую армию и римское христианство к новым нетронутым землям и, подобно своим предкам, вернулся с полными повозками сокровищ и вереницами пленников для раздела между своими придворными. Нам необходимо всегда понимать, что современникам Карла роли поборника христианства и варварского военачальника, подобно терминам «клирик» и «мирянин» или «Церковь» и «государство», представлялись куда менее взаимоисключающими, чем нам. Карл Великий был благочестивым и верующим человеком. Он лично председательствовал на соборе 794 г. во Франкфурте и вынудил епископов энергично выступить против мнения папы по некоторым богословским вопросам. Он не был склонен к согласию с поборниками догмата об иконопочитании, хотя папа Адриан, лучше него осведомленный об острых разногласиях, расколовших Восточную Империю, был настроен в его пользу. Кажется вероятным, что Карл Великий все более подпадал под влияние Алкуина и был готов понимать свои обязанности правителя так, как это нравилось последнему, особенно когда дело касалось христианских догматов. Возможно также и то, что в эти годы Алкуин был полон мыслей о создании (скорее всего, не о возрождении) на Западе христианской Империи, и что Карл Великий был осведомлен о них. Императорская коронация Карла в 800 г. в день Рождества Христова теперь уже не считается столь эпохальным событием, как полагало предыдущее поколение ученых. Но это был важный день для истории франков, и мы можем рассмотреть его значение.
Карл Великий распространил власть франков дальше, чем когда-либо удавалось его предкам. Он покорил Ломбардию, Баварию, Саксонию и Южную Галлию; он контролировал аваров; он искусно вмешивался в византийские и арабские дела, и был Patricius Romanorum (патрицием Рима), защитником Рима. Он побил Карла Мартелла на его собственном поле. Это был личный триумф. Тем не менее он всегда знал (понимали это и франки), что придет день, когда он разделит свои земли между сыновьями, и они будут ссориться и воевать как сыновья Хлодвига. Для церковнослужителя политическая интеграция была идеалом, а для франкских военачальников — случайностью.
В рамках своих владений Карл Великий правил той же областью Европы, которая, вполне вероятно, некогда принадлежала западно-римскому императору. Когда Алкуин писал о том, что Карл Великий уже правит империей, возможно, он имел в виду эту другую империю, или же подразумевал ее в каком-то не очень отчетливом смысле. В конце концов он приехал из Йорка, где, в традициях Беды, ученые употребляли слова regnum (королевство) и imperium (империя) как взаимозаменяемые. Так что для него Карл Великий был просто еще одним Bretwealda (то есть воином, подчинившим своему авторитету других воинов и поддерживавшим его силой оружия). Однако Алкуин иногда конкретизировал свое понимание, употребляя выражение Christianum Imperium (империя христиан): власть его короля была христианской настолько же, насколько и императорской. Он желал отождествить реальную власть короля с римской христианской Империей литургии.
В 778 г. Карл Великий и константинопольская императрица Ирина поссорились из-за лангобардского герцогства Беневенто в южной Италии, где все еще были сильны византийские интересы. Это был первый случай, когда Империя смогла бросить вызов франкской узурпации Италии, а вооруженное столкновение с последующим поражением Византии оставило глубокое впечатление. Но спор зашел еще дальше, так как в него был вовлечен и вопрос об иконопочитании. Наконец, в 797 г. Ирина свергла своего сына, официального императора, и стала править от собственного имени. Женщина никогда прежде не возлагала на себя императорского сана, поэтому мужчины предались размышлениям о его природе и функциях. Мы, ничем не рискуя, можем сказать, что триумф императрицы в Константинополе имел прямое отношение к взглядам Карла Великого на свои собственные позиции на Западе.
Еше более актуальными были события в Риме. Папа Адриан умер в 795 г., и Карл Великий оплакивал его как утраченного брата или ближайшего друга. Следующий папа, Лев III, был избран и возведен в новый сан прежде, чем кто-либо поинтересовался мнением Карла Великого. Франки забеспокоились, поскольку до них дошли сведения о том, что Лев не совсем в себе, и что в городе волнения. В апреле 799 г. на Льва напала группа людей под предводительством племянника его предшественника. С тяжелым ранением он бежал в Германию. Карл был готов вернуть ему престол, но после полного расследования произошедшего в Риме. Оно было произведено; а когда розыски были закончены, король отправился в Италию, чтобы совершить правосудие и понудить Льва публично исповедовать свою невиновность. Карл был зол и торопился; в его северных владениях было неспокойно, и он прибыл в Рим лишь потому, что контроль над Римом и папством был оплотом его правления. И вот теперь-то, полагая, что необходимо извлечь из этой ситуации нечто практическое, Карл Великий решил стать императором; причем не просто императором какой-то страны, а римским императором. Это был единственный титул, который давал ему более надежный контроль над самой римской Церковью, хотя для франков и других варваров он не имел никакого значения, и следствием имел лишь раздражение Византии, истинной Империи. Однако представляется возможным, что Карлу отнюдь не сразу пришло в голову, что для Востока его новый титул стал настоящим оскорблением. Рождественским утром 800 г. король с помпой отправился в собор св. Петра, чтобы прослушать мессу и надеть корону точно так же, как это мог бы сделать Восточный император. Возможно, он желал, чтобы папа также посвятил его старшего сына Карла. В Византии было принято, чтобы патриарх, прочитав над императором молитву, возложил на его голову венец, а затем встал на колени и поклонился ему. Это было поклонение императору, а не возведение императора в сан. Когда Карл поднялся после молитвы, папа возложил на его голову корону и поклонился ему, а народ Рима провозгласил его imperator et augustus (императором и августом). Так, намеренно или нет, слились в одном великом событии простая коронация и провозглашение императором. Карл Великий стал императором, которого приветствовал Рим. Его власть над франками и римлянами сплавилась в том, что впоследствии один из пап назвал актом соединения. Кое кому это показалось возрождением древности: Renovatio Romani Imperil (Восстановлением Римской империи).
Одним из непосредственных итогов стало то, что Карл Великий почувствовал, что его положение в общении с врагами папы в Риме упрочилось. Но, совершив все это, он незамедлительно отправился домой. Его столицей был не Рим, а Аахен в сердце его родовых владений. Теперь папе следовало самому позаботиться о себе. Тем временем, похоже, что новый титул, хотя он и мог впечатлить церковнослужителей вроде Алкуина, не принес с собой непосредственных изменений для личной власти Карла Великого; поскольку он, точно так же, как и раньше правил в качестве короля франков и лангобардов. Так он продолжал называть себя в юридических документах, хотя в конце добавлял к своим королевским званиям и императорский титул. Короче говоря, он был, как сказал один современный автор, «императором понарошку», хотя это не значит, что произошедшее для современников не имело ни смысла, ни важности, или что Карл, в некотором смысле, потерпел поражение. Византийцы сочли нового императора узурпатором Рима, хотя едва ли могли опасаться распространения его амбиций на Восток. Однако на примыкающих к Адриатике землях и в портах — традиционное яблоко раздора между Востоком и Западом — возможностей для спора было предостаточно; и, отказавшись признать его титул, византийцы, безусловно, подали Карлу Великому повод для беспокойства. Он не мог чувствовать себя в безопасности, не убедив их сделать это. В частности, предметом вожделений обоих императоров была Венеция. С тех пор как арабы заняли Александрию, венецианский флот оказывал содействие Восточной Империи в центральном Средиземноморье, а ее географическое положение делало ее естественным перевалочным пунктом для средиземноморской торговли с отдаленными странами. Она экспортировала рабов из дунайских регионов, недавно освоенных франками; она контролировала торговлю на Ломбардской равнине, особенно солевую; кроме того, они импортировала предметы роскоши из Леванта, которые по альпийским тропам и северным рекам следовали в крупные монастыри и ко дворам богатых людей. После долгой борьбы Карл признал сюзеренитет Византии над Венецией и Далмацией в обмен на ежегодные выплаты.
Остальные четырнадцать лет жизни Карла Великого стали временем политической разобщенности, которую прежде всего следует оценивать с точки зрения ее социального измерения. Для всего периода, охватываемого этой книгой, была характерная жестокая дефляция, поскольку золото выкачивалось с Запада, постоянно росли цены, а потребление всегда немного превышало производство. С социальной точки зрения это означало для крупных земельных владений, как светских, так и церковных, рост тенденции к ориентации на собственные ресурсы, а у их хозяев — к тому, чтобы измерять свое богатство с точки зрения земли и урожая, который с нее можно получить. Взаимоотношения тех, кто вел подобный образ жизни, также постепенно стали выражаться в форме лена. Простой свободный человек утратил свое значение в качестве воина, чью независимость необходимо поддерживать, и, представлял интерес только в качестве рабочей силы для возделывания пахотной или расчистки целинной земли — это был «старый враг леса», har holies feond, как называли его англосаксы. Результатом стала манерная система сельской жизни, autarcie villageoise. Помимо предположений, нам мало что известно об этой жизни, кроме того факта, что она была бесконечно разнообразной.
Несколько больше мы знаем о крупных владениях или иммунитетах, столь характерных для Каролингской эпохи. До наших дней дошли некоторые инвентаризационные отчеты, самый известный из которых относится к аббатству Сен-Жермен-де-Пре, около Парижа, и был составлен аббатом Ирмионом в последние годы жизни Карла Великого. Значительная доля собранных в нем фактов представляла собой подтвержденные клятвой показания местных людей, полученные при допросе. Они дают нам представление об огромном автономном округе, вероятно, все еще превышавшем по размеру 80 000 акров, несмотря на то, что был несколько урезан, с владениями, рассыпанными по всей Франции, чтобы равномерно обеспечивать хозяйство вином, зерном и пр. Эти владения были разбиты на поместья и небольшие крестьянские держания. Аналогичную картину домениальной жизни дают и другие подобные документы, такие как инспекционный отчет, относящийся к королевскому фиску в Аннапе, около Лилля, или к крупным владениям еще более удаленных монастырей, например, Вердена в Руре, или Боббио. На основании семидесяти разделов капитулярия De Villis («О поместьях») Карла Великого мы можем сделать исчерпывающий вывод о структуре каролингского фиска: администрации, обязанностях управляющих имениями, сборе налогов, обработке земли, сохранении лесных и охотничьих угодий, разведении домашних животных. Карл Великий был полон решимости содержать семейные владения в порядке, хотя, подобно другим крупным землевладельцам, он не видел способа удержать своих крестьян от посягательств на домен. Поместья составляли его истинное богатство. Он жил ими точно так же, как прежде него Меровинги, перемещаясь из имения в имение по мере того, как иссякала их продукция и изделия.
По самой своей природе распространившееся повсюду домениальное хозяйство не благоприятствовало торговле с удаленными областями. Историки склоняются к мнению, что это, возможно, было в большей степени связано с так называемой замкнутой экономикой раннего средневековья, чем с перекрытием средиземноморских торговых маршрутов сначала вандалами, а после — мусульманами. Дело в том, что свидетельства об этой блокаде чрезвычайно сложно интерпретировать; фактически их следует использовать исходя из качества, а не количества. Откуда мы можем знать, почему в то или иное время в Западной Европе оказывалось в наличии какое-то количество шелка или специй? Как мы можем быть уверены в том, что арабы когда-либо препятствовали торговле? (На самом деле, существует другое мнение, согласно которому они сделали как раз обратное, вернув в обращение золотые монеты, которые в Византии долгое время оставались без движения в качестве сокровищ.) До поры до времени безопаснее будет сосредоточиться на доступных изучению тенденциях каролингской домениальной экономики, которая могла и действительно обходилась без особенной помощи извне.
Однако внутри западного мира совершались важные деловые операции, имевшие мало отношения к Средиземноморью. Например, вдоль восточных границ процветала торговля оружием, в Подунавье — соляная, а по Рейну (этот последний, как мы уже видели, находился в руках фризов) — экспорт некоторых металлов и тканей. Наконец, наблюдались оживленные коммерческие отношения между франкскими землями с одной и Англией и Скандинавией с другой стороны, причем главными товарами для них являлись шерсть, рыба, меха, янтарь и вино. Каролинги не были безразличны к торговле; они всегда покровительствовали купцам, их денежные реформы — особенно введение серебряного denarius (динария) вместо золотого soldidus (солида) — имели единственную цель облегчения торговых расчетов; но их образ жизни в связи с этим не изменился. Все еще общепринятым оставался натуральный обмен. Наряду с деньгами арендная плата по-прежнему вносилась продукцией или услугами. Цены все так же часто устанавливались в головах скота, в конях или в единицах оружия. И даже тогда, когда особо оговариваются денежные выплаты (как это нередко имеет место), нам всегда приходится довольствоваться тем, что имеются в виду наличные монеты, а не их вес. Ведь, в частности, золото оставалось прежде всего тем, чем и было всегда: сокровищем для накопления. Значит, жизнь на земле в качестве члена самодостаточного сообщества не подразумевала изолированности человека от всего происходящего снаружи или его равнодушия к выгодам торговли.
Таким был социальный фон для событий последних лет жизни Карла Великого. Эти годы не были счастливыми. Старый воин утратил былую силу и довольствовался пребыванием дома в Аахене или его окрестностях. Начались волнения. Лишь в 812 г. он убеждает византийцев признать его титул, хотя умер он раньше, чем стала возможной ратификация мирного договора. Поэтому, строго говоря, его императорский титул так и не получил признания за пределами Рима. Он дважды предпринимал меры для обеспечения престолонаследия. Первый раз в 806 г. он предпринял раздел земель между тремя своими законными сыновьями по древнему франкскому обычаю. Это был опасный момент. Карл Младший как раз собирался нанести свой главный удар по славянам в области Эльбы-Заале; Людовик был занят первыми арабскими набегами на свои аквитанские порты, а Пипин в Италии готовился к нападению на Венецию. Их собственными можно было считать только те территории, за которые они сражались. Император должен был бы оставить каждому из них ту область, с которой он уже солидаризовался в войне и мире. Они должны были быть равными между собой и независимыми, но готовыми совместно и дружественно по отношению друг к другу исполнять некоторые общие обязанности, вроде защиты Римской церкви. Но об империи ничего не говорилось. Императорский титул не был наследственным и должен был умереть вместе с ним.
Карл Младший умер в 811, а Пипин — годом раньше, и, таким образом, сын остался только один — Людовик Аквитанский. Если не считать Италии, которая отходила сыну Пипина Бернарду, право наследования теперь принадлежало одному Людовику. Итак, в сентябре 813 г. Карл Великий разделил свою единоличную власть с сыном и короновал его в присутствии своих высших сановников, сделав его принцем консортом с императорским титулом. В этом не было ничего странного. Обстоятельства резко изменились, и теперь неопасным и благоразумным оказывалось то, о чем в 806 г. было безрассудством и помыслить.
Поэтому, никогда раньше не планируя этого, Карл Великий передал свой титул. Но передать его содержание он не мог. Его Империя была его собственным достижением, которое он завоевал и удерживал ценой больших трудов и силой своего меча. Автор «Песни о Роланде» проявил себя лучшим историком, чем думал сам, когда вложил в уста императора слова «Deus» dist li Reis, «sipenuse est ma vie» («Господи, как тяжела моя жизнь!» — сказал король). В лучший период своей жизни Карлу Великому — грубому, набожному, предприимчивому, полному несравненной энергии — еле удавалось удерживать свои завоевания. Но эта задача стала невыполнимой для него еще до того, как он утратил силы, поскольку Западная Европа стала добычей врагов с юга, востока, да к тому же еще и с севера, которым не смог бы противостоять ни один человек.
Глава 6. Христианская империя
Достижения Карла Великого были одно, а его наследие—другое. Его преемнику досталась пустая казна, продажная и мятежная свита, разваливающаяся империя, пораженная голодом и опустошаемая чумой, в сельских районах которой зачастую единственным законом была кровная месть. За видимостью единства и однородности стояло общество, раздираемое местническими интересами, не способное питать ни национальных, ни тем более имперских устремлений. Единоличная власть Карла Великого покоилась на его контроле над людьми. При желании, мы вправе рассматривать этот контроль в свете централизованной администрации. Мы можем анализировать институты каролингской монархии и назначение missi dominici, графов и представителей низшего уровня и на основании результатов построить некую теорию управления. Но если мы так поступим, нам придется с еще большим удивлением взирать на стремительный распад этой структуры при преемниках Карла и очевидное отсутствие у них — при всех способностях и решительности, которыми большинство из них не было обделено,— озабоченности по поводу того, что происходило прямо у них на глазах. Их и их друзей гораздо больше тревожила утрата идеала Imperium Francorum (Франкской империи), империи, созданной уже не Карлом. Непосредственных авторов этой идеи следует искать в окружении Людовика Благочестивого; а основной политической темой девятого и десятого веков, а значит, и этой главы, является странное упорство этой мечты перед лицом мрачной реальности военных неудач, экономического упадка и социальных перемен.
Людовик Благочестивый с детства жил в своем южном королевстве Аквитания. Возможно, из-за того, что Карл Великий ощутимо ограничивал его власть там, он, похоже, не испытывал сочувствия к отцу и в качестве примера для себя предпочел бы выбрать своего деда Пипина III. Его друзья — особенно Бенедикт Анианский — не были также и друзьями его отца, и фактически отреклись от проводимой им политики на ассамблее в Аахене после 814 года. Они были детьми каролингского ренессанса, по большей части ярыми преобразователями, полагавшими, что старый император сделал достаточно немного, чтобы помочь им осуществить свои устремления. Это были люди, учившие Людовика искать смысл власти не в варварском могуществе Верховного короля, а в христианской universitas (общности), которой он должен править как император. Он носил гордый титул divina ordinante providential /mperator Augustus (Император Август, правящий по божественному провидению). Его подданными были христиане, а не франки или римляне. В официальных документах он именовал себя piissimus (благочестивейший), а неgloriosissimus (славнейший), как его отец, в то время как Ардо, биограф Бенедикта Анианского, называл его императором вселенской Церкви в Европе. В знаменитом письме о разнообразии законов архиепископ Агобард Лионский просил своего господина помнить, что, говоря словами ап. Павла, больше нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа, «ни аквитанца, ни лангобарда, ни бургунда, ни аламанна, ни раба, ни свободного; но все и во всем Христос».
Такова была цель короля, чьи материальные ресурсы были ничтожны, для кого щедрость могла стать опорой его способности внушать преданность лишь в самую последнюю очередь. Однако не стоит думать, что благочестие Людовика и его тяга к обществу монахов-реформаторов полностью отрезало его от жизни его сословия. Его биографы говорят, что он отличался физической силой, был хорошим охотником а, если того требовали обстоятельства, то и воином. Например, он предпринял решительные меры против норманнов, за что ему редко отдают должное. Кажется вероятным, что, кроме того, он был человеком эмоционально неуравновешенным и подверженным приступам страсти, гнева и смирения, поскольку с ним никогда не было легко иметь дело. Врагами он обзаводился быстрее, чем друзьями.
Прошло совсем немного времени, и новый император счел необходимым уделять больше внимания высшим сановникам времен его отца и меньше — своим друзьям-преобразователям. Он нуждался в верной службе — везде, где ее только можно было заполучить; и поэтому оказался между двух стульев. Результатом было разочарование, которое тяготеет над всеми письменными источниками этого периода. Император, призванный объединить христианский Запад, на практике, если не в теории, отринул своих друзей, и божественное возмездие не заставило себя долго ждать. Неверность сыновей, набеги норманнов и сарацин, чума, голод и личное унижение — все понималось именно в этом ключе. Над франками свершился Божий суд, и катастрофа была неизбежной. Следствием стала апатия и безысходность, которые, безусловно, также влияли на политические события.
Идеал христианской империи нашел наилучшее выражение в документе, известном как Ordinatio Imperil (Устройство Империи) от 817 года. Фактически это был план Людовика на будущее. Он не собирался оставлять каждому из своих сыновей равной доли своих владений. Лотарь, старший, должен был получить императорский титул[23] и наибольшую часть территории. Пипину причиталось королевство Аквитания, Тулузская марка и некоторые части Бургундии. Людовику (названному впоследствии «Немецким») отходила Бавария и восточные марки, а Бернард, племянник императора, оставался правителем Италии. Однако все трое обязаны были признать свое подчинение императору Лотарю, ежегодно преподносить ему подарки и не вести войн без его одобрения. Более того, их королевства должны были отойти к нему в случае, если бы они не оставили наследника. Назвать их его наместниками было бы слишком смело, поскольку на самом деле они должны были оставаться независимыми от него, но, разумеется, предполагалось, что они признают его своим христианским сюзереном. Но этот план, автором которого, вероятно, является Бенедикт Анианский и братья Вала и Адалард, ни к чему не привел. Во-первых, Бернард Итальянский счел его унизительным, восстал и был разом лишен королевства и зрения. Его семья была изгнана в северную Францию, где она веками таила злобу на наследников Людовика Благочестивого. Италия досталась Лотарю, и тем самым снова установилась тесная связь между императором и папой. Во-вторых, умерла императрица, и Людовик почти тотчас же женился во второй раз. Его новой женой стала Юдифь, дочь баварского магната, женщина, отличавшаяся красотой и решительностью. Плодом этого брака стал Карл, Известный последующим поколением как «Лысый». Усилия Юдифи обеспечить лучшую часть наследства своему сыну, а его сводных братьев — помешать этому, вылились в возобновление семейной вражды в лучших франкских традициях. В который раз Запад расколола гражданская война. Приверженцы Imperium Christianum, теперь лежавшей в руинах, естественно, взирали на Юдифь как на воплощение зла и особое проявление антихриста; и если, с одной стороны, нам следует всмотреться и сквозь их яростную полемику разглядеть естественные мотивы баварской принцессы, то, с другой стороны, мы должны допустить, что разрушен был, действительно, великий идеал. Между конфликтующими сторонами стоял император Людовик, на какое-то время подпавший под влияние преобразователей, а потом — своей жены и ее соратников. Его престиж, а значит, авторитет его сана, понес непоправимый ущерб, поскольку люди привыкли к мысли о возможности измены и ощутили, что спасение состоит в том, чтобы рассчитывать на самих себя. Это сыграло свою роль в постепенном появлении ряда графских домов, власть которых, каково бы ни было ее происхождение, поддерживалась силой меча, и чья преданность своему господину и королю была до крайности непостоянной.
Однако необходимо подчеркнуть, что такое положение дел не было новым. Отсутствию преданности и расчету на себя в девятом веке придает особую окраску то, что мы видим их на фоне уже не франкского королевства, а христианской империи в проекте. Европейские магнаты не обернулись внезапно подлецами, не было у них и цели уничтожить королевство, как столь часто повторяют историки. Они просто стремились жить без вмешательства в их владения и видеть в короле толкователя законов и естественного лидера государства в военное время. Что они действительно уничтожили, без сомнения ненамеренно, так это мечту монастырских реформаторов.
Немногие из этих графских родов изучены во всех подробностях, мы же можем мимоходом взглянуть по крайней мере на один, великую династию св. Гильома, поскольку ее история в утрированной форме демонстрирует трудности и опасности, поджидавшие земельную аристократию в раннем Средневековье.
Св. Гильом, друг, сосед и родственник Карла Великого, был пожалован в герцога, графа Тулузы и правителя огромной марки, перекинувшейся через Пиренеи на юг, на территорию будущей Каталонии. Пипин не намеревался вмешиваться в его дела в его собственном княжестве и не делал этого. Его братом был Тьерр, граф Отена, а зятем грозный Вала. Его сын, Бернард Септиманский, унаследовал немалую часть его власти, использовал ее для оказания поддержки императрице Юдифи и в результате потерял все, так как был казнен в 844 году под стенами Тулузы. У Бернарда Септиманского осталось двое сыновей. Старший Гильом, граф Бордосский, заявил права на принадлежавшее его отцу графство Барселона и также сложил голову, в то время как младший, Бернард Плантевелю, решил ценой убийства вернуть семье Отен на севере.
Он также унаследовал обширные владения в Лангедоке, Тулузен, Лимузен, Берри и даже графство Овернь, принадлежавшее его тестю. Короче говоря, он пробудил воспоминания о древнем герцогстве, усмиренном Пипином, и предвосхитил средневековых герцогов Аквитании. Итак, при жизни трех поколений одна семья, часто встречаясь с королевским противодействием, установила власть над большей частью юга Франции. Она достигла этого безжалостным предъявлением семейных притязаний и расчетливыми браками, полностью внутри сложившейся веками системы кровной мести и вражды. В этой истории не было бы ничего нового, если не считать того, что представители этой семья происходили не из Аквитании, а из северо-франкских земель. Она была пересажена на юг, чтобы выполнить особую миссию, там она пустила корни, отождествляясь с югом, в то же время не теряя ни одного из своих интересов на севере; перерезая глотки, но одаривая церкви[24], игнорируя, а иногда бросая вызов Каролингам, но никогда не занимая их место и не отрицая их королевской власти.
Людовик Благочестивый не больше других членов своей семьи преуспел в поисках выхода из дилеммы: возможность заботиться о своих доменах или вознаграждение своих сторонников входящими в них землями — и это притом, что надежда вернуть пожалованное на определенных условиях или временно была очень невелика. Еще будучи королем Аквитании, он навлек на себя отцовский гнев чрезмерным великодушием в отчуждении фиска, а в качестве императора он, не колеблясь, отдал в вечное и безусловное пожалование еще большую его часть. Теган, один из его биографов, пишет: «Он был так великодушен... что жаловал своим верным сторонникам королевские домены, которыми владел он сам, его отец и дед, и притом в вечный дар (in possessionem sempi-ternam)». В отличие от Карла Великого, он отказался от того, чтобы раздавать своим вассалам церковные земли; и не умея, а может быть, и не желая увеличить имевшиеся в его распоряжении земли за счет завоеваний, он неизбежно должен был вернуться к меровингской практике отчуждения фиска. Нам несложно распознать последствия такой политики. Труднее предположить, что он еще мог сделать.
В последние годы своей жизни и в период правления его сыновей, в империи Людовика Благочестивого, подвергшейся сначала одному, а потом другому разделу, все более заметными делались те части, из которых она была составлена. Более ярко выраженными становились лингвистические различия. Так, например, родной язык восточных и западных франков очень разными путями развивался в направлении современного немецкого и французского, как можно видеть из клятв, которыми обменялись Карл Лысый и Людовик Немецкий в Страсбурге в феврале 842 г., и которые были сохранены историком Нитхардом в его «Истории сыновей Людовика Благочестивого»[25]. Каждому из королей пришлось говорить на языке подданных другого, и это не вызвало трудностей, поскольку Карл по матери был наполовину баваром, в то время как для чистокровного франка Людовика Бавария являлась оплотом его власти. Однако Каролинги девятого века не рассматривали свои земли как лингвистические общности, и потому их попытки разделить их обращали на язык мало или вовсе никакого внимания. Людовик Немецкий не думал о том, что барьер такого рода может помешать ему вмешиваться в дела западных франков. Причиной враждебности между западными и восточными франками был вовсе не язык, как не могла ею быть разделявшая их река Рейн. Их разобщила политика, особенно создание между ними третьего, или серединного королевства, богатой центральной полосы, тянущейся с севера, от Фризии, на юг, через Лотарингию и Бургундию, до долины реки По.
Текст Верденского договора, которым было установлено это троякое разделение, не сохранился, хотя нам известно, что он был плодом долгих переговоров между воюющими Каролингами летом 843 года. Новое Срединное королевство, земля императора Лотаря[26], не имела ни этнического, ни географического основания. Но только членам комиссии по демаркации было бы сложно справиться со своей работой, если бы их поставили перед фактом необходимости создать Срединное королевство. Для самих франков в этом не было ничего необычного. Они поделили свои земли таким образом, что старшему досталась доля древнего франкского наследия, наряду с его собственным королевством Италия. Это было справедливой компенсацией императору, у которого больше не было надежды навязать своим братьям христианское единство, предусмотренное в 817 году. Франкский мир снова был раздроблен; как отмечали церковные современники, это было достойно сожаления, но также и неизбежно и уж, конечно, не случайно или безнравственно. Каролинги приобрели мир в настоящем ценой бесконечной войны в будущем, поскольку ни восточные, ни западные франки не перестали домогаться богатых земель, теперь лежавших между ними, а когда-то бывших общим достоянием, земель, на которых находились каролингские поместья и Аахен, palatium (дворец) Карла Великого. Древняя вражда Франции и Германии не старше Верденского договора.
Imperium Christianum более не существовала, еще меньше — империя Карла Великого; франкскому миру больше никогда не суждено было знать покоя. И все же у франков по-прежнему была возможность ощущать себя единым целым. В известном письме к византийцам император Людовик II, сын Лотаря, с гордостью высказал это: «В кратких словах, в ответ на ваше замечание, что мы не правим над всей Францией, — мы, на самом деле, правим ею, ибо мы владеем тем же, чем владеют они, которые одной плоти и крови с нами». Византийцы, конечно, были правы; но важно то, что Людовик II защищал себя в таких выражениях. Немаловажна была и скорость, с которой немного времени спустя четыре каролингских правителя, искренне недолюбливавших друг друга, объединили свои силы, чтобы сокрушить не каролингского узурпатора Прованса.
В западной Франции Людовику Благочестивому наследовал (в конечном счете и как императору) его младший сын, которому он дал имя своего отца — Карл. Возможно, Людовик не настолько высоко ставил Карла Великого, чтобы надеяться, что некогда его сын станет править такой же по размеру территорией и в той же манере; но Карл новый не забыл старого, принадлежа к поколению, уже достаточно удаленному от последнего, чтобы верить в золотой век, ушедший вместе с великим императором. Карл Великий стал легендой, практически еще при жизни, но к середине девятого века этот миф развился и процветал. Устав от bella civilia (гражданских войн), люди желали увидеть в новом Карле старого; и поэтому, до некоторой степени, так и делали. Например, монастырь в Санкт-Галлене написал рассказ о Карле Великом для Карла Толстого — племянника Карла Лысого — на основе ходивших о нем тогда историй. Результатом таких взглядов стал век сознательного архаизма. Карл Великий оказался в начале замечательной средневековой карьеры, которой предстояло привести его через chansons de geste (песни о деяниях) и «Pseudo-Turpin Chronicle» (Хроника Псевдо-Турпена) к канонизации антипапой Барбароссы и занятию своего места в ряду Девяти достойнейших людей мира, став ровней Гектору, Александру Македонскому, Цезарю, Цисусу, Давиду, Иуде Маккавею, Готфриду Бульонскому и королю Артуру. Влияние этого мифа на средневековые умы было глубоким и странным, но оно лежит вне сферы интересов данной книги.
Карл, безусловно, придерживался вождийских взглядов на императорскую власть. Короче говоря, он полагал, что если король правит более чем одним королевством или народом, то он в силу этого является императором, если провозглашен им. Англосаксы мыслили в том же направлении и, предположительно, экспортировали это свое мнение, наряду со многими другими, во Францию. Это не лишало коронацию в Риме ее совершенно особенного значения, но несколько видоизменяло ее действие. Таким образом, мы обнаруживаем, что Карл Лысый не всегда довольствовался сидением дома и управлением своими наследственными землями; были и другие народы и места, которыми мог распорядиться франкский король. В конце жизни он, при содействии папы, вознамерился принять императорский титул в Риме; но франкские магнаты не поддержали его, заявляя, что у их короля не может быть дел в Италии, когда распадается его родина.
Желая укрепить свой трон, Карл обращался к разнообразным источникам, а не только к каролингскому преданию. Законодательство представлялось ему необходимой частью королевских обязанностей. Ко времени его правления относится множество капитуляриев; и нельзя исключить, что доля заслуг в собирании и письменной фиксации варварского права, приписываемых Карлу Великому, по праву принадлежит его внуку. Безусловно, за время его долгого правления были написаны некоторые из самых ранних и интересных сводов, дошедших до наших дней. Король (а император еще в большей степени) был законодателем: таковы были традиции Рима, Византии, Ветхого Завета и самих варваров.
Среди советников Карла особое место занимал некий Хинкмар. Он был монахом в Сен-Дени, где увидел Каролингов вблизи и узнал, насколько тесно они связывают свои интересы с интересами этого великого монастыря. Сам Карл был его светским аббатом — то есть его покровителем в миру перед лицом всякого, кто посягнул бы на его обширные владения или привилегии. В настоящее время Хинкмар общепризнан в качестве автора отчасти измышленной истории аббатства при Дагоберте и Хлодвиге II. Используя подручные материалы в библиотеке аббатства (уже тогда историографическом центре Франции), он взялся показать, насколько близкими были отношения короны и аббатства, и это ему удалось. С этого времени он много потрудился на королевской службе, а наградой ему стало епископское кресло в Реймсе. Реймс не утратил своего значения со времен Хлодвига и св. Ремигия. Могло ли быть иначе, коль скоро это княжество протянулось через северную Францию до самого моря, выступая в качестве преграды между Францией и Рейнской областью? Хинкмар усилил его значение за счет своего участия в церемонии возведения на трон, в результате чего в обрядах коронации и помазания возникла связь между Реймсом и короной, а также большая часть самого этого чина. В 869 г. Хинкмар составил для Карла специальный коронационный ordo (порядок) по случаю его коронации в Меце в качестве короля Срединного королевства[27]. Так, постепенно, на основании, заложенном Хинкмаром и его современниками, был построен сложный ритуал. Коронация требовала церемониальных одеяний, оружия и книг, особенно Библии и служебников; и некоторые из них, великолепно украшенные, сохранились со времен раннего Средневековья, чтобы доказать, что их описания, вышедшие из-под пера современных писателей, не слишком далеки от истины.
Карл был могущественным королем, новым Константином, новым Соломоном, новым Феодосием, окруженным всевозможной пышностью, и притягивающим к себе византийское искусство, первые из которых, вероятно, имели своим источником Византию. Каролингам нравилось подражать грекам, которые, в конечном счете, были их близкими соседями по Италии. Многие иллюстрации в каролингских рукописях девятого века выказывают непосредственную зависимость от византийских образцов; церковь в Меце, где состоялось посвящение Карла, гордилась, подобно Риму, своей греческой школой и фактически перевела на греческий версию Laudes Regiae, торжественной литании, в которой западная Церковь возглашает Христа Завоевателем, а с Ним — и Его земных представителей, императоров, королей и священнослужителей, устанавливая связь между ними и их двойниками в небесной иерархии. И снова устремления людей естественно облекались в форму, заданную «О Граде Божьем» бл. Августина.
Но у Хинкмара были и другие основания претендовать на благодарность своего господина[28]. Он взял на себе руководство западно-франкским духовенством и обеспечил его преданность Карлу в период всеобщей ненадежности. Многие высокопоставленные люди не были уверены в том, что один Каролинг не может оказаться лучше другого; а фактически не стоит ли им предпочесть Карлу его брата Людовика Немецкого с его ненасытными аппетитами в отношении Срединного королевства и даже западной Франции. Хинкмар удержал клир в повиновении. Он не потерпел бы вмешательства Людовика и лишь в очень малой степени — папы Николая I, первого со времен Григория Великого, кто безбоязненно утверждал право Рима на толкование политической нравственности. Более того, в старости он написал для юного внука Карла важный трактат, свой Ordine Palatii (Об устройстве дворца). Это был краткий, и, возможно, неточный, обзор того, как, по его мнению, справлялся с делом управления Карл Великий. К нему постоянно обращались глаза всех, и особенно Хинкмара, которому казалось, что все бедствия современности можно относить за счет выхода Каролингов из-под контроля Церкви. В действительности, Хинкмар не знал, как Карл Великий распоряжался своими делами, но любил изображать, что это происходило в строгом соответствии с божественной волей, и что иерархия дворцовых чиновников существовала единственно для того, чтобы, освободившись от мирских забот, он мог предаваться созерцанию божественного. Вот так, облачившись в мантию нового Иезекииля, Хинкмар произнес свое последнее слово.
Из-под пера Хинкмара вышла значительная часть анналов, написанных в Реймсе, и впоследствии известных как «Анналы Сен-Бертена». Важнее всего то, что эта часть стала основанием для претензий Церкви Реймса на звание одной из величайших историографических школ Запада, в число будущих писателей которой суждено было войти таким выдающимся, каждому в своем роде, людям, как Флодоард, Рихер и Герберт. Хинкмару принадлежит третий раздел реймсских анналов, охватывающий годы с 861 по 882. Более ранние части немногословны и беспристрастны, но Хинкмар, будучи государственным деятелем, наделенным бурными чувствами и широкими интересами, вносит в эту работу живость. К тому же он был осведомлен гораздо лучше, чем его предшественники, и использовал все возможности, предоставляемые широкой разветвленностью владений его Церкви по всей Франции. Тем не менее если эти анналы выигрывают в полноте и яркости, то проигрывают в беспристрастности. Хинкмар писал, как человек, страстно желающий защитить свою реймсскую Церковь, и, с более критических позиций, своего господина, западно-франкского короля.
Фульда сделала для востока то же, что Реймс — для запада. Излюбленная обитель св. Бонифация никогда не теряла связи с Каролингами, а когда ветвь этой династии поселилась к востоку от Рейна, именно хронисты Фульды рассказали ее историю в форме анналов. И снова, как и в случае Реймса, эти записи принадлежат не новому народу, внезапно обретшему самосознание, а мощному религиозному сообществу, интересы и источники информации которого были приблизительно соразмерны протяженности его владений. Естественно, клирики Фульды были лучше осведомлены и больше интересовались Людовиком Немецким, чем Карлом Лысым, хотя, с другой стороны, они смогли обеспечить последнему наставника, Валафрида Страбона. Сравнивая эти два собрания анналов, историки иногда могут получить объемную картину, представляющую истинную ценность. Однако монахов Фульды побуждала к ведению этих записей не просто любовь к древностям. Судьба связала их с династией, под сенью которой они выросли и увеличили свои земли и богатства. Чуть ли не до конца девятого века Фульда была единственным германским монастырем, пользовавшимся полной свободой от епархиального контроля (в данном случае, Майнца); и этот режим благоприятствования зависел от неизменности благоволения Каролингов. Крупный иммунист всегда находился под подозрением. Поэтому естественно, что монахи делали для поддержания династии все, что могли. Их наградой был целый ряд высоко ценимых дарственных, иммунных пожалований и их подтверждений; когда же они терпели неудачу, приходилось, как и повсюду (особенно в Сен-Дени), прибегать к подделке. Фульда сфабриковала пожалование ей Карлом Великим одной привилегии и предъявила этот документ его преемникам для подтверждения. В определении поддельных грамот современный знаток дипломатики или палеографии обладает гораздо большими навыками, чем клерк из средневековой канцелярии.
Литературные интересы монахов Фульды этим, разумеется, не ограничивались. Библиотеки крупных германских церквей и монастырей, вроде Лорша, Кельна, Вюрцбурга, Райхенау и Санкт-Галлена, сохранили для нас многое из того, чем мы теперь располагаем из классической литературы; а Фульда была величайшей из них. Ей мы обязаны драгоценными текстами Тацита, Светония, Аммиана, Витрувия и Сервия (благодаря которому средневековые люди узнали своего Вергилия). Возможно, в девятом веке ее самым ярким светилом был аббат Рабан Мавр — «Ворон», которому Алкуин дал имя Мавра, ученика св. Бенедикта,— закончивший свои дни архиепископом Майнца. Рабан был любимым учеником Алкуина, а также наставником выдающихся ученых. Так, традиция Беды и Йоркской школы передавалась дальше от одних к другим. Это была традиция, презиравшая оригинальность и стремившаяся лишь к сохранению и распространению всего лучшего. Так что Рабан довольствовался употреблением своих могучих дарований лишь на толкование и сопоставление. Его преследовал образ разложения цивилизации. Безопасности не было нигде. Он собирал то, что мог, и плодом стала «De Universe», энциклопедия полученных им знаний, основанная на трудах Исидора Севильского. Но он был богословом столько же, сколько и энциклопедистом, и столько же ученым, сколько богословом. О его интересе к языку можно судить по его любви к рунам и шифрам, копировании шестнадцатибуквенного алфавита времен эры викингов (сохранившегося в сентгалленской рукописи девятого века), и его маленькому трактату De Inventione Linguarum (или Litterarum), о котором можно сказать, что он стоит, и не на последнем месте, в ряду еще не вполне оцененных средневековых трудов о языке и литературе, венцом которых является De Vulgari Eloquentia (О народном красноречии) Данте. Иногда, говорит Рабан, родной язык человека требует некоторых объяснений. А затем, Господь питает воронов так же, как и голубей.
Рабан передал свою приверженность традиции Беды своим ученикам, по крайней мере четверо из них пользовались уважением при жизни, как в Фульде, так и вдали от нее. Самым выдающимся из них был Луп Серватий, аббат монастыря Феррьер, и, вероятно, он еще до Иоанна Сольсберийского являет собой самое большее приближение к современному представлению об ученом, возможное в Средние века. Он был гуманистом, собирателем и сопоставителем классических текстов[29], но как и многие другие средневековые ученые он был знаменит не только этим. Например, он пересмотрел толкование Рабана на книгу Чисел, собрал и снабдил иллюстрациями свод варварских законов для герцога Фриули, составил жития святых, написал лучшие письма своего времени, железной рукой управлял своим монастырем, непрестанно борясь за его привилегии против узурпаторов, и принимал большое участие в общественной жизни при западно-франкском дворе, в его собраниях и синодах, и даже на поле битвы; поскольку в 844 г. он лично привел в армию отряд монастыря Феррьер и был посажен в тюрьму, будучи, как он сообщает, плохим солдатом. Но как аббат, так и епископ мог бы поплатиться жизнью, если бы не привел свой отряд по требованию короля. Такой образ жизни не позволял современникам думать о клире и мирянах как об отдельных сословиях. Их кругозор был очень ограничен.
Социально-политические процессы локализации и разобщения, которых мы уже касались, значительно ускорились под тройным натиском с севера, юга и востока, которому подверглась Европа в девятом и десятом веках. Иногда эти атаки были одновременными; а преувеличенное представление о том, что так оно и должно было быть, заставляло некоторых, особенно в римской курии, рассматривать Европу, как осажденный гарнизон, единственная надежда которого заключается в единстве. Но истина состоит в том, что большинство людей не видело ситуацию в таком свете и считало, что европейское единство — это надуманный идеал, напоминающий предшествующий ему идеал Христианской Империи.
Нападения со стороны Скандинавии до сих пор не получили адекватного толкования.
Нехватка земли, рост населения[30], недовольство усилением королевской власти, и естественная страсть к грабежу и приключениям — все это выдвигается в качестве причин сравнительно неожиданного, но доказанного, вторжения скандинавов в европейские воды. Шведы выбрали балтийское направление, а затем на своих баркасах проникли вверх по германским и русским рекам. Из их торгового форпоста в Киеве им уже оказывалось рукой подать до самой Византии. Норвежцы орудовали по огромной дуге вокруг Шотландии и Ирландии до Фарерских островов, Исландии и далее. Даны распределили свои притязания между англосаксонской Англией и континентом (Фризия, Франция, Испания и западное Средиземноморье).
По мере того как войска и миссии ранних Каролингов продвигались на север во Фризию, контакты с датским миром, лежавшим за ней, оказывались в порядке вещей. Было невозможно контролировать фризскую торговлю и обращать души фризов, не поставив данов в известность о том, что ничейная земля стремительно превращается в приграничную. Когда Карл Великий в конце концов покорил саксов, соседей фризов, возникла еще более недвусмысленная опасность. Где должно было остановиться продвижение франкского оружия и франкского христианства? Один великий миссионер, св. Ансхарий из Корби (Житие которого, написанное его преемником Римбертом, является важным источником для девятого века), основал епархию Гамбургско-Бре-менскую и оттуда проник в Швецию. Еще важнее то, что Каролинги, по-видимому, ограничили морское могущество фризов, так что когда даны продвинулись на юг, они обнаружили, что являются хозяевами во франкских и фризских водах без необходимости отстаивать свое главенство. Удивительно то, что, узнав об отсутствии на море препятствий со стороны франков и англосаксов, даны так долго медлили, прежде чем сделать свою власть по- настоящему ощутимой.
Это не значит, что франки не знали о грозящей им опасности. И Карл Великий, и Людовик Благочестивый делали все, что могли, для организации береговой охраны в устьях рек и на подходах к гаваням. Но береговая линия была огромной, и ладьи всегда могли отыскать отмель или бухту. Второй метод обороны заключался в том, чтобы посеять вражду между вождями данов; в этом, как о том свидетельствуют франкские анналы, особенно преуспел Людовик. Настоящая буря разразилась в годы, последовавшие за смертью Людовика. Именно тогда высадились и надолго закрепились огромные полчища, организовав грабительские набеги далеко вглубь Европы. Они жаждали добычи и грабежа, и нашли искомое в монастырях каролингского возрождения; и если картину последовавшего опустошения в принципе возможно было преувеличить, то не удивительно, что монастырские scriptoria (скриптории) позволяли себе некоторые вольности в этом направлении. Язычники-викинги часто были готовы потребовать того, что им было нужно, а потом двинуться дальше; но если общины сопротивлялись или обманывали их, следствием был грабеж и пожар. К концу девятого века импульс этих нападений был, по-видимому, исчерпан, и в целом набеги становятся меньшими по размаху. Как утверждают, тот факт, что предводители без какой либо особой цели рыскали в поисках сокровищ, для того только, чтобы, вернувшись, подорвать сложившуюся систему васальной зависимости, шел вразрез с интересами сильной датской монархии. Однако с последовавшим падением монархии викинги продолжили свои операции, хотя в их действиях стала просматриваться тенденция превращения последних из пиратов, так же стремительно исчезающих, как и появляющихся, в искателей земель для колонизации.
Возможно, что нужда в землях для колонизации, так или иначе, присутствовала всегда. Как говорит один историк, это были люди, благоразумно посвятившие себя завоеванию земель за границей. Людовик Благочестивый, например, предоставлял северные земли данам-изгнанникам. Им недоставало умения управлять и обустраивать государства, но они были здравомыслящими деловыми партнерами и хорошими земледельцами. Поселение очень скоро оказывалось спаянным внутренними браками, обращением в христианство и торговыми отношениями. В Ирландии скандинавские мародеры сравнительно быстро были приняты как часть общества и были одинаково успешны и в качестве земледельцев, и как торговцы или рыбаки. В северо-франкских речных поселениях у них, похоже, были более постоянные интересы, чем просто грабеж. Например, их участие в северофранкской торговле вином не ограничивалось захватом вина для собственного употребления, хотя они и любили попойки. Кроме этого, они умели контролировать движение по рекам в порты, откуда вино вывозилось за границу (например, в Англию), и получать немалую выгоду от взимания пошлин. Не будет преувеличением сказать, что эта приспособляемость и способность извлекать выгоду из любых обстоятельств побудила некоторых франков поладить с пришельцами, поскольку при случае они могли оказаться хорошими землевладельцами, и отказываться от благоприятных условий, когда их предлагают, было бы безрассудно. И снова крайняя разобщенность франкского общества, а значит, и настроений в нем, сделала немыслимым, чтобы каждый оказавшийся в опасности землевладелец поставил государственные или даже королевские интересы выше собственных. У него не хватало средств для сопротивления викингам, разве что для отражения мимолетных набегов, и он знал, что помощь сверху никогда не сможет прибыть вовремя. И потому, когда мог, он собирал вокруг себя своих людей и объединялся с соседями, чтобы оборонить свои поместья, а когда это было невозможно — договаривался с врагом. Прежде всего он был предан своему ближайшему окружению, и эта верность никогда не нарушалась[31].
Каролинги также были владельцами значительных поместий, от которых они получали немаловажную часть своих доходов. Эти поместья были в опасности точно так же, как и владения других людей, и потому не удивительно, что королевская династия отвечала на общую угрозу во многом схоже с семействами более низкого ранга. Почти все без исключения поздние Каролинги были готовы сражаться с викингами при первой возможности. В пример можно привести Людовика Благочестивого, Карла Лысого и Людовика III (879-882 гг., победителя в битве при Сокуре). Карл Толстый обычно считается несчастным исключением, поскольку ему не удалось снять осаду викингов с Парижа, и он умер, потеряв все имущество, свергнутый своими восточногерманскими сторонниками. Однако эта неудача имела место в самом конце его жизни и вполне могла быть следствием слабости здоровья, а не недостатка мужества. Карл Простоватый, который в 911 г. договорился с предводителем датчан Роллоном об уступке ему на определенных условиях значительной земельной области (ядро современной Нормандии) для постоянного жительства, действовал так не из малодушия. Он был выдающимся воином, но осознавал, что там, где недостаточно средств для борьбы, мудрее проявить радушие[32].
Каролинги сражались с викингами, когда только могли. Но настоящей защиты от непрестанных вооруженных нападений с моря не существовало. Армия государства, которая собиралась лишь время от времени, могла отразить крупную угрозу. У побед фирдов Альфреда в Англии были свои двойники во Франции; на самом деле франкские и английские короли ясно видели, что датская угроза была общей для обоих берегов Ла-Манша и учились друг у друга каким-то методам обороны, а также тому, как добиться верности от своих подданных. Но когда угроза была рассредоточенной, короли мало что могли поделать. Тогда бремя обороны и выбора между битвой и капитуляцией ложилось на плечи людей на местах. Некоторые, например, род Робертинов на севере — которым однажды суждено было стать Капетингами — сражались как настоящие лорды, чьи владения находились на границах. Другие этого не делали. А в иные времена ничего не оставалось, кроме как откупиться от нападающих данью. То есть реакция франков на викингов оказывается довольно неоднозначной. Каролинги не считали себя естественными спасителями любой части Франции, которая подвергалась нападению; магнаты не находили, что верность, безусловно, требует от них борьбы с викингами до последней капли крови, а уплата дани не всегда была знаком безнадежной капитуляции; и все, включая королей, иногда были готовы погрузиться в свои вендетты вместо того, чтобы объединиться против общего врага. Вправе ли мы винить их за то, что они видели результат менее ясно, чем мы, как и за то, что им не удавалось жить в соответствии с идеалом, поставленным перед ними Церковью?
Со стороны Средиземноморья на Европу нападали сарацины, под именем которых современники знали арабов, берберов и мавров, завоевателей Египта, римской Африки и Испании. Каролинги оттеснили их к югу от Пиренеев и создали огромное княжество-марку для защиты южных подступов к Франции. Но после смерти Карла Великого опасность грозила уже не из Испании. Экспедиции, разграблявшие прибрежную полосу Прованса и Италии, направлялись из эмирата в Тунис. Длинная и ожесточенная война привела к захвату византийской Сицилии (Таормина держалась до 902 г.), и южная Италия была открыта для вторжений. Героем франкского сопротивления стал император Людовик II, сын Лотаря. Он провел большую часть своей жизни в борьбе с сарацинами в Италии, иногда с помощью Византии. Но, как и в северных водах, береговая линия была слишком протяженной для обороны от морских сил, которые могли нанести удар в любом месте и, более того, рассчитывать на местных предателей. Очень многое зависело от решимости местного населения не сдаваться.
Неаполь, Гаэта и Амальфи организовали совместную оборону, увенчавшуюся успехом, в то время как Рим оказался менее удачливым. Но перед смертью в 875 г. Людовик II смог гарантировать Италии, что она не станет второй сарацинской провинцией вроде Испании. Сарацинское влияние и сарацинские общины оставались важным фактором итальянской жизни, но они не определяли ее.
Сарацинские нападения на побережье Прованса и далеко вглубь страны были проблемой, на которую Людовику Благочестивому пришлось обратить внимание еще в будущность королем Аквитании. Самым печально известным оплотом сарацин был Фраксинет (теперь Сен- Тропез). Поколения грабителей выходили оттуда, чтобы громить монастыри и подстерегать путников. Только тогда, когда им удалось захватить и в ожидании выкупа удерживать как заложника великого аббата монастыря Клюни, св. Майоля, поднялось достаточно сильное негодование, чтобы привести к их истреблению. Стойкого эффекта подобными акциями добиться сложно. - С одной стороны, некоторые историки заходят слишком далеко, наделяя сарацин строительным гением (например, ирригационная система в Брианконне), а с другой есть и такие, которые слишком буквально понимают монастырские истории о разорении и кровопролитии. Как и даны, сарацины, наверное, не были сознательными разрушителями в широких масштабах, да и не всегда встречали враждебный прием. Бывали случаи, когда южные магнаты или общины приглашали сарацин участвовать в своих вендеттах. Более того, если сарацины и отклонялись от прямого пути и ставили под угрозу средиземноморскую торговлю с отдаленными странами (а это непросто доказать в подробностях), то они также разрушили несколько замкнутую экономику франкского мира своими закупками северных товаров, например, рабов, мехов, металлов, оружия и леса. За них сарацины платили золотом, а оно, в свою очередь, использовалось на поддержание европейской торговли с Византией. Было бы слишком смело утверждать, что сарацинское золото финансировало каролингский и оттонский ренессанс, но оно, скорее всего, оживило экономику севера. Впервые Восток, Средиземноморье и Север были связаны и поддерживались единой денежной системой, и это продолжалось до тех пор, пока существовала исламская гегемония, то есть до одиннадцатого века.
Третий разряд завоевателей, славяне и венгры, прибыли на запад не морем, а сушей с равнин Восточной и Центральной Европы. Карл, старший сын Карла Великого, всю свою жизнь посвятил борьбе с ними там, где сейчас расположена центральная Германия, а в свое время его дело унаследовал Людовик Немецкий. Однако славян необходимо отличать от венгров, или мадьяров. Их княжества превосходили размером всю германскую восточную марку. Иногда они вдавались в германскую территорию, но чаще германцы вторгались на земли славян, взимая тяжкую дань, захватывая рабов[33], создавая собственные поселения и распространяя христианство через ряд приграничных миссионерских епархий, призванных бороться за души славян, особенно в княжестве Моравия, с миссионерскими усилиями Византии. Это было одно из проявлений византийского влияния, которое в этот период ощущалось по всему Западу. Ученые все больше приходят к мнению, что верность Восточному Риму в западном Средиземноморье никогда не умирала, и что немаловажное значение имело не только его культурное влияние, но и политическое. Должно быть, временами казалось, что западная реконкиста на манер Юстиниановой неизбежна, особенно в период совместных действий франков и византийцев против «мусульман» в Италии. Религиозные расхождения между Востоком и Западом не были глубокими и никогда не считались непреодолимыми. Равновесие между германцами и славянами было насильственно разрушено прибытием кочевников-венгров. Будучи тюрко-монголами — и, тем самым, родичами гуннов и аваров,— венгры за шестьдесят лет прошли по всей Европе. Взирая на этих новых завоевателей, разграбляющих Запад, как им угодно, современники вспоминали орды Аттилы. Они держали в страхе Италию, Францию и Германию. Как и в случае с данами и сарацинами эффект этих набегов, возможно, преувеличен. Но венгры, наверное, были самыми жестокими из всех, и, конечно, внушали своим жертвам величайший ужас. По крайней мере они оставляли после себя малонаселенные и потому необрабатываемые земли. А значит, тем более их падение, когда оно произошло, было воспринято как освобождение.
Династия восточных Каролингов, была не более своих западных родственников убеждена в том, что обязана защищать всю христианскую Европу; но растущий натиск с Востока вынудил их создать ряд военных подразделений, способных обезопасить ограниченную территорию без дальнейшего вмешательства королей. Одним из них было герцогство в восточной Саксонии, а командование им было поручено семье Лиудольфингов (позже Отгонов). Каким бы временным ни было первоначально это назначение, род скоро отождествился с местными интересами и защищал Саксонию не только по соображениям верности франкской короне. Утверждается, что если бы в 911 г. дому Каролингов не пришел конец, в Саксонии и других германских герцогствах, возможно, никогда бы не развились сепаратистские интересы. Но этот взгляд, скорее всего, преувеличивает объем власти Каролингов к востоку от Рейна и обращает слишком мало внимания на племенные традиции Швабии, Баварии, Франконии и Саксонии. Даже если мы согласимся с тем, что герцоги были чиновниками, они все-таки правили территориями, сохранявшими некоторую связь с древним племенным делением, для упразднения которого Церковь приложила мало усилий. Объединение Германии не было неизбежным процессом, и замедляли его отнюдь не одни только династические неурядицы.
Саксонская династия, пришедшая на смену восточным Каролингам в 919 г., сделала центром своей власти Франконию. Стать королем к востоку от Рейна значило стать франком. Только так новая династия могла заручиться помощью германских церквей, навечно сохранивших память о Карле Великом как покровителе и благодетеле. Саксы (или Отгоны) всегда сознавали, что являются наследниками Карла Великого, и их официальные документы отражают их стремление как можно больше походить на Каролингов, особенно когда они преследуют свои интересы в древнем каролингском Срединном королевстве. Неизменно каролингским оставался сложный ритуал коронации. Но Отгоны были больше, чем просто бледным отражением своих предшественников. Они спасли Запад от венгров.
История этого военного подвига лучше всего рассказана в произведениях Видукинда, монаха из Корвея, германского филиала франкского монастыря Корби. Книга Видукинда может с уверенностью быть названа «Деяния саксов». Эго исполненное гордости повествование сакса, народ которого достиг величия чуть более чем за век. Из непримиримых врагов Карла Великого и христианства они превратились в спасителей франков, и, косвенно, Рима. Видукинд был автором в равной мере утонченным и убедительным. Он был хорошо знаком с историческими трудами античности и знал, как максимально облагородить свою историю. К тому же он мог опираться на кое-какие крайне интересные материалы. Они включали героические эпосы и саги из арсенала германских бардов, певцов и рассказчиков, которых любезно принимали в замке любого воина, как, например, Бернельфа, который, согласно «Vita Liudgeri» («Житию Лиудгера»), пользовался большой любовью, будучи хорошим оратором, искусным в рассказах о подвигах давних времен и бигвах королей, о которых учтиво (поп inurbane) пел под аккомпанемент своей арфы. Результатом стала история, которой по праву принадлежит место в избранном обществе Беды, Иордана, Исидора и Григория Турского, поскольку «Res Gestae» повествует о вхождении в западный мир и продвижении к власти в рамках этого мира еще одного варварского народа. И снова автором является христианин и монах по призванию; но он полон любви к своему народу — народу благородных воителей, князей Саксонии, и королевскому дому, благородством превосходящему всех. Видукинд — историк народа, а не династии.
Отгоны, какими они предстают в «Res Gestae», предводительствуют народом воителей в борьбе против восточных орд. Сначала Генрих Птицелов, а затем Отгон I с его великой победой при Лехфельде заявили о себе как о чем-то большем, нежели просто король. Они были воинами, силой оружия правившими многими народами. Это были Bretwealdas, императоры, или им подошел бы любой другой титул, выражающий верховенство. Они господствовали не только над германцами, но также и жителями Востока — венграми и славянами. Мы знаем, что амбиции Отгона I простирались на весь славянский мир, и при поддержке папы его столица Магдебург должна была сделать для Центральной Европы то же, что Майнц и Фульда — для каролингской Германии. Даже жители Киевской Руси видели в нем возможный противовес Византии и просили его прислать им епископа. Таким образом, славянские земли не были препятствием для политического и торгового сообщения между Киевом и Западной Европой.
Возможно, задним числом Видукинд посвятил свою саксонскую историю Матильде, дочери Отгона 1. Она была аббатисой Кведлинбурга в горах Гарца, средоточии власти Отгонов. Но из этого не следует, что автор был тесно связан с династией, или что его история была, в каком- то смысле, официальной. Отгоны также были саксами, но не только ими. Они завоевали известность как защитники Восточной Марки, но они были еще и королями франков, что, независимо от своего желания, вовлекало их в политику южной Европы. Традиционные интересы южных герцогств (Швабии и Баварии) в Ломбардии привлекли Отгонов к итальянской политике и, тем самым, к Риму. Ради благополучия центральной полосы (Лотарингии и Бургундии) они были готовы воевать с западными франками, и даже назначить одного из способнейших представителей династии, архиепископа Бруно, в Кельн, епархию, откуда он мог осуществлять надзор за Лотарингией. Отгоны были хозяевами Запада и господами Рима. Простой народ признавал их Римскими императорами, а короновали их папы, которых они сами выбирали[34]; и там они попадали в сферу влияния византийской цивилизации, форпостом которой по-прежнему оставалась Италия. Отгон III, сын одной византийской принцессы и несостоявшийся муж другой, в течение своего краткосрочного правления показал, что варвары остались падкими на все римское. Обвинять его в предательстве истинных интересов Германии и рассматривать тягу Отгонов к Риму и Италии как чудовищное отклонение — это бесполезная грата времени, и потому что он прожил недостаточно долго, чтобы у нас появилась возможность дать настоящую оценку его политике, и потому что при жизни он не выглядел гак, как будто жертвовал германскими интересами ради итальянских. Если бы эго было осуществимо, германцы переместились бы в орбиту Рима, от отсталой цивилизации к высокоразвитой. Мы не можем определить удовлетворительным образом, какой смысл вкладывали Отгоны в свой римский титул, но мы можем быть уверены, что приняли они его с целью повысить имевшийся у них германский. Их империя не была продолжением Imperiutn Christianum (Христианская империя) Людовика Благочестивого; ранние средневековые империи были личными владениями, которые не могли быть переданы по наследству; но для выражения своей власти они использовали старые слова, полные значения. На печати Отгона было написано: Renovatio imperilRomanorum. Это не было пустой мечтой; он и его советники были практичными людьми. Они обозначали этим свое намерение не просто восстановить порядок и управляемость в своем расколотом распрями мире, а сделать это соответственно определенному образцу. Их взгляд на историю, возможно, был неверен, но в итоге современники не считали эту фразу бессмысленной. Не исключено, что если бы Отгон прожил дольше, он бы вернул императорскому титулу законодательные функции; ведь Рим был обителью права, гражданского и канонического. Его ранняя смерть затормозила этот процесс. Ему не хватило времени, чтобы оставить больше указаний на го, что он надеялся восстановить, и почему, будучи саксом, он желал связать себя с римской традицией.
Этот краткий обзор Западной Европы в борьбе с ее последними варварскими завоевателями позволяет нам прийти к некоторым предварительным выводам по поводу путей, по которым она развивалась со времени распада пост-классической Империи.
В первую очередь, усилился процесс социального обособления, который был столь выраженной чертой поздней Империи. Люди все больше стремились к обустройству своей жизни на местном уровне; объединялись ради безопасности и желали иметь своим сеньором местного магната, способного мобилизовать их для самообороны и отправлять над ними правосудие; питались и одевались за счет плодов своей собственной земли; рассматривали отношения со своим покровителем и благодетелем с точки зрения контракта на базе земельного держания, который мог возобновляться из поколения в поколение. Таким образом, появилось то, что историки называют феодальным обществом, хотя фактически его разновидности настолько бесконечны, что чуть ли не лишают этот термин смысла. Римский собственник, обрабатывавший свою виллу в четвертом веке, нашел бы много точек соприкосновения с поместным лордом, обрабатывавшим ту же самую землю в десятом веке может быть, больше, чем тот же лорд со своим современником на другом конце Европы. Иначе отразить эту перемену можно, сказав, что старая варварская родственная связь уступила место узам вассальных отношений, хотя и здесь снова мы сталкиваемся с достаточным количеством исключений, чтобы подвергнуть сомнению правомерность своего вывода.
Во-вторых, образовались государства средневековой Европы. Больше не было сомнений в том, что, невзирая на Империю и папство, Франция, Германия, Италия, Испания, Скандинавия и Англия идут разными путями, говорят на разных языках и толкуют прошлое в разном ключе. Из этого не следует, что они непременно ожидали, что править ими будут местные династии, ведь, как и любое другое владение, корона могла быть передана дальним родственникам, или потребована ими. Королевская власть утратила нечто от своего древнего престижа, поскольку для короля десятого века ни варварское военное руководство, ни римское законодательство уже не было основным занятием. Его обязанностью была защита совокупности земель и прав, включавшей его непосредственные владения вне обширных иммунитетных территорий его королевства, и передача ее в целости и сохранности своему наследнику. Политические горизонты сократились, хотя никто и не помышлял о том, чтобы обойтись без короля. Нет лжи чернее, чем изображение раннесредневековой королевской власти и аристократии в виде принципиально противоположных сил. В десятом веке королевская власть была скорее ограничена, чем ослаблена. Средневековому человеку слабость была ни к чему, и, конечно же, слабые короли были ему нужны ничуть не больше. Что же тогда осталось от королевской власти? Приблизительное представление о ней можно получить, изучив судьбу западно-франкской монархии после случайной смерти в 987 г. Людовика V. Он был молодым человеком и не оставил наследника. Его ближайшим родственником-Каролингом был дядя, Карл Лотарингский, человек, претензии которого не получили значительной поддержки со стороны франков, которым он не нравился; а кроме того, Отгоны, желавшие подчинить Лотарингию вассальной зависимости, с нетерпением ждали конца энергичной западно-франкской линии.
Новым королем стал Гуго Капет, сильнейший из северных магнатов. Его семье уже случалось на непродолжительное время надевать корону, и он пользовался поддержкой Церкви (особенно в Реймсе). Но, в действительности, сила его была незначительной, а магнаты — фактически независимыми, и шансов на осуществление амбиций Каролингов в Лотарингии у него было немного. Тем не менее он был королем, и королем желанным. Он был верховным сюзереном своих вельмож; они являлись его вассалами, с ним их связывала клятва, которую ни один не осмеливался разорвать. Историк Рихер сохранил текст торжественной присяги, которую в 989 г. принес королю архиепископ Арнульф Реймсский. Более того, он был Помазанником Божиим, который не принадлежал ни к мирянам, ни к священникам, но стоял между ними и выше и тех, и других. Он был главой французской Церкви в более буквальном смысле, чем Генрих VIII в Англии, поскольку Церковь и Государство составляли единое целое. Сердцем его царства был его двор, curia regis. Там он вершил суд над своими вельможами (они более нигде не могли рассчитывать на правосудие), и там же они могли добиваться почестей и продвижения по службе. Если спросить, насколько глубоко проникало это уважение к короне по отношению к сословию магнатов, то есть родственников и близких короля, то дать прямой ответ невозможно; поскольку на этот счет нет свидетельств. Но ясно по крайней мере то, что предания о Каролингах продолжали свое существование в мелких религиозных общинах по всей Франции и оттуда в форме эпических песен и сказаний распространялись через соседние баронские дворы. Таков социальный фон «Песни о Роланде», величественного эпоса одиннадцатого века, отразившего стремление Капетингов и магнатов подражать Каролингам. Другими словами, ранним Капетингам удалось убедить своих подданных в том, что их приход к власти не был насильственным; они были не новой династией, а продолжателями чего-то более древнего[35]. Таким образом, Гуго Капет не был ни неудачником, ни слабаком. Его curia была судом для его государства; в государственных и личных документах его подданные вели летоисчисление от года его воцарения; он принимал клятвы в верности, а не приносил их; он был главой национальной Церкви (хотя и не всех церквей, входивших в нее); и он мог отстаивать собственные интересы перед лицом Оттонов, хотя и был им обязан. Административная унификация и централизация Франции не находились в числе его целей. Он и его современники стоят ближе к Карлу Великому, чем к Филиппу Августу.
У нас есть основания полагать, что десятый век был временем стремительных социальных и политических перемен. Современники смотрели на это иначе, хотя многие из них, и правда, думали, что подходит к концу некая эпоха. То, что для нас выглядит как проблема перехода, представлялось им преддверием неминуемого конца мира и прихода антихриста. Пессимизм и даже безнадежность не прекращались со времен крушения Imperium Christianum (Христианской империи); они сквозят во многих произведениях и необязательно связаны с мистическим 1000 годом. Возникновение повсеместно новых церквей и энергичная преобразовательная деятельность крупных монастырских центров, вроде Клюни, самим действующим лицам не казались провозвестием новой эпохи. Апокалиптическое мировоззрение Григория Великого все еще жило. Как такое было возможно в обществе, в котором по-прежнему царили законы кровной мести? В поисках успокоения люди обращались к героическому прошлому, которое все еще много значило, потому что не было далеким, а миграции еще не были закончены. Подлинную картину средневекового общества одиннадцатого века невозможно вообразить без последнего крупного норманнского прорыва в Англию и в Средиземноморье. На протяжении всего периода, охватываемого этим очерком, исторические интересы и образный фон в Западной Европе не меняются существенным образом. Именно поэтому ему присуще единство.
Вот почему, как в начале, так и в конце, нас не перестает удивлять разительный контраст — раннесредневековые люди могли жить, как варвары, но при этом считать себя римлянами.
Библиография
Общие исследования
Две крупные книги, охватывающие весь период: Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, ред. J. B. Bury, в 7 т., London, 1909; и James Bryce, The Holy Roman Empire, London, 1906. Как и большинство классиков, обе изобилуют противоречиями. Более лаконичны и современны: Н. St. L. В. Moss, The Birth of the Middle Ages, 395-814, Oxford, 1935 (компактность и беспристрастный подход); Christopher Dawson, The Making of Europe, London, 1932; C. Delisle Burns, The First Europe, London, 1947 (множество ошибок, но подход свеж и привлекателен); и F. Lot, С. Pfistern F. L. Ganshof, Les Destinees dc 1'Empirc en Occident, de 395 a 888, 2-е изд., 2 т., Paris, 1940 (прекрасное сокращение). Дополнительные базовые сведения можно получить из некоторых глав в: The Cambridge Ancient History, т. XII, 1939, и The Cambridge Medieval History, т. I (1924) и II (1936), а также A. Fliche и V. Martin, Histoire de 1'Eglise, тт. с III no VII включительно (тома разных авторов).
Специальные исследования
Литература и искусство.
Работы крупных ученых: Н. М. Chadwick, The Heroic Age, Cambridge, 1912; W. P. Ker, The Dark Ages, Edinburgh, 1923; W. Levison, England and the Continent in the Eighth Century, Oxford, 1946 и Р. VinogradofF, Roman Law in Medieval Europe, под ред. F. de Zulueta, Oxford, 1929. Доступны также: Е. К. Rand, Founders of the Middle Ages, Harvard, 1928; M. L. W. Laistner, Thought and Letters in Western Europe A. D. 500 to 900, London, 1931; С. N. Cochrane, Christianity and Classical Culture, Oxford, 1940; R. Hinks, Carolingian Art, London 1935; P. Courcelle, Histoire Litteraire des Grandes Invasions Germaniques, Paris, 1948; и S. Duckett, Alcuin, Friend of Charlemagne, New York, 1951. E.
Экономика и общество.
The Cambridge Economic History, т. 1,1942, посвящена сельскохозяйственной жизни; т. 2, 1952 касается торговли и производства. A. Dopsch, The Economic and Social Foundations of European Civilization, London, 1937, важна, но преувеличивает преемственность между имперской и варварской жизнью; Н. Pirenne, Mohammed and Charlemagne, London, 1939, заявляет, несколько слишком настойчиво, что каролингское общество развивалось в ином направлении, нежели меровингское, будучи отрезано арабами от Средиземноморья. Marc Bloch, La Societe Feodale, 2 т., Paris, 1939, наиболее важные из современных выводов о складывании средневекового общества. F. W. Wal-bank, The Decline of the Roman Empire in the West, London, 1946, понятная и полезная работа, хотя и приходит к выводам, приемлемым не для всех.
Политика.
Блестящая вводная работа: F. Lot, La Fin du Monde Antique et le Debut du Moyen Age, переизд. Paris 1951; A. M. Jones, Constantine and the Conversion of Europe, London, 1948 — информативно и уравновешенно; G. Barraclough, The Origins of Modern Germany, 2-е изд., Oxford, 1947, живое изложение результатов современных германских исследований; Т. Hodgkin, Italy and her Invaders, 2-е изд., Oxford, 1892, до сих пор единственное англоязычное Исследование по средневековой Италии; F M. Stenton, Anglo-Saxon England, 2-е изд., Oxford, 1947, рассматривает англосаксов как часть Европы; Е. Salin, La Civilisation Merovingienne, т. I, Paris, 1950, незаменимое исследование по Меровингам с особым вниманием к археологическим свидетельствам; L. Halphen, Charlemagne et 1'Empire Carolingien-, Paris, 1947, лучшая из всех книг о Каролингах на любом языке; J. Calmette, L'Effrondrement d'un Empire et la Naissance d'une Europe, Paris, 1941, одна из очень немногих работ, посвященных концу этого периода; J. В. Trend, The Civilization of Spain, Oxford, 1944, в коротком обзоре посвящает несколько превосходных страниц этому периоду, снабжая их библиографией; F. Dvornik, The Making of Central and Eastern Europe, London, 1949, важна для понимания связей славян с Западом; G. Turville-Petre, The Heroic Age of Scandinavia, London. 1951; единственная в своем роде книга; Т. D. Kendrick, A History of the Vikings, London, 1930, полезное введение, написанное ученым, первой специальностью которого является археология; и по поводу взаимодействия латинской и византийской мысли нет ничего лучше двух лекций: N. В. Baynes, The Hellenistic Civilization and East Rome, Oxford, 1946, и The Thought World of East Rome, Oxford, 1947.
Дополнительная литература (дополнение 1961 года).
М. Deanesty, A History of Early Medieval Europe, 476 to 911, London, 1957 — по-настоящему хороший учебник; E. R. Curtius, European Literature and the Latin Middle Ages, London, 1952 — захватывающий обзор; E. Stein, Histoire du Bas-Empire, т. 2 (476—565), Paris, 1949, бесценна в том, что касается Юстиниана; и P. Riche, Les Invasions Barbares, Paris, 1953, полезная небольшая книга. Относительно Церкви см.: М. L. W. Laistner, Christianity and Pagan Culture in the Later Roman Empire, New York, 1951; первая часть Т. М. Parker, Christianity and the State in the Light of History, London, 1955; W. Ullmann, The Growth of Papal Government in the Middle Ages, London, 1955; и R. Folz, L'ldee d'Empire an Occident du Ve au XIVе Siecle, Paris, 1953. E. Levy, West Roman Vulgar Law, Philadelphia, 1951, открывает новое поле для исследования. В социологической и экономической сфере см.: R. Latouche, Les Origines de 1'economie occi-dentale, Paris, 1957; A. R. Lewis, Naval Power and Trade in the Mediterranean, A. D. 500-1100, Princeton, 1951; C. Verlinden, L'Esclavage dans L'Europe Medievale, т. I (Испания-Франция), Bruges, 1955; и F. L. Ganshof, Feudalism (пер. Р. Grierson), London, 1952. E. A. Thompson, A History of Attila and the Huns, Oxford, 1948, очень талантливо. По поводу Африки: W. Н. С. Frend, The Donatist Church, Oxford 1952; С. Courtois, Les Vandales et 1'Afrique, Paris, 1955; и того же автора: Victor de Vita et son oeuvre, Algiers, 1954. Nora K. Chadwick, Poetry and Letters in Early Chri-sitan Gaul, London 1955, является хорошим введением; С. Verlinden, Les Origines de la Frontiere Linguistique en Belgique et la Colonisation Franque, Brussels, 1955, это доброкачественный обзор большой проблемы; G. W. Greenaway, Saunt Boniface, London, научный очерк. P. Goubert, Byzance avant I'lslam, 2 т., Paris, касается франко-византийских отношений. Первая часть J. М. Wallace-Hadrill и J. McManners (ред.), France, Government and Society, London, 1957, может представлять интерес, а также: О. Chadwick, John Cassian, Cambridge, 1950.
Можно порекомендовать следующие статьи:
По поводу военных аспектов варварских нападений см.: А. Н. М. Jones, The Decline and Fall of the Roman Empire, History, XL, 1955; E. A. Thompson, The Passio S. Sabae and Early Vi-sigothic Society, Historia, т. 4,
1955: A. Momigliano, Cassiodorus and Italian Culture of His Time, British Academy Proceedings, 1955; W. Н. С. Frend, North Africa and Europe in the Early Middle Ages, Trans. R. Hist. Soc., 1955.
Я постоянно цитирую книги исключительно на английском и французском языках, хотя по данному периоду существует много значительных работ, в частности, на немецком.
Карты
Карта 1. Западная империя в 843 году.
Карта 2. Европа в начале правления Юстинианна
Примечания
1
Имеется в виду издание: The Cambridge Medieval History, vol.1, 1924; vol. II, 1936.
(обратно)2
Он сохранился в т. н. Ватиканских фрагментах.
(обратно)3
Нет оснований утверждать, что классическое язычество с неизбежностью двигалось в сторону христианства, например, в своих представлениях о жизни после смерти, иллюстрацией которым служат рельефы на саркофагах, или что сочетание христианства и классической культуры у таких великих людей как Лактанций и Пруденций говорит об их всеобъемлющем и неизбежном союзе.
(обратно)4
Симмахи напрямую участвовали в сохранении текста Ливия, древнейшие рукописи которого написаны одинаковым унциальным шрифтом и принадлежат к концу четвертого или началу пятого века.
(обратно)5
К западным германцам (которые во времена Тацита занимали район Одера-Эльбы) относятся франки, аламанны, саксы, фризы и тюринги. Восточные германцы (которые отличались от западных по своему языку и обычаям и жили к востоку от Одера) — это готы, вандалы, бургунды, гепиды и лангобарды. Третья, северная, группа — скандинавы — так и не покинула своего дома.
(обратно)6
Вероятно, именно к этому периоду относятся единичные поселения гуннов в Галлии, например, деревня Понт-Аббе около Квимпера в Бретани, население которой до сих пор сохраняет характерную для гуннов форму черепа, совершенно отличную от всех германских народов.
(обратно)7
Собственное имя Германариха было опущено, возможно, из-за того, что о нем было известно, что он совершил самоубийство.
(обратно)8
Они пользовались влиянием, но необязательно в качестве учебника. Во многих монашеских и епархиальных школах эта книга была, скорее, справочной, вроде «Этимологии» Исидора, и «Брака» Марциана Капеллы.
(обратно)9
Остготские монеты, найденные к северу от Альп, говорят о торговых контактах.
(обратно)10
Наиболее ранние поселения, вероятно, создавались на основе крепостей (castra), захваченных у римлян и византийцев, как и древнейшие поселения франков в Belgica Secunda.
(обратно)11
Лишь в работе монаха из Уитби, современника Беды, собраны воедино обрывки информации, которые ему удалось разыскать, с тем, чтобы результат этого труда можно было использовать в ходе ежегодного празднования памяти св. Григория в его монастыре.
(обратно)12
В отечественной литературе известен под названием «Лангобардская правда».— Прим. Ред
(обратно)13
Нет сомнения, что в лице своей столицы Павии, в которой сохранялись римские традиции, лангобарды получили преимущество, которого были лишены все прочие варварские племена. Например — Юридическую школу, которая смогла поставлять королевской канцелярии обученных нотариусов.
(обратно)14
Один ученый, который верит, основываясь на лингвистической аргументации, в массовые миграции франков, утверждает, что они могли составить до двадцати пяти процентов населения Галлии.
(обратно)15
В северной Галлии франкский язык все еще понимали в девятом веке.
(обратно)16
Их весеннее собрание, Campus Martius, часто неверно понимается как Marchfield, «мартовское поле», но на самом деле это было «Поле Марса», «поле битвы» и не перестало им быть, когда впоследствии это собрание стало происходить в мае.
(обратно)17
То есть франков, живших к востоку от Рейна, в будущем германском герцогстве Франкония.
(обратно)18
Их необходимо отличать от солнечных календарей или мартирологов, в которых монастыри вели запись о таких ежегодных событиях, как дни памяти святых, не изменяющихся в зависимости от даты Пасхи. Таким образом, хронология усиливала средневековую веру в изменчивость всего, что связано с луной, и постоянство всего, что зависит от солнца.
(обратно)19
Я оставляю за рамками повествования тот факт, что Каролингов связывали с Меровингами брачные узы, поскольку это, по-видимому, не воспринималось современниками как нечто важное или имеющее отношение к престолонаследию.
(обратно)20
По другому мнению, эта подделка была совершена в 816 г. по случаю коронации Людовика Благочестивого папой в Реймсе.
(обратно)21
Жанр трубадурских песен.
(обратно)22
Один ученый возражает, что имела место не казнь, а депортация, и что писцы впоследствии спутали слова delocare (выселять) и decollare (казнить).
(обратно)23
Фактически он получил его заранее, в качестве соправителя.
(обратно)24
Гильом Благочестивый, сын и наследник Бернарда Плантевелю, стал основателем Клюнийского монастыря.
(обратно)25
Нитхард, внук Карла Великого и поклонник Карла Лысого был мирянином. Грамотность не была присуща одному духовенству.
(обратно)26
Людовик Благочестивый умер в июне 840 года.
(обратно)27
Хинкмар не упустил случая напомнить Карлу, что он принадлежит к роду Хлодвига, помазанного и посвященного в короли, и что его истинная власть происходила как раз от этого посвящения, осуществленного руками епископов. Он был Christus Domini.
(обратно)28
Я оставляю полностью за рамками нашего повествования выдающиеся заслуги Хинкмара как знатока канонического права (т. е. законов Церкви) и богослова. Он сыграл ведущую роль в богословской полемике своего поколения.
(обратно)29
Он пишет, например, Ансбальду: «Я сличу твой текст Писем Цицерона с моим, чтобы из этих двух текстов, если возможно, обнаружилась истина».
(обратно)30
Скандинавы практиковали полигамию и расставались с нею так же неохотно, как и другие варвары. В девятом веке Церковь еще боролась с полигамией у франков.
(обратно)31
Хороший пример тому дают Анналы Сен-Бертена за 859 г., когда многие жители региона возле Луары объединились для самообороны, но, на свою беду, были перебиты.
(обратно)32
Это соглашение не помешало данам в Нормандии вести себя по-пиратски еще долгое время после 911 года.
(обратно)33
К концу девятого века servus уже стал называться serf, это был полусвободный крестьянин, обязанности которого по отношению к лорду были ограниченными; классическое же понимание раба (servus) теперь было представлено только пленником (slave) из восточных марок, проданным на Западе, особенно в нехристианской Испании, для домашних работ и конкубината.
(обратно)34
Наставник Отгона III, блестящий франк по имени Герберт Орильякский, последовательно побывал архиепископом Реймса и Равенны, и, наконец, папой Сильвестром II. Папы выбирали (и выбирают) себе имена, имея в виду подчеркнуть особый взгляд на жизненный путь какого-то из своих предшественников. В этом случае мысли Герберта обратились к папе, принявшем так называемый Константинов Дар.
(обратно)35
Адсон из Монтьеранде в своем посвящении королю Людовику IV (936—954 гг.) написал: «Римская власть в основном уничтожена, но пока есть франкские короли, способные властвовать подобно римлянам, величие Римской Империи никогда не погибнет до конца, но будет жить дальше вместе с ними».
(обратно)
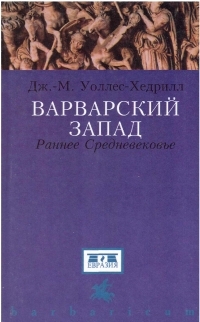
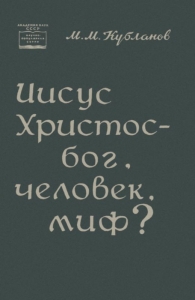


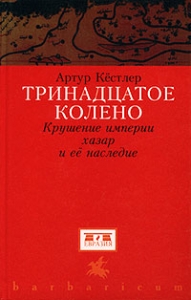
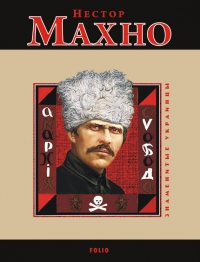
Комментарии к книге «Варварский Запад. Раннее Средневековье», Джон Майкл Уоллес-Хедрилл
Всего 0 комментариев