Виталий Раул Пошатнувшийся трон Правда о покушениях на Александра III
Вместо предисловия «Маленькие» трагедии российского престолонаследия
Для России 1881 год означал не только очередной цикл престолонаследия, всегда отмечавшийся политическими всплесками. Этот несчастный год положил начало глубокой деградации высшего управленческого звена России — монархического дома Романовых. Процесс этот, сразу замеченный современниками, пошел нарастающим итогом после утверждения на российском троне новой ветви родового древа Романовых — потомства императрицы Марии Александровны во главе с ее сыном Александром III. Сам механизм престолонаследия, обнародованный Петром I в 1722 году как «Устав о наследии престола», поставил назначение наследника в зависимость от воли «правительствующего государя», то есть предусматривал передачу власти по завещанию. Петровская оговорка в главном документе страны породила множество коллизий, развернувшихся вокруг российского трона после смерти императора, так и не оставившего завещания. Борьба за власть после Петра I принимала самые причудливые формы, в том числе вокруг завещания как такового. Так продолжалось до кончины императрицы Екатерины II, когда ее сыну Павлу I с помощью секретаря императрицы Безбородко удалось уничтожить завещание его матери и стать императором. По завещанию Екатерины II российский трон передавался ее любимому внуку Александру.
Вполне осознав на своем личном примере шаткость передачи власти по воле царствующего монарха, Павел I уже в день коронации подписал Акт о престолонаследии, положивший конец завещательной форме, установленной Петром I: «дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать, дабы сохранить право родов в наследствии, не нарушая права естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в род». Акт предусматривал право на наследование престола за мужскими членами императорской фамилии, и в первую очередь за старшим сыном царствующего императора, а после него всему его мужскому поколению. Акт был утвержден Сенатом 14 апреля 1797 года вместе с другим важным документом — «Учреждением об императорской фамилии», регламентировавшим как состав и иерархию императорской фамилии, так и права и обязанности ее членов.
Павлу не суждено было в полной мере воспользоваться плодами своего законотворчества и передать власть в установленном им же самим порядке. Старший сын императора Александр формально получил права наследования вслед за отцом, однако многие обстоятельства, в том числе и внешнеполитические, привели к ситуации 1801 года, когда против императора Павла I сложилась внутренняя коалиция, которую и возглавил законный наследник российского трона. Историки до сего времени не могут однозначно назвать главный мотив устранения императора Павла I с российского трона. Современный исследователь темы гибели императора Павла I Натан Эйдельман был близок к полному раскрытию действительных причин возникновения заговора, но по ходу исследования погряз в деталях и в результате так и не смог назвать вещи своими именами. Эйдельман последовательно отверг версии сумасшествия императора, конфликта с дворянской средой, и на этом исследовательский потенциал историка был исчерпан и растрачен на разного рода частности, только уводившие в сторону от цели.
В действительности на глазах европейской общественности разыгралась быстрая драма, грозившая полным крушением самой могущественной державы современности — Британии. В ноябре 1799 года (18 брюмера) во Франции произошел государственный переворот, и к власти пришел первый консул Республики Наполеон Бонапарт. Самый реалистичный в истории Франции политик, Бонапарт выдвинул формулу «Франция может иметь союзницей только Россию». Он неуклонно проводил линию на сближение с Россией и преуспел. В лице русского императора Павла I Бонапарт нашел столь же прагматичного лидера, и начиная с 1800 года Франция и Россия начали политическое сближение, которое быстро клонилось к военному. После разгрома Австрии под Маренго, в июне 1800 года, у первого консула Французской Республики возникло естественное стремление к объединению военных усилий двух стран. К началу 1801 года между Павлом и Бонапартом наладилась личная переписка, ставшая настолько откровенной, что имевшие место неизбежные утечки и были основной причиной заговора против русского императора. В середине января 1881 года Павел направил Бонапарту письмо, где, в частности, предложил: «Не мне указывать Вам, что Вам следует делать, но я не могу не предложить Вам: нельзя ли предпринять или, по крайней мере, произвести что-нибудь на берегах Англии» [1].
До этого сам Бонапарт заявил специальному посланнику Павла I, генералу Г. М. Спренгпортену: «Вместе с Вашим повелителем мы изменим лицо мира». Перед Британской империей впервые за многие годы замаячили реальные контуры военной коалиции двух континентальных держав, с перспективой высадки на Британских островах иностранной армии. В свою очередь, российско-английские отношения подошли к состоянию фактического разрыва: английский посол Уитворт покинул Россию, а в Англии назначенный вместо посла Воронцова поверенный в делах к делам не преступил. На фоне таких событий и тревожной информации в Лондоне началась тихая паника. Для воздействия на мятежного русского монарха вся надежда была на наследника великого князя Александра Павловича. Он и стал во главе заговора против собственного отца. Романовы в который раз пошли на поводу у Британской короны, приговорив собственного лидера, ко всему еще оболгав его сумасшедшим. Великий союз не состоялся ввиду неожиданного апоплексического удара, поразившего императора Павла I в ночь на 12 марта 1801 года в собственной спальне.
Романовы в марте 1801 года насильно вернули Россию в лоно легитимных европейских монархий, обеспечив безопасность Британских островов, реставрацию Бурбонов и целое лишнее столетие существования абсолютизма в Европе.
В российской историографии беспримерное политическое убийство Павла I старательно замазывается под какой-то всплеск страстей пьяных офицеров, ворвавшихся ночью в Михайловский дворец. Главной фигурой заговора везде фигурирует петербургский генерал-губернатор Петр Алексеевич Пален (Peter Ludwig von der Pahlen), редкий проходимец, который с согласия Романовской семьи взялся организовать смещение императора Павла с российского трона. Перед «честным» губернатором открылся бездонный британский кошелек, с помощью которого Пален смог в короткий срок подкупом и обманом дискредитировать лояльных Павлу деятелей, споить и развратить верхушку гвардейского петербургского офицерства и фактически спровоцировать физическую расправу над русским императором.
В Европе в апоплексический удар, постигший Павла I, никто не поверил, а Бонапарт прямо указал на организаторов убийства с Британских островов. Тем не менее дело было сделано: великий князь Александр Павлович в соответствии с завещанием Екатерины II стал императором Александром I и вместе со своими ближайшими родственниками горько оплакивал убиенного отца. Романовым не впервой было изображать обиженных и оскорбленных. Заняв российский престол в связи с безвременной смертью отца, Александр I развернул европейскую политику в соответствии с британским трендом и много сделал для сокрушения Наполеона Бонапарта.
К 1820 году победоносный российский император столкнулся вновь с проблемой престолонаследия. Брат императора великий князь Константин Павлович, являясь законным наследником престола по родовому старшинству, никак не мог устроить свою личную жизнь, запутавшись в любовницах, что привело к разводу с законной супругой принцессой Саксен Кобургской, Юлианной Генриеттой (Анной Федоровной). Официальный развод был утвержден Синодом в начале апреля 1820 года. Так как неугомонный брат императора изъявил желание вновь сочетаться браком, но теперь уже с польской графиней Иоанной Грудзинской, Александр I был вынужден оградить русский престол от новой напасти. Для этого потребовался специальный Манифест, призванный исключить появление в императорской семье лиц, не имеющих соответствующего достоинства. В случае заключения брака с лицом, не представляющим какой-то владетельный дом, член императорской семьи безоговорочно лишался права занятия престола. В Манифесте Александра I от 20 марта 1820 г. так и говорилось: «Мы признали за благо для непоколебимого сохранения достоинства и спокойствия Императорской Фамилии и самой Империи Нашей присовокупить к прежним постановлениям следующее дополнительное правило: если какое лицо из Императорской Фамилии вступит в брачный союз с лицом, не имеющим соответственного достоинства, т. е. не принадлежащим ни к какому Царствующему или владетельному Дому, в таковом случае Лицо Императорской Фамилии не может сообщить другому прав на наследование Престола». Правило это составило ст. 36 Основных законов, а правило о непринадлежности к Императорскому дому неравнородной супруги и детей от неравнородных браков — ст. 188, лишний раз показывая, что понятие принадлежности к Императорскому дому и право на престол в глазах закона неравнозначны. Проявленная Александром I предусмотрительность не повлияла, однако, на случившуюся в российских верхах путаницу с передачей власти после неожиданной смерти Александра I в Таганроге 19 ноября 1825 года.
Брат императора, великий князь Константин Павлович, отказался от престола, и его решение было оформлено специальным Манифестом императора Александра I от 16 августа 1823 года. По каким-то соображениям император не оглашал Манифест, и после его смерти возникла некая пауза, когда потребовалось подтверждение отказа от престола брата Константина. Пока братья усопшего императора, Константин Павлович и следующий по старшинству Николай Павлович, обменивались письмами, возникло так называемое междуцарствие, то есть временное безвластие. В конце концов, императором был объявлен третий сын Павла I, великий князь Николай Павлович. Манифест о восшествии на престол Николая I был оглашен в Сенате поздним вечером 13 декабря 1825 года. Повсеместная присяга должна была состояться утром 14 декабря.
Воинские части, размещенные в Петербурге, принимали присягу по местам своей дислокации рано утром. Однако весь день 14 декабря 1825 года сложился не так, как было предусмотрено: на Сенатскую площадь вышло несколько полков, подстрекаемых своими офицерами, которые отказывались присягать императору Николаю Павловичу, так как недавно присягали его брату Константину. По существу, весь инцидент спровоцировали братья Романовы, устроив неразбериху с передачей власти и присягами то одному из них, то другому. Этим редким обстоятельством попробовали воспользоваться так называемые «тайные общества» из офицеров и «статских», давно обсуждавших возможные перемены в государственном строе. Вся трагедия момента заключалась в том, что солдаты, приведенные на Сенатскую площадь, понятия не имели, что задумали их командиры. Всего, как утверждают источники, на площади построились 3000 солдат. Император Николай I, только что получивший власть, как мог, воздействовал на построенные части войск через генерал-губернатора и священников, пытавшихся уговорить солдат подчиниться властям. Офицеры из «тайных обществ» не подпускали посланцев императора к солдатам. Бессмысленное противостояние, продолжавшееся весь день, прервал приказ императора открыть огонь из пушек картечью. Несколько залпов в упор по шеренгам солдат мгновенно решило все дело. Толпы солдат бросились спасаться на лед замерзшей Невы, но и там их настигали картечь и ядра. Всего за этот день было убито и утонуло в Неве около 1200 человек.
В российскую историю бойня на Сенатской площади вошла как «Восстание декабристов». Особое значение этому событию придавала советская историография, как яркому примеру вооруженной борьбы народных масс с самодержавием. Невозможно обозреть весь массив диссертаций на тему «Восстания 14 декабря», но возглавила этот многочисленный и славный отряд женщина, сумевшая стать академиком. Ей удалось написать по теме больше всех печатных листов, и внушительные фолианты, испещренные таблицами и схемами, достойно представляют автора во всех уважающих себя библиотеках. Событие 14 декабря 1825 года на самом деле являет собой беспримерный образец качества управления Романовых, когда неразбериха и высокомерие в высших эшелонах власти выливались в кровавые события на улицах и площадях. Произошедшее на Сенатской площади имеет только один признак «Восстания» — это расстрел картечью толпы обманутых солдат, других признаков просто нет.
Следующим испытанием российской государственности стало очередное нарушение Романовыми закона о престолонаследии, а точнее его положения о неравнородных браках, введенное Манифестом императора Александра I. Традицию Романовых — попирать свои же собственные законы — продолжил следующий император Николай I. Он грубо проигнорировал Манифест от 20 марта 1820 года своего старшего брата при выборе невесты своему сыну — наследнику Александру. Тогда, в 1839 году, сватовство и последующий брак будущего императора Александра II протекали под непосредственным контролем императора Николая I, и тем не менее был допущен вопиющий мезальянс с приемной дочерью великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига II. Так случилось в семье герцога, что его жена Вильгельмина Баденская увлеклась придворным слугой и даже родила от него сына и дочь. Измена и огласка происхождения детей не повлияли на решение герцога формально признать детей неверной супруги своими. Благородный жест герцога существа дела не менял, но послужил поводом для одобрения брака цесаревича Александра Николаевича с приемной дочерью герцога Марией. Принимая решение на брак сына Александра и Марии, Николай I был прекрасно осведомлен о происхождении невесты, но счел возможным пренебречь таким важным обстоятельством, подрывавшим легитимность брака в целом.
Единственный русский историк Александр Николаевич Савин, имевший доступ к документам о сватовстве цесаревича Александра, был поражен случившимся в семье Романовых казусом:
«Как бы то ни было, факт остается фактом: монарх, который считался самым непримиримым, упрямым и сильным представителем европейского легитимизма, нисколько не был смущен сомнениями насчет чистоты крови в жилах невесты своего наследника и с легким сердцем успокоил себя отсутствием официально заявленных возражений по поводу законности ее происхождения, тем, что отец признал или, по крайней мере, терпел ее и вырастил в качестве законной дочери».
Совершенно иначе восприняла сватовство сына императрица Александра Федоровна, дочь прусского короля. А. Н. Савин очень точно описал переживания матери наследника:
«Как ни привыкла Александра Федоровна не выходить из воли мужа, смотреть на него снизу вверх с гордой и любящей покорностью, в данном случае она не могла встать на его точку зрения. Тень, лежавшая на дармштадской девушке, удлинилась и накрыла ненаглядного Сашу, больно задела и его мать. Александре Федоровне, гордой чистотой своей крови и своим незапятнанным супружеским целомудрием, стало стыдно, по-женски стыдно, точно от прикосновения к чему-то грязному. Она не смела сказать мужу и сыну всего, что она чувствовала; ей скоро придется защищать невесту своего первенца перед своей шокированною берлинской родней» [2].
Удивление историка Савина по поводу явно нелегитимного брака цесаревича Александра Николаевича, который стал императором Александром II, так и осталось реакцией единственного ученого и дальнейших научных последствий не имело. Во-первых, потому, что вся подноготная сватовства российского цесаревича в 1839 году попала в руки Савина случайно, через 80 лет, в кровавом 1919 году. Романовы уже были изгнаны из Страны Советов, последний царь Николай I расстрелян вместе с семьей на Урале. Материал, собранный Савиным, хотя и был опубликован в академическом издании, прошел незамеченным, как целиком исчерпавшая себя тема. Кроме Савина, никому и в голову не пришло, что между двумя событиями: убийством царской семьи в подвале дома в Екатеринбурге и нелегитимным браком цесаревича Александра Николаевича в далеком 1841 году — существует какая-то связь.
Советские историки в пылу революционных будней напрочь забыли, что Россия до Октябрьского переворота жила и развивалась по совершенно другим законам, нарушение которых влекло тяжелые последствия.
Результат легкомысленного брака цесаревича Александра, при полном согласии его отца императора Николая I, оказался тяжким как для России, так и для самого императора Александра II. Дело здесь не только в нарушении правила равнородства. Николай I, разрешив сыну подобный брак, нанес оскорбление германской династии Гогенцоллернов, располагавшей в то время целым набором принцесс на выданье в германских владетельных домах. Появившуюся в российско-германских отношениях трещину Романовы старательно скрывали, но это ничего не меняло в существе дела: император Николай I на глазах всей германской монархической элиты разрешил абсолютно нелегитимный брак своего наследника.
Российская историография в условиях самодержавия не могла исследовать этот вопрос с точки зрения политических последствий, так как не имела доступа к документам такого уровня, как переписка и дневники членов императорской семьи. Это не значит, однако, что вопрос не существовал. Браки европейских монархов уже давно были инструментом высокой политики, и отсутствие широкого обсуждения случившегося династического скандала не означало, что все сошло на нет, без всяких последствий. На языке династических отношений мезальянс российского наследника престола означал образование новой ветви Романовской династии с условной легитимностью. Пока был жив император Николай I, а затем и его наследник Александр II, получивший трон по закону о наследовании, династический скандал имел «спящую» форму, то есть был заблокирован и забыт. Возможно, все прошло бы гладко: если бы брачный союз Александра II и Марии Александровны был крепок, их семейная тайна так и осталась бы «скелетом в шкафу». В действительности подтвердились наихудшие предчувствия матери императора Александры Федоровны. Повторный брак императора Александра II после смерти императрицы Марии Александровны разбудил дремавший механизм престолонаследия. Своей супругой император сделал обедневшую русскую аристократку из рода Долгоруковых. К моменту заключения нового брачного союза княжна Е. М. Долгорукова (Долгорукая) уже имела трех детей от императора, рожденных вне брака, которых Александр II немедленно признал родными.
Новый брачный союз российского императора означал предстоящую коронацию императрицы Екатерины III со всеми вытекающими последствиями. В этом случае сын Екатерины Долгорукой, девятилетний Георгий, становился великим князем Георгием Александровичем и мог претендовать на российский трон в качестве законного наследника. Династическая коллизия, возникшая в Романовской семье в середине 1880 года, не оставляла никаких шансов на престол уже назначенному наследником сыну императрицы Марии Александровны Александру. В случае оглашения нелегитимности первого брака императора, по признакам неравнородства, права на наследование российского престола могли перейти к сыну императора от второго брака Георгию. Род Долгоруких восходил к первому российскому владетельному дому Рюриков. На весах равнородства и легитимности сын Александра II Георгий имел явное преимущество. После смерти императрицы Марии Александровны легитимность ее сына Александра в качестве наследника русского престола стала не просто сомнительной, но катастрофически шаткой. Наследник-цесаревич вместе со своей амбициозной супругой стал вдруг заложником воли императора и его намерений относительно утверждения на троне своей новой супруги. Вынашивал ли Александр II планы коронации светлейшей княгини Юрьевской, находясь в Ливадии летом 1880 года? Вопрос, скорее, стоит несколько иначе: какой механизм возведения на трон своей новой супруги собирался использовать император? Судя по последующим действиям императора и его ближайшей креатуры — остановились на варианте созыва представительной комиссии при Госсовете, своего рода нижней палаты парламента. Именно ей отводилась роль инициатора коронования Екатерины III через открытое обращение депутатов к императору. Именно поэтому министр внутренних дел Лорис-Меликов форсировал созыв выборных представителей от земств и городов. Проект Лорис-Меликова, утвержденный императором накануне покушения, и был той последней каплей, за которой немедленно последовало убийство Александра II.
«Дело 1-го Марта 1881 года» стало последней схваткой за русский трон, которую нельзя записать в актив Романовых. Свежая ветвь барона де Гранси, искусственно привитая к мощному древу Романовых, оказалась подгнившей у самого основания и отвалилась через 36 лет сама собой, повалив за собой все дерево.
Часть I Гатчинский затворник
Глава 1 Наследство отца
Наследная пара, великий князь Александр Александрович и великая княгиня Мария Федоровна, в день 1 марта 1881 года стала венценосной и получила русский трон в полное и безраздельное пользование. Неизвестные для российской общественности причины и обстоятельства устранения царя-реформатора в Романовской семье были в общих чертах понятны, вместе с некоторыми деталями, касающимися роли генерала П. А. Черевина как самого посвященного в существо происходивших событий. Все это живо обсуждалось в салонах и дворцах Петербурга, обрастая сплетнями и домыслами. Семья Романовых восприняла происшедшее со смешанными чувствами: наследник-цесаревич Александр Александрович никогда не слыл за интеллектуала, был груб и не отесан, а его супруга датская принцесса отличалась высокомерием и склонностью к интригам. Душой романовского общества ни тот, ни другой никогда не были. Кроме прочего, за ними тянулся тяжелый хвост условной легитимности покойной матери наследника, императрицы Марии Александровны. В общем, сердечными отношениями в семье Романовых после убийства императора Александра II и не пахло.
Наиболее острый характер приняли отношения между новым императором и братом убитого царя, великим князем Константином Николаевичем, много лет занимавшим при Александре II пост председателя Государственного совета и Адмиралтейств-совета. Великий князь всегда относился пренебрежительно к наследнику Александру как малообразованному и неразвитому молодому человеку. Со временем пренебрежение переросло в открытую насмешку над примитивным мышлением племянника, которого подобное отношение бесило.
В российской историографии активно муссировался слух о причастности великого князя Константина Николаевича к покушениям на Александра II и его амбициях на российский престол. Слух этот лживый от начала до конца, до сих пор жив и составляет «тайну», которой не существует. Великий князь Константин Николаевич, являясь по своему статусу вторым человеком в государстве после императора Александра II, был, кроме всего, доверенным лицом государя и его мозговым центром. Посвященный во все секретные механизмы управления, Константин Николаевич проводил твердую политику либерализации внутренней российской жизни по европейским лекалам, в направлении внедрения парламентских принципов организации законотворчества. Великий князь отлично понимал, какой ветер свалил его брата, царя-реформатора, но предпочел покинуть политическую площадку без борьбы, потерявшей всякий смысл с потерей своего лидера. В первой семье императора, однако, столь резкая перемена власти вызвала плохо скрываемый вздох облегчения, а общая формула текущего момента «Вовремя убрали…» объясняла многое. Прозрели все и сразу: акт устранения императора тщательно готовился, и показное горе победителей только усиливало общий эффект. Награждение Александра III высшим английским орденом сразу после похорон Александра II стало для сомневавшихся последним аргументом.
В российской истории перемену власти 1 марта 1881 г. никто не называл государственным переворотом. Все заслонили собой обстоятельства гибели императора и партия «Народная воля» в качестве исполнителя убийства. Тем не менее начавшаяся чуть ли не на другой день чистка высших эшелонов российской власти говорила сама за себя. Из властных структур методично удалялись министры, сановники и мало-мальски заметные деятели, определявшие лицо власти при покойном императоре. Процедуру увольнения отдельных лиц, или, по остроумному выражению П. А. Валуева, «спуск», открыл градоначальник Санкт-Петербурга генерал-майор А. А. Федоров, за ним последовал министр почт и телеграфов Л. С. Маков вместе с упраздненным министерством. В Дневнике П. А. Валуева 25 марта 1881 года отмечено характерной записью: «Вчера, наконец, спущен Сабуров. Он замещен бароном Николаи. Далее спускается кн. Ливен и заменяется гр. Игнатьевым. Возмездие расточается свыше» [3]. Кадровые перемещения, затронувшие все заметные ведомства, действительно весьма походили на возмездие за пренебрежительное отношение к наследной чете при прежнем императоре. Тем более никто не мог предвидеть, что неприязнь между ушедшим императором и его сыном-наследником пустила такие глубокие корни. Жгучая ненависть ко всему наследию царя реформатора стала находить свое подтверждение буквально на каждом шагу: в указаниях, увольнениях и назначениях нового императора. Картина дезавуирования, с последующим удалением из Петербурга лиц из ближайшего круга Александра II, обрастала все новыми жертвами, причем назначения новых лиц на освобождающиеся места производились настолько поспешно, что случайность выбора была очевидна всем.
Для того чтобы смысл запущенного процесса не вызывал ни у кого сомнения, молодой монарх решил издать специальный манифест, который бы объяснил российскому обществу смысл происходящего. В стране не было необходимости в реставрации монархии, самодержавные порядки действовали в полной мере. Так для чего и кому понадобился Манифест от 29 апреля 1881 года? Складывалось впечатление, что удаляемые с политической сцены лица несут косвенную ответственность за убийство императора! Все, однако, было несколько сложнее. После формального суда над исполнителями убийства возникла масса слухов о заговоре, существовавшем против императора Александра II, имевшем свои корни в великокняжеской среде. Перст знающих людей прямо указывал на великого князя Константина Николаевича, брата убитого царя, как на главного заговорщика. Такой поворот общественного мнения, а тем более его тиражирование были чреваты для самого Александра III, так как великий князь был способен достойно ответить на расползание подобных слухов. Для того чтобы как-то успокоить общественное мнение, направив его в нужное русло, и была использована форма Манифеста. Под рукой у молодого монарха имелся первоклассный ортодокс славянофильской школы, занимавший пост обер-прокурора Святейшего синода, К. П. Победоносцев. Не понимая до конца, для чего это надо, Константин Петрович быстро набросал текст, сохранив основную мысль владыки-заказчика. Мысль была предельно ясна — простодушный царь-реформатор Александр II дал русскому крестьянству свободу от крепостной зависимости, справедливые суды и еще много чего, а «недостойные изверги из народа» совершили «низкое и злодейское убийство русского государя, посреди верного народа, готового положить за него жизнь свою». Манифест не объяснял, что это за «изверги из народа» и почему они подняли руку на самого царя, но его тональность органично монтировалась в предыдущий судебный процесс над злодеями «1-го Марта». Церковно-славянский стиль текста подчеркивал общую скорбь и указывал единственный для нового царя выход в создавшейся ситуации: «стать бодро на дело правления, в уповании на Божественный промысл, с верой в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений» [4].
Одновременно Манифест подвел черту под либерально-конституционными затеями великого князя Константина Николаевича и его сподвижника министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова. Сразу после издания Манифеста последовали ключевые отставки деятелей команды Александра II: министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова, министра финансов А. А. Абазы и военного министра Д. А. Милютина. На «дело управления» молодой монарх встал, избавившись, по сути дела, от всех, кто это дело осуществлял при убитом императоре. Первым подал прошение об отставке министр внутренних дел Лорис-Меликов и получил ее вместе с коротким письмом императора, где он выразил свое удивление, что прошение написано сразу после опубликования Манифеста. Осторожный Лорис-Меликов не преминул довести до Александра III, каким образом Манифест связан с его отставкой. В своем письме великому князю Владимиру Александровичу отставленный министр написал:
«Ваше императорское Высочество!
Вчерашнего числа я обратился к Государю Императору с всеподданнейшей просьбой об увольнении меня, по расстроенному здоровью, от занимаемой ныне должности. Его Величество, почтив согласием на мою просьбу и милостивым ответом, выразил, однако, как изволите усмотреть из представляемого в подлиннике письма, недоумение Свое по поводу совпадения моей просьбы со днем обнародования Высочайшего Манифеста. Ваше Высочество, со дня воцарения Августейшего Брата Вашего, изволили выказать мне настолько внимания и участия, что считаю себя в праве обратиться к Вам с моею почтительною просьбой. Не откажите при первом удобном случае доложить Его Величеству, что содержание Манифеста не могло и не может иметь влияние на продолжение моей деятельности, несмотря на совершенно надломленное здоровье мое… Но святой обязанностью считаю доложить Вашему Высочеству, что способ обнародования Манифеста, о самом существовании которого я узнал частным образом уже после того, как он был отпечатан, не мог не служить для меня видимым знаком Монаршего ко мне, как Министру внутренних дел, недоверия, и потому я признал долгом совести возобновить всеподданнейшую просьбу мою об увольнении меня от должности… Но факт совершился, и я решаюсь обратиться к милостивому участию Вашего Высочества выполнить мою единственную просьбу — второй не будет: да не сохранит Государь, расставаясь со мной как с Министром, какого-либо неудовольствия и продолжает считать меня в числе своих верных и преданных слуг.
Подлинное письмо Государя Императора благоволите мне возвратить. 30 апреля 1881 г.
Граф М. Лорис-Меликов» [5].
Разумеется, министр Лорис-Меликов со своими планами реорганизации Государственного Совета и образованием при нем некоей комиссии из выборных представителей от земств и городов был просто белой вороной в кардинально изменившейся обстановке. С другой стороны, просто убрать такую знаковую фигуру прошлого царствования не представлялось возможным по многим причинам, и в том числе из-за его осведомленности в планах убитого императора. Осведомленность Лорис-Меликова была такого уровня, что предпочтительнее было разойтись с ним миром. Лорису, в свою очередь, тоже было что терять: двое его сыновей служили офицерами в гвардейских частях, и их карьера только начиналась. Александр III и министр внутренних дел его убитого отца предпочли мирное расставание с взаимными прозрачными предостережениями. В Указе об отставке прозвучала обычная почетная формулировка:
«1881 года мая 4 Министра внутренних дел, члена Государственного Совета, нашего генерал-адъютанта, генерала от кавалерии графа Лорис-Меликова Всемилостивейше увольняем согласно прошению и по болезни от занимаемой им должности, с оставлением членом Государственного Совета и в звании генерал-адъютанта».
Уходить тоже надо уметь. Лорис-Меликов ушел умно и с достоинством.
С другой фигурой прошлого царствования было намного сложнее. Министр двора А. В. Адлерберг имел прямое отношение к активам российского трона, из-за которых и «горел сыр-бор». Кроме этого, Александр Владимирович был личным другом Александра II, они дружили с детства. Будучи еще совсем юным поручиком, Александр Адлерберг стал адъютантом наследника, и с тех пор они не расставались. Все перипетии первого брака императора были ему хорошо известны, как и имевшие место договоренности умолчания. К описанию личности такой заметной фигуры необходимо прибавить, что Адлерберг имел выдающиеся способности вникать в существо любого дела и прекрасно владел пером. Это был незаменимый референт императора по особо деликатным делам, не только личным, но и сугубо политическим. Кроме этого, Александра Владимировича отличало еще одно ценное качество — умение молчать.
Говорят, что Адлерберг был резко против второго брака Александра II и княжны Долгорукой. Наверное, лучше сказать, что, являясь другом императора, он не мог приветствовать такой рискованный шаг, который вел к острому конфликту интересов в семье монарха. Как проницательный человек, Адлерберг, разумеется, не сомневался в авторстве убийства своего друга и с этой точки зрения представлял самую высокую степень опасности для победившей стороны. Молчание такого человека стоило очень дорого. Александру III в случае с Адлербергом пришлось забыть о своем обретенном вдруг всесилии и предельно мягко и внимательно разбираться в хозяйстве Министерства двора, с его уделами, театрами и кассой. Кстати, передача министерских дел, растянувшаяся до августа 1881 года, показала еще и высокую порядочность Адлерберга как министра. На счету специальных средств в министерской кассе обнаружили круглую сумму в 43 411 128 рублей, что говорило о рачительном и экономном расходовании денег. Такой результат историки приписывают конкретному человеку — тайному советнику Карлу Карловичу Кистеру, непосредственно ведавшему контролем и кассой, но роль министра в таком чувствительном деле очевидна.
Наряду с большой экономией средств на свет выплыли серьезные личные долги Адлерберга, составлявшие от 1,5 до 2 миллионов рублей. Историки с удовольствием перетирают этот «компромат», совершенно забывая, что Александру Владимировичу как доверенному лицу императора приходилось оплачивать счета без указания источника их возникновения и брать их на себя.
Александру III хватило ума, чтобы, не поднимая шума, погасить все долги Адлерберга, которые были, в сущности, копеечными на фоне общего финансового результата кассы министерства. При всей своей антипатии к министру отца Александр III был вынужден организовать отставку Адлерберга на почетном уровне: ему «оставлено было содержание, которое он получал в размере 36 000 рублей, квартира — дом № 20 на Фонтанке, придворный экипаж и прислуга. На содержание ежегодно отпускалось 20 000 рублей» [6]. Кроме этого, при коронации Александра III бывший министр двора не был обойден в наградах, подкрепленных единовременной субсидией в 200 000 рублей.
* * *
Совершенно неожиданным было решение Александра III устроить свою постоянную резиденцию в Гатчине, в бывшем дворце Павла I, в бытность его наследником. В то время Гатчина представляла собой небольшой городок, в 40 км от центра Петербурга. Со столицей Гатчину связывала железная дорога, построенная в 1853 году. Переезд царской семьи в Гатчину был вполне объясним после бурных событий последних лет: в оторванной от Петербурга Гатчине можно было обеспечить эффективную безопасность императора и семьи. Переезд состоялся 27 марта 1881 года, когда Петербург покинули последние родственники, приезжавшие на похороны императора. Император буквально бежал из Петербурга. Картину переезда без прикрас описала супруга Александра III, императрица Мария Федоровна, в письме своей матери:
«…Первый день нашего прибытия сюда это было действительно ужасно, ничего не было приготовлено еще, у рабочих не было времени подготовить вещи, они заняли все комнаты, и к тому же было холодно и неприятно. Мы уехали очень быстро, но должны были оставить там моих маленьких детей на некоторое время, потому что маленький простудился и не мог выехать. Оставлять свой любимый, уютный дом в Аничковом для этого большого, нежилого, пустого замка, среди зимы еще, стоило мне много слез, но скрытых, т. к. бедный Саша так радовался уехать из города, который стал ему противен после всего ужаса и горя, который мы пережили там» [7].
Панический отъезд венценосной пары был несколько театрален, так как все похоронные мероприятия, имевшие место в Петербурге при большом стечении народа, прошли без каких-либо происшествий. Лорис-Меликов быстро завершил зачистку исполнителей теракта: 3 марта взяли квартиру на Тележной улице и арестовали Г. Гельфман и Т. Михайлова; 10 марта на улице схватили С. Перовскую; 17 марта на своей квартире арестовали главного динамитчика Н. Кибальчича. По состоянию на 20 марта 1881 г. император располагал достоверной информацией о полном уничтожении сколько-нибудь дееспособной группы «Народной воли». Необъяснимая опасность исходила только от ненавистного дяди — великого князя Константина Николаевича.
В Гатчину в срочном порядке перебрасывались отборные воинские подразделения, полицейские команды. Город оцепили конные разъезды и патрули. Для прохода в Гатчинский дворец были введены специальные пропуска с фотографиями.
Удаленные из правительства лица спешно покидали Петербург — кто за границу, кто в свои родовые поместья. Некоторых опальных деятелей принял Крым. Военный министр Милютин переехал с семьей в свой любимый Симеиз; рядом, в Орианде, расположился великий князь Константин Николаевич. За границу, вслед за Лорис-Меликовым, уехал отставленный министр финансов Абаза.
Продемонстрированный новым императором отказ от всего наследия отца получил широкий отклик как в российской, так и в европейской прессе. Однако при всем радикализме в своем ревизионистском порыве Александр III все же соблюдал некоторую осторожность, которая очень походила на опаску, испытываемую от всякого незнакомого дела.
Глава 2 Вдова
В самом трудном положении в эти мартовские дни 1881 года оказалась некоронованная вдова убитого императора, светлейшая княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская. Статус ее мгновенно сошел до нулевого, так как в абсолютистской «Табели о рангах» для ее случая не было предусмотрено соответствующего положения. Пока проходили погребальные церемонии, вдове оказывали знаки сочувствия, но с окончанием прощальной пьесы все переменилось. Княгине вежливо, но настойчиво указывали ее место, отказывая в приеме, лишая привилегий и устанавливая оскорбительную дистанцию. Холодком повеяло из всех аристократических углов Петербурга. Не замечать этого было невозможно. Общение с новым императором стало затруднительно и только в письменной форме. В настоящее время стала доступной переписка княгини Юрьевской с Александром III, хотя и в сокращенном варианте, но все же весьма красноречивая.
В письме от 4 апреля 1881 года княгиня, еще находясь в плену определенных иллюзий, пишет императору:
«Милый Саша, хотя я надеюсь увидеть тебя в понедельник, я принуждена тебе написать, чтобы попросить тебя позволить мне на несколько недель переехать в Елагинский дворец, доктора настаивают, чтобы я отсюда выехала. Я не решалась ни на какие переезды, но ночью со мной сделался легкий удар нервной, и мне очень дурно. Ты мне позволишь переехать в Гатчину после вашего отъезда в Петергоф. Извини, что я так дурно пишу, но этому виновата рука, которая ужасно дрожит. Сердечно обнимаю Тебя, милый Саша, и милую Минни, и надеюсь до свидания в понедельник, около трех часов. Не забывай, что Ты во мне имеешь истинного друга.
Катерина» [8].
Светлейшая княгиня Юрьевская
Увы, желания княгини не находили отклика у императора, и тональность писем стала меняться по мере осознания ею своего истинного положения. В конце апреля, когда Юрьевскую вынудили покинуть апартаменты в Зимнем дворце и переехать на новое место жительства в малый Мраморный дворец, на Гагаринской, д. 3, она снова была вынуждена обратиться к Александру III:
«Милый Саша.
От души поздравляю Тебя, Минни и милого Жоржи и желаю счастья и утешения. Поцелуй от меня Жоржи и передай ему подарки, которые я сама хотела ему привести сегодня… Телеграмма Твоя была мною получена в ту минуту, когда я садилась в карету, и я очень сожалею, что Минни не желала видеть меня эти дни.
Мне очень много нужно было тебе передать, но в письме невозможно все это объяснять, а пока прошу Тебя приказать Адлербергу поспешить прислать копию завещания, так как это задерживает окончание моего завещания. Еще прошу тебя, милый Саша, из уважения к нашему Ангелу, позволить некоторым людям, которые при Нем непременно состояли, оставаться на коронной службе и быть причисленными ко мне, когда я перееду из дворца, и позволь мне перевести все те экипажи и лошадей, которые составляли мой штат. Это будет составлять последнюю мою просьбу к Тебе. Извини, что я тебя беспокою, но я обращаюсь к Тебе как к единственному другу, который понимает мое страшное горе и для которого память Нашего Ангела останется навсегда святой обязанностью. Обнимаю Тебя крепко и милых детей, и не забывай, что моя дружба к Тебе останется неизменным чувством.
Тебя любящая Екатерина».
Несмотря на изменившиеся отношения с семьей императора, княгиня Юрьевская демонстрировала свое достоинство и уверенность в принадлежащем ей по праву, сохраняя выдержку и элементарную вежливость.
Общение княгини с императором происходило через Министерство двора, где ей последовательно отказывали во всем, что перестало быть привилегией супруги императора. Содержание оформленного в собственность княгини малого Мраморного дворца выливалось в серьезные суммы. В целом обстановка складывалась таким образом, что жить далее в Петербурге становилось невыносимо. Возможно, ей намекнули, что не гарантируют личную безопасность. Закончив все дела по оформлению завещания, княгиня приняла решение выехать в Европу. Перед отъездом, ровно через год после гибели Александра II, она еще раз написала императору:
«Милый Саша, извините, что я Вас беспокою, но моя обязанность не скрывать от Вас то, что было дано мне и Гого Вашим отцом. 1-го января прошлого года Государь мне объявил при свидетелях, что он мне дает Орден Св. Екатерины 1-ой степени и что он записывает Гого в Преображенский полк в роту Его Величества…
Милый Саша, Вы могли сами убедиться, что я не самолюбива, и я никогда не обратилась бы к Вам с подобной просьбой, если бы мне не были бы даны эти права Вашим Отцом, тем более, что мне в жизни, вероятно, никогда не придется надевать этот орден, ввиду моей уединенной жизни, то же самое и Гого, который не перестанет носить траур, но я слишком дорожу малейшим предметом, подаренным мне Вашим Отцом, чтобы отказаться от прав, данных нам Государем. Вы, как честный сын, исполните Святую волю Отца, которую Он не успел передать на бумаге…
Любящая Вас. Екатерина».
После этого письма и формального ответа все встало на свои места, и понимание своей жизненной ситуации стало принимать реальные очертания. В пасхальные дни апреля 1881 года княгиня Юрьевская нанесла свой последний визит монаршей семье в Гатчине. Приняла ее императрица Мария Федоровна. Юрьевская оказалась среди многих представлявшихся в этот день лиц разных званий и сословий. Сама обстановка приема — скоротечная и формальная — была для нее оскорбительна и жестока.
Камерюнгфер княгини Вера Боровикова вспоминала:
«Год мы прожили в России после смерти Государя, а потом уехали за границу. Как тяжело было это время, когда готовились к отъезду. Я только и говорила, что нам не следовало бы уезжать из России, где есть святая могила Государя, да и княгине очень не хотелось ехать и покидать драгоценную могилу Государя.
Каждый день она плакала и говорила, что ей в России оставаться нельзя, что Царская Фамилия переменила к ней свое расположение без всякой причины и ее это оскорбляет…
Поехали мы в апреле, ровно через год после смерти Государя, прямо в Париж. Сопровождали нас управляющий полковник Долинский и Шебеко» [9].
Перед выездом, оформляя документы, чиновники из Министерства двора указали княгине, что она покидает Россию как частное лицо, а вовсе не как вдова императора. Понятно, что выполнялось указание Высшей инстанции… К этой мере добавилось еще и запрещение пользоваться царскими комнатами для отъезжающих на пограничной станции Вержболово. Это стало последней каплей унижения для княгини Юрьевской, которую буквально выталкивали из страны. Свои чувства негодования Екатерина Михайловна излила в письме Александру III от 26 июня 1882 года, уже находясь в Европе:
«Милый Саша.
Приказание Ваше, данное мне через Министерство Двора, не может быть мною исполнено, так как я не вправе отказаться от прав, данных мне Вашим Отцом. Раз что Он на мне женился и называл меня как перед Вами, так и перед всеми своей женой, то после смерти Его я Его вдова, и этого переменить никто не может… Министерство Двора просило мне передать, что запрещено меня впускать в Царские комнаты в Вержболово… Эта дерзость есть прямой намек на то, чтобы я не возвращалась в Россию. Если это так, то прошу Вас, милый Саша, написать мне, что Вы желаете, чтобы я не возвращалась, а не прибегать к разным мелочным придиркам и шиканьям. Убедительно прошу Вас, из любви к Вашему Отцу, прочитать его завещание, в котором Он вас просит быть нашим защитником и другом. Не в шиканьях, придирках и оскорблениях Он понимал дружбу, которую Он от Вас желал. Все ему видно с Неба, и Он не меня обвинит в чем-нибудь. Напротив того, Он, как и Вы, видите, как я себя держу, и сделала ли я что-нибудь неприятного Вам со дня Его смерти, и сколько терпения надо было мне, чтобы перенести все оскорбления.
Могу Вам сказать откровенно, что из истинной дружбы к Вам, только благодаря моему влиянию, многие мемуары (Вашего семейства) не были публикованы до сих пор. Но так как меня не щадят, я ни за кого более не отвечаю. Надеюсь, что Вы мне напишите, чего я буду ждать с нетерпением, дабы принять необходимые меры для моего возвращения или же моего пребывания за границей. Обнимаю Вас от всей души, детей тоже, и остаюсь верный друг Ваш.
Катерина».
Письмо во многом принципиальное. Министерство двора, выполняя пожелания своего суверена, явно перестаралось. Прозрачный намек княгини Юрьевской на возможность публикации каких-то материалов о семье Александра III в Европе подействовал на монарха, получившего русский трон, как холодный душ. Потребовалось срочно отрабатывать задний ход, несколько поступившись своим величием. Поражает политический ум и практичность княгини Юрьевской: оказавшись в европейской среде, она точно знала, как себя вести и каким будет ее следующий ход, после первого раунда торгов вокруг завещания Александра II. Вместе с появлением в Европе вдовы убитого императора в Париже появилась вдруг книга некоего Виктора Лаферте «Alexandre II. Détails inédits sur sa vie intime et sa mort» («Александр II. Неопубликованные подробности жизни и смерти»). Книга вышла на французском языке, но была адресована прежде всего русскому читателю. Так случилось, что русский читатель смог прочитать эту книгу в русском переводе только в 2004 году [10]. Какие антииздательские усилия надо было предпринимать, чтобы достичь такого феноменального результата!
Разумеется, книга была известна в России, и ее прочел всякий, кто мало-мальски владел французским языком. В России книгу сходу объявили бессодержательной, то есть малоинтересной. Такие заявления были сделаны как на академическом, так и на политическом уровне. В целом властям удалось дезавуировать книгу. Это удалось сделать в основном только по причине полного незнания российской общественностью исторического контекста, который служил идейной основой книги. В России книга появилась чуть ли не на следующий день после ее публикации в Париже. Из записей за май 1882 года в Дневнике бывшего военного министра Д. А. Милютина понятно, по каким каналам книга поступала в Россию:
«13 мая. Четверг. В среду приехал в Орианду великий князь Константин Николаевич, проживший в Париже всю зиму;
14 мая. Пятница. Ездил в Ялту и оттуда в Орианду к великому князю Константину Николаевичу. Он показался мне более спокойным, чем был в прошлом году, как будто примирился со своим положением; доволен своим пребыванием в Париже; намерен и впредь проводить там зимы, пока обстоятельства не изменятся, а в Крым приезжать на летнее время;
21 мая. Пятница. Ездил в Орианду поздравить именинника великого князя Константина Николаевича, который пригласил меня отобедать запросто в сюртуке… Великий князь дал мне для прочтения полученную им только что вышедшую книжку «Александр II. Неопубликованные подробности жизни и смерти» Виктора Лаферте. Говорят, что она написана по рассказам самой княгини Юрьевской» [11].
Несмотря на повсеместный негласный запрет книги в России и меры, принятые по ее дезавуированию, книгу прочло много людей, в том числе знающих политический и исторический контекст. Хотя в аристократических кругах Петербурга имя княгини Юрьевской склонялось как имя исключительно алчной и недалекой особы, книга, ею написанная, говорила сама за себя: избранницей убитого царя была умная, политически грамотная и информированная женщина. Мало того, что она долгие годы была гражданской женой Александра II и матерью его детей, ей удалось стать его помощницей в делах государственного управления. Несостоявшаяся русская императрица полностью разделяла планы своего супруга по дореформированию российского общества на конституционной основе.
Советских историков труд Екатерины Юрьевской вообще никогда не интересовал, как, впрочем, и многое другое, выпадавшее из тесных рамок «освободительной борьбы народов России». Сейчас книга о последних днях и часах императора Александра II не только возвращает нас в то время, но, как картина, отодвинутая во времени, вместе со многими нюансами дает представление о накале борьбы за трон и трагедии проигравших. Текст, написанный, несомненно, самой Юрьевской, прошел небольшую литературную обработку, но сохранил авторский стиль, сравнимый со стилем ее эпистолярного наследия. Не входя во многие детали, можно выделить из двенадцати написанных княгиней глав некоторые принципиальные моменты, имевшие, бесспорно, документальную базу. Так она вполне адекватно оценивала свое положение при государе-императоре:
«Женившись на княгине, император совершил действие, противное господствующим в России правительственным законам; однако союз этот вовсе не был мезальянсом, ибо своим происхождением вдовствующая княгиня восходила к святому Владимиру и к Рюрику, основателю Российской империи и родоначальнику великих русских князей. Доказательством этому является тот факт, что первый князь Юрий Долгорукий приходился восьмым сыном Владимиру Мономаху, жившему в двенадцатом веке. Этот-то князь Юрий и основал город Москву и стал первым великим князем Московским, став во главе наиболее значительного и обширного княжества того времени. Александр II придавал большое значение знатному и древнему происхождению своей жены… Свое отношение к ней он старался сделать явным и желал, чтобы она присутствовала на всех семейных приемах и воскресных обедах, куда допускались только члены императорской фамилии и где не появлялись морганатические супруги. Звание светлейшей княгини Юрьевской, дарованное Александром II своей второй жене, имело под собой серьезные и законные основания: это имя носил митрополит Филарет, в миру Федор Никитич Юрьев. Он был боярином при дворе царя Федора Иоанновича, в конце XVI столетия. Выбор такого имени для жены был оправдан двумя причинами: родом супруга, восходящим к XVI веку, и родом супруги, восходящим к XII веку через Юрия Долгорукова».
Уже из приведенного текста видно, что это не умозаключения княгини Юрьевской, а результат серьезной проработки вопроса в архивах. Достоверно известно, что поиски в московских архивах в части родословной Долгоруких велись, и были получены результаты, подтверждавшие родословную княгини Юрьевской. В общем, за выбранной формой воспоминаний о прожитых днях в марте 1881 года скрывалось изложение целой программы предстоявшей коронации русской императрицы, выбранной императором Александром II в одной из древнейших русских фамилий, с целью полностью удовлетворить основные российские сословия, дворян и крестьянство, предоставив им достойное представительство во власти. В русском образованном обществе книга произвела тихую сенсацию. Можно себе представить, каково было читать такие воспоминания княгини Юрьевской внуку барона де Гранси, попавшему на русский трон в результате убийства царя-реформатора!
По книге рассыпано много других сведений, которые были доступны княгине, упоминаемых вскользь, без конкретизации, но, безусловно, заслуживающих внимания ввиду высокой степени информированности автора. Со слов Юрьевской, за день до роковой поездки императора на развод войск в Манеж от министра внутренних дел Лорис-Меликова были получены заверения, «что на пути следования императора к манежу будут приняты все человечески возможные меры предосторожности». Отдавая должное деятельности Лорис-Меликова на посту министра, княгиня вынуждена была констатировать, что на месте преступления, то есть вдоль всей набережной Екатерининского канала, отсутствовала организованная охрана проезда государя. Факт этот, никогда не упоминавшийся у российских исследователей, очень точно зафиксирован в книге Виктора Лаферте. Тем не менее Лорис-Меликов попал в список ближайших сотрудников Александра II, составленный княгиней, и удостоился нескольких комплементарных пассажей. Характеристики министров из ближайшего окружения убитого императора в книге звучат так, как будто княгиня сама принимала участие в их назначении. Говоря о формировании кабинета министров, княгиня отмечала:
«Несмотря на неисчислимые трудности при назначении высших должностных лиц государства, императору Александру II удалось к концу его царствования окружить себя избранными умами, сформировавшими Совет министров. Назовем среди них графа Милютина, графа Лорис-Меликова, графа Адлерберга, министра финансов Абазу. Высокий ум этих четверых деятелей, окружавших трон Александра II, служил для русского народа надежной порукой тому, что важнейшие государственные дела доверены высокоталантливым людям, вселяющим надежду на процветание страны».
Особое место в управлении страной княгиня Юрьевская отводила брату императора, великому князю Константину Николаевичу. В описании княгини Константин Николаевич — мозговой центр управления, многолетний председатель Госсовета и правая рука императора. Все важнейшие государственные решения проходили через его руки, включая назначения ключевых министров. Княгиня с негодованием отвергла все грязные обвинения великого князя в тайных замыслах против императора, рождавшиеся в аристократических кружках, близких к наследнику. При этом Екатерина Михайловна показала свою политическую прозорливость, которая вполне применима к некоторым моментам современной российской истории:
«В России имеется многочисленная партия реакционеров, которые стремятся к возврату исконной примитивной организации и не видят никакой разницы между либерализмом и радикализмом. Реакционеры эти преследуют просвещенный класс либералов, которых они смешивают с революционерами или радикалами. Они несправедливо причисляют к ним и всех приверженцев либеральных реформ, прославивших царствование Александра II.
Клевета на великого князя Константина простерлась вплоть до обвинения его в оппозиционности государю. Александру II было небезызвестно об этих клеветнических атаках, но он не придавал им никакого значения, и они ни в чем не умаляли его доверия к брату. Нет сомнения в том, что великий князь Константин займет славное место в навеки памятной истории царствования своего именитого брата Александра II… Мыслящая часть русской нации сумеет оценить его высокие способности и отдать справедливость его великим заслугам. И хотя ныне великий князь Константин отказался от политической жизни и живет в уединении, о нем всегда будут помнить все, кто его знал».
Учитывая то обстоятельство, что к моменту выхода книги Виктора Лаферте все пять, упомянутых Юрьевской деятелей пребывали в отставке, такого рода оценка правительства Александра II звучала как прямое указание на произошедший 1 марта 1881 года государственный переворот.
Далее княгиня разъяснила детали оставленного императором завещания. В этом немаловажном вопросе среди историков до сих пор нет единомыслия. Возможно, разночтения происходят из обычной неосведомленности или нежелания признать книгу Екатерины Юрьевской, подписанную псевдонимом Виктор Лаферте, историческим документом.
Во всяком случае, княгиня предельно ясно объяснила общественности, как распорядился своими личными активами покойный монарх:
«Обратимся теперь к вопросу о состоянии, которое император Александр II завещал своей семье. Оно было поделено на равные доли между супругой и всеми сыновьями его величества, обладавшими титулом великих князей. Таким образом, княгиня вместе с тремя детьми получила сумму в три миллиона рублей. Установив меньшую долю состояния для своих детей от второго брака, император еще раз представил блестящее доказательство своей деликатности и совестливости; ибо сумма, завещанная его второй семье, происходила из капитала, накопившегося за немногие годы сбережений в его личной казне». Наряду с этим княгиня Юрьевская посчитала уместным озвучить милости, которые исходили от Александра III: «Узнав о подробностях завещания покойного отца, нынешний император Александр III нашел, что вдове и трем ее детям этого недостаточно. Поэтому он велел купить для княгини и ее семьи небольшой мраморный дворец старшего сына великого князя Константина. Более того, его величество назначил княгине годовое содержание в сто тысяч рублей, чтобы доходы с ее личного состояния могли со временем увеличить предназначенный ее детям капитал». Приведенные вдовой данные о полученной ею недвижимости и выплатах впечатляли.
Образ княгини Юрьевской после выхода книги Виктора Лаферте в представлении русского образованного общества изменился. Стало ясно, что рядом с Александром II стояла неординарная женщина, не считаться с которой невозможно. Можно не сомневаться, книга попала в руки Александру III не позднее мая 1882 года и произвела нужный эффект. Особенное впечатление оставляла пятая глава книги, где поднималась тема равнородства брака княгини Юрьевской с императором Александром II и, следовательно, его легитимности. Упоминание о документах, которыми она располагает, произвело на внука барона де Гранси, добравшегося до русского трона, отрезвляющее действие. Широкое обсуждение легитимности семейного клана детей императрицы Марии Александровны в европейской прессе не входило в планы Александра III. Ошибка с выталкиванием Юрьевской из Петербурга оказалась фатальной. В Париже единовременно оказались три самых серьезных оппонента императора: великий князь Константин Николаевич, бывший министр внутренних дел Лорис-Меликов и вдова Александра II. Незадачливый монарх срочно дал задний ход. В ответном письме княгине Юрьевской император, как мог, смягчил свое бестактное поведение и, главное, заверил ее, что она может приезжать в Россию в любое время.
Екатерина Михайловна приняла извинительный тон «милого Саши», но в письме к императору от 2 января 1883 года позволила себе заметить:
«Благодарю Вас за письмо, полученное 1 декабря, оно меня очень успокоило… Что касается глупой книги Лаферте, я никогда о ней не упоминала в моих письмах к Вам, так как я уверена, что Вы понимаете, что писать книгу анонимно есть вещь для меня невозможная по той простой причине, что ни у кого нет таких документов, как у меня. Вы должны меня слишком хорошо знать, чтобы не сомневаться в том, что я не думала и не думаю писать никаких книг, романов и т. п.».
Александру III, которому были адресованы эти строки, следовало понимать, что книга Лаферте — только начало, у которого может быть совсем другое продолжение.
Далее отношения императора и вдовы развивались вполне конструктивно. Император осознал, что произведенных по завещанию отца платежей и имущественного обеспечения семьи убитого отца недостаточно. Договорились продолжить обсуждение возникших проблем сразу после коронации Александра III. Такая встреча Екатерины Юрьевской и коронованного императора произошла, но содержание переговоров, разумеется, никому неизвестно. Разве что какую-то определенность можно извлечь из слов самого Александра III, записанных им в дневнике, сразу после разговора с Юрьевской: «…были тяжелые минуты, были разные столкновения, недоразумения и щекотливые объяснения, но в конце концов устроились наилучшим образом, и надеюсь, больше не будет никаких недоразумений и что все пойдет как следует» [12]. Разговор имел место в Ливадии в октябре 1884 года. Сам факт встречи Александра III и княгини Юрьевской в Ливадии тщательно скрывался, и до сих пор о нем мало что известно. Однако известно другое: для вдовы все устроилось действительно наилучшим образом, но за границей. Такова была договоренность. Зато в обмен на политическую лояльность вдова получила самую высокую степень пожизненного финансового обеспечения.
Глава 3 Концы в воду
Отставка министра внутренних дел графа Лорис-Меликова, последовавшая в апреле 1881 года, на самом деле была неизбежной. И дело здесь было совсем не в Манифесте от 28 апреля 1881 года. Лорис-Меликов стал не нужен уже 1 марта, в день убийства Александра II. Все совещания с министрами, которые проводил Александр III в марте-апреле, имели единственную цель — «выпустить пар» и показать окружению убитого отца свою лояльность к родителю и желание разобраться в направлении его внутренней политики.
Заявление об отставке Лорис-Меликова и его отъезд из Петербурга на самом деле были восприняты императором с глубоким удовлетворением. Лорис-Меликов мешал проведению полной зачистки «Народной воли» как самое информированное лицо в следствии по делам террористов. После казни исполнителей убийства императора в Петропавловской крепости находились два десятка арестованных участников преступной организации во главе с ее Хозяином. Необходимо было подвести черту под всем делом с помощью суда, который был бы, с одной стороны, продолжением процесса над группой Желябова и Кибальчича, с другой — показал бы второстепенность подсудимых. Так как в действительности выведенные на процесс 23 обвиняемых составляли актив организации во главе со своим руководителем Александром Михайловым, скрыть или затушевать такое обстоятельство в открытом процессе было невозможно. Поэтому было принято решение провести максимально формализованный процесс, допустив в зал заседаний только чиновников МВД. В прессе процесс вообще не освещался, за исключением короткого сообщения 21 февраля 1882 года в «Правительственном Вестнике», с небольшими выдержками из обвинительного заключения и приговора. Организаторы процесса, вошедшего в историю как «Процесс 20-ти», решали весьма трудную задачу. Наработанный следствием обвинительный материал порождал массу вопросов, на большинство из которых у следствия были обоснованные ответы. Так, следствие располагало неопровержимыми доказательствами роли Александра Михайлова в качестве организатора и главного координатора всей деятельности «Народной воли». Кроме этого, следствию удалось установить, что «Народная воля» именно через Михайлова имела устойчивое финансирование из неизвестного источника. Идеологическая составляющая организации, ее программа, устав и печатный орган тоже не вызывали вопросов, являясь простым, непритязательным прикрытием главной цели деятельности организации — ликвидации Александра II. Следственная работа, проведенная, по большей части, под руководством министра внутренних дел Лорис-Меликова, позволяла провести более чем громкий процесс над террористами и недвусмысленно определить существование организации «Народная воля» как ангажированной преступной структуры, обслуживавшей интересы заказчика. Такая постановка вопроса была абсолютно неприемлема для Александра III, который явно стремился «спустить на тормозах» дело об убийстве отца.
При этом необходимо было, по возможности тихо, вывести из игры главную фигуру так называемой «Народной воли» — Александра Михайлова. Материалы следствия были переданы в судебную инстанцию Особого присутствия Правительствующего сената (ОППС) в декабре 1881 года, после Высочайшего повеления, последовавшего 9 декабря. По оперативности, с которой дело проходило в ОППС, можно судить о том, что материалы были предварительно изучены в другой инстанции, которую представлял товарищ министра внутренних дел генерал П. А. Черевин. Министром, как известно, в это время был уже граф Игнатьев Н. П., но подготовкой дела «20 террористов» [13] для ОППС занимался именно Черевин.
Главной задачей Черевина на процессе было создание максимально комфортных условий для своего агента Михайлова, дабы избежать, по возможности, разоблачений, которые могли возникнуть вдруг, по ходу процесса. В этих целях была разработана специальная «технология», которая предусматривала разделение всей массы следственного материала на отдельные темы и эпизоды, с соответствующим делением на группы всех обвиняемых. Всего в обвинительном акте получилось 14 разделов, из которых общим для всех был раздел № 14 «Принадлежность обвиняемых к преступному сообществу». Исходя из того, что наиболее убийственные показания на Михайлова дал на следствии чиновник Департамента полиции Н. В. Клеточников, их развели с Михайловым по разным разделам обвинения, так чтобы они вообще не столкнулись друг с другом во время суда. Клеточников обвинялся по разделу № 13 «Вспомогательная преступная деятельность обвиняемых Люстига и Клеточникова».
Главным пунктом обвинения был раздел № 12 «Злодеяние 1-го Марта 1881 года». Так как Михайлов вообще не обвинялся по этому разделу, то ему пришлось писать в ОППС специальное заявление для участия в соответствующем заседании:
«Г. Первоприсутствующему,
Особого Присутствия
Правительствующего Сената
для слушания дел
о государственных преступлениях.
Заявление Александра Михайлова.
Обвинительный акт утверждает, что при начатии о мне дознания, в декабре 1880 года, обнаружено было приготовление к новому покушению, впоследствии выразившемуся в деянии 1-го Марта 1881 года.
Хотя я и не обвиняюсь в участии в этом событии, но вышеупомянутый факт настолько важен, что его необходимо выяснить. Кроме того, событие 1-го Марта дает окраску всему сообществу и, для того чтобы признать участие в этом сообществе, необходимо знать мотивы, цели и объяснения обвиняемых по цареубийству, с многими из которых я даже лично не был знаком. Само же по себе деяние 1-го Марта еще не дает понятия о том, к какому лагерю принадлежат люди, совершившие его. На основании изложенных соображений я покорнейше прошу Суд допустить меня к слушанию судебного следствия по этому делу, отчего будет зависеть и самая обстоятельность моих объяснений в указанном смысле. Прошу приобщить настоящее заявление и резолюцию Суда на него к делу.
Дом Предварительного заключения 10 февраля 1882 года, 11 часов утра. С. Петербург» [14].
Резолюция г. Первоприсутствующего П. А. Дейера, оставленная на документе, была краткой: «Иметь в виду».
Этот бесподобный документ родился сразу после ознакомления Михайлова с обвинительным актом и был заранее согласован с Черевиным. Отсутствие Хозяина на судебном заседании по делу «1-го Марта» произвело бы в среде подсудимых «революционеров» самое невыгодное впечатление и могло развязать языки. Подозрительный арест Михайлова в ноябре 1880 года, аресты в январе-феврале 1881 года и без того бросали густую тень на героический образ Хозяина.
Ход Михайлова с заявлением был беспроигрышным. Михайлов писал и другие заявления в адрес Первоприсутствующего: относительно вызова в суд свидетелей, которые могли подтвердить те или иные обстоятельства, и всегда встречал внимательное отношение Первоприсутствующего, а главное — немедленную его реакцию.
Несмотря на всевозможные меры по ровному течению процесса, избежать небольшого скандала не удалось. Все случилось 10 февраля 1882 года, когда суд рассматривал раздел № 10 обвинительного акта «Подготовка взрыва под Каменным мостом», где фигурантом, среди прочих, был и Михайлов. Защитник одного из обвиняемых В. А. Меркулова, присяжный поверенный Шнеур обратился к Первоприсутствующему с просьбой выяснить у своего подзащитного его знакомство с идеями партии. Ответ обвиняемого Меркулова всех обескуражил:
«Меркулов: Я хорошенько не понимал и не понимаю и теперь, что, собственно, они хотели. Меня увлек Желябов. Я действительно был недоволен и хозяином, и полицией, а такому рабочему нетрудно доказать, что виноват во всем этом не хозяин, а государь. Когда я к ним поступал, они меня соблазняли тем, что я ничего не буду делать, а только исполнять их поручения, — нет, я, напротив, почти все время работал… только когда у меня совсем не было работы, я получал от них деньги, и то очень мало, так что случалось даже иногда, что дня два ничего не ел». В простых и понятных словах рабочий парень Меркулов разъяснил суду и методы вербовки «Народной воли», и порядок взаиморасчетов с наемным персоналом. Далее Меркулов, вполне осознав свое положение по ходу судебного разбирательства, развил свою мысль и уточнил замысел, связанный с минированием Каменного моста, по которому должен был проехать Государь в июле 1880 года:
«Меркулов: Кроме мины под Каменным мостом, это предприятие должно было быть обставлено еще и метальщиками, которые с заготовленными снарядами должны были находиться возле моста, на случай неудачи главного взрыва под мостом. Таких метальщиков, сколько я помню, должно было быть четыре, и Михайлову предназначалось заведование ими и размещение их на назначенных постах. У него самого снаряд должен был быть вделан в высокую шляпу так, чтобы он взорвался, когда Михайлов при проезде Государя бросил бы вверх шляпу.
Прокурор просит занести это показание Меркулова в протокол как содержащее новые данные».
Затем Меркулов, сжигая за собой все мосты, обрушился на «Народную волю» со всей силой рабочего гнева:
«Меркулов: Прежде я давал более сдержанные показания, не желая особенно оговаривать себя самого и других; в настоящее время я больше не хочу выгораживать ни себя, ни других, которые побудили меня на преступление. Я нахожу, что все, кто участвовал, должны равно и платиться, и никого не хочу выделять. Перед этим приготовлением в разных местах устраивались сходки, на которых присутствовали различные лица и где обсуждали подробности предполагавшегося. Кроме того, всеми путями старались привлечь рабочих и простолюдинов к участию в предприятиях партии; с этой целью для них устраивались пирушки, угощали водкой, давали денег, приглашали женщин и т. п.». Разоблачительные сведения, приведенные Меркуловым на заседании суда, последствий не имели. По разделу № 10 обвинительного акта Михайлов был оправдан. Эпизод с Меркуловым в советской историографии заклеймен как подлое предательство, но в действительности это яркое свидетельство «народовольческой кухни», очень похожей на практику уголовников. Кроме взрыва моста, Михайлов обвинялся еще по трем пунктам обвинительного акта, где он старался принизить свою роль или свести ее к незначительному содействию.
Для подготовки к процессу Михайлову были выданы тетрадь и писчие принадлежности, где он вел свои записи, касающиеся обвинительного заключения и хода самого процесса. Тетрадь впоследствии каким-то образом попала к известному исследователю русской революции и «Народной воли», в частности В. Л. Богучарскому, а после его смерти оказалась в качестве экспоната в Музее революции. «Тюремная тетрадь» [15] Александра Михайлова — это записки человека, который вел тщательную подготовку к процессу, где он был главным обвиняемым, точнее должен был быть. Из его подробных записей видно, что человек готовился всеми силами выгораживать себя, во всех эпизодах, где его непосредственное участие зафиксировало обвинительное заключение. Надо отдать ему должное: логическое мышление и знание психологии своих подельников у Михайлова было на высоте. Он блестяще справился со своей задачей — потеряться среди подельников, как равный среди равных, раствориться в общей массе, ничем не выдав своей ведущей и определяющей роли. Для создания определенного фона Михайлов оставил в тетради наброски своих сольных выступлений, включая последнее слово. Этими жалкими кусками «социалистической риторики» он не воспользовался на суде, скорее всего, сознавая их искусственность и незрелость. Как музейный экспонат «Тюремные тетради» Михайлова, возможно, интересны, как образец аналитической работы двойного агента, попавшего в экстремальную ситуацию. Бодрости духа Михайлов не терял ни на минуту и после окончания процесса написал своей тетке Анастасии Вартановой следующие знаменательные строки:
«17 марта 1882 г. Крепость.
Милая, родная тетя Настенька!
Я совершенно в нормальном, спокойном настроении духа. Читаю, пишу письма, а более всего живу мыслью среди любимых людей. Не чувствую страстных, жизненных влечений, но и безразличное состояние чуждо моему теперешнему настроению. Нет, я спокоен так, как человек, исполнивший свою работу и не обремененный еще новой. Желаю и надеюсь сохранить такое приятное спокойствие до конца…».
Это написано человеком, которому суд, в числе 10 обвиняемых, 15 марта 1882 года определил: «…лишив всех прав состояния, подвергнуть смертной казни через повешение».
Примечательно, что именно в этот день, 17 марта, приговор был конфирмован Александром III, при этом казнь через повешение была заменена вечной каторгой. Расстреляли только минного офицера Суханова, изменившего присяге. Целый месяц потребовался императору и его ближайшему советнику генералу Черевину для подготовки способа решения судьбы главного действующего лица «Народной воли» — Александра Михайлова.
Для приведения в действие утвержденного императором плана взаиморасчетов с террористами комендант Петропавловской крепости генерал-адъютант Ганецкий получил соответствующие указания и рапортом, с грифом «Совершенно секретно», за № 188 от 27 марта 1882 года, на имя директора Департамента полиции, доложил:
«Вследствие отношения Вашего превосходительства, от 26 марта за № 296, содержащиеся в Трубецком бастионе государственные преступники, осужденные к каторжным работам: Александр Михайлов, Николай Колодкевич, Михаил Фроленко, Григорий Исаев, Николай Клеточников, Александр Баранников, Айзик Арончик, Николай Морозов, Мартын Ланганс и Михаил Тригони, — в ночь на сие число, при полном порядке и тишине, переведены в Алексеевский равелин и заключены в отдельные покои, с содержанием, впредь до подробных указаний, на общем основании заключаемых в равелине.
Генерал-адъютант — Ганецкий» [16].
Ночная операция по переводу осужденных преступников из Трубецкого бастиона Петропавловской крепости в отдельно расположенный за крепостной стеной Алексеевский равелин завершила первую часть плана изъятия их из жизненного оборота. Для большинства этих людей перевод означал вступление в процесс умирания от жутких болезней, но всего лишь для одного — начало новой жизни.
Глава 4 Смерть, которой не было
В фонде Петропавловской крепости исторического архива в Санкт-Петербурге хранится дело «О смерти арестанта Алексеевского равелина Александра Михайлова» [17]. На первый взгляд, дело ничем не примечательно, и все содержащиеся в нем документы говорят только о смерти конкретного человека и ни о чем больше. Во всяком случае, так его воспринимали все, кому приходилось его листать. Возможно, кто-то думал иначе, но предпочел не высказываться. Времени прошло много, и неизбежные вопросы возникли сами собой. За каждым отдельно взятым листом дела чувствуется напряжение исполнителей за поручение, исходившее с самого верха… Все документы, направленные из крепости во внешний мир, помечены грифом «Совершенно секретно», что само по себе особой интриги не составляет.
Все началось с рапорта коменданта крепости Ганецкого на имя директора Департамента полиции от 10 марта 1884 года за № 49:
«Старший врач Комендантского Управления крепости, Действительный Статский советник Вильмс, рапортом от 8 текущего марта за № 99, донес, что у содержащегося в Алексеевском равелине в камере № 1 арестанта (ссыльно-каторжный государственный преступник Александр Михайлов), страдавшего до того эпидемическим катаром воздухоносных путей, в настоящее развилось остро катаральное воспаление обоих легких с опасным для жизни характером. О чем долгом считаю поставить в известность Ваше Превосходительство.
Генерал-адъютант Ганецкий».
Так как доктор Вильмс не занимался в Алексеевском равелине собственно врачеванием, такого в личной тюрьме Романовых не предусматривалось вообще, то тревожное сообщение могло означать только одно — арестанту из камеры № 1 жить осталось не более недели. Очевидно, что для инстанции сообщение Коменданта имело некий смысл, заключавшийся в немедленной передаче информации на самый верх и получении необходимых указаний. Событие не заставило себя долго ждать, и доктор Вильмс немедленно доложил о нем своему шефу рапортом № 25 от 18 марта 1884 года:
«Коменданту С. Петербургской крепости
от Старшего врача Управления
доктора Вильмса.
Содержавшийся в камере № 1 Алексеевского равелина арестант, именовавшийся по заявлению Смотрителя того Равелина Александром Михайловым, сего марта 18 числа 1884 года умер в 12 часов дня от остро катарального воспаления обоих легких, перешедшего в сплошной отек обоих легких.
Доктор Г. Вильмс».
Престарелый Вильмс предпочел сослаться на Смотрителя равелина при определении имени покойника, так как только он знал точно, кто был заключенным камеры № 1. В свою очередь, Смотритель, следуя своей инструкции, уведомил коменданта:
«Содержавшийся в Алексеевском равелине С. Петербургской крепости, ссыльнокаторжный государственный преступник Александр Михайлов сего 18 марта в 12 часов полдня умер. О чем имею честь донести Вашему превосходительству.
Смотритель равелина — Капитан Соколов».
В вышеприведенных документах нет ничего такого, что могло бы насторожить исследователя, кроме технологии, которой придерживался доктор Вильмс, точно определявший примерную дату окончания курса терапии и его полное незнание, кого он, собственно, наблюдает. Такова была суровая действительность.
Коменданту крепости Ганецкому пришлось 18 марта изрядно потрудиться над составлением бумаг с распоряжениями собственным подчиненным. Смотрителю равелина: Предписание об исключении из списков, содержавшихся в Алексеевском равелине; Заведующему арестантскими помещениями майору Леснику о приеме тела Михайлова и помещении его в «нижнем этаже Екатерининской куртины».
Куда большее значение имели доклады Ганецкого во внешний мир и прежде всего лично императору, министру внутренних дел и директору Департамента полиции. Все они были написаны немедленно, как будто отрепетированные заранее.
В тот же день Ганецкий получил сообщение от директора Департамента полиции:
«Милостивый Государь! Иван Степанович.
Уведомляю Ваше Превосходительство, что для принятия тела скончавшегося сего числа секретного арестанта будет командирован в крепость, после 1 часа ночи, пристав 1-го участка Петербургской части.
В. Плеве».
Вслед за сообщением директора Департамента полиции Ганецкому поступило «Распоряжение о приеме тела с последующим захоронением» из Отделения по охране порядка и общественной безопасности Санкт-Петербургского градоначальства. Таким образом, вопрос смерти узника камеры № 1 Михайлова и его захоронения на одном из городских кладбищ был решен моментально, в течение одного дня. Оперативность и точность исполнения операций по избавлению от трупа поражают. Создается впечатление, что за подобной оперативностью стоит как минимум последнее условие выполнения сверхважного контракта.
Всего в «Деле о смерти арестанта Александра Михайлова» 17 листов, из которых несколько страниц посвящено оставшемуся имуществу покойного, которое будто бы никому не было интересно. Список состоял из 31 позиции и представлял собой джентльменский набор состоятельного господина, включавший пару чемоданов, полный комплект верхней и нижней одежды, шляпу, галстук, шейный платок, перчатки и предметы гигиены. Из всего имущества Департамент полиции затребовал себе на хранение: деньги (47 руб. 55 коп.), очки в золотой оправе, фотографии, книги, образа и золотой крест. Остальное имущество подлежало сожжению.
После смерти Михайлова всех узников равелина перевели в крепость Шлиссельбург.
Известный русский историк П. Е. Щеголев в разное время обращался к теме Алексеевского равелина в нескольких публикациях в журнале «Былое», затем составивших сборник «Алексеевский равелин» [18], увидевший свет в 1929 году. Там он подробно описал единственную тюрьму, в которую можно было попасть только с личного ведома императора, когда смертная казнь не была возможна в силу разных причин. Щеголев сумел отметить интересную особенность Алексеевского равелина, где узники могли быть записаны под любым именем и с ним отправиться на небеса, в зависимости от политических или иных соображений. Ситуация, когда о том, кто сидит в той или иной камере, знал только смотритель, вовсе не выглядит необычной. Хотя Щеголев коснулся темы пребывания Александра Михайлова в Алексеевском равелине только косвенно, да и то со слов Петра Поливанова, якобы слышавшего голос Михайлова, когда сидел в равелине одновременно с Михайловым, но это упоминание вызывает большие сомнения. Более близким к действительности является свидетельство смотрителя равелина капитана Соколова в передаче Михаила Тригони:
«Уже в бытность в Шлиссельбургской крепости, когда в соседней с моей камерой умирал Исаев, я пригласил доктора и просил обратить внимание на него, прибавив при этом, что из 11 человек, которые были в равелине по нашему процессу, они уже замучили там в короткое время 6 человек. Соколов, который здесь же присутствовал, вмешался в разговор и сказал: «И совсем неправда, не 6. Во-первых, у того, который со мной служил, — Соколов фамилии не назвал (Клеточников) — еще на воле была чахотка, а во-вторых, с другим случилось совсем другое». На мой вопрос: что же другое? Соколов сказал: «Это оставим». Соколову можно поверить, что «с другим случилось совсем другое», т. е. этот другой не умер «естественной» смертью… Обо всех умерших в равелине нам известно, так как с ними были сношения. С одним Александром Михайловым не было сношений. Значит, Александр Михайлов и есть этот «другой». Знали мы еще о Михайлове, что он болел, так как во время прогулки слышали голос доктора из его камеры» [19].
Сам Щеголев описал смерть Александра Михайлова по документам из фонда Петропавловской крепости и даже позволил себе сентенцию, характерную для того времени:
«Так сошел в могилу, на 29-м году жизни, один из достойнейших и благороднейших революционеров, которых когда-либо знала история. Неоцененный страж и хозяин-устроитель революционных организаций, блюститель революционной дисциплины, Александр Дмитриевич Михайлов был фанатически предан революции».
Действительно ли опытный историк и журналист Щеголев думал именно так, как написал? Вряд ли. Скорее всего, ключевым в этой тираде является слово «недооцененный». Уж слишком явной и, главное, немотивированной была полная изоляция так называемого «Михайлова» в камере № 1: без прогулок, без возможности перестукивания. Бесспорным в данном случае остается сообщение Михаила Фроленко, что Михайлова после суда вообще никто не видел. Именно такое утверждение ставит все на свои места: Михайлов после суда был изъят из Трубецкого бастиона и через внутреннюю тюрьму Департамента полиции на Фонтанке, 16, покинул Россию.
В Алексеевском равелине записанным под фамилией Михайлов умер кто-то другой. Руководил всей этой нехитрой операцией директор Департамента полиции В. К. Плеве. Именно за точное исполнение указаний императора в отношении Александра Михайлова Плеве удостоился ордена Св. Анны 1-й степени, стал сенатором и товарищем министра внутренних дел.
После суда Михайлов, полностью легализованный как отпетый террорист, смог начать новую жизнь под другим именем и с другими возможностями, забыв, как кошмарный сон, свои приключения в Петербурге.
Его немногие уцелевшие товарищи еще долго вспоминали самого дисциплинированного и осторожного соратника, так глупо попавшегося в лапы полиции и сгоревшего в застенке. Нет никаких сомнений, что такой вариант развития событий просматривали как Щеголев, так и Богучарский, но в условиях советского окружения развивать подобные мысли было просто небезопасно. Ко всему, две пламенные революционерки В. Н. Фигнер и А. П. Корба, доверяя больше своему женскому «чутью», делали все, чтобы с помощью революционной патетики скрыть явные каверны в образе Хозяина «Народной воли». Их коллективный труд «Народоволец А. Д. Михайлов» [20] не был поддержан даже советской властью.
Александр III Романов, похоронив опасного персонажа, завершил свое восхождение на российский трон, подведя черту под взаиморасчетами с заинтересованными сторонами, и мог спокойно обратиться к другой немаловажной проблеме — укрепления положения ветви малоизвестного барона де Гранси на могучем дереве семейства Романовых.
Часть II Кривая бумеранга
Глава 1 Реформа Фамилии
Управление Россией при Александре III почти безоговорочно признается всеми историками успешным, и прежде всего ввиду отсутствия в этот период войн и региональных военных действий. Только на этом основании император Александр III заслужил прозвище «миротворца». Все публикации последнего времени — это своеобразный коллективный панегирик одному из самых одиозных правителей России, растоптавшему все реформы Александра II, извратившему российскую внешнюю политику и фактически подготовившему будущую европейскую конфронтацию. Вал комплементарных изданий с навязчивой аргументацией в пользу твердого управления и сожалением, что годы, отмеренные Александру III, были короткими, заставляет думать, что имеет место внешний заказ, в расчете на заблуждение неосведомленной публики. Источник подобной литературной активности легко вычисляется по огромному желанию утвердить образ последних Романовых в качестве незаслуженно пострадавшей стороны, а императора Александра III — бесспорным лидером, которого безвременно призвал к себе Господь.
Наряду с литературой явно комплементарного характера имеются и труды, написанные без оглядки на мнимое величие и опирающиеся на реальный контекст, и упрямые факты, без которых не бывает настоящей исторической науки.
Вопиющая посредственность во всех своих проявлениях, Александр III тем не менее обнаруживал в некоторых принципиальных моментах удивительную осторожность, вовсе не свойственную по-настоящему глупым людям. В такие моменты в действие вступала какая-то посторонняя сила, корректировавшая его поведение и определявшая конечный результат. Такой движущей силой в жизни Александра III, а впоследствии и его сына Николая, была супруга, императрица Мария Федоровна. Дочь датского короля Кристиана IX и королевы Луизы, урожденная принцесса Дагмар, была четвертым ребенком в королевской семье. Своих трех дочерей родители воспитывали в строгости и дали им неплохое образование, нацеленное на будущее серьезное замужество. Девушек обучали, кроме обычной грамотности, иностранным языкам, музыке и рисованию. Такой практицизм родителей дал свои плоды, и все три дочери датского короля были отлично пристроены во владетельных европейских домах. По явным отличительным качествам король Христиан IX называл своих дочерей: «Красивая», «Добрая» и «Умная». Как и принято в старых, добрых сказках, старшую «Красивую» Александру получил принц Уэльский Александр; младшая «Добрая» Тюра досталась герцогу Кумберлендскому Эрнсту, ну а для средней дочери Дагмар удалось организовать помолвку с русским цесаревичем Николаем, старшим сыном императора Александра II.
Все складывалось как нельзя лучше, если бы не болезнь цесаревича Николая, начавшая вдруг быстро прогрессировать. Цесаревич угас в апреле 1865 года в Ницце, где многочисленные врачи пытались его спасти от тяжкого недуга. Наследником русского престола по закону стал его брат Александр, которого совсем не готовили к участию в управлении. На простом языке это означает, что Александр получил формальное образование, регулярно посещая учебные кабинеты Зимнего дворца. Специальными знаниями не обладал, писал, делая смешные ошибки, и лучше всего усвоил язык и манеры гвардейского офицерства и полковые порядки. По тем временам этого было более чем достаточно. Что касается принцессы Дагмар, то она подходила в качестве невесты цесаревичу Александру почти идеально, но по соглашению родителей огорченной смертью жениха девушке дали небольшое время для грусти и привыкания к новому облику жениха. Специально прибывший в Данию цесаревич Александр в июне 1866 года официально был помолвлен с принцессой Дагмар и, как говорят, торопил родителей со свадьбой.
Вскоре Дагмар утешилась настолько, что смогла написать своему новому жениху несколько строк, проникнутых новым красивым чувством:
«Мой милый душка Саша! Я даже не могу описать, с каким нетерпением я ждала твое первое письмо и как была рада, когда вечером получила его. Я благодарю тебя от всего сердца и посылаю тебе поцелуй за каждое маленькое нежное слово, так тронувшее меня. Я ужасно грустна оттого, что разлучена с моим милым, и оттого, что не могу разговаривать с ним и обнимать его» [21].
Как известно, Дагмар была большой мастерицей писать письма, правда, делала это только на французском языке. Что касается ее нового жениха, эпистолярный жанр не был его излюбленным коньком, и можно себе представить, какие муки творчества испытал Александр, трудясь над первым письмом своей невесте. Так или иначе, цесаревич Александр Александрович вытянул свой счастливый билет в лотерее невест. Вместе с цесаревичем «Умная» принцесса Дагмар стала самым ценным приобретением для всей ветви барона де Гранси, удержав ее в ранге императорской фамилии во все времена, вплоть до краха 1917 года.
По приезде в Россию в сентябре 1866 года Дагмар приняла православие и стала великой княгиней Марией Федоровной, а вскоре и супругой наследника. Под этим именем она и вошла в русскую историю, став самым ярким представителем последних Романовых, сделавшей все от нее зависящее для предотвращения их бесславного конца. Настоящая ее роль в последующих событиях еще мало изучена, но и то, что известно, дает основание полагать, что эта миниатюрная женщина вовсе не была статистом на крутых поворотах текущих событий и имела смелость брать на себя руль управления. Ее бесспорный практический ум позволял ей это делать, оставаясь в тени, не выходя на передний план, избегая ненужной демонстрации.
Супружеская близость с императором Александром III позволяла ей делать то, что в обиходе называют работой на дому.
Мария Федоровна издалека почувствовала кризис, связанный с появлением княжны Долгорукой и ее детьми рядом с императором. Зная досконально всю подноготную своего душки Саши и его нелегитимные корни, она остро почувствовала перспективу возвращения в родную Данию, но уже в качестве частного лица, в компании со своим несчастным мужем. Чтобы этого избежать, необходимо было действовать, и она действовала: привлекла в Аничков дворец и сделала близким человеком генерала Черевина, как могла, двигала его по службе, и через него создала механизм устранения престарелого императора. Механизм сработал точно по заданному времени, и вот ее душка Саша — император, а она — императрица. Только практичность Марии Федоровны не позволила Александру III опуститься до прямой мести людям, желавшим ее возвращения в Данию. Умная Дагмар в делах предпочитала корректные взаиморасчеты. Каждый должен получить то, что заслужил. Чередуя мягкие увольнения с серьезными денежными компенсациями и используя действующие законы, императрица искусно управляла своим тяжеловесным мужем, расчищая площадку для счастливого царствования. На зачистку ушло два года, и после роскошной коронации венценосная пара начала свою полноправную жизнь на российском олимпе. Победа досталась дорогой ценой, и испытанный супругами стресс еще долго напоминал о себе. Нужно было, однако, с первых шагов позаботиться об укреплении занятых позиций и прежде всего своего положения среди императорской фамилии. Проект, который Александр III и его дальновидная супруга принялись продвигать сразу после коронации, касался переделки «под себя» основополагающего законодательного документа Российской империи — «Учреждения об императорской фамилии».
В ходе общей политической зачистки, последовавшей после убийства Александра II, был удален с политической сцены родной брат убитого императора великий князь Константин Николаевич, занимавший пост председателя Государственного совета. Воспреемником Константина Николаевича на этом важнейшем посту руководителя высшего законодательного органа стал дядя императора, великий князь Михаил Николаевич. По своим человеческим и деловым качествам он был откровенно слаб для такого рода деятельности, без всякого сравнения со своим предшественником.
Это обстоятельство стало совершенно очевидным с первых шагов Михаила Николаевича на новом поприще. Всю практическую работу по подготовке законодательных актов, в бытность председателем Госсовета великого князя Константина Николаевича, вел государственный секретарь Е. А. Перетц. Опытнейший чиновник, Перетц не устраивал императора только в одном отношении — своей долгой связью с великим князем Константином Николаевичем и возможностью неизбежных утечек. Так как должность госсекретаря была ключевой в структуре Госсовета, то удаление с нее Перетца было только вопросом времени. Час пробил в начале 1883 года, когда император предложил этот пост чиновнику Сената, тайному советнику А. А. Половцову. Александр Александрович Половцов, на котором остановил свой выбор Александр III, был ему знаком больше по Историческому обществу, где состоял председателем. Вполне возможно, что именно на заседаниях Исторического общества, которые посещал император, еще будучи наследником, обсуждалось «Учреждение об императорской фамилии» как исторический документ, и это обстоятельство случайно отложилось в памяти Александра III. Кроме того, Половцов не входил в ближнее окружение Александра II и был, с этой точки зрения, вполне самостоятельной фигурой. В чиновничьем мире он выделялся своей финансовой независимостью, обладая весьма крупным капиталом, доставшимся ему по наследству жены. Дом Половцова на Большой Морской, 52, отличался роскошью интерьеров и богатыми коллекциями прикладного искусства. Александр Александрович очень живо описал свое назначение в Дневнике:
«1 января 1883 г. Я назначен госсекретарем… Накануне… окончив пешеходную прогулку, я по обыкновению зашел в яхт-клуб, туда одновременно со мной приехал мой камердинер уведомить меня, что великий князь Михаил Николаевич прислал звать меня к себе как можно скорее. Я, разумеется, тотчас поехал к великому князю, который повел меня в свой кабинет, и здесь произошел приблизительно следующий разговор.
Великий князь: «Я имею сообщить Вам сюрприз, вот телеграмма, полученная мною сейчас из Гатчины от государя. Телеграмма содержала выражение желания государя, чтобы я был назначен на место госсекретаря, и поручение великому князю предложить мне это место». В разговоре великий князь пояснил, что заметил, что государь все больше и больше не доверяет Перетцу: «Впрочем, недоверие к Перетцу не есть выражение личного расположения, а тут есть нерасположение к брату Константину…»» [22].
Уровень чиновника, которому предложили должность госсекретаря, виден по антуражу, которым он окружен. Половцов запросто вхож в яхт-клуб, где бывает вся высшая аристократия столицы и члены императорской фамилии. За ним по срочному вызову спешит личный камердинер. Понятно, что такой человек был выбран не для рядовой работы. Какой участок ему отводится, он узнал из личной беседы с Александром III. Для начала император попросил регулярно, в письменном виде, давать ему краткие отчеты о законодательной и иной деятельности Госсовета — так называемые мемории. То же самое, но на французском языке Половцов должен был писать императрице. Кроме этого, новому госсекретарю было предоставлено право личного доклада императору по любому вопросу. Председатель Госсовета великий князь Михаил Николаевич, дядя императора, сильно заблуждался в части недоверия к госсекретарю Перетцу. Недоверие Александр III испытывал прежде всего к самому Михаилу Николаевичу, в чем ему скоро пришлось убедиться. Поставленный в такие исключительные условия госсекретарь Половцов вдруг оказался личным докладчиком царя и едва ли не самой влиятельной фигурой в его окружении. После того как мемории стали регулярно поступать от госсекретаря к императору и императрице, Половцов узнал от министра Двора графа И. И. Воронцова-Дашкова, что «Государь очень желает изменения учреждения об императорской фамилии». Встречаясь с министром двора в яхт-клубе, они живо обсуждали создавшуюся ситуацию в императорской фамилии, имея в виду как ее беспрерывное разрастание, так и огромные ресурсы, которые тратятся на ее содержание. Два джентльмена пришли в результате к единому мнению: «…всех этих принцев надо выделять из императорской фамилии, праздно живущей в Петербурге, давать им земельные майораты и обязывать жить в деревне; …нельзя разделять имущественный вопрос и вопрос о правах и преимуществах». При этом министр Воронцов и госсекретарь Половцов настолько «спелись», что единодушно решили настаивать «на необходимости этой меры и скорейшего проведения ее, покуда есть люди, как Воронцов и я, равнодушные к злобе императорского семейства, за уменьшение значения его членов». Воронцову нравился ход мыслей госсекретаря, и он, естественно, доложил императору, что найден человек, способный сдвинуть дело с мертвой точки.
В начале следующего, 1884 года Половцов был удостоен личной конфиденциальной беседы с императором, в ходе которой они обменялись откровенными мнениями о предстоящем деле:
«16 февраля. Аничков дворец.
Окончив доклад по делам Государственного совета, я попросил позволения перейти к делам, о которых не имел никакого права говорить. «Вы помните, государь, — сказал я, — что семь лет тому назад я подал Вам записку, в коей упоминал о необходимости изменить закон об императорской фамилии. В интересе значения верховной власти необходимо ограничить число лиц, пользующихся положением, которое присвоено императорским высочествам. Таких лиц 40 лет тому назад было 5, теперь — 23, следовательно, еще через 40 лет будет 115. Может ли Россия выдержать эту цифру? Если я решаюсь снова говорить Вам об этом, государь, то потому, что вследствие женитьбы великого князя Константина Константиновича является новая категория лиц императорского дома, правнуков императора. Следует решить вопрос, сохраняются ли за ними все присвоенные им ныне преимущества».
Государь: «Я об этом думал, и вследствие моего поручения министр двора, министр юстиции и граф Адлерберг обсуждают этот вопрос. Мне говорят, что это произведет большое неудовольствие против меня, конечно, жаль, что это начнется с великого князя Константина Николаевича, с которым отношения и так нехороши, но так как я считаю нужным это сделать для будущего, то не остановлюсь перед неудовольствием».
Я: «Конечно, лучше было бы по возможности уменьшить в Вашем семействе неудовольствие против Вас; если Вам понадобится человек, который для пользы службы Вашей не боится никакого неудовольствия, то вспомните обо мне»».
После столь доверительной беседы Половцов стал не просто участником проекта изменений в основном законе Российской империи, а мотором и автором текста на всех этапах обсуждения. К этому времени Александр III вместе с Марией Федоровной успели оценить по мемориям перо госсекретаря и его способность анализировать сложные вопросы.
По предложению Половцова император учредил секретное совещание по вопросу изменений в «Учреждении об императорской фамилии» под председательством брата, великого князя Владимира Александровича. К работе совещания привлекался, кроме министра двора и госсекретаря, и граф Адлерберг. Тесный круг участников, однако, не обеспечивал единомыслия.
Единственным оппонентом в тесной компании оставался граф Адлерберг, не желавший быть возбудителем семейной вражды. Возражения графа тем не менее обсуждались и, более того, регулярно докладывались государю. Совещались в обстановке полной секретности, так что остальные великие князья и семья в целом оставались в полном неведении. Самому Половцову скоро пришлось убедиться, что «Новое учреждение об императорской фамилии предполагается издать в виде целого памятника, а не в виде отдельных поправок к закону Павла I». «Памятник» — это не более чем фигура речи. Готовился документ, полностью отсекавший побочные ветви императорской фамилии от основной группы лиц, сосредоточенных вокруг трона. По-видимому, госсекретарь в ходе рабочих докладов государю постепенно осмысливал новый закон как незыблемое утверждение на российском троне детей императрицы Марии Александровны.
Наконец, к декабрю 1884 года Половцов подготовил проект записки по вопросу, ознакомил с ее содержанием великого князя Владимира Александровича и министра двора и, получив их одобрение, отослал записку императору с сопроводительным письмом, следующего многозначительного содержания:
«Ваше императорское величество!
Вам угодно было высказать мне несколько мыслей относительно входящего в заботы Ваши вопроса о невозможности дальнейшего сохранения ныне действующего закона об императорской фамилии. Приемлю смелость представить Вам, государь, несколько строк, отвечающих, как кажется, Вашему взгляду. Если бы записка эта удостоилась Вашего внимания, то она могла бы послужить исходною точкой рассмотрения и разрешения этого важного дела. Считаю долгом присовокупить, что записка эта была мною прочитана великому князю Владимиру Александровичу, который не только выразил полное к ней сочувствие, но даже и искреннее желание стать во главе этого дела и с полным сознанием его важности сослужить службу Вам, Вашему семейству и государству. Равным образом записка была сообщена мною графу Воронцову-Дашкову, как касающаяся предметов ведомства. Более о содержании записки никому не известно и не будет известно ввиду того неизбежного раздражения, которое толки о мере этой неминуемо произведут».
Записка Половцова, таким образом, была построена не на умозаключениях автора, а составляла итог бесед и обсуждений с императором различных острых моментов положения императорской фамилии в российском обществе. Надо отдать должное вполне убедительной логике записки, в целом и как документ она не нуждалась в исключительно секретном антураже, если бы появление записки не было так явно связано с насильственной смертью императора Александра II, не успевшего осуществить свою последнюю реформу русского престолонаследия.
Понимал ли это Половцов, когда писал свои «несколько строк»? Скорее всего, понимал, так как по своему положению входил в небольшой круг людей, информированных по всем вопросам высшей власти, или, как сейчас говорят, входил в российский истеблишмент. Записка была действительно весьма лаконична и построена как обзор предыдущего законодательства времен Павла I, которое рассматривалось как выполнившее свою задачу наполнения императорской фамилии достаточным количеством членов:
«По действующему с тех пор закону все потомки, происходящие по прямой линии от царствующих государей до праправнуков включительно, носят титул императорского высочества и считаются по рождению своему яко сыновья государевы».
Следом за этим очевидным утверждением делается не менее бесспорный вывод:
«После целого почти столетия, протекшего со дня издания приведенного закона, обстоятельства существенно изменились. Изволением всевышнего промысла род императорский умножился и, несмотря на то что нисходящее по прямой линии от каждого из царствовавших императоров потомство достигло двух лишь поколений (внуки), общий состав членов императорской фамилии, воспринявших начало от государя Николая Павловича, достиг 37 лиц, носящих титул императорских высочеств. Вследствие того в теперешнем составе императорской фамилии имеется достаточный залог для непрерывного преемства в замещении престола».
И далее, развивая мысль о достаточном количестве членов императорской фамилии, автор плавно переходит к качественной стороне дела:
«Соображая этот вопрос, нельзя не убедиться, что государственная цель, руководившая законодателем при предоставлении правнукам и праправнукам императоров одинакового титула и прав с их ближайшими потомками, утратила значение. По наличному составу теперешних членов императорской фамилии нельзя ожидать, чтобы к таким потомкам приблизилось наследство престола.
Напротив, следует опасаться, что с умножением рождений в боковых линиях число лиц, включаемых законом в состав полноправных членов императорской фамилии, примет размеры, не оправдываемые ни близостью родства их с царствующим монархом, ни материальной возможностью поддерживать для всех лиц условную пышность внешнего существования. В таком случае высокие прерогативы членов царствующего дома могут сделаться достоянием слишком многих, а это, конечно, не будет содействовать к поддержанию в народе того благоговейного уважения, с которым он доселе относился к семейству своего монарха».
После исторического экскурса и справедливых опасений разрастания числа членов императорской фамилии до масштабов потери «благоговейного уважения» народа госсекретарь сразу перешел к программе действий, которая тоже не выглядела громоздкой:
«Ввиду изложенного казалось бы необходимым:
I. Подвергнуть действующее учреждение об императорской фамилии пересмотру на следующих главных основаниях: а) титул великого князя, великой княгини и их императорских высочеств, а равно сопряженные с этими титулами преимущества присваиваются только сыновьям, дочерям, а в мужском поколении и внукам императора; б) правнукам императора, по прямой линии от мужского поколения рожденным, присваиваются титул высочества, князя и княжны крови императорской.
II. Образовать особую комиссию из лиц по высочайшему избранию для всестороннего соображения и разработки вопроса об изменениях, которые должны быть сделаны в действующем учреждении об императорской фамилии согласно изложенным в статье I главным основаниям».
Отзыв императора не заставил себя ждать:
«12 декабря. Среда.
Получаю от государя посланные накануне бумаги с следующей надписью: «Я вполне одобряю составленную Вами записку, о дальнейшем ходе этого дела переговорю с братом Владимиром и графом Воронцовым. Но надо не терять времени»».
Посоветовавшись в узком кругу, участники совещания решили, что устраивать семейное обсуждение записки Половцова не стоит. Приняли решение сразу издать указ, которым и поставить в известность великокняжеские семьи. Указ был подписан 24 января 1885 года и стал своеобразной чертой между семьей Александра III и остальным кланом Романовых.
Отказ от обсуждения в семье столь важного для нее документа, торопливость и секретность его проведения — все это штрихи нервозности императора, ожидавшего резкой реакции членов большого семейства. Больше всего императора пугала возможная реакция великого князя Константина Николаевича.
Хронику появления громкого указа «О некоторых изменениях в Учреждении об императорской фамилии» Половцов в своем Дневнике отобразил детально, тихо радуясь приобретенному могуществу:
«26 января. Суббота. В Правительственном Вестнике напечатан наш пресловутый указ. (…)
28 января. Понедельник. У великого князя Михаила Николаевича с первых слов разговор об указе. Негодование на то, в какой форме великому князю было объявлено об этом распоряжении. В пятницу вечером Михаил Николаевич получил от великого князя Константина Николаевича конверт со вложением подписанного государем указа с весьма любезной запиской его же к старшему из дядей, содержащей просьбу прочитать указ и сообщить его для прочтения остальным двум дядям, Николаю и Михаилу. Такой образ действий великий князь Михаил Николаевич находит неискренним и, по меньшей мере, нелюбезным. Прежде чем издать указ, следовало дядей пригласить и меру эту с ними обсудить.
Я: «Ваше высочество, я не сомневаюсь, что так и было бы поступлено, если бы в числе дядей не было Константина Николаевича. Его необузданность Вам известна. Государь, конечно, опасался вспышки с его стороны, а я не знаю, как эта вспышка могла бы Константина Николаевича к шлиссельбургскому заточению».
Вел. князь: «Мы с братом Николаем остановили бы его, если бы он зашел слишком далеко».
Я: «Это бы никак не удалось Вам».
Вел. князь: «Во всяком случае, то, что было сделано, приближает к подобного рода сцене, потому что если мы с Ольгой Федоровной сожалеем только о том, что наши внуки, которых нам, вероятно, еще удастся видеть, не будут носить одного с нами титула, то в Мраморном дворце совсем иное; там великий князь Константин Николаевич и Александра Иосифовна положительно в бешенстве»».
Председатель Госсовета великий князь Михаил Николаевич в разговоре со своим подчиненным госсекретарем Половцовым, конечно, не пропустил мимо ушей упоминание о возможном аресте и заключении великого князя Константина Николаевича в Шлиссельбургскую крепость в случае его неподобающей «вспышки». О чем конкретно шла речь, собеседники явно знали. Остается только дополнить, что весь клан Романовых был информирован о прямом участии Александра III в организации устранения императора Александра II, но только не воздержанный брат убитого императора Константин Николаевич позволял себе открыто об этом говорить. Разумеется, Михаил Николаевич передал разговор с госсекретарем Половцовым своему не в меру горячему брату вместе с добрым советом прикусить язык. Как известно, Константин Николаевич внял совету брата и впредь на скользкую тему не высказывался, и более того — исчез с политического горизонта, предпочитая тихую жизнь в Крыму или в Париже.
* * *
После издания указа «О некоторых изменениях в Учреждении об императорской фамилии» Александр III приступил к формированию комиссии, которая должна была подготовить, по существу, новый закон об императорской фамилии в полном объеме. К делу на этот раз привлекли еще трех лиц из действующей администрации: министра юстиции Н. А. Манассеина, обер-прокурора Священного синода К. П. Победоносцева и командующего Императорской главной квартирой О. Б. Рихтера. Кроме подобающих титулов, комиссии предстояло рассмотреть большой объем привилегий преимуществ, которые к этим титулам прилагались: от финансовых и имущественных до самых мелких, но существенных.
Под председательством брата императора, великого князя Владимира Александровича, и госсекретаря Половцова в качестве главного редактора комиссия в начале марта 1886 года подготовила окончательный текст нового закона, и на очередном докладе в Гатчине госсекретарь имел с императором заключительную беседу:
«13 марта. Я: «Позвольте мне, государь, спросить Ваших указаний относительно возложенной на меня редакции труда комиссии об учреждении императорской фамилии. Не прикажете ли при изложении текста закона обратить на что-либо особенное внимание?»
Государь: «Нет, особенного я ничего сказать не имею. Владимир говорил мне о намерении пригласить дядей, которые желают представить свои замечания. Я против этого ничего не имею, но не допускаю рассуждений о существе меры, а только разъяснение подробностей»».
Семья была ознакомлена с проектом закона, и, как следовало ожидать, возражений не последовало. Не возражал и великий князь Константин Николаевич… Характерно, что император передал всем членам комиссии свое Высочайшее «спасибо», но никаких наград по случаю окончания грандиозной работы не последовало. Закон был утвержден Сенатом и подписан монархом 2 июля 1886 года.
В последнем разделе закона «Об обязанностях Членов Императорского Дома к Императору» имелась грозная статья 97, где прямо говорилось:
«Царствующий император, яко неограниченный Самодержец, во всяком противном случае имеет власть отрешать неповинующегося от назначенных в сем законе прав и поступать с ним яко преслушным воле монаршей» [23].
Познакомившись внимательно с текстом закона, написанного в здравом уме группой лиц, имевших твердую память, на пороге XX века, пытливый читатель невольно должен столкнуться с мыслью — куда же шла эта страна вместе с ее умным и трудолюбивым народом. «Памятник» глупости, созданный под редакцией миллионера Половцова, оказался вовсе не памятником, а ямой, вырытой со знанием дела, такой глубокой, что о спасении не могло быть речи. Понятно, что ни о каких доверительных отношениях в большой Романовской семье уже не могло быть речи, если, как оказалось, все дело было в количестве нахлебников, перевалившем допустимую норму. Степень образованности или принадлежности к успешному предпринимательству, которые уже давно стали мерилом статуса в российском обществе, обошли счастливую Романовскую семью стороной. Здесь делили титулы и привилегии, попирая законы, которые сами же и написали. Взаимная вражда и зависть вошли в семейный круг и стали разъедающей язвой, которую маскировали показной покорностью и угодничеством.
Глава 2 Дело Шевырева
В Дневнике бывшего военного министра Александра II, Д. А. Милютина, имеется запись от 9 марта 1887 года:
«Несмотря на холодную и бурную погоду, я решился съездить в Орианду и в Ялту. Великий князь Константин Николаевич возвратился 6-го числа из Петербурга, довольный своею поездкой. Он рассказал мне подробности арестования молодых людей, замышлявших 1-го числа новое покушение на жизнь Государя и вовремя захваченных с бывшими при них смертоносными снарядами. Великий князь отзывается с одобрением о теперешнем устройстве тайной полиции в Петербурге и хвалит нового директора Департамента полиции Дурново, бывшего моряка» [24].
Нельзя без улыбки читать эти строчки, особенно насчет одобрения великого князя. Весь рассказ и реакция собеседника остались между строк, но чувства старых соратников убитого шесть лет назад императора легко понять. Оказалось, что день 1 марта помнят, и кому-то понадобилось о нем напомнить действующему монарху Александру III. Произошедшие в Петербурге аресты вызвали сенсацию в обществе и обсуждались везде и всюду. В придворных кругах новость имела свою эксклюзивную редакцию, сохранившуюся в Дневнике одной светской дамы:
«4 марта. Вот что, наконец, опубликовал сегодня «Правительственный Вестник»:
«1-го сего марта, на Невском проспекте, около 11-ти часов утра, задержано трое студентов С.-Петербургского университета, при коих, по обыску, найдены разрывные снаряды. Задержанные заявили, что они принадлежат к тайному преступному сообществу, и отобранные снаряды, по осмотре их экспертами, оказались заряженными динамитом и свинцовыми пулями, начиненными стрихнином». В течение двух дней в городе нет других разговоров, и каждый добавляет новые детали. Я предпочла услышать все и записать их только тогда, когда буду знать самую подлинную правду… Как я имела вполне основание предчувствовать, один бог спас угрожаемые дни императорской семьи, так как они должны были оставить Аничков дворец в четырехместных санях, чтобы отправиться в Петропавловскую крепость — отец, мать и двое старших.
Его величество заказал заупокойную молитву к 11 часам и накануне сказал камердинеру иметь экипаж готовым к 11 часам без четверти. Камердинер передал распоряжение ездовому, который, по опрометчивости, — чего никогда не случалось при дворе, — или потому, что не понял, не довел об этом до сведения унтер-шталмейстера. Государь спускается с лестницы — нет экипажа. Как ни торопились, он оказывается в досадном положении простых смертных, вынужденных ждать у швейцара, в шинели, в течение 25 минут. Не припомнят, чтобы его видели в таком гневе — из-за того, что, по вине своего антуража, он настолько запоздает на заупокойную службу, по своем отце, и унтер-шталмейстер был им так резко обруган, что со слезами на глазах бросился к своим начальникам объяснять свою невиновность, говоря, что он в течение 12 лет находился на службе государя и решительно никогда не был замечен в провинности. Он был уверен в увольнении и не подозревал, что провидение избрало его служить нижайшим орудием своих решений. Государь покидает Аничков дворец после того, как негодяи были отведены в участок, и только прибыв к брату Павлу Александровичу в Зимний дворец, он узнал об опасности, которой он избежал» [25].
В Петербурге 1 марта 1887 года действительно покушались на жизнь императора Александра III. Мотивировка покушавшихся — все та же «освободительная борьба», исполнители — нищие студенты, орудия нападения — самодельные бомбы.
Несостоявшееся нападение на императора вошло в историю как «Дело Шевырева» по фамилии организатора. Михаил Хейфец, учитель истории и журналист, обратил внимание на фигуру Петра Шевырева и попробовал объяснить поведение и мотивацию студента восьмого семестра Санкт-Петербургского университета. Свою статью в журнале «Нева» Хейфец назвал «Иной тип революциониста». Подход Хейфеца к теме закодирован в названии — это все та же освободительная борьба, со своими нюансами и особенностями. Разобраться в «ином типе» Хейфецу оказалось не под силу: при почти полном незнании исторического контекста он еще и страдал характерным для всей советской историографии недугом — игнорированием финансовых, сословных и личностных мотивировок. Однако оригинальность Петра Шевырева и его целеустремленность не остались автором незамеченными. Заметить — это еще не значит объяснить. Объяснить действия студента Шевырева у Хейфеца не получилось.
История студента Петра Шевырева, 23 лет, сына успешного купца из Харькова, начинается с его перевода в Санкт-Петербургский университет из харьковского. К моменту перевода Петр Яковлевич уже был нездоров и имел все признаки начинающейся чахотки. Так в то время называли туберкулез. С таким диагнозом менять Харьков на Санкт-Петербург было само по себе более чем оригинально. Переезд Шевырева, с точки зрения состояния здоровья, объяснялся возможностью получать квалифицированные консультации у специалиста — профессора Военно-медицинской академии В. А. Манасеина. Сразу после переезда, состоявшегося, скорее всего, ранней весной 1886 года, Шевырев по совету Манасеина отправился на лечение в Самару, где прошел курс лечения кумысом. В октябре 1886 г. Шевырев вернулся в Санкт-Петербург и был повторно осмотрен Манасеиным, который рекомендовал ему длительное лечение на европейском курорте. Для такого курса нужны были серьезные деньги, а нужной суммой Шевырев не располагал. Находясь в сложной жизненной ситуации, Шевырев получил предложение, от которого не мог отказаться. Кто сделал ему предложение организовать покушение на императора точно в годовщину убийства Александра II, не выяснено по сей день. Личность его осталась анонимной, но по методам работы этот человек имел серьезный опыт конспиративной деятельности, располагал неограниченным кредитом и был нацелен на результат. Волю каких людей он выполнял, нетрудно вычислить, но официальные власти оказались бессильны выйти хотя бы на приблизительный след. Аноним оставил за собой целый шлейф косвенных улик, но это были в основном финансовые следы, то есть следы работы денег. Деньги в руках рачительного и оборотистого по природе студента Шевырева делали невозможное: за три с небольшим месяца, с ноября 1886 по февраль 1887 г., в условиях строжайшей конспирации, был выполнен объем работы, на который исполнителям нападения на императора Александра II понадобилось почти два года. Сын харьковского купца был абсолютно аполитичен, безразличен к социалистическим бредням и верил только в силу денег. Под руководством своего анонимного спонсора Шевырев в короткий срок подобрал группу таких же мотивированных исполнителей, как он сам, и только досадная случайность сорвала блестяще проделанную работу. Совершенно сознательно Шевырев поставил на своей личной судьбе крест и до конца остался верен себе.
Спустя много лет после события 1 марта 1887 года только три непосредственных участника группы Шевырева оставили свои воспоминания: О. М. Говорухин, И. Д. Лукашевич и Р. А. Шмидова. Особой достоверностью отличаются воспоминания Лукашевича, опубликованные в 1917 году, и так называемый реферат Говорухина, увидевший свет в Париже в 1926 году. Эти два источника не были затронуты советской редакцией и, с этой точки зрения, несут в себе только недостатки субъективного характера. Воспоминания Раисы Шмидовой, хранящиеся в партийном архиве, хотя и грешат «женской» логикой, но по-своему любопытны. Наиболее интересны для нас характеристики участников в адрес организатора всего дела Петра Шевырева.
Лукашевич вспоминает: «В 1885/86 годах я близко сошелся с Шевыревым, приехавшим из Харькова. Это был очень энергичный, предприимчивый и талантливый организатор. В это время я был кассиром польской университетской Кассы, преследовавшей чисто филантропические цели — оказывать материальную поддержку несостоятельным студентам. Хорошо познакомившись со мной и обменявшись мнениями насчет необходимости активной борьбы с правительством, Шевырев предложил мне такой план. Сначала будем устраивать полулегальные организации вроде общестуденческой кассы, студенческой кухмистерской (столовая), справочного бюро для приискания работы. В самом процессе этой деятельности мы ближе сойдемся с революционными элементами учащейся молодежи… Я одобрил этот план. Мы начинали дело с пустыми руками» [26].
Под активной борьбой с правительством два новых приятеля по умолчанию понимали террор. Чтобы поверить в то, что Лукашевич, сын обеспеченных помещиков, сходу согласился с таким планом, не хватает одной маленькой детали — сообщенной Шевыревым прямой выгоды от всего плана в случае его реализации. Текущее финансирование всех операций, которое Шевырев оставил за собой, Лукашевич предпочел скрыть. Более того, он изобразил дело так, что средства появились в результате пожертвований разных лиц в кассу взаимопомощи, по подписным листам. По утверждению Лукашевича, именно эти собранные гроши позволили им открыть студенческую столовую:
«Некоторые средства были собраны, и с началом 1886/87 учебного года у нас деятельность вновь закипела. Была открыта нами студенческая столовая. Шевырев получил даровой билет из Думы при содействии Андреевского (ректора). Но наем помещения и прислуги, мебель и прочее поглотили значительную часть собранных нами денег. Для заведывания кулинарной частью была приглашена одна очень деятельная дама. Кухмистерская у нас сразу хорошо пошла — не только оплачивала текущие издержки, но и оставался еще некоторый доход, так что мы могли раздавать известное число даровых билетов на обеды нуждающимся студентам. Когда предприятие наладилось, то ведение текущих дел было поручено особой группе лиц».
Группа лиц тоже была сформирована Шевыревым и состояла из студента университета М. Н. Канчера и двух молодых людей П. С. Гаркуна и С. А. Волохова, болтавшихся в Петербурге без определенных занятий. Наивность Лукашевича по поводу «бесплатного билета», якобы полученного Шевыревым, и приятной дамы, согласившейся принять на себя кулинарную часть, вызывает улыбку. Приходится констатировать, что отлично подготовленный химик Лукашевич ничего не смыслил в хозяйственных операциях и совершенно не умел считать деньги. Даже самые скромные подсчеты расходов на организацию кухмистерской, включая патент, тянут на несколько тысяч рублей. Если принять во внимание, что талоны на обед продавались студентам по бросовым ценам, а то и выдавались бесплатно, становится понятным смысл организации кухмистерской. Шевырев, извне и одномоментно, получил совершенно легальный канал финансирования дальнейших операций. Как только кухмистерская заработала с полной загрузкой, Шевырев приступил к осуществлению главной цели всего предприятия, где Лукашевич занял подобающую ему нишу:
«Но цель наша была достигнута, мы сошлись, с кем нам нужно было, и Шевырев счел возможным начать террористическую деятельность. Он взялся организовать боевые группы, а я — приготовлять метательные снаряды и, по возможности, доставлять средства». Здесь Лукашевич озвучил настоящую цель всего предприятия.
Для начала, по примеру своего предшественника Александра Михайлова, Шевырев попробовал решить свою проблему с помощью индивидуального террора, то есть использовать самый низкобюджетный вариант. Лукашевич рассказал об этом эпизоде все, что знал сам:
«…Шевырев сошелся с одним революционно настроенным Георгиевским кавалером, который взялся из револьвера застрелить Александра III во время официального собрания кавалеров в Зимнем дворце. Но в решительную минуту во дворце он опешил, и ничего не вышло. Шевырев тотчас прервал с ним сношения».
Как видим, некоторые иллюзии посещали и самого Шевырева. Трудно представить себе георгиевского кавалера, стреляющего из револьвера в императора на официальном приеме в Зимнем дворце. Став акционерами, Шевырев и Лукашевич активно искали исполнителей, и таковые быстро нашлись. Сначала, через третье лицо, они познакомились, в ноябре 1886 года, с Василием Осипановым, 26 лет, студентом: «Осипанов нам сообщил, что он перевелся из Казанского университета в Петербургский со специальной целью, чтобы учинить покушение на жизнь Александра III. Он заявил, что готов действовать и в одиночку, и в сообществе с другими. Он сначала думал стрелять из двуствольного пистолета, отравленными жеребейками, но этот план был нами забракован как ненадежный, и мы предложили лучше действовать бомбой, которую я взялся изготовить. Мы условились также, как нам видеться друг с другом. А Осипанов в ожидании бомбы должен был осторожно наблюдать выезд царя и хорошо изучить местность, прилегающую ко дворцу».
Лукашевичу отводилась роль Кибальчича в «Народной воле», но, в отличие от своего предшественника, он был хорошо подготовленным химиком и не менее изобретательной личностью:
«Я основательно знал химию и занимался пиротехникой. Поэтому изготовление всего, что нужно для метательных снарядов, не могло представлять для меня затруднений. Чтобы замаскировать бомбу, я решил придать ей вид книги. Для этого я купил у букиниста медицинский словарь Гринберга в хорошем прочном переплете, склеил клейстером края всех листков этой книги, сжал ее в прессе и высушил. Затем вырезал всю внутренность книги, оставив только края листов, так что получился род коробки… В картонную коробку вставлялся жестяной снаряд… Жестяной снаряд был наполнен динамитом, в который был погружен жестяной цилиндрик с гремучей ртутью.
…Меж боковыми стенками коробочки и обрезками листов оставался свободный промежуток для помещения слоя отравленных пуль кубической формы».
Описание изобретенной бомбы, естественно, дается в сокращенном виде, но и в таком варианте понятны все преимущества изобретения Лукашевича: метальщик мог спокойно двигаться по улице с книгой в руке и швырнуть ее в нужный момент в намеченную цель. Для срабатывания бомбы нужно было привести в действие запал, дернув торчавший наружу кусок шнурка. Лукашевич продумал конструкцию бомбы до мелочей и многократно испытал действие запала. В целом конструкция метательного снаряда Лукашевича отличалась от бомбы Кибальчича двумя существенными недостатками:
Чертеж метательного снаряда, предназначенного императору Александру III
1) взрывной механизм запускался принудительно, в отличие от конструкции Кибальчича, где взрыватель срабатывал от удара о любую поверхность;
2) необходимо было периодически проверять состояние взрывателя.
Во время известной студенческой демонстрации у могилы Добролюбова, на Волковом кладбище 17 ноября, Шевырев познакомился с А. И. Ульяновым и, присмотревшись к двадцатилетнему студенту 4-го курса естественного факультета, сделал ему предложение принять участие в готовящейся акции. Ульянову вначале было предложено подобрать подходящих исполнителей, то есть метальщиков. Ульянов, посоветовавшись со своим приятелем О. М. Говорухиным, предложил Шевыреву кандидатуры студентов-первокурсников П. И. Андреюшкина и В. Д. Генералова. И тот, и другой, мало раздумывая, дали свое согласие, к полному восторгу Шевырева. Не в малой степени такому решению совершенно зеленых юношей способствовало их бедственное материальное положение. Подписавшись бросить бомбы в императора, они стали бесплатно пользоваться кухмистерской, у них появились карманные деньги и с явной нищетой было покончено.
К началу 1887 года Шевыреву и Лукашевичу удалось сформировать вполне дееспособную боевую группу и приступить к производству динамита и сборке бомб. В это время вокруг Шевырева с его кухмистерской кормилось довольно много студентов, и его авторитет был достаточно высок. Однако расширять круг акционеров Шевырев не спешил. Так, ему сразу не понравился приятель Ульянова, Орест Говорухин, пожелавший знать больше, чем ему полагалось. С ним у Шевырева установились неприязненные отношения. Вообще, Шевырев вел себя по-хозяйски, полагая, что кто платит, то и заказывает музыку. Главным его советником и правой рукой продолжал оставаться Лукашевич:
«Ежедневно (иногда по нескольку раз) мы виделись друг с другом и обменивались сообщениями, как идут дела, так что мы хорошо знали о состоянии наших предприятий. А так как Шевырев работал не покладая рук, то начали намечаться вторая и третья боевые группы. Мы считали необходимым по возможности изолировать их одну от другой, чтобы локализировать аресты и чтобы провал одной не мог погубить остальных. Для этого мы сочли за лучшее, чтобы первая группа была составлена целиком из студентов: 3 метальщика и 3 сигнальщика с Осипановым во главе, а две другие группы — из других сфер…».
Лукашевич ничего не сказал, для действия против кого предназначались другие группы. Скорее всего, это плод его собственной фантазии или дезинформация Шевырева. Так или иначе, динамитная программа была в основном выполнена уже к концу января 1887 года. Весь динамит, изготовленный Лукашевичем, а затем и Ульяновым, был использован в трех бомбах — всего 12 фунтов, или около 9 кг.
После включения в группу Андреюшкина и Генералова произошло некоторое перераспределение обязанностей: новобранцам поручили всю черную работу, связанную с получением азотной кислоты и хранением готового динамита. Для этого была нанята новая квартира для Генералова. На квартире Андреюшкина гнали азотную кислоту, а у Генералова хранили готовый динамит. Сам Лукашевич занимался исключительно динамитом:
«Шевырев приносил мне готовую азотную кислоту, а я уже готовил динамит. При производстве нитроглицерина я исключительно пользовался способом Бутми и Фоше. Если имеется под руками азотная кислота и соответственная стеклянная посуда, то приготовление динамита идет быстро, и он получается хорошего качества, так как изготавливается из хороших чистых материалов. На той квартире, где я работал, я не хранил динамита, но по мере изготовления я через Шевырева передавал его Генералову, у которого был склад взрывчатых веществ на Большой Белозерской улице. Далее мне приходилось изготовлять гремучую ртуть[1]. Баночки с готовой гремучей ртутью я тоже передавал Шевыреву, который относил их к Генералову».
В январе-феврале 1887 года удалось полностью изготовить и оснастить три метательных снаряда: один в виде книги и два цилиндрических с эллипсовидной оболочкой.
Все свободные полости снарядов заполнялись заряженными стрихнином, свинцовыми «жеребейками».
В налаженной работе случился сбой, когда Лукашевич вынужден был прекратить производство на своей квартире ввиду возникшей опасности провала. В это время оставалось изготовить совсем немного динамита (около 3 фунтов). Эту работу акционеры решили поручить Ульянову как человеку, хорошо подготовленному по химии. Лукашевич провел с ним предварительный инструктаж:
«Для этого я пригласил его вечером к себе, и мы сделали затор в двух банках, а затем утром он снова пришел ко мне, и мы собрали сифоном отстоявшийся нитроглицерин, промыли его и поставили сушиться. Затем я при нем изготовил порцию гремучей ртути, чтобы и этот необходимый продукт он мог делать в случае нужды. Когда нитроглицерин просветлел, мы изготовили из него динамит».
Затем Лукашевич с Ульяновым свели знакомство с М. В. Новорусским — выпускником петербургской духовной академии, который готовился защищать диссертацию. Теща Новорусского, акушерка Ананьина, снимала дачу в Парголово. На даче было много комнат, и одну из них акушерка охотно сдала студенту Ульянову по сходной цене. Шевырев вообще хотел перевести производство динамита подальше от городской суеты, и дача в Парголове была идеальным местом. Разумеется, ни акушерка, ни ее зять священник понятия не имели, какие опыты по химии собирается проводить их квартирант Ульянов. Такая простота дорого обошлась как акушерке с ее дочерью, так в особенности их незадачливому зятю. Ульянов с помощью Новорусского переправил всю нехитрую лабораторию в Парголово и за пару дней, с 11 по 14 февраля 1887 года, изготовил недостающий динамит.
Техническая грамотность Ульянова, а главное — его исполнительность и оперативность произвели на Шевырева хорошее впечатление. Решив, что остальные приготовления могут быть закончены без него, в связи с обострением болезни Шевырев объявил о своем отъезде в Крым на лечение. Перед отъездом Шевырев имел с Ульяновым заключительную беседу, в ходе которой сделал ему предложение войти в группу полноправным акционером. При этом Шевырев открыл Ульянову состав боевой группы и последнее условие акции, которое необходимо было выполнить: группа должна была выступить 1 марта 1887 года под флагом террористической фракции партии «Народная воля».
Последние перед отъездом Шевырева дни проходили в лихорадочных приготовлениях:
«Ульянов съездил в Парголово, приготовил недостающий динамит и вернулся в Питер (приблизительно 14-го февраля). Жестянка для бомбы-книги была давно готова, а оболочки двух других бомб еще нужно было сделать. Так как на старой квартире мне было неудобно резать жесть ввиду того, что лязг железа и стуки могли обратить внимание соседей, то Ульянов предложил мне вырезать формы у него. Мы рассчитали размеры, вырезали отдельные части, и я взял их к себе, чтобы спаять (при помощи паяльной трубки), а Ульянов взялся изготовить наружные оболочки для этих двух снарядов, которые имели вид цилиндров с эллиптическим основанием. Дно этих футляров было сделано им из дерева, а боковые стенки из картона, обклеенного черным коленкором».
По-видимому, Шевырев объявил Лукашевичу, что их (акционеров) теперь трое, перед самым отъездом 17 марта. Как воспринял Лукашевич эту новость, неизвестно, но внешне все выглядело спокойно:
«Наконец, настал день его отъезда. Так как мне одному было не под силу вести все дела, то мы решили пригласить в наш кружок Ульянова, который должен был заступить место уезжающего Шевырева. Ульянов охотно принял наше предложение. Затем я с Шевыревым отправился на квартиру к Канчеру, и Шевырев объяснил этому последнему, что он уезжает, и потому различные поручения по революционным делам буду ему давать я. Канчер обещал исполнять все, что будет нужно.
Так остались мы — Ульянов и я, для ведения текущих дел в Питере. Я познакомил Ульянова с тем, что ему еще было неизвестно в наших предприятиях. 17-го февраля я свел его с Осипановым, с которым Ульянов еще не был знаком… Точно так же Осипанов не был еще знаком с двумя другими метальщиками, и я устроил их свидание на Михайловской улице, в одном ресторане… где они меж собой перезнакомились и столковались, как действовать сообща».
Лукашевич ничего не рассказал об отъезде за границу студента Говорухина, приятеля Ульянова, который так и не был принят Шевыревым в группу. Говорухина использовали на подсобных поручениях, и его такая роль не просто не удовлетворяла, но бесила. Когда Ульянов объявил своему приятелю, что Шевырев принял его в узкий состав своей группы, то Говорухин быстро сообразил, что он лишний в деле и ему пора уносить ноги.
Денег на отъезд Говорухина Шевырев не дал, и Ульянову, чтобы помочь приятелю, пришлось напрягаться самому, для чего он заложил свою золотую медаль, полученную в университете за конкурсную работу по биологии. Коллизия с Говорухиным имела свое продолжение уже при советской власти. Говорухин уехал из Петербурга в Вильно 20 февраля 1887 года. По рекомендации Лукашевича ему в Вильно оформили фальшивый паспорт и отправили в Швейцарию. Точно так же поступили со студентом Рудевичем, однокашником Андреюшкина, который вдруг заявил о выходе из дела. В этом случае Шевырев профинансировал отъезд Рудевича за границу по тому же каналу, через Вильно. Перед операцией Шевырев аккуратно зачистил концы и передал командование Ульянову. Характерно, что в своем дальнейшем рассказе Лукашевич продолжил изображать свою руководящую роль. Сговорившись с Ульяновым, они провели 21 февраля окончательную сборку бомб на его квартире. За готовыми бомбами к Ульянову зашли сигнальщики Канчер и Волохов, заодно и зачистившие квартиру от каких-либо улик. Лукашевич потом очень сожалел, что сигнальщики застали его на квартире Ульянова за сборкой бомб. Тем не менее работа была завершена:
«Бомбы были розданы метальщикам, и Осипанов стал торопиться приведением в исполнение задуманного плана, так как было известно, что Александр III собирается уехать на юг».
Лукашевич подробно рассказал о распределении оставшихся неиспользованными материалов по безопасным местам хранения, имея в виду продолжение дальнейшей деятельности. Кроме прочего Лукашевич упомянул о прощальной вечеринке, устроенной учредителями фирмы:
«Ввиду того, что многим из нашей компании приходилось погибнуть в ближайшем будущем, Ульянов задумал устроить небольшую, так сказать, прощальную вечеринку, чтобы, с одной стороны, дать возможность повидаться разным лицам меж собой, и — с другой — несколько усилить средства нашей группы. Само собой, понятно, что билеты на нее раздавались только вполне надежным лицам. Между прочим, на ней были Ульянов, я, Андреюшкин, Генералов, Шмидова, которая помогала устроить ее. Она сошла вполне благополучно».
В конце своего рассказа Лукашевич упомянул последнее совещание, которое Ульянов провел с боевой группой, не называя его точной даты:
«В 20-х числах февраля Ульянов устроил общее собрание членов первой боевой группы на квартире Канчера. Тут он им еще раз подробно объяснил устройство метательных снарядов и их действие. Затем он читал им программу Террористической фракции и имел продолжительное собеседование по разным политическим вопросам с Осипановым. Вместе с тем сигнальщики и метальщики лучше перезнакомились меж собой, и с этого времени Осипанов взялся руководить деятельностью первой боевой группы». В целом рассказ Лукашевича представляется вполне достоверным, за исключением некоторых неточностей, что подтверждается материалами дознания по делу. Действительно, Ульянов провел последнее совещание с боевой группой 25 февраля 1887 года и этим подтвердил свой статус руководителя. Лукашевич на совещании отсутствовал. Причина провала боевой группы и ее арест утром 1 марта на улицах Петербурга хорошо известны: метальщик Андреюшкин вел частную переписку со своим приятелем в Харькове, которая была перлюстрирована полицией. В результате за Андреюшкиным и его товарищами было установлено наружное наблюдение, которое и дало повод для их ареста.
Как ни странно, достоверный в общих чертах рассказ о событии 1 марта 1887 года одного из ключевых участников — Лукашевича — не стал основой для советских историков, работавших над этой темой. Тон во всем деле задавала сестра Александра Ульянова — Анна Ульянова-Елизарова, в то время слушательница Бестужевских курсов в Петербурге. Анна тоже была арестована по делу брата, но так как не принимала участия в его делах и мало что знала, была административно выслана и почти не пострадала. В двадцатые годы нового, XX века, когда в России утвердилась советская власть, а правительство возглавил родной брат Александра Ульянова — Владимир (Ленин), Анна Ульянова-Елизарова взяла в свои руки дело освящения памяти погибшего на виселице брата. Основой сборника материалов, посвященных памяти Александра Ульянова, стала статья «А. И. Ульянов и П. Я. Шевырев по воспоминаниям Говорухина», с предисловием Анны Ульяновой-Елизаровой в журнале «Пролетарская революция» в 1925 году. В своем предисловии Анна Ильинична сообщила любопытные данные о происхождении воспоминаний Говорухина:
«Предлагаемые страницы представляют довольно подробные выписки из реферата О. М. Говорухина, написанного им по просьбе старых эмигрантов, — кажется, даже лично Веры Ивановны Засулич, — приблизительно через год по приезде его в Швейцарию. Я получила этот реферат от Веры Ивановны летом 1897 года, когда приехала первый раз за границу. Помнится с ее слов, что Говорухин читал этот реферат зимой 1887–88 гг., а потом оставил его как материал. К сожалению, мне не удалось тогда переписать весь реферат целиком. Я выписала только все, касающееся брата Александра Ильича, а также Шевырева — двух членов организации, которые вместе с самим Говорухиным составляли инициативную тройку заговора. Ввиду того, что сам реферат пока еще не разыскан… а также и того, что все, касающееся Александра Ильича, выписано мною полностью и представляет самую полную и живую характеристику брата и дела 1-го марта 1887 г., я сочла правильным включить эти выписки в сборник воспоминаний о нем.
Кроме того что Говорухин был одним из инициаторов дела 1-го марта 1887 г., сильно побуждавшим, как видно из реферата, к вступлению на путь терроризма и Александра Ильича, — реферат его был написан зимой 1887–88 гг., т. е. по свежей памяти. Это одно уже придает ему выдающееся значение для правильной оценки как всего дела 1-го марта 1887 г., так и личности Александра Ильича» [27].
После такого объяснения рассказ Лукашевича был фактически дезавуирован, без объяснения причин. Почему Анна Ильинична предпочла реферат сбежавшего от ареста Говорухина рассказу участника событий Лукашевича, прошедшего суд, ожидание смерти и многолетнее заключение в Шлиссельбурге, — большой вопрос. Вряд ли панегирик, спетый Говорухиным в адрес студента Александра Ульянова, сыграл решающую роль. Об Ульянове-студенте и без этого имелись восторженные отзывы весьма уважаемых людей. Первой и очевидной причиной явилось то обстоятельство, что действительный руководитель дела 1 марта 1887 г., Петр Шевырев, по версии Говорухина вовсе не являлся таковым, а всего лишь инициатором. Все дело вел и довел до конца именно Александр Ульянов. Это главное утверждение Ульянову-Елизарову устраивало прежде всего. Более того, судьба самого Говорухина резко изменилась: в 1925 году он из Болгарии, где жил под чужой фамилией, перебрался в Москву.
Здесь он был пристроен референтом в ВСНХ, не без помощи сестры Ленина. Потом, уже в 1938 году, он исчез или, скорее всего, был ликвидирован. Независимо от естественных пристрастий сестры Александра Ульянова, Говорухин сообщил два неизвестных факта, связанных с событием 1 марта 1887 года. Во-первых, память Говорухина сохранила факт знакомства лично Шевырева с «представителем ИК», партии «Народная воля»:
«Шевырев, чтобы придать значение группе и чтобы привлечь новых членов, говорил, что группа имеет связь с Исполнительным Комитетом, или даже что в самой группе есть члены И.К…. Ульянов взялся проверить, и оказалось, что Шевырев в этом случае преувеличил немного, именно что у него было знакомство с одним членом И.К.». Момент очень важный, означающий, что Шевырев познакомил Ульянова с неким третьим лицом, якобы представлявшим Исполнительный комитет «Народной воли». Впервые этот факт всплыл в тексте реферата Говорухина, опубликованного в 1926 г. в Париже. Когда Говорухин появился в Стране Советов, то в своих воспоминаниях, опубликованных в журнале «Октябрь» в 1927 году, несколько расширил свою информацию о «взаимодействии» группы Шевырева и «Народной воли»:
«Оказалось, что у Шевырева было знакомство с одним членом И. К. Кто именно это был, нам не удалось узнать. Однако на одном из наших заседаний группы он присутствовал. У меня отложилось в памяти, что это был человек пожилой сравнительно с нами, очевидно, принадлежавший к старшему поколению революционеров. Кажется, что он присутствовал именно на том собрании, на котором обсуждалась программа группы, и не соглашался на какое бы то ни было изменение программы партии «Народной воли». Таким образом, при выработке программы он не оказал на нас никакого влияния» [28].
Второй факт, озвученный Говорухиным в своем реферате, касался необъяснимой задержки Александра Ульянова в Петербурге после отъезда Шевырева. По Говорухину выходило, что была какая-то скрытая причина такой задержки:
«…Когда Шевырев, несмотря на несогласие Ульянова, уехал из Петербурга, за неделю до 1 марта, Ульянов не хотел уже скрыться. (Но главный мотив, почему он не уехал из Петербурга, пока не подлежит опубликованию, впредь до напечатания процесса)» [29]. Такое утверждение Говорухина, разумеется, придавало дополнительный вес самому Говорухину. Вряд ли, однако, что он знал про этот самый «главный мотив», который действительно имел место. Так как никакого опубликования процесса не было и нет, то реферат Говорухина и по сей день является основным источником для освещения темы всей советской историографии.
Доступные ныне материалы следствия и суда позволяют воссоздать реальную картину произошедшего в Петербурге события 1 марта 1887 года.
На этот раз никто не был убит бомбами террористов, и основные фигуранты дела были арестованы — кто на Невском проспекте, кто у себя дома. В этом смысле у властей возникла только проблема с розыском Шевырева. Так как все три сигнальщика: Канчер, Волохов и Горкун — сразу выложили все, что знали, то место розыска определилось сразу — Крым. Директор Департамента полиции Дурново направил 5 марта в Симферополь грозную телеграмму: «Необходимо перевернуть вверх город и все местности, где может находиться Шевырев, и арестовать его». Нашли его быстро, и 7 марта Дурново получил телеграмму из Ялты: «Студент Петр Шевырев арестован». При аресте у Шевырева была отобрана стеклянная бутылочка с надписью «яд». Химическое исследование содержимого бутылочки показало, что «матовые, беловатые куски» — это цианистый калий.
Шевырев был доставлен в Петербург 14 марта и на первом же допросе заявил:
«Я не признаю себя виновным в каком бы то ни было участии в замысле на жизнь государя Императора и о существовании такого замысла ничего не слышал и не знаю, к революционной партии не принадлежу и революционных убеждений не разделяю. Со студентами Андреюшкиным, Говорухиным, Ульяновым, Лукашевичем, Канчером, Горкуном и мещанином Волоховым я знаком: с Андреюшкиным и Генераловым по поводу выдачи им при моем содействии бесплатных билетов на получение обедов из кухмистерской Клечинской, в которой я был одним из распорядителей, с Канчером и Горкуном по поводу устройства кухмистерской, с Волоховым познакомился у Канчера и Горкуна, с Лукашевичем, Ульяновым и Говорухиным знаком как с однокурсниками моими в университете» [30].
В дальнейшем Шевырев заявлял, что ему приходилось занимать у Говорухина деньги, что, конечно, было явной выдумкой. В общих чертах такую позицию на следствии Шевырев выдержал до конца. Так как Говорухин находился за пределами следственных действий, то этим обстоятельством на следствии пользовался и Лукашевич, называя Говорухина инициатором всего дела вместе с Шевыревым. В отличие от своих ближайших подельников, Ульянов на следствии излагал все как есть и даже много больше. Для того чтобы подчеркнуть свою главную роль в подготовке покушения, он заявил, что им была написана программа террористической фракции «Народной воли», как себя называли метальщики 1 марта 1887 г. Так как программу не удалось напечатать до покушения, Ульянов написал ее следователям по памяти. Александр Ульянов был прекрасным зоологом и за свою конкурсную работу о половых органах членистоногих получил золотую медаль Петербургского университета. Взявшись сгоряча писать оригинальный текст программы политической партии, Александр создал произведение, которое, кроме улыбки, ничего не вызывало. Программа Ульянова, в частности, предлагала установить в России:
«— Самостоятельность мира как экономической и административной единицы;
— Национализацию земли;
— Замену постоянной армии земским ополчением».
Даже такой «теоретик» школы Победоносцева, каким был император Александр III, весьма точно охарактеризовал творчество Александра Ульянова, написав прямо на рукописи: «Это записка даже не сумасшедшего, а идиота». Зачем понадобилось специалисту по половым органам червей писать явную галиматью? Такой вопрос вполне правомерен, потому что Ульянов был вполне развитым юношей и не стал бы этого делать без нужды. Кроме всего прочего, у одного из метальщиков — Осипанова — при аресте изъяли прокламацию «Программа партии «Народная воля»», отпечатанную в народовольческой типографии. Можно предполагать, что Ульянов в данном случае действовал по какому-то индивидуальному плану.
Интерес к делу, проявленный императором Александром III, внешне сводился к вопросу «Кто все это устроил?». В простом вопросе, поставленном императором перед своим министром внутренних дел, имелся хорошо замаскированный смысл: не прошло и года со дня подписания Указа Сенату о вступлении в силу «Учреждения об императорской фамилии», как кучка нищих студентов устраивает фактический ремейк 1 марта 1881 года. Императору явно давали понять, что в своем игнорировании Романовской семьи он зашел слишком далеко, и повторить то, что было сделано с Александром II, не составляет большой проблемы. Поэтому, кроме формального следствия, проводился тщательный поиск заказчика покушения. Следы этих разысканий мелькают в переписке директора Департамента полиции Дурново с министром Толстым и в некоторых других документах. Так, в докладной записке министру внутренних дел от 24 апреля 1887 г. Дурново писал:
«Лукашевич очень подавлен состоявшимся приговором и если что знает, то мне кажется, наверное, напишет: он упорно утверждает, что все дело было задумано и устроено Говорухиным и Шевыревым. Шевырева завтра рано утром повезут на Петербургскую сторону для указания квартиры, про которую он говорил. Все меры предосторожности приняты». Ожидания Дурново не были обмануты, и буквально на следующий день он получил из крепости пространное письмо от Лукашевича:
«Милостивый Государь! Исполняя желание Вашего Превосходительства — написать, что мне известно по этому делу, я считаю себя вынужденным сделать следующие оговорки. 1) Я не был причастен революционному движению и только в начале нынешнего года сошелся с революционерами. 2) Как мало я имел знакомств между ними, этому доказательством может служить то обстоятельство, что я не был знаком ни с исполнителями, ни с сигнальщиками (кроме Канчера). 3) Я вел столь уединенную жизнь, будучи удален по месту жительства (Ковенский пер.) на несколько верст от центра студенчества (Васильевский остров и Петербургская сторона), что даже ни разу не был на квартире Шевырева и Говорухина и всего несколько раз у Ульянова. 4) Я сам никаких дел не вел, а потому что знаю, то знаю только из вторых рук, т. е. от Говорухина, Шевырева, Ульянова. Принимая все это в соображение, я не могу быть особенно полезным для Вашего Превосходительства. Тем не менее то, что мне известно, спешу сообщить.
Относительно руководительства замысла. Я твердо убежден, что замысел был руководим Говорухиным и Шевыревым. Быть может, первая мысль об нем явилась у Осипанова, которого я не знал, но из всех разговоров, которые мне приходилось вести с Говорухиным, Шевыревым, Ульяновым, мне ни разу не пришлось слышать, чтобы они вспоминали о ком-нибудь постороннем, дававшим им поручения по приготовлению к замыслу. Они всегда выражались: «Я имею возможность сделать то-то…» или «Я раздумал делать то-то…» и т. п.
Относительно участия других лиц. На основании вышесказанного неудивительно, что я не знаю других лиц, быть может, причастных делу. Так, например, я слыхал от Ульянова, что деньги давал «Черный», фамилия ли его, или прозвище, не знаю, и сам его никогда не видел…» [31].
Несмотря на скудость сообщения, Лукашевич ясно дал понять, что в деле имелось некое постороннее лицо, финансировавшее всю операцию и которое было известно Ульянову.
Неудивительно, что все последующие усилия следствия сосредоточились на Александре Ульянове. Положение Ульянова на следствии было наиболее тяжелым. Он сумел так погрязнуть в прямых уликах, что любые отговорки стали бессмысленными. Мать Ульянова, Мария Александровна, находившаяся в Петербурге и искавшая возможность свидания с сыном, написала императору прочувствованное письмо:
«Милосерднейший Монарх!
Горе и отчаяние матери дают мне смелость прибегнуть к Вашему Величеству как к единственной защите и помощи. Милости, государь, прошу!
Пощады и милости для детей моих! Старший сын, Александр, окончивший гимназию с золотой медалью, получил золотую медаль и в университете. Дочь моя Анна успешно училась на Петербургских Высших женских курсах. И вот когда осталось всего лишь месяца два до окончания ими полного курса учения — у меня вдруг не стало старшего сына и дочери: оба они заключены по обвинению в прикосновенности к злодейскому делу первого марта. Слез нет, чтобы выплакать горе. Слов нет, чтобы описать весь ужас моего положения… О сыне я ничего не знаю. Мне объяснили, что он содержится в крепости, отказали в свидании с ним и сказали, что я должна считать его совершенно погибшим для себя».
Далее Мария Александровна сделала императору предложение: использовать влияние матери на душу заблудшего сына. Искренность недоумения матери и желание ее узнать правду о сыне было трудно недооценить:
«Государь! Если б я хоть на один миг могла представить своего сына злодеем, у меня хватило бы мужества отречься от него, и благоговейное уважение к Вашему Величеству не позволило бы мне просить за него… Он всегда был религиозен, глубоко предан семье и часто писал мне. Около года тому назад умер мой муж, бывший директором народных училищ Симбирской губернии. На моих руках осталось шесть человек детей, в том числе четверо малолетних. Это несчастье, совершенно неожиданно обрушившееся на мою седую голову, могло бы окончательно сразить меня, если не та нравственная поддержка, которую я нашла в старшем сыне, обещавшем мне всяческую помощь и понимавшем критическое положение семьи без поддержки с его стороны…
Если у сына моего случайно отуманился рассудок и чувство, если в душу его закрались преступные замыслы — Государь, я исправлю его: я вновь воскрешу в душе его те лучшие человеческие чувства и побуждения, которыми он так недавно еще жил. Я свято верю в силу материнской моей любви и сыновней его преданности — и ни минуты не сомневаюсь, что я в состоянии сделать из моего несовершеннолетнего еще сына честного члена русской семьи, верного слугу престола и Отечества…» [32].
Для историка письмо М. А. Ульяновой, датированное 28 марта 1887 г., выдержанное в верноподданническом духе, добавляет ко всему делу один небольшой штрих: до императора доводится одно важное обстоятельство — тяжелое материальное положение семьи Ульяновых после смерти отца, И. Н. Ульянова. Общий настрой письма определил решение императора использовать влияние матери на поведение Александра Ульянова и попытаться выяснить подлинного организатора покушения. Уже 31 марта Марию Александровну пригласил для беседы Директор департамента полиции Дурново и объяснил несчастной женщине, чего добивается следствие. Прямо из кабинета Дурново мать Александра Ульянова проследовала в Петропавловскую крепость, где ей дали свидание с сыном. Результат встречи матери и сына известен: Александр отказался кого-либо называть и твердил, что действовал в соответствии со своими убеждениями. Пораженная поведением сына, Мария Александровна вернулась в кабинет Дурново и сообщила результат своих переговоров с сыном. Единственное объяснение неузнаваемого поведения сына Ульянова находила в его умопомешательстве. В расстроенных чувствах она немедленно вернулась в Симбирск, поручив заниматься всем делом своему дальнему родственнику Матвею Песковскому, жившему в Петербурге. Судя по дальнейшим шагам Песковского, разумеется, согласованным с Ульяновой, было решено подобрать Александру хорошего адвоката. Выбрали самого хорошего и самого дорогого в Петербурге — А. Я. Пассовера. Познакомившись с делом, Пассовер дал согласие его вести, защищая своего подопечного на основании его психической невменяемости. Без сомнения, Александру Яковлевичу было по силам доказать судьям, что только идиот мог вписаться в преступную группу, где единственным исходом была виселица.
Не менее матери Александра Ульянова был разочарован Директор департамента полиции Дурново. Ульянову немедленно вручили обвинительное заключение и полностью изолировали его от контактов с внешним миром. Песковский напрасно стучался во все двери, пытаясь обеспечить защиту Ульянову на суде именно присяжным поверенным Пассовером. Все было глухо. На свое прошение в адрес Первоприсутствующего особого присутствия Правительствующего сената назначить Ульянову защитником Пассовера он получил формальный отказ. В своем последнем письме, составленном опытной рукой Пассовера, на имя министра юстиции Манасеина, Песковский писал:
«Мать Ульянова из личного свидания с сыном в крепости вынесла убеждение в психическом его расстройстве, о чем заявила Господину Директору Департамента полиции. Назначение защитника, являющегося, между прочим, в данном случае и единственно возможным посредником между подсудимым и его родными, должно или разъяснить убеждение, запавшее в душу матери, или оформить его легальным путем. Действительно, зная прошлое Ульянова, трудно не заподозрить нормальность умственных его способностей, — так резка несообразность в том, чем был Ульянов и чем он оказался по делу 1-го марта. Человек может скрытничать, притворяться, но быть окончательно не самим собой — это уж слишком непонятно» [33]. Письмо Песковского от 11 апреля 1887 г. содержит, кроме прочего, намек на необходимость медицинского обследования Александра Ульянова экспертами-психиатрами. Такой экспертизы до суда не проводилось, но группа подследственных, включая Александра и Анну Ульяновых, 30 марта 1887 года была осмотрена с целью обнаружения «наружных примет». Осмотр был запротоколирован и оставил нам неожиданное открытие:
«Александр Ульянов, 21 год
Рост — 2 аршина, 6 и 3/8 вершка (1 м 70 см);
Волосы на голове — черные вьющиеся;
Усы, едва пробивающиеся, черные;
Глаза — черные;
Нос умеренный;
Зубы белые, на верхней челюсти выдающиеся;
Кожа на лице — белая, чистая;
Особые приметы на теле: две бородавки на задней части шеи и одна на груди с правой стороны, цвета темноватого.
Анна Ульянова, 22 лет
Рост — 2 аршина, 1/2 вершка (1 м 50 см);
Волосы на голове — темно-русые, обстриженные, вьющиеся;
Глаза — темно-карие, большие;
Нос — обыкновенный, внизу широкий;
Зубы — белые, ровные;
Кожа на лице — смуглая, с несколькими родинками и бородавками;
Особые приметы на теле — на левом предплечье одно родимое пятно, на всем теле, на шее и руках, много родимых пятен» [34].
Приведенные данные осмотра брата и сестры дают все основания предполагать, что они были рождены от разных отцов. Была ли в этой связи семья Ульяновых благополучной семьей? Судить об этом очень сложно, так как все Ульяновы были людьми закрытыми и не «выносили сор из избы». По многим свидетельствам, Александр Ульянов после смерти отца пребывал в состоянии, близком к депрессии. В этом состоянии он и попал под следствие по делу 1 марта. Наблюдая за поведением некоторых своих подельников, готовых топить всех и вся, выкручиваться и делать вид людей, случайно оказавшихся обвиняемыми, Ульянов сделал другой выбор и фактически взял всю вину на себя. Для такого поведения, кроме душевной депрессии, у него была и другая весомая причина, о которой он не мог говорить даже с родной матерью. Свиданием Александра Ульянова с матерью, собственно, и закончились следственные действия по делу 1 марта. Предстоял суд. Он хотя и был максимально закрытым, но в той же мере формальным. Никакого серьезного судебного следствия не проводилось, и все пятнадцать подсудимых получили единый приговор — смертную казнь. Это была последняя попытка императора путем устрашения выявить заказчика покушения. Самые энергичные действия с помощью матери проводились в отношении Александра Ульянова. Сразу после приговора Мария Александровна получила свидание с сыном и имела с ним длительный разговор. После этого разговора закончившегося безрезультатно, свидание с Александром получил Песковский, имевший при себе заготовленный Пассовером текст прошения о помиловании. Ульянов текстом Пассовера не воспользовался, но прошение о помиловании написал. В нем он попросил у Александра III о снисхождении к горю матери в случае его казни.
Такое прошение выглядело в глазах императора издевкой. Император был взбешен. Следствие и суд не дали никаких результатов. Пятерым студентам петербургского университета: Шевыреву, Ульянову, Генералову, Осипанову и Андреюшкину — царь утвердил смертную казнь через повешение. Неслыханным по своей жестокости приговором была подавлена вся российская общественность. Бессилие Александра III — найти и покарать заказчика — обрушилось на головы пятерых юношей, никого не убивших. Упорство пятерых студентов император понимал по-своему: проплаченная за организацию покушения сумма была настолько весомой, что перевесила любое раскаяние. Был ли император далек от истины в своих рассуждениях? Мотивом покушения, именно 1 марта, по мнению Александра III, могло быть только одно обстоятельство — утвержденное им недавно новое «Учреждение об императорской фамилии». Такая форма протеста всей Романовской семьи выглядела в его глазах не просто возможной, а единственно допустимой. Следствие по делу установило только одну очевидную вещь — среди подсудимых не было ни одного революционера, а тем более члена партии «Народная воля». В глазах императора этого было достаточно для правильных выводов. Советская историография, старательно обходя исторический контекст события 1 марта 1887 года, с видимым удовольствием принялась лепить из этого горячего материала очередной опус «освободительной борьбы». Вышло, как всегда, красиво, но неправдоподобно. История безвременной гибели талантливого юноши Александра Ульянова заслуживает другого прочтения.
* * *
Реальная картина покушения на Александра III, исходя только из известных фактов, представляет собой стопроцентное заказное устранение. Студент университета Петр Шевырев, абсолютно лояльный к власти, не имевший никаких контактов с революционерами, сын купца, вдруг начал в новом учебном 1886/87 году формирование группы для целевого теракта против императора. Формируя группу, Шевырев делал каждому кандидату предложение, от которого тот был не в силах отказаться. Весь образ действий Шевырева говорит о том, что он выполнял задание одного конкретного лица, полученного им самим на определенных условиях. Такими условиями были: 1) покушение на императора должно произойти не позднее 1 марта (желательно точно, день в день); 2) исполнители должны действовать под флагом партии «Народная воля»; 3) исполнители должны действовать ручными бомбами. Лично для Шевырева была открыта линия оперативного финансирования, замаскированная под коммерческую деятельность студенческой столовой (кухмистерской). За всю работу, выполненную в точном соответствии с условиями, полагался бонус.
Глава 3 Величие под откосом
Александр III и императрица Мария Федоровна нисколько не сомневались, откуда к ним прилетел ремейк «1-го Марта 1881 года». Недовольная великокняжеская среда была очевидной питательной средой покушения на императора. Жестокость приговора несчастным студентам во многом объяснялась невозможностью предъявления обвинений кому-то одному из членов императорской семьи, а тем более всей семье, попавшей под санкции нового «Учреждения об императорской фамилии». Водораздел, проложенный между семьей императора и остальными Романовыми, положил начало новой реальности: только прямое родство с семьей императора давало шанс на получение разного рода привилегий, в том числе и на поприще государственной деятельности. Первой реакцией на новый закон было «второе 1 марта». Для организации спектакля с «Народной волей» Романовы бесспорно располагали необходимыми ресурсами, в том числе и людскими, чтобы надежно закамуфлировать акцию. Российский политический сыск оказался не в силах определить, кто нанял сына купца Шевырева, который за какие-нибудь три месяца сумел сколотить копию «Народной воли» и вывести ее новых бойцов с бомбами на Невский проспект, точно в дату государственного переворота 1 марта 1881 года. Александру III пришлось проглотить неприятную пилюлю и вполне осознать, что в большой Романовской семье появилась скрытая фронда, добраться до которой будет не просто.
Следующий 1888 год принес очередной неприятный сюрприз победителю 1881 года. На этот раз Александр III задумал широкую демонстрацию укрепившейся власти своей семьи путем роскошной прогулки на Кавказ, в сопровождении ближайшего окружения. Такого масштабного мероприятия не проводилось со времен Екатерины II. Поездка планировалась как явно пропагандистская со всеми элементами «высочайшей» рекламы: буклетами бесчисленных фотографий, роскошно изданным описанием и тому подобными атрибутами величия монархии. В центре всего этого великолепия должна была блистать царская семья как символ власти, одолевшей всех недругов.
Подготовка к путешествию на Кавказ была развернута еще весной 1888 года. Маршрут поездки наметили от Владикавказа, через Екатеринодар, Новороссийск, Батум, Тифлис и Баку, завершив ее снова в Батуме. Генерал В. А. Потто подробно описал все путешествие императорской семьи в своей книге «Царская семья на Кавказе. 18 сентября — 14 октября 1888 года».
Путешествие началось из Ростова, когда 17 сентября 1888 года Августейшая семья: император с императрицей, наследник-цесаревич и великий князь Георгий Александрович с многочисленной свитой — отбыли на поезде из Ростова в направлении Владикавказа. План поездки по Кавказу был, в общем, развлекательно-экскурсионный, но высочайший уровень путешественников сообщил поездке характер державного осмотра подвластных территорий. Соответственно, в исключительно торжественной и восторженной атмосфере протекали бесчисленные встречи Августейшей семьи с местными властями, аристократией и общественностью. Кроме больших городов, путешественники посетили выдающиеся по красоте горных пейзажей места Грузии, побывали в уже освоенных имениях русских аристократов в Боржоми, Цинандали и Карданахи. Назвать всю поездку сказочной — это значит применить самый слабый эпитет к тем приемам, обедам и банкетам, которые сверкающей чередой проходили перед глазами Августейшей семьи и изумленной свиты. Грузинские князья не преминули удивить императора настоящим кавказским застольем, вписанным в потрясающий горный пейзаж Сабадурского перевала. В огромном шатре с видом на горы были накрыты великолепные столы. Подавались грузинские кулинарные деликатесы: чихиртма, форель, плов из фазанов, шашлыки, маринады, лобио, маседуан в арбузе (смесь фруктов в сиропе) и отборные свежие фрукты. Император под впечатлением всего этого гастрономического изыска поднял тост: «Господа! Еще раз пью за здоровье доблестного грузинского дворянства. Пользуюсь случаем, чтобы от имени Императрицы и Моего поблагодарить вас за тот теплый и радушный прием, который Мы встретили здесь. Будьте уверены, что нужды грузинского дворянства столь же близки мне, как и нужды всего русского дворянства…» [35]. Царская семья была буквально завалена подарками от местной знати и духовенства.
Генерал Потто закончил описание путешествия царской семьи в Батуми, откуда император с семьей и свитой отбыли 14 октября на крейсере «Москва», взявшем курс на Севастополь.
В Севастополе путешественников ждал Императорский поезд чрезвычайной важности литер «А» из пятнадцати вагонов, в которых и разместились с максимальными удобствами как члены Августейшей семьи, так и многочисленная свита. Кроме того, к семье присоединились остальные дети, отдыхавшие в Ливадии: великая княжна Ксения Александровна, великий князь Михаил Александрович и великая княжна Ольга Александровна. По количеству важных особ, сопровождавших императорскую семью, поезд действительно был чрезвычайной важности, в нем находились: военный министр П. С. Ванновский, министр императорского двора граф И. И. Воронцов-Дашков, командующий Императорской Главной квартирой О. Б. Рихтер, Главный начальник охраны П. А. Черевин и министр путей сообщения К. Н. Посьет, Главный инспектор железных дорог К. Г. Шернваль и его помощник барон А. Ф. Таубе. Военных и чиновников рангом поменьше тоже хватало, особенно представительными были группы железнодорожников и охраны. Поезд формировался на Николаевской железной дороге и был оснащен по последнему слову техники: имелись своя электростанция, телеграф, внутренний телефон, почти все вагоны были оснащены автоматическим тормозом Вестингауза. Обслуживание поезда в пути осуществлялось в автономном режиме, для чего в поезде имелась многочисленная группа рабочих службы тяги Николаевской железной дороги, всего из 25 человек. Одних только осмотрщиков было шестеро и к ним одиннадцать человек смазчиков. К обслуживанию поезда местных рабочих не допускали. Руководство группой обслуживания осуществлял опытный инженер-технолог С. С. Калашников.
Не менее солидно выглядела гофмаршальская служба, обеспечивавшая питание высочайших особ и многочисленной свиты, которую возглавлял флигель-адъютант князь В. С. Оболенский. Для этого в составе имелись целых три вагона: вагон-кухня, литер «R»; вагон-буфет, литер «N», и вагон-столовая, литер «L». На кухне поезда трудились под руководством старшего повара Ивана Бернадского три повара 1-го разряда, два повара 2-го разряда и несколько поваренных учеников (по одному на каждого повара). В вагоне-столовой высоких гостей обслуживали трое официантов и пять лакеев 1-го разряда. Монаршую семью сопровождали неизменные: лейб-хирург Т. С. Гирш, художник Зичи и любимая собака императора Камчатка. Поезд чрезвычайной важности был, таким образом, неким эксклюзивным срезом всего русского общества по линии власти и влияния — от самой вершины до основания. Как-то так случилось, но в поезде не оказалось ни одного представителя духовенства. В остальном поезд чрезвычайной важности был абсолютно автономен. Комендантом поезда являлся начальник Дворцовой полиции полковник Е. Н. Ширинкин, правая рука Главного начальника охраны императора генерала П. А. Черевина.
Поезд ушел из Севастополя с опозданием в ночь на 16 октября и с некоторыми задержками в пути близ Бахчисарая, у станций «Альма» и «Синельниково» благополучно прибыл утром 17 октября на станцию «Лозовая». Опоздание по расписанию составило в «Лозовой» час с минутами. На пути от «Лозовой» до Харькова предстояла смена паровозов на станции «Тарановка» — поезд вели «двойной тягой» два паровоза. В «Тарановке» впереди поезда поставили товарный паровоз «Зигля» № 164; вторым паровозом за ним прицепили товарно-пассажирский паровоз № 4, «Струве». Нет нужды объяснять, что к обслуживанию царского поезда привлекалась лучшая железнодорожная техника, имевшаяся в распоряжении Курско-Харьково-Азовской железной дороги (К.Х.А. ж.д.), и весь путь прохождения царского поезда тщательно проверялся.
В полдень 17 октября, сменив паровозы, поезд двинулся в сторону Харькова со станции «Тарановка». Августейшая семья и несколько приглашенных особ разместились в вагоне-столовой, где был накрыт завтрак. Через четверть часа спокойного и плавного движения, когда официанты начали подавать гурьевскую кашу, эта расслабляющая обстановка была прервана страшным треском, и все смешалось и посыпалось: люди, мебель, посуда… Произошло крушение чрезвычайного поезда, занявшее чрезвычайно мало времени — всего какие-нибудь секунды.
В записке, составленной по горячим следам катастрофы, происшествие получило официальное описание, которое в дальнейшем стало каноническим:
«17 октября 1888 года, днем, поезд чрезвычайной важности литер «А», в коем изволили находиться Его Императорское Величество Государь Император и Его Августейшая семья, следовал по Курско-Харьково-Азовской железной дороге (К.Х.А.ж.д.), по направлению от станции Лозовой-Азовской к Харькову. В 1 час 14 минут пополудни, между станциями «Тарановка» и «Борки» на насыпи, вышиной пять сажен, в конце уклона 277 версты, означенный поезд потерпел крушение, причем шесть вагонов, почти в центре поезда и в том числе Императорский столовый вагон, в коем в момент катастрофы изволили находиться Его Императорское Величество, Государыня Императрица и другие высочайшие особы, были разбиты совершенно, два паровоза и пять вагонов более или менее сильно повреждены, а самое крушение имело последствием смерть 21 человека и увечья и поранения 43 лиц» [36].
Это сообщение в целом верно описывает результат крушения поезда на участке, где высота железнодорожной насыпи превышала 10 метров. Другие детали не публиковались и стали очевидными только из материалов следственного дела. Важными надо признать два обстоятельства: оба паровоза, тянувшие состав под уклон, практически не пострадали, хотя и сошли с рельс, зарывшись колесами в грунт; пять последних вагонов поезда не пострадали вообще, оставшись на рельсах, и впоследствии были отогнаны назад в Тарановку. Рассматривая схему крушения, составленную сразу после катастрофы, нетрудно определить эпицентр разрушения вагонов по степени разброса их обломков — это вагон № 4 (литер J), где располагалась прислуга. От вагона практически ничего не осталось, кроме фрагмента стены (см. схему). В этом вагоне погибло и больше всего людей. Сильно пострадали соседние с ним вагоны № 3 (вагон министра МПС) и № 5(литер R), где располагалась кухня.
По поводу роли паровозов в происшедшей катастрофе лучше всего обратиться к свидетельствам лиц, находившихся непосредственно рядом с машинистами. На головном товарном паровозе Зигля находился инженер-технолог П. Ф. Ключинский, работавший на дороге контролером тяги (протокол № 21 от 23 октября 1888 года):
«17 октября с.г. я сопровождал поезд чрезвычайной важности литер А от станции Лозовой-Азовской до 277 версты, т. е. до места крушения поезда, я находился на первом паровозе с Начальником 4-ой дистанции Ветринским и машинистом Горозиевым и помощником его Евсюковым… Выехавши из Тарановки, мы двигались, как мне показалось, со скоростью меньшей, чем до Тарановки, и с такой же скоростью ехали до 277 версты, причем на последнем уклоне, где поезд пошел несколько скорее, скорость не превосходила, по моему мнению, 45 верст в час… Подойдя к месту происшествия, наш паровоз один момент заколебался в ту и другую сторону и в тот же момент остановился, несколько наклонившись в левую сторону. В это время я был в паровозной будке позади машиниста, который стоял у регулятора. В момент остановки я взглянул в окно будки и увидел несколько человек, сбегающих по насыпи вниз около озера, затем я спрыгнул с паровоза и увидел разбитые и разбросанные вагоны и нескольких потерпевших крушение лиц. Первый паровоз после момента крушения всеми тремя колесами правой стороны стоял на рельсах, колеса же левой стороны находились внутри колеи вплотную к рельсам, и паровоз наклонен был на левую сторону очень незначительно».
Инженер Ключинский почти не почувствовал момент крушения, и только остановка паровоза заставила его покинуть будку машиниста. Паровоз сошел с рельс левыми колесами, как будто какая-то сила потянула его назад.
Примерно то же самое происходило со вторым паровозом, о чем рассказал начальник депо Г. П. Задонцев (протокол № 25 от 23 октября 1888 года):
«17 октября сего года я на втором паровозе сопровождал поезд чрезвычайной важности литер А. На паровозе этом находились, кроме меня, машинист Жекулин, его помощник Харченко и агент Императорского поезда, неизвестный мне по имени и фамилии.
Мне были подчинены на паровозе машинист и его помощник, но агент поезда, стоявший у автоматического тормоза, был от меня совершенно не зависим, и его инструкция мне совершенно не известна… Начальник дистанции Ветринский, находившийся на первом паровозе, объявил мне, что Государь сел завтракать и потому нужно ехать плавнее и, кажется, тише…
Крушение поезда продолжалось один момент. Стоя на паровозе, никаких толчков я не ощущал. Паровоз моментально как будто погрузился в мягкую почву: помощника машиниста засыпало углем, и он, падая, свалил и меня с ног, паровоз сильно накренился налево и сошел с рельс. Когда я поднялся, катастрофа, очевидно, уже закончилась; за паром, выходящим из пробитого котла, положение вагонов на пути рассмотреть было невозможно, но с левой стороны я увидел свалившиеся под откосом части вагонов и суетящихся людей… По моему мнению, не паровозы первыми сошли с рельс, а или второй вагон задними колесами, или третий передними, так как в этом месте произошли наибольшие разрушения; паровоз же наш не испытал никакого толчка, а сразу сел в балласт левой стороной».
Свидетельства двух специалистов точно указывали на эпицентр крушения, отмечая моментальность события. Развивать эту тему никто не стал, причем все внимание почему-то сосредоточили на возможных технических нарушениях: гнилые шпалы, паровозы разного назначения, неработавшие тормоза Вестингауза, неправильно сформированный состав и, наконец, неисправный вагон министра путей сообщения. Любое из этих упущений могло стать причиной катастрофы. Насыпь в месте крушения тщательно осмотрели — никаких следов подкопа и закладки мины не обнаружили. При этом не понятно, почему исключили возможность минирования самого поезда? Ведь все показания были налицо: полное разрушение всего вагона, масса убитых в нем людей. Однако полное молчание вокруг очевидного факта мгновенного разрушения вагона № 4 становится более ясным из свидетельства полковника Н. Н. Баженова, начальника Харьковского ГЖУ, находившегося в мужском свитском вагоне № 13 литер «О»:
«Проходившая через наш вагон придворная прислуга сообщила нам, что Высочайшие особы и Свита собрались в столовый вагон, где подается завтрак, — это было ровно в полдень по петербургскому времени. Затем через несколько минут мы получили первый чрезвычайно сильный толчок. Толчок был так силен, что я упал со стула на пол; затем вторым толчком перебросило меня к стене, где, ухватясь за стенку близ двери, я успел при сильных толчках приблизиться к выходной двери, которая от тех толчков уже была отворена, почему последний толчок выбросил меня на полотно дороги. Вся катастрофа произошла в несколько секунд, и я безошибочно скажу, что все это было окончено секунд в пять или шесть.
Очутившись на полотне дороги, мне представилась картина полного разрушения императорских вагонов, так что думать даже о спасении кого-либо из Высочайших особ было невозможно. Подбежав к вагонам левой стороны поезда, упавшим вниз, я первее всего встретил Великую княжну Ольгу Александровну, упавшую с значительной высоты из разбитого великокняжеского вагона (вагон № 9, литер «А»), сильно испуганную, в слезах. Затем из того же вагона снизу наверх кто-то нес на руках перепуганного и сильно плачущего Великого князя Михаила Александровича, и здесь же по направлению разбитого столового вагона быстро подошла вниз Великая княжна Ксения Александровна, осведомлявшаяся с крайним испугом о Государе Императоре и Государыне Императрице. В ту же почти минуту, по направлению от столовой, но с другой стороны разбитого великокняжеского вагона показалась Государыня императрица, спускавшаяся вниз по откосу, и затем наверху у столового вагона показался Государь император. Радость видеть всю императорскую семью, спасшуюся между обломками совершенно разбитого вагона, была так велика, что все успевшие прибежать вниз как бы по условленному знаку сняли шапки и перекрестились. Государь император заметно был взволнован, но совершенно покоен, точно так же была совершенно покойна и Государыня императрица, вышедшая из-под обломков с признаками поранения руки и лица. В продолжение этого короткого времени Августейшие дети были уже перенесены в уцелевшие вагоны, о чем было доложено тут же как Государю императору, так и Государыне императрице… Осмотрев наскоро характер крушения и видя, к счастью, что никакого злоумышления тут незаметно, я немедленно отправился к паровозам… Поездной телеграф свалился с одним из разбитых вагонов на правую сторону, и отыскать его было невозможно…
На обращенный в мою сторону вопрос Его Величества: «Где же доктора, и где наш второй поезд?» — я немедленно сел на казачью лошадь и отправился на пройденную нами в 5-ти верстах назад полустанцию «Дудковка», чтобы оттуда телеграфировать о присылке докторов из Харькова и о скорейшем пропуске к месту происшествия второго императорского поезда. Я дал лишь телеграмму Губернатору в Харьков, в которой просил командировать на 277-ую версту профессора Грубе и других для подания помощи раненым…
Затем подошел поезд, который был отправлен на место катастрофы, я же вслед за тем, возвратился туда же и нашел, что со стороны Харькова подошли санитарный поезд с железнодорожными докторами и другой с вагонами третьего класса. Я получил повеление собрать всех убитых и раненых и отправиться с ними в Харьков, где устроить больных с полным их попечением. Затем Высочайше было возложено на меня доложить о происшествии с Императорским поездом харьковским местным властям, причем через Министра Императорского Двора было мне сказано, что я должен сообщить обстоятельства дела с точностью, «чтобы не было там пустых разговоров»» [36].
Разговоров тем не менее было много. Как только новость о крушении царского поезда достигла Петербурга, ее стали живо обсуждать в салонах и клубах. Наиболее информированным всегда считался салон генеральши А. В. Богданович. И на этот раз за столом у генеральши оказался В. В. Салов, председатель инженерного совета МПС, профессор. Он рассказал о случившемся со слов министра К. Н. Посьета, с которым он возвращался из Гатчины после доклада императору.
Фотография императорского поезда на месте крушения
Салов озвучил версию произошедшего, исходившую с самого верха: виной всему гнилые шпалы, которые были обнаружены тут же на месте катастрофы чуть ли не самим императором. Кроме этого, министр поведал Салову, что происходило в столовой поезда во время самого крушения:
«Был полдень. Ранее обыкновенного сели завтракать, чтобы кончить его до Харькова, который уже отстоял только на 43 версты… В столовой собралась вся царская семья и свита — всего 23 человека. Маленькая вел. княжна Ольга осталась в своем вагоне. Столовая была разделена на 3 части: посредине вагона — большой стол, с двух боков столовая была отгорожена — с одной стороны помещался обыкновенный стол для закуски, а за другой перегородкой, ближе к буфетной, стояли официанты. Посредине стола с одной стороны помещался государь, имея по бокам двух дам, а с другой стороны — императрица, справа у нее сидел Посьет, а слева Ванновский (военный министр). Где стояла закуска, там сидели царские дети: цесаревич, его братья, сестра и с ними Оболенский (гофмаршал). В ту минуту, когда подавали последнее блюдо, гурьевскую кашу, и лакей поднес государю сливки, началась страшная качка, затем сильный треск. Все было делом нескольких секунд — царский вагон слетел с тележек, на которых держались колеса, все в нем превратилось в хаос, все упали. Кажется, пол вагона уцелел, стены же приплюснулись, крышу сорвало с одного бока вагона и покрыло ею бывших в вагоне. Императрица захватила Посьета при падении за бакенбарды. Первый на ноги поднялся Посьет. Увидя его стоящим, государь, под грудой обломков, не имея сил подняться, закричал ему: «Константин Николаевич, помогите мне выкарабкаться».
Слава богу, дети все целы. Ксения стояла на полотне дороги в одном платье под дождем; на нее накинул телеграфный чиновник свое пальто. Цесаревич и Георгий тоже были невредимы. Когда нянька увидела, что стенка вагона была разбита, она выбросила маленькую Ольгу на насыпь и сама вслед за ней выбросилась. Все произошло очень благополучно» [37].
Действительно, все произошло более чем благополучно для всей царской семьи, кроме лакея Генриха Лаутера, подававшего сливки и убитого на месте. Обломками задавило и собаку императора Камчатку. Нет нужды описывать ужас, испытанный людьми, севшими позавтракать в приятной обстановке комфортабельного вагона. Всемогущий император на насыпи, под дождем, среди обломков своей роскошной столовой — такой близости смерти и унижения Александр III не испытывал ни разу за свою жизнь.
Он не был наивным человеком и сразу оценил всю точность убийственного замысла: от собранного в одном вагоне семейства в полном составе до крутого откоса, куда рухнули императорские вагоны. Спасти лицо монаршего «величия» могла только гнилая шпала, неисправный вагон или еврей Поляков, кое-как построивший дорогу. По этому беспроигрышному пути, следуя негласному указанию монарха, и двинулось немедленно назначенное следствие.
Волею судьбы и императора его возглавил А. Ф. Кони, обер-прокурор уголовного кассационного департамента Правительствующего сената. Уже 20 октября Кони прибыл на место крушения и, расположившись в отдельном вагоне, приступил к допросам. Уяснив для себя всю ответственность за возможный неверный шаг, Кони обставил свою миссию надежными страховочными фигурами, которым было поручено отработать две основные версии крушения — злоумышление или технический сбой по той или иной конкретной причине. Версию злого умысла или теракта отрабатывал С. Э. Зволянский, в ту пору секретарь директора Департамента полиции. Для объективной оценки технической стороны дела привлекли в качестве экспертов 14 специалистов — инженеров и ученых во главе с профессором, генералом Н. П. Петровым.
Сам Кони избрал для себя исследование хозяйственной деятельности Курско-Харьковской-Азовской железной дороги как частной акционерной компании. Весь процесс следствия протекал тут же, на месте крушения, куда подогнали несколько классных вагонов, в которых расположились члены следственной бригады, столовая и вагон, в котором, собственно, и шли допросы.
Первыми закончили свою часть работы С. Э. Зволянский и его коллеги из жандармского ведомства. Как водится, им пришлось разбираться с многочисленными доносами самых разных лиц, «в которых слишком ясно сквозила цель личного мщения тому или другому человеку». Все розыски и дознания, предпринятые в этом направлении, не дали никаких результатов, и Зволянский обратился к Кони с уведомлением, что его команде нечего делать на месте крушения и им лучше отбыть к месту постоянной службы. Кони не возражал. Зволянский написал Кони из Петербурга, что и министр внутренних дел, выслушав его подробный доклад, «со своей стороны нашел, что дело не представляет ни малейшего намека на политическое преступление».
Такая позиция охранного ведомства вполне удовлетворила руководителя следствия, и он направил всю свою энергию на выявление всевозможных недочетов и злоупотреблений в железнодорожном ведомстве. Кони не был конъюнктурщиком, но брать на себя лишнее ему вовсе не хотелось. Он так описывал свое прибытие на место катастрофы:
«В час ночи 20 октября я был на месте. Когда, сопровождаемый управляющим дорогой и сторожами с факелами и фонарями, я бегло осмотрел место крушения и возвышающуюся громаду врезавшихся в землю паровозов и разрушенных, искалеченных и растерзанных вагонов, я пришел в большое смущение, ясно сознав, что от меня теперь ждет вся Россия разрешения роковой загадки над этой мрачной, бесформенной громадой развалин. Величие задачи, трудность ее и нахождение лицом к лицу с причинами и последствиями события, которое могло иметь роковое историческое значение, не могли не влиять на меня. Я искренне и горячо молил бога помочь мне и просветить меня в том испытании ума и совести, которое мне было послано судьбой» [38].
Проведя месяц на месте крушения и каждый день питаясь исключительно информацией о халатности и некомпетентности отдельных лиц ведомства путей сообщения, Кони твердо пришел к окончательному выводу по делу. Почти ежедневно он отправлял телеграммы и письма министру юстиции Манасеину с откровенными суждениями о положении дел и отдельных людях, своих сомнениях и наблюдениях. Кони и не знал, что все его письма Манасеин немедленно докладывал царю, и тот их внимательно читал, отмечая синим карандашом наиболее любопытные места. Наконец, от министра юстиции 19 ноября 1888 года поступила телеграмма с просьбой немедленно прибыть в Санкт-Петербург для «личных объяснений по делу».
Доклад царю состоялся 23 ноября в Гатчине, в присутствии министра юстиции. Кони вспоминал, как Манасеин всю дорогу до Гатчины усиленно крестился и бледнел. Все, однако, сошло как нельзя лучше. Царь принял их в своем скупо обставленном кабинете, с низким потолком и полом, обитым синим сукном. Был он в простой серой тужурке, из-под которой проглядывала расшитая русская рубашка. Разговор с Александром III запомнился Кони до мелочей:
«Государь подал мне руку, сказал, что желает от меня лично слышать о подробностях дела крушения, указал мне на очень неудобный пуф, стоявший против него через стол, и закурил толстую папиросу, которую сменял несколько раз в течение нашего почти часового разговора.
— Прежде чем представить Вашему Величеству подробный обзор хода и результатов предварительного следствия, — начал я свой доклад, — считаю необходимым изложить данные, которые убедили меня и командированных со мной вместе представителей государственной полиции и жандармского корпуса в полном отсутствии каких-либо следов государственного преступления в обстоятельствах крушения поезда…
— Не беспокойтесь это делать, — сказал мне Государь, — я знаю, что таких следов нет и быть не может. Я твердо убежден, что тут нет ничего политического, я увидел это тотчас же на месте. Это только министр путей сообщения Посьет старался меня тогда убедить, настаивая, что это, конечно, покушение на мою жизнь. Расскажите, как шло дело после того, как и вы убедились в отсутствии покушения».
Диалог монарха со своим подданным настолько понятен им обоим, что этими двумя фразами можно было бы и закончить весь доклад, потому что дальше уже была рутина, ни в коей мере монарху неинтересная и скучная. За свою первую фразу о том, что он не усматривает в крушении никаких следов покушения, Кони сразу и надолго заслужил любовь и признательность монарха. Как оказывается все просто! Министр Посьет, чтобы скрыть творящиеся в его ведомстве безобразия, пытался списать кошмарное крушение царского поезда на очередное покушение. Но слава богу — есть еще честные люди! Дальнейший доклад Кони построил в духе сдержанного обличения:
«Тогда я начал подробный рассказ, представлявший картину преступной небрежности всех лиц, имевших касательство к поезду чрезвычайной важности».
Рассказ был действительно исчерпывающий, Кони не забыл ни одной фамилии, ни одного возмутительного факта. Похвально отозвался только в адрес управляющего Юго-Западной железной дороги С. Ю. Витте, предупреждавшего Посьета на станции Ковель о недопустимом составе и скорости поезда чрезвычайной важности. Остановился он и на заключении экспертов, озвучив основную версию происшествия: «расшитие пути, произведенное боковыми качаниями первого паровоза».
Откровенная беседа прокурора с императором была увенчана естественным вопросом монарха: «Итак, ваше мнение, что здесь была чрезвычайная небрежность?» Прокурор ответил в своем беллетризованном стиле:
«Если характеризовать все происшествие одним словом, независимо от его исторического и нравственного значения, то можно сказать, что оно представляет сплошное неисполнение всеми своего долга».
В конце беседы император поинтересовался, кого, собственно, прокурор собирается привлечь к суду, а когда услышал в ответ, что суда заслуживают все должностные лица от министра до начальника депо, то осторожно напомнил, что этот вопрос подлежит рассмотрению Особого совещания при Государственном совете. Прощаясь, Государь вежливо осведомился, когда Кони собирается вернуться к делам следствия, и милостиво разрешил ему подвергнуть допросу министра путей сообщения Посьета и начальника своей личной охраны Черевина.
Возвращались они из Гатчины в хорошем настроении: Манасеин — от того, что все прошло благополучно, а Кони прикидывал наиболее выгодные пассажи своей обвинительной речи в Верховном суде. Жизнь выбирала при этом свои непредсказуемые повороты. Кони не преминул допросить сначала Посьета, а затем и Черевина в их служебных кабинетах под протокол. Это было весьма необычно для того времени, но совершенно бесполезно для следствия. Посьет вел себя замкнуто и настороженно, он совсем не отрицал очевидных упущений, находя для них вполне реальные объяснения. Черевин вообще заявил, что технические вопросы — не его дело и он никогда не отдавал распоряжений, выходящих за рамки его компетенции, тем более Посьету. Черевин при этом остался верен себе и не удержался от острого слова. Он выразил Кони надежду, что Посьет не будет разжалован в матросы. Министр путей сообщения Посьет был по основной своей специальности моряк в чине адмирала. Кроме того, Константин Николаевич Посьет был признанным и уважаемым организатором в области развития всех видов сообщения России, включая морские и сухопутные. Шельмовать такого заслуженного деятеля было затруднительно, и личная честность прокурора Кони в данном случае столкнулась с оппозицией всего железнодорожного и морского сообщества. Александру III была хорошо известна тяжелая моральная обстановка вокруг предполагаемого судебного преследования Посьета, и предстоящему обсуждению дела о крушении поезда в Особом совещании Государственного совета был послан недвусмысленный сигнал.
Кони основательно подготовился к докладу на совещании, которое состоялось 6 февраля 1889 года. Кони вспоминал:
«В небольшой комнате Мариинского дворца в 2 часа собрались участники совещания: председатели департаментов, министры внутренних дел, юстиции, императорского двора, управляющий морским министерством, вновь назначенный министр путей сообщения Паукер и государственный секретарь Половцов. Затем почти одновременно пришли великие князья Михаил Николаевич и Владимир Александрович. Когда все уселись у полукруглого стола, я занял место за небольшим столом в центре полукруга и по предложению председателя изложил сжато, но со всеми необходимыми техническими подробностями результаты, раскрытые следствием, заключив перечислением лиц, привлеченных мною, с юридической квалификацией их деяний. Говорить пришлось около часу, все слушали с большим вниманием…».
Мнения по докладу прокурора Кони присутствовавших на совещании вельмож и министерских чинов были большей частью сдержанными, но никак не радикальными. Постановили привлечь к ответственности Посьета и Шернваля (голосовали 7 — «за», 4 — «против»), без определения, каким образом и в каком качестве. Этот вопрос должен был решаться в Департаменте гражданских и духовных дел Государственного совета. Там действительно прошло несколько заседаний по вопросу, каждое из которых плавно спускало дело к отказу от рассмотрения его в суде. В конечном итоге решено было ограничиться административными мерами — Посьет и Шернваль получили по выговору без занесения в личный формуляр.
Такое решение явилось полной неожиданностью для честного прокурора Кони: «Таким образом, гора, обещавшая родить Верховный Суд, родила даже не мышь, а мышонка. Этот результат был поистине возмутителен!» Даже возмущаясь, юрист Кони продолжал оставаться беллетристом. Эти строки он написал в 1923 году, находясь на советской службе, так и не осознав за тридцать с лишним лет, какую незавидную роль потерявшего зрение и обоняние следователя сыграл в пьесе, поставленной совсем на другую тему. Окончательно вопрос наказания виновных в крушении поезда был закрыт в апреле 1889 года, когда по желанию императора совещание особого присутствия «с благоговением перед великодушным намерением монарха проявить свое милосердие» прекратило все возбужденные по делу преследования.
Лично для Кони Александр III посчитал необходимым «подсластить пилюлю», и тогда же, в апреле, грудь прокурора украсила звезда ордена Святого Станислава первой степени. Так был оценен многотомный труд следственной группы — «Крушение поезда чрезвычайной важности».
Самым неприглядным во всем деле крушения царского поезда было все же поведение самого императора. Неожиданная развязка последовала в полугодовой день после катастрофы, когда все пережившие ее были собраны в Гатчинском дворце на торжественный молебен и панихиду по убитым. Профессор международного права М. А. Таубе оставил обширные воспоминания, где, в частности, рассказал о своем отце — инспекторе железных дорог А. Ф. Таубе, присутствовавшем на мероприятии в Гатчинском дворце в апреле 1889 года и удостоенном беседы с императором:
«Государь лично сказал адмиралу Посьету и моему отцу, что он теперь знает об их невиновности, тем не менее никто в своих должностях восстановлен не был, истина о Боркской катастрофе объявлена во всеобщее сведение не была, и обещание, данное государем затем адмиралу Посьету, дабы снять с инженерного ведомства огульное против него обвинение, исполнено Александром III не было» [39].
Так оно и было: никого в должности не восстановили, и ничего во всеуслышание не объявили. Что было объявлять, если очевидный террористический акт против царского семейства был спланирован и приведен в исполнение, не оставив никаких следов заказчика и исполнителя? На этот раз не стали тратиться на создание еще одной «Народной воли», а сделали все тихо, без политических деклараций.
Сомнения в объективности расследования Кони появились сразу, еще на стадии следственных действий. Они высказывались не только в кругу специалистов железнодорожного дела, но и в осведомленных придворных кругах, куда просочились сведения об имевшем место параллельном следствии, проводившемся секретно под контролем начальника личной охраны императора генерал-адъютанта П. А. Черевина. В то время когда «судебный соловей» А. Ф. Кони вовсю старался подпереть официальную версию крушения силами подчиненной Черевину службы, которую возглавлял полковник Ширинкин, было проведено оперативное дознание.
В поезде чрезвычайной важности Ширинкин исполнял обязанности коменданта, ведая вопросами контроля за всеми пассажирами и действиями охраны поезда на стоянках. Только ему был известен персональный состав пассажиров каждого вагона. Кроме того, у каждого пассажира поезда имелся именной железнодорожный билет с фотографией, что позволяло охране отслеживать перемещения пассажиров внутри поезда. Особому контролю подлежали лица Гофмаршальской части Министерства императорского двора: лакеи, официанты, повара и т. д. Ширинкин начал действовать немедленно после крушения. Весь персонал кухонной обслуги насчитывал 11 человек: старший повар, 5 поваров 1-го и 2-го разрядов и 5 поваренных учеников, по одному на каждого повара. Для понимания специфики кухонной работы надо помнить, что каждый повар трудился над определенным видом блюд (салаты и закуски, супы, горячие блюда из рыбы и мяса, десерты), которые являлись его профессиональной специализацией. Быстрота и эффективность работы повара в условиях поезда требовали наличия помощника для подсобных, заготовительных работ. В царском вагоне-кухне каждому повару полагался поваренный ученик, именно в качестве помощника. При проверке наличия поварского состава кухни Ширинкин обнаружил пропажу одного поваренного ученика. Четверо поваренных учеников: Степан Макешин, Семен Леонов, Алексей Николаев и Михаил Козлов — были ранены, а один, имя которого не называется в списке, исчез. Разумеется, Ширинкин выяснил, при каких обстоятельствах и в какой момент исчез поваренный ученик. Все его беседы с работниками кухни велись без протокола, но с предупреждением каждого о «неразглашении». Впрочем, кухонные работники дорожили своим местом и не имели повода к болтовне, но человеческий фактор неизбежно сработал. Кроме того, кухонные работники поделились с Ширинкиным своими ощущениями от момента крушения — однозначно определив его как взрыв (хлопок, удар и т. д.). В результате сложилась реальная картина происшествия — подготовленная одним человеком диверсия, с помощью взрывного устройства, с часовым механизмом срабатывания. Взрывное устройство располагалось, скорее всего, где-то в вагоне № 4, рядом с местом, где ночевали работники кухни.
Дальнейшее расследование стало делом техники: были немедленно установлены лица, рекомендовавшие поварского ученика на царскую службу, но здесь след обрывался, оставляя поле только для известной дедукции. Черевин доложил результаты секретного дознания царю раньше доклада Кони.
Слушая доклад прокурора, Александр III уже знал, как и что было на самом деле. Император, убедившись в абсолютной уверенности прокурора в результатах официального расследования, полностью поддержал его выводы, но в дальнейшем спустил все дело на тормозах, заняв удобную позицию милосердного монарха. Зачем императору понадобился столь сложный камуфляж очевидного факта, который невозможно было утаить? Вопрос этот занимал и современников.
Мало кто знал о существовании конфликта в Романовской семье по поводу распределения титулов и субвенций в зависимости от прямого родства с императорской семьей в соответствии с новым законом об «Учреждении императорской фамилии». Когда исполнитель теракта был формально обнаружен, стало очевидным, что вся операция в целом была по силам только очень влиятельным, информированным и не считавшим денег людям. Явный след терялся в недовольной великокняжеской среде, куда ход был заказан даже всемогущему Черевину. Какие-то детали скрытого расследования все же просочились к заинтересованным лицам и вызывали общее недоумение по поводу поведения царя. Профессор М. А. Таубе, не скрывая обиды за своего отца, всю жизнь честно служившего России, писал:
«Все это вместе взятое не могло не производить в заинтересованных в раскрытии истины семьях удручающего впечатления, следы которого чувствовались среди них, конечно, еще много лет спустя… Правда, и после упомянутого выше царского заявления моему отцу о его невиновности ему и вторично довелось услышать то же самое от самого императора, причем выяснилось, что ему будет назначена необычно высокая пенсия в 5000 рублей: после богослужения и завтрака в Гатчинском дворце в годовщину Боркской катастрофы мой отец был удостоен довольно продолжительной беседы с государем и особенно с императрицей Марией Федоровной, которая после расспросов о всей нашей семье между прочим сказала ему следующее: «Мы все Вас очень жалеем и часто вспоминаем…». Однако мой отец, как и все неправедно пострадавшие с ним служащие инженерного ведомства, хотел не жалости и милости, а элементарной человеческой справедливости». Честная немецкая семья Таубе не могла вообразить такого поведения монарха огромной страны.
Удивительного, к сожалению, в поведении Александра III было мало. Дорвавшись до власти 1 марта 1881 года, он предпочитал, как нашкодивший холоп, откупаться от пострадавших в его злоключениях людей. Официальная ложь стала нормой внутренней политики, постепенно переходя в сферу общего политического курса. Императрица Мария Федоровна, как могла, сглаживала возникающие тут и там неурядицы и глупые положения, в которые попадал ее незадачливый супруг. Однако и ей, воспитанной датской принцессе, было не дано предотвратить окончательный раскол Романовых, принимавший все более острые формы.
Глава 4 Почему перестают быть революционерами?
Правая рука Хозяина «Народной воли» Александра Михайлова, идеолог партии Лев Александрович Тихомиров уехал из России в августе 1882 года. Родину покинул самый разыскиваемый революционер, фотографии которого были вывешены на всех пограничных станциях железных дорог.
Оказавшись в Европе, Лев Тихомиров вполне прочувствовал эмигрантскую жизнь русского подполья, испытав на себе все ее многообразие. Деятельность его в России была хорошо известна, поэтому общение в эмиграции с такими людьми, как П. Л. Лавров, Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч, и другими выглядело вполне естественным. Тихомиров избегал какой-либо политической полемики, не стремился к роли вождя, хотя по инерции продолжал сохранять свой статус народовольца. Все время пребывания в Европе, а ему довелось жить в Швейцарии и Франции, главным содержанием его внутренней жизни было осмысление тех событий, участником которых ему пришлось быть в России. Анализ был долгим и мучительным, отнявшим у него целые шесть лет. Финал ошеломил все заграничное революционное сообщество: опубликование в июле 1888 года брошюры Л. Тихомирова «Почему я перестал быть революционером» и возвращение в Россию в январе 1889 года. Эти два события вызвали огромный отклик как в Европе, так и в России и до сих пор составляют предмет обсуждения историков и публицистов.
Появление Тихомирова в Европе после события 1 марта 1881 года и последовавших за ним процессов над террористами «Народной воли» было логичным, и эмигрантское сообщество встретило его дружелюбно. Жизнь в Петербурге, полная приключений нелегальной деятельности, осталась позади.
В казематах Петропавловской крепости исчез Хозяин «партии» и самый близкий ему человек Александр Михайлов. Тихомиров же оказался в необычной для него атмосфере размеренной европейской жизни, с чужим паспортом в кармане и в общении с такими же, как он, выброшенными из привычных мест людьми. Он приехал в Европу с женой и сыном, оставив двух дочерей на попечение родных в России. Последним публицистическим произведением, написанным им в России, было «Письмо Исполнительного Комитета Александру III» [40]. Свое авторство этого документа Лев Александрович не только не скрывал, но даже им гордился. Письмо было написано 10 марта 1881 года, сразу после убийства Александра II, отпечатано в типографии «Народной воли» и широко распространялось в Петербурге и некоторых городах России. Попало оно и на страницы европейских газет. Стоит присмотреться к этому воззванию партийного органа, написанного одним из его лидеров. В начале «Письма» Тихомиров констатировал предопределенность произошедшего: «Кровавая трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была случайностью и ни для кого не была неожиданной. После всего происшедшего в течение последнего десятилетия она являлась совершенно неизбежной, и в этом ее глубокий смысл, который обязан понять человек, поставленный судьбою во главе правительственной власти. Объяснить подобные факты злоумышлением отдельных личностей или хотя бы «шайки» может только человек, совершенно неспособный анализировать жизнь народов».
Лев Александрович Тихомиров
Необходимо помнить, что текст «Письма» принадлежит человеку, которому были известны все подробности подготовки и выполнения покушения на Александра II, причем такие, которых не знал никто. В приведенном выше отрывке зашифрованы три коротких «message» к Александру III лично:
— убийство Александра II было неизбежно, и его ждали;
— убийство не было случайностью;
— за убийством стоит не только «шайка злоумышленников».
Александр III, разумеется, читал «Письмо», и (быть может, не сразу) смысл этой преамбулы до него дошел. Осведомленность автора новый царь оценил.
Дальше в «Письме» шла обычная социалистическая риторика, и содержалось предложение царю сделать выбор: или созвать представительное народное собрание и передать власть народу; или последует продолжение террора. Как известно, царь выбрал третий вариант: непосредственные исполнители убийства Александра II были повешены, а остальные провели по двадцать лет в тюрьме.
Когда для русского правительства стало очевидным пребывание Тихомирова в Европе, был предпринят зондаж его намерений и планов, для чего в Париж направили либерального журналиста Н. Я. Николадзе. Вся операция контролировалась Департаментом полиции через некоего Бороздина, который приехал в Париж вместе с Николадзе, но поселился отдельно от него в Гранд Отеле. Факт переговоров русского правительства с «Народной волей» советские историки долгие годы пережевывали как свидетельство ее влияния на внутрироссийскую жизнь. На самом деле к моменту переговоров «Народная воля» в России была полностью разгромлена и как организация не существовала. Миссия Николадзе сводилась к тому, чтобы выяснить у русских радикалов-эмигрантов и прежде всего у Тихомирова возможность прекращения актов террора в России в обмен на различные послабления правительства, вплоть до освобождения кого-то из заключенных. Подлинность намерений правительства не вызывала у эмигрантов сомнений, так как сообщение о прибытии Николадзе поступило от Веры Фигнер, скрывавшейся в Харькове. Фигнер написала своей партийной подруге Марии Ошаниной, жившей в Париже, что представитель министра двора графа Воронцова-Дашкова, некий Николадзе едет для переговоров с представителем Исполнительного комитета Тихомировым. Получив сообщение Ошаниной о предстоящих переговорах с посланцем министра двора, Тихомиров немедленно выехал в Париж из Швейцарии, где он обитал в деревеньке Морне, рядом с Женевой. Все происходило в середине декабря 1882 года. Направляясь в Париж, Тихомиров понимал, что предстоят переговоры с представителем самого императора, так как Воронцов-Дашков мог пойти на переговоры с террористами, только с ведома монарха. При этом фантастичность ситуации Тихомирова ничуть не смущала. Он реально верил, что к нему из Петербурга, с миссией от самого верха власти, приехал человек с какими-то предложениями. Николадзе и Тихомиров встретились в Париже и понравились друг другу, так что на переговорах царила откровенная, непринужденная обстановка.
Встречи проходили в гостинице, где поселился Николадзе. Гость из Петербурга объяснил смысл своей миссии в желании правительства добиться от народовольческого центра прекращения террора в отношении царской фамилии и правительственных лиц. В ответ предлагалось договориться о некоторых послаблениях в отношении революционеров. Дебаты сторон, собственно, и проходили вокруг этих послаблений. После жарких дискуссий удалось найти консенсус для следующих условий со стороны правительства:
1) общая политическая амнистия;
2) свобода печати, мирной социалистической пропаганды, свобода обществ;
3) расширение земского и городского самоуправления.
Как видим, смена в России образа государственного управления не предусматривалась. Стороны договорились даже о неких взаимных гарантиях. Тихомиров не мог сдерживать переполнявшие его чувства:
«Нам прямо валился с неба подарок. От чего мы должны отказаться? От террора, на который все равно не было сил. А взамен этой фиктивной уступки мы получали ряд реальных ценностей, и каких!»
Переговорщики были веселы и довольны. Они успели сдружиться за время совместных интеллектуальных упражнений. Конец пьесы, однако, не был столь радостным, но зато неожиданным. Сам Тихомиров так описал финальную сцену: «Однажды прихожу я к Николадзе и застаю его мрачным и встревоженным. Он сообщил, что произошло нечто неприятное и, очевидно, очень скверное. Какой-то единомышленник извещал его из России: «Прекрати переговоры и немедленно возвращайся, иначе угрожают большие неприятности». Оба мы ломали голову, что может означать такой переворот… Что касается Николадзе, он поспешил уложить чемоданы, и мы только на прощанье условились, что если окажется возможным продолжать переговоры, то известит меня… Но ничему подобному не суждено было случиться» [41].
Смысл произошедшего дошел до сознания Тихомирова много позже, но как человек самолюбивый он никогда не комментировал свое фиаско. А вот как человек, умеющий анализировать происходящее, Лев Александрович извлек из «переговоров» хороший урок и уже больше не ошибался. Для Тихомирова начались серые эмигрантские будни, перемежающиеся с финансовыми потерями, семейными неурядицами и общей депрессией.
Пять лет такой жизни вполне хватило Тихомирову, чтобы трезво взглянуть на свое общественное положение, журналистские перспективы, не говоря уже о так называемой революционной работе. Сделанные выводы были неутешительны, но зато полностью свободны от иллюзий; варианты же выхода из создавшегося положения постепенно начали обретать реальный контур. Тихомиров внимательно присматривался к эмигрантскому окружению и прежде всего к Лаврову, Лопатину, Кравчинскому и многим другим помельче. Тусовка русских радикалов при ближайшем рассмотрении оказалась пестрым сборищем людей с поверхностным мышлением, смешным самомнением и общей никчемностью. Сплетни, склоки, споры и новости были основным содержанием повседневной жизни русских эмигрантов. Для Тихомирова это был не более чем фон для самоанализа и принятия решения. Как он сам утверждает, внутренний перелом произошел в нем зимой 1887/88 года. К этому времени он свел свои отношения с радикалами к минимуму и перебрался в Париж. Здесь в марте 1888 года он начал работу над главным своим публицистическим выступлением — памфлетом «Почему я перестал быть революционером». Получилась большая программная статья, объяснявшая полный отход Тихомирова от революционной деятельности и превращение «в убежденного человека порядка, сторонника мирного развития и почитателя твердой монархической власти». Главный его упрек, адресованный своим товарищам по борьбе, содержал утверждение, что бурная революционная деятельность практически ничего не создала, растрачивая всю энергию на попытки разрушения существующего порядка. Существо своих сомнений Тихомиров выразил так: «Я окончательно убедился, что революционная Россия в смысле серьезной, созидательной силы не существует… Революционеры есть, они шевелятся и будут шевелиться, но это не буря, а рябь на поверхности моря… Они способны только рабски повторять примеры…» В итоге он констатировал: «Конечно, наше революционное движение не имеет силы своротить Россию с исторического пути развития, но оно все-таки очень вредно, замедляя и отчасти искажая это развитие». Далее Тихомиров отдельно рассмотрел террор и его главную разновидность — политические убийства. Он находил идею террора слабоэффективной: «Терроризм как система политической борьбы или бессилен, или излишен; он бессилен, если у революционеров нет средств низвергнуть правительство, он излишен, если эти средства есть».
Как профессионал он живописно изобразил суровую повседневную жизнь террориста: «Это жизнь травленного волка. Господствующее над всем сознание — это сознание того, что не только нынче или завтра, но каждую секунду он должен быть готов погибнуть. Всех поголовно (исключая 5–10 единомышленников) нужно обманывать с утра до ночи, от всех скрываться, во всяком человеке подозревать врага…» В последней части статьи Тихомиров дал сравнительные оценки разным формам государственного управления, отдавая предпочтение монархическому как наиболее естественному и эффективному.
Статья была закончена в мае и в июле была опубликована отдельной брошюрой. Взрыв эмоций, который последовал за появлением брошюры в печати, был настолько силен, что волны от него до сих пор дают о себе знать. Собственно, ничего чрезвычайного вроде бы не произошло. Всего лишь отдельно взятая личность наотрез отказалась от революционной работы, так как считала ее вредной. Однако что это была за личность? Лев Тихомиров, правая рука Александра Михайлова по кличке «Старик», главный идеолог «Народной воли» и ее бесспорный лидер за границей, объявил на весь свет, что революция является заблуждением, а террор — бессмысленным занятием. Эмигрантам было чему удивляться, недоумевать и негодовать. Только ленивый не упражнялся в печати в разного рода критических разборах, разоблачениях и откровенных оскорблениях Льва Александровича. Сам Тихомиров удостоил ответом только Лаврова как самого авторитетного из русских эмигрантов:
«Я был в первых рядах и отступил. Конечно, не зная, что делается «в первых рядах», я, как многие другие, быть может, жил бы простым доверием к ним, а потому не позволил бы себе думать и, таким образом, навек бы мог остаться во власти «передовых идей». Но, видя факты и не боясь выводов, я не мог не «отступить». Я не мог, раз начал думать, не сознаться пред собой, что сплошь и рядом «революционная практика» есть преступление, иногда ужасающее, а теории всегда незрелы, схематичны, иногда, безусловно, нелепы».
В этом хлестком ответе мэтру русской революции весь Тихомиров. Когда он начинал говорить фразами «с двойным дном», убедительность его аргументов возрастала вдвое. Он просто подавлял оппонентов своей бесспорной информированностью, но главных козырей никогда не показывал. Такая манера вести дискуссию давала хорошие результаты.
Несмотря на всеобщие эмоции, событие состоялось — сплоченные ряды русских революционеров под свист и улюлюканье покинула фигура первого ряда. Для вчерашних товарищей он окончательно стал отступником и ренегатом, но не предателем. Совестью Лев Александрович не торговал…
В дальнейшем действия Тихомирова все больше походили на заранее разработанный план. Сразу за публикацией скандальной брошюры Тихомиров направил 7 августа 1888 года письмо к В. К. Плеве, занимавшему тогда должность товарища министра внутренних дел. Плеве был, бесспорно, самым осведомленным сановником по делам, связанным с «Народной волей», так как все дела эти проходили через его руки. Тихомиров писал:
«Милостивый Государь Вячеслав Константинович! Получение письма от меня, быть может, Вас удивит… Как Вы видите из подписи, — Тихомиров Лев, имя которого Вам, конечно, известно по должности. Можно заранее предположить, что донесения извратили и раздули в глазах Правительства мою деятельность, но в настоящую минуту я оставляю это в стороне… Если мы отбросим все наговоры и неточности, остается все-таки факт, что в течение многих лет я был одним из главных вожаков революционной партии, и за эти годы — сознаюсь откровенно — сделал для ниспровержения существующего правительственного строя все, что только было в моих силах… Если Вы, Милостивый Государь, захотите перелистать мою брошюру «Почему я перестал быть революционером», посылаемую при сем же на имя Ваше, — Вы увидите без дальнейших объяснений, какой огромный переворот произошел в моих взглядах. Переворот этот назревал в течение многих лет… До сих пор утешением и оправданием для меня служил воображаемый революционный долг. Теперь иллюзия исчезла, а с ней и оправдания перед совестью…
В этом безотрадном мраке у меня остается лишь один луч света: надежда, что, быть может, я могу получить амнистию. В этих видах я решился обратиться к Вашему посредничеству с просьбой указать мне путь, по которому я, если это возможно, мог бы возвратить себе родину и права русского подданного.
Я надеюсь, что Вы не оскорбите меня предположением, будто бы я хочу что-нибудь покупать у своего Правительства или продавать ему. Я ищу искреннего забвения моего прошлого, как оно умерло во мне самом, ищу возможности начать новую жизнь, но в этой новой жизни я надеюсь, как и в старой, ничего не сделать противного чести и обязанностям честного человека».
Письмо вожака «Народной воли» удивило не только Плеве. Министр внутренних дел Д. А. Толстой немедленно подготовил доклад на Высочайшее имя, снабдив его подробной справкой спецслужб о деятельности Тихомирова в России с 1872 года до момента эмиграции. В справке Департамента полиции содержится такое резюме роли Тихомирова:
«Из отдельных отрывочных сведений и показаний усматривается, что влияние Тихомирова с каждым годом все более и более росло и после ареста некоторых выдающихся деятелей партии он сделался единственным главой народовольческого сообщества. Хотя непосредственное участие Тихомирова в покушениях на жизнь покойного Императора и не доказано, но тем не менее очевидно, что все замыслы и предприятия революционеров были ему хорошо известны».
Хотя и с большим опозданием, политический сыск России сделал правильный вывод относительно руководства террористической деятельностью в стране. Вывод этот почему-то отнюдь не насторожил царя. На докладе министра внутренних дел Александр III написал: «Это утешительный факт. Что предполагаете ему ответить? Отталкивать его не следует, он может очень пригодиться». Такая резолюция означала по сути, что Тихомирову стоит пойти навстречу. На языке бюрократов всего мира это означало — «дать делу ход в установленном порядке». По такого рода делам решение принималось только на основании прошения на Высочайшее имя, поэтому Генконсулу России в Париже А. Н. Карцеву были даны соответствующие указания относительно эмигранта Л. А. Тихомирова. Консул пригласил Льва Александровича для беседы и объявил, что ему необходимо составить прошение на Высочайшее имя и что в этом ему поможет сотрудник консульства Леонов Петр Иванович. Тихомиров так описал свое посещение консульства 8 сентября 1888 года в своей «Памятной книжке»: «Был в консульстве вчера. Там встретил так называемого Леонова Петра Ивановича. Был от 2 до 4 с половиной. Оставил у него свое прошение. Сказал прийти сегодня утром. Пришел в 10 часов, пробыл до полутора часов. Очень интересный и даже симпатичный человек».
Симпатичный Леонов был на самом деле Петром Ивановичем Рачковским, руководителем русской резидентуры в Париже. Офис Петра Ивановича располагался тут же, в здании российского консульства, на нижнем этаже. К моменту непосредственного знакомства Рачковского с Тихомировым он уже четыре года возглавлял заграничную резидентуру Департамента полиции, имел довольно развитую сеть платных агентов в парижской префектуре, прессе и плотно контролировал деятельность русских эмигрантских организаций, и не только. Например, агент Рачковского служил консьержем в доме Светлейшей княгини Юрьевской. Под постоянным наружным наблюдением в Париже находился и сам Тихомиров. Петр Иванович был, конечно, незаурядной личностью и обожал свою секретную работу вместе с денежными знаками, которые к ней прилагались, но, столкнувшись с Тихомировым, быстро понял, что с ним все обстоит сложнее. В первой же беседе Рачковский объяснил, что для успеха обращения к царю необходимо полное раскаяние просящего в совершенных деяниях. При этом всякая утайка имевших место фактов может повлечь отказ в прошении. На эту тираду Тихомиров хладнокровно заметил, что в случае отказа ему в возможности возвращения в Россию он будет считать себя свободным от всяких ограничений. Этот эпизод их беседы Рачковский подробно осветил в своем сентябрьском рапорте Директору департамента полиции П. Н. Дурново:
«В настоящее время Тихомиров вполне уверен, что он может вернуться в Россию вполне безопасно, если на то последует Высочайшее повеление. Вместе с сим он же проговорился мне лично, что отказ на прошение «развяжет ему руки» и он будет уже «вольный казак«…Теперь я убежден, что оставлять Тихомирова за границей крайне рискованно, точно так же, как возвращать в Россию на льготных условиях. Подобную снисходительность Тихомиров, по свойствам своей преступной натуры, не может рассматривать иначе, как сделку с собой Правительства» [42].
Как видим, угроза Тихомирова подействовала вполне доходчиво на Рачковского, как и на всю цепочку начальства, по которой его информация пошла на самый верх. Во Всеподданнейшем докладе министра внутренних дел Д. А. Толстого царю по вопросу Тихомирова говорится:
«С практической точки зрения добровольное возвращение политических эмигрантов в отечество крайне желательно: возвратившиеся до сего времени эмигранты спокойно обратились к законным занятиям… Это общее соображение в особенности применимо к Тихомирову, который в случае неудовлетворительного разрешения его ходатайства несомненно будет считать, что у него «развязаны руки», и своими сочинениями или иными способами может принести значительный вред делу умственного оздоровления русской молодежи».
Советская историография, много лет склоняя Тихомирова как ренегата и отступника, утверждала, что он буквально вымолил прощение у царя.
Из приведенных выше документов видно совсем другое: ни о каком «вымаливании прощения» нет и речи. Наоборот, намек Тихомирова на «развязанные руки» в случае отказа на его ходатайство заставлял задуматься, на что он, собственно, намекал. Какими сочинениями мог удивить европейскую общественность вчерашний революционер после публикации своей брошюры «Почему я перестал быть революционером?». Может быть, он собирался опубликовать какие-нибудь неизвестные подробности убийства императора Александра II? Советских историков не мучили подобные вопросы, потому что Тихомиров был чрезвычайно удобен в качестве ренегата и предателя революционной идеи; царь мог помиловать только такую ущербную личность. Однако в контексте с «развязанными руками» в случае отказа на ходатайство прошение Тихомирова больше напоминает предложение, от которого невозможно отказаться. Резолюция Александра III на докладе министра внутренних дел Д. А. Толстого дала делу Тихомирова экстренный ход, то есть сообщила делу такой режим исполнения, который исключал проволочки. Письма писались, резолюции накладывались и распоряжения отдавались немедленно и на самом высоком уровне. Что касается самого прошения Льва Александровича, то оно было составлено по канонам, подсказанным в российском консульстве, и содержало необходимые в таких случаях реверансы в адрес монарха. Тихомиров понимал, что его прошение пройдет через многие руки, и с этой точки зрения писал текст своего раскаяния в стиле высокого душевного волнения. По жизни Лев Александрович был абсолютным реалистом, чуждым всякой сентиментальности, с хорошей долей здорового цинизма и скепсиса в отношении всего, что его окружало. Поэтому к тексту прошения в адрес монарха, написанного Тихомировым в решительный момент своей биографии, нельзя подходить буквально, так как прошение в целом имеет несколько смысловых этажей. Нас интересует только уровень Тихомирова-террориста, второго по значению руководителя «Народной воли».
Передать прошение на Высочайшее имя Тихомиров предпочел через Директора департамента полиции П. Н. Дурново, сопроводив его письмом, содержавшим дополнительные просьбы Льва Александровича. Так как письмо Тихомирова к Дурново имеет прямое отношение к самому прошению на Высочайшее имя, приведем его хотя бы с сокращениями:
«Ваше превосходительство Петр Николаевич!
Прилагая при сем мое всеподданнейшее прошение на высочайшее имя, форма которого была мне сообщена в генеральном консульстве, по поручению г. товарища министра внутренних дел В.К. фон Плеве, я имею честь просить Вас рассмотреть это прошение и засим повергнуть его на благоусмотрение государя императора.
Позволю себе присовокупить несколько объяснений. При рассмотрении моего прошения вы, надеюсь, убедитесь в моей полной правдивости. Если бы у меня вкрались какие-нибудь незначительные неточности, они должны быть приписаны единственно запамятованию. Засим я не осмеливаюсь, конечно, утруждать высочайшего внимания множеством несущественных мелочей и подробностей. Разъяснения по сему предмету, в том, конечно, что касается меня лично, я могу сделать особо, если бы вам это показалось нужным. Надеюсь таким образом, что правдивость моя вне сомнения для вас, я не думаю также, чтобы вы заподозрили меня в чрезмерной легкости в изменении мнений… Во всяком случае, мне теперь под 40 лет, и мои теперешние взгляды составляют вывод целой жизни.
…Для меня затем является осложнение, по поводу которого я позволяю себе усерднейше просить вашего содействия. Обстоятельства дела таковы. В 1879–80 г. Я, будучи нелегальным и проживая под фальшивыми паспортами, полюбил девицу Е. Сергееву, которая и стала в 1880 г. беременною. Она была, конечно, легальною. И, конечно, не могла быть мною оставлена в таком компрометирующем положении. Я решился лучше совершить преступление и обвенчался с нею летом 1880 г. в С.-Петербурге, в военной церкви, забыл какого полка, казармы которого расположены на Марсовом поле, под фальшивым паспортом на имя Алещенки. С тех пор я имею трех детей, нелегальность которых совершенно терзает меня. Прошу Вас, как человека, о сердце которого не раз приходилось слышать, войдите в это положение. Я не знаю, как, каким образом можно регулировать мое семейное положение, но укажите мне эти средства. Я обращаюсь с этой просьбой к государю… Позвольте, наконец, утруждать вас еще одной просьбой, хотя и менее важной для меня. Если государь император соизволит даровать мне помилование, весьма вероятно, возник бы вопрос об известных ограничениях относительно моего местожительства. Я по своим привычкам, способностям, наконец, просто по специальности — литератор, ничем больше быть не могу в мои годы, может быть, даже в силу некоторых нравственных обязанностей, не имею права перестать быть литератором.
Не могу ли я попросить вас принять во внимание это обстоятельство при определении моего места жительства, если бы этот вопрос возник. Надеюсь, что вы не осудите меня за то, что я обращаюсь к вам с этими многочисленными просьбами. Ваша репутация дала мне на это смелость, не менее, чем затруднительность моего положения. Засим позвольте засвидетельствовать мое искреннее почтение, с каким имею честь остаться готовым к услугам вашего превосходительства.
Лев Тихомиров.
30 августа[2] 1888
204 av. du Main, Paris». [43].
Сопроводительное письмо Тихомирова к Дурново, приложенное к прошению на Высочайшее имя, замечательно прежде всего абсолютной раскованностью и деловым тоном. В нем нет мольбы, напротив, с добродушием попавшего в глупую ситуацию террориста-нелегала Лев Александрович рассказывает о неожиданной беременности полюбившейся девушки, женитьбе под чужим именем и родившихся детях, невольно ставших нелегалами, как их отец. Все выглядело по-житейски понятно, но что с этим делать, Тихомиров не знал и просил Дурново вместе с Государем разобраться в его запутанной семейной ситуации. Далее Тихомиров обращается к своему корреспонденту еще с одной важной просьбой — подумать о месте его пребывания в России, так как литературный талант не может нормально развиваться в какой-нибудь глуши. Напомним, что все это писалось из Парижа, российскому директору Департамента полиции и было скорее условиями возвращения в Россию, чем мольбой о прощении. Отрывок письма Льва Александровича, касающийся специфики его деятельности в терроре, поясним несколько ниже.
История с женитьбой Тихомирова в июле 1880 года была на самом деле приятным воспоминанием народовольцев, и прежде всего потому, что время было спокойное: никто никого не взрывал, громких арестов не было, и в Петербурге царило умиротворение. Тихомиров решил оформить брак с девицей Екатериной Сергеевой, членом Исполнительного комитета, по православному обычаю — через венчание. Обряд состоялся 30 июля 1880 года в церкви Лейб-гвардии Павловского полка, где в соответствующей книге появилась запись:
«Жених — Харьковской губернии, Купянского уезда, не служащий, дворянин Василий Игнатьевич Алещенко; невеста — Орловская дворянка, дочь капитана артиллерии Дмитрия Васильевича Сергеева, девица Екатерина». После обряда венчания брачная пара вместе с приглашенными гостями на извозчиках направились в трактир «Палкин» — на углу Невского и Литейного проспектов. (В настоящее время ресторан «Палкин» — один из самых дорогих ресторанов русской и французской кухни в Петербурге.) Для свадебного банкета был заказан отдельный кабинет с тапером. Гостями жениха и невесты были все выдающиеся члены Исполнительного комитета: А. Д. Михайлов, А. И. Желябов, В. Н. Фигнер. На банкете присутствовал даже выдающийся публицист журнала «Современник» Н. К. Михайловский, считавшийся тогда «властителем дум» российской молодежи. Михайловский впоследствии вспоминал, что на свадебный банкет Тихомирова в последний раз в жизни надел фрак, взятый напрокат. Подавали хорошее шампанское; больше всех веселилась и танцевала Вера Фигнер. После свадьбы Михайлов, учитывая интересное положение невесты, дал Тихомирову оплачиваемый отпуск, и молодые уехали в Новороссийск, где жила мать Льва Александровича. Такими были «условия подполья» в Петербурге 1880 года…
Прошение на Высочайшее имя эмигранта Льва Тихомирова рассматривалось в правительственных кругах и лично Александром III со всей тщательностью. Так, вопрос об узаконении детей Тихомирова был поручен командующему Императорской главной Квартирой, и при этом император заявил: «Очень рад сделать все возможное для Тихомирова». Само прошение, по-видимому, произвело на императора благоприятное впечатление своими доводами, описанием Тихомировым своего участия в делах «Народной воли» и полным раскаянием в прошлой преступной деятельности. Впрочем, кто мог опровергнуть изложение событий 1880–1881 годов «по Тихомирову» в конце 1888 года? Исполнители были повешены, оставшиеся в живых члены Исполнительного комитета сидели в тюрьме Шлиссельбурга, но и их информированность была сомнительна, так как решения принимались отнюдь не на общих собраниях. Пожалуй, версия событий, рассказанная в прошении Тихомирова, была на тот момент истиной в последней инстанции, и он это отлично просчитал. Правда, был еще один человек, знавший все, как есть, — Александр Михайлов, но, как было известно из «осведомленных источников», он давно умер в тюрьме.
Собственно, наиболее интересным из всего многостраничного массива информации, подробно сообщенной Тихомировым царю, был эпизод 1 марта 1881 года, связанный с убийством Александра II. О своем участии в делах заговорщиков Лев Александрович написал в прошении так:
«Выбранный членом Административного Комитета, я участвовал обязательно на всех заседаниях, между прочим и на тех, где были решены планы преступных покушений, подготовлявшихся в Одессе, Александровске, Москве и Зимнем дворце. В исполнении же этих преступлений я не принимал участия. Я знал, что мину ведут на Малой Садовой… знал о подготовлении бомб, но устройства бомб хорошо не знал и их не видал никогда… Затем я узнал, мне было сообщено, как и другим членам Комитета, что покушение будет сделано при первом благоприятном случае. Последние перед роковым днем недели две я был в отсутствии из Петербурга, отчасти по семейным делам, и случайно возвратился как раз 1-го Марта, не зная ничего о готовившихся событиях. Лишь случайно пришедший товарищ, завернувший ко мне на квартиру, на Гороховой, сообщил мне о предполагающемся покушении, а через десять минут грохот взрыва, достигший до наших ушей, подтвердил его слова. Узнавши затем о роковом исходе злодеяния, я был совершенно ошеломлен, чувствуя, что из этого не будет добра».
Приведенным текстом Тихомиров предоставил Александру III понять смысл своего сообщения в одном из двух вариантов:
1) я, являясь руководителем организации, знал обо всех готовившихся акциях, в которых непосредственного участия, естественно, не принимал. Об акции 1-го Марта и всех ее нюансах я также знал, и об ее исполнении мне было немедленно доложено;
2) я, как член Исполнительного Комитета, знал о всех готовившихся акциях, но ни в одной не принимал участия. Об акции 1-го Марта я также знал, но точная дата мне была неизвестна, тем более что я две недели до 1-го Марта отсутствовал в городе и о совершении акции узнал случайно.
Александр III соизволил принять на веру вариант № 2, а за ним эту версию пришлось проглотить и другим участникам обсуждения прошения Тихомирова. Серьезные сомнения в его правдивости, в части участия в террористических акциях, высказывал министр внутренних дел Д. А. Толстой, но далее сомнений и осторожных советов царю он не пошел.
В целом рассказ Тихомирова являлся на тот момент образцом дачи показаний в отсутствие свидетелей. Особенно «убедительно» выглядит его фактическое алиби об отсутствии в Петербурге, которое могла подтвердить только его жена. В сопроводительном письме Дурново, Лев Александрович, касаясь «несущественных мелочей и подробностей», имел в виду, скорее всего, именно это обстоятельство. Оставим в стороне правдивость Тихомирова, которую, кроме жены, некому подтвердить. Вернемся к фактам, не требующим дополнительных свидетельств: Александр III получил от Льва Тихомирова два письма — одно, датированное 10 марта 1881 года, «От Исполнительного Комитета» и другое, 30 августа 1888 года, «Прошение о помиловании». В первом письме вожак террористической организации торжествовал по поводу «давно ожидаемого» убийства Александра II и предлагал новому царю отдать власть. Во втором письме тот же человек просил его простить за совершенное преступление и утверждал, что имел к нему косвенное отношение, отсутствовал в городе и совершенно случайно, буквально за полчаса до убийства вернулся в Петербург. Два документа, разделенных семью годами эмиграции автора, вызывают удивление не столько сами по себе, сколько реакцией на них получателя — грозного императора. Минуя всякое правосудие, император, еще не получив прошение о помиловании от самого Тихомирова, предварил все последующие решения своих подчиненных резолюцией «отказывать не стоит, он может пригодиться». Коллизия просто невероятная, но только до тех пор, пока не предположить, что у Александра III просто не было другого выхода. Пространное прошение о помиловании, если оставить в стороне беллетристику о внутренних переживаниях просящего, несло в себе такую скрытую информированность автора, что для отклонения условий «о помиловании» не было никаких возможностей. Тихомиров предъявил императору своеобразный информационный поток, беспроигрышную игру фактами, спрятанными между строк. Такой текст способен понять только человек, прекрасно знавший реальную картину прошлого. Исполнителям воли монарха оставалось лишь строить предположения, но беспрекословно подчиняться. Дальнейшие события только подтверждают наш вывод. Официальное решение по прошению Тихомирова состоялось 10 ноября 1888 года: царь подписал указ о его помиловании ввиду полного раскаяния.
Для того чтобы помилованный, находившийся в Париже, все правильно понял и, не дай бог, не испугался и не передумал, директор Департамента полиции Петр Дурново направил в Париж специальную директиву Рачковскому:
«Милостивый государь, Петр Иванович!
10-го сего ноября Государю Императору благоугодно было даровать Льву Тихомирову, ввиду его раскаяния, полное помилование с подчинением его, по возвращении в Россию, гласному надзору полиции на пять лет, в местности по усмотрению Министра внутренних дел. Вопрос же об узаконении детей упомянутого эмигранта Государь Император изволил повелеть передать командующему Императорской Главной Квартирой… Высочайшее повеление будет объявлено Тихомирову в установленном порядке через Императорского посла, причем ему будет указано прибыть в Россию через пограничный пункт Вержболово, где он получит проходное свидетельство для дальнейшего следования в С. Петербург…
Ввиду вышеизложенного, я прошу Вас после объявления Тихомирову высочайшего повеления иметь с ним личное свидание и разъяснить ему, что от границы он будет следовать свободно, без конвоя, и что по прибытии в Петербург он должен явиться ко мне, намекнуть ему в прозрачных выражениях, для устранения всяких сомнений, что, так как великая милость оказана ему Государем Императором искренно, ввиду его полного раскаяния, то он может смело надеяться, что для жительства ему не будут назначены губернии Сибири или отдаленные северные окраины, а какой-либо город, находящийся в более благоприятных условиях.
О результатах объяснения с Тихомировым прошу Вас донести мне по телеграфу. Примите уверение в совершенном почтении и преданности,
П. Дурново».
Инструктаж директора Департамента полиции для Рачковского был нелишним, так как подчеркивал важность мероприятия для вершины российской власти. Рачковский все понял и был предельно осторожен. Жандармское управление в пограничном пункте Вержболово также было предупреждено специальной телеграммой:
«По прибытии Тихомирова в Вержболово снабдить его, а также его семейство, если таковое будет при нем находиться, проходным свидетельством до С. Петербурга и о времени его приезда телеграфировать в Департамент».
Тихомиров решил все же не рисковать и выехал в Россию один, жена и сын задержались в Париже. Перед отъездом он сжег весь свой заграничный архив.
В Департамент полиции 19 января 1889 года поступила короткая шифрованная телеграмма из Вержболово: «Лев Тихомиров прибудет в Петербург 20 января в 10 часов 45 минут утра». Прибыв в Петербург, Лев Александрович прежде всего побывал на могиле Александра II в Петропавловском соборе. Содеянное 1 марта 1881 года он всю жизнь носил в себе как тяжкий грех… Местом пребывания Тихомирова в России был определен Новороссийск, где жили родители, но к месту «ссылки» он не спешил и пробыл в Петербурге почти месяц. Виднейшие русские сановники К. П. Победоносцев, Д. А. Толстой и П. Н. Дурново пожелали познакомиться с Тихомировым и побеседовать, в том числе в неофициальной обстановке, за обедом. Российская политическая элита спешила посмотреть на «травленного волка» своими глазами, а главное — понять, как такое стало возможным и зачем он понадобился императору.
Включение Тихомирова в русскую консервативную публицистику началось уже во время его жительства в Новороссийске и проходило не всегда гладко. Издатели и редакторы ждали от него «воспоминаний» и «разоблачений», которых Лев Александрович категорически избегал, предпочитая общие социально-политические темы. Первыми его крупными публицистическими выступлениями в российской прессе стали серии очерков «Начала и концы. Либералы и террористы», опубликованные в газете «Московские ведомости». Они сразу обратили на себя внимание читающей публики свежестью мысли и новой аргументацией. Журналистская ниша была найдена, и Лев Александрович начал активно печататься в самых разных изданиях. «Ссылка» в Новороссийск была, разумеется, символической, и уже 12 июля 1890 года последовало Высочайшее соизволение на освобождение Льва Тихомирова от гласного надзора полиции с разрешением ему «повсеместного в Империи жительства», чем он немедленно воспользовался, перебравшись в Москву. При определении рода занятий бывшего эмигранта рассматривался даже вариант его трудоустройства в Министерство внутренних дел, но, вероятно, сам Тихомиров отклонил такую возможность как явно компрометирующую его как личность. В Москве он утвердился сначала штатным сотрудником «Московских ведомостей», а с 1909 года уже редактировал всю газету. Наиболее крупным его произведением по праву считается «Монархическая государственность» — философский трактат о государственности вообще и преимуществах монархии в частности. С момента его опубликования в 1905 году Тихомиров становится известен и знаменит, с ним ищут знакомства все российские сановники и даже великие князья. Именной экземпляр книги был преподнесен императору Николаю II и вызвал его неподдельный интерес к автору. Тихомиров был удостоен личного подарка императора — серебряного чернильного прибора «Empire» с российским гербом. Сам Тихомиров отзывался о своей главной работе с грустью: «Я — какой-то могильщик. Написал «Монархическую государственность», в которой, право, как никто до меня на свете, изложил ее философию. И это явилось в дни смерти монархического принципа. Какая-то эпитафия или надгробное слово на могиле некогда великого покойника». Это замечание, конечно, навеяно событиями первой русской революции 1905 года.
Революционные события вызвали амнистию политических заключенных, и на свободу вышли уцелевшие товарищи Тихомирова по «Народной воле». В Петербурге с 1906 года начинает издаваться журнал «Былое», полностью заполненный революционной мемуаристикой. Тема «Народной воли» была широко представлена в журнале, и едва ли не все народовольцы отметились на его страницах своими воспоминаниями, но только не Тихомиров. Сам он отозвался об этих воспоминаниях очень скептически:
«Перечитывая множество рассказов об Исполнительном Комитете в «Былом», я должен сказать, что все они изображают Комитет весьма неточно и оценивают людей его с огромными ошибками. Конечно, крупнейшие люди ничего о себе не оставили, а те, кто является свидетелями о них, мало видали, мало знали».
Редактор журнала В. Л. Бурцев был большим энтузиастом исторического поиска, исследований темных и малоизвестных тем, но особенную его склонность составляло острое желание выявления разного рода предателей и провокаторов. Своей контрразведывательной деятельностью в революционной среде Бурцев сделал себе настоящую журналистскую славу.
Общаясь с народовольцами в процессе подготовки публикаций, Владимир Львович почувствовал острый запах провокации во всей недолгой истории «Народной воли». Основанием для подозрений было обилие арестов народовольцев, особенно на завершающем этапе их деятельности в 1881 году. Однако собранных отрывочных сведений было явно недостаточно. Все следы вели к самому осведомленному в теме — Льву Тихомирову. Бурцев, как все одержимые журналисты, был легок на подъем и, оставив свои дела в редакции, отправился в Москву. Он так описал свои встречи и беседы с Тихомировым:
«Приехавши однажды в Москву, я написал письмо Л. А. Тихомирову и попросил с ним свидания. Я у него бывал несколько раз. Он поразил меня и своей религиозностью, и своим ханжеством. За едой он крестился чуть ли не при каждом куске, который клал в рот. В разговоре со мной Тихомиров ответил мне на многие вопросы о Народной воле, которые меня занимали. Я ему, между прочим, поставил вопрос о том, какое участие принимал в составлении письма партии Народной воли к Александру III в 1881 г. Н. К. Михайловский и не он ли писал это письмо? Тихомиров, тогдашний монархист, глубоко религиозный человек, один из главных сотрудников «Московских Ведомостей», — очевидно, не хотел делить этой чести с Михайловским. Несколько заикаясь, он категорически сказал мне, что все это письмо писал он, а что Михайловский только прослушал его и внес в него несколько отдельных изменений, но, в общем, был вполне доволен письмом. Тихомиров с глубочайшим уважением говорил как о замечательнейшем русском человеке, какого он только встречал, об одном из первых организаторов Народной воли — Александре Михайлове. Он сказал мне, что считает своим долгом написать о нем воспоминания, и со временем обещал мне их дать. Но я их не получил и не знаю, выполнил ли он свое обещание записать эти воспоминания, как я его об этом очень просил.
Эти свидания с Тихомировым произвели на меня очень сильное впечатление, как свидания с человеком, когда-то близким, а в то время жившим в совершенно чуждом для меня мире.
В 1916 г. я хотел еще раз повидаться с Тихомировым, и несколько раз писал ему, но ответа от него не получил».
Как видим, Бурцев в беседах с Тихомировым затронул два больных для Льва Александровича вопроса: об авторстве письма Исполнительного комитета к Александру III и об Александре Михайлове.
Если вопрос об авторстве письма был совершенно ясен и подтверждался всеми народовольцами, то в отношении Александра Михайлова у Бурцева были некоторые сомнения. Тихомиров это почувствовал и постарался их развеять, обещал даже дать свои воспоминания. Воспоминаний Тихомирова об Александре Михайлове Бурцев так и не дождался, Лев Александрович упорно избегал с ним встречи. Опытный конспиратор, Тихомиров издалека почувствовал, куда клонит «охотник за провокаторами», и без труда просчитал последствия возможных разоблачений. Так вся эта история и закончилась. На дворе уже начинался 1917 год, и Бурцеву стало совсем не до «Народной воли» с ее нераскрытыми секретами.
В 1913 году Тихомиров прекратил свое редакторство «Московских ведомостей» и перебрался в Сергиев Посад, временами наезжая в Москву. Незаметно подошел 1917 год, и в октябре Лев Александрович делает последнюю запись в своем Дневнике. Пора было позаботиться о судьбе собственного архива, но сделать это он решился только через год, направив письмо председателю ученой коллегии Румянцевского музея (в настоящее время библиотека им. Ленина):
«Покорнейше прошу Вас принять на хранение в Румянцевском Музее прилагаемые при сем двадцать семь переплетенных тетрадей моих дневников и записок на следующих условиях:
1) В течение моей жизни и десять лет по моей смерти право пользоваться этими рукописями оставляю исключительно за собой и членами моей семьи: а) Е. Д. Тихомировой, б) архимандритом Тихоном Тихомировым (сын Тихомирова — Александр), в) Н. Л. Тихомировым (сын Тихомирова — Николай), г) Надеждой Львовной Тихомировой (дочь) и д) Верой Львовной Тихомировой (дочь).
2) Через 10 лет по моей смерти рукописи поступают в распоряжение Румянцевского музея на общих основаниях».
Архив был передан в музей как нельзя вовремя — в стране уже бушевала смута. Лев Александрович прожил еще несколько лет, безразлично наблюдая окружавшую действительность и не принимая в ней никакого участия.
Он умер 16 октября 1923 года, занимая должность делопроизводителя советской школы имени Максима Горького в Сергиевом Посаде. Говорят, что умер в нищете. Имеет ли это значение? Мир его праху…
При советской власти архив Тихомирова оказался в политической секции вновь образованного в 1922 году Центрархива РСФСР.
Товарищи из Центрархива вместе с Верой Фигнер в 1927 году подготовили публикацию архива Льва Тихомирова, отобрав из 27 тетрадей две. Остальное наследие было признано малоинтересным. Русская история попала в надежные, преданные делу революции руки красных архивистов.
В 45-летнюю годовщину цареубийства 1 марта 1881 года Совет народных комиссаров Союза ССР специальным постановлением от 11 марта 1926 года назначил участникам акции, оставшимся в живых, пожизненную пенсию в 225 рублей в месяц. Лев Тихомиров не дожил до положенной ему по праву пенсии, Господь отвел от него немыслимый позор…
Часть III Под звуки Марсельезы
Глава 1 «Легкомысленная императрица»
Для осознания всей тяжести нанесенного России 1 марта 1881 года удара достаточно поверхностного знакомства с колоссальной реформаторской работой, проведенной командой убитого императора. Вся система управления страной подверглась перестройке на основе современных европейских подходов, но с учетом русской национальной специфики. Ради разработки отдельных направлений лучшие специалисты, занятые в ведомствах, направлялись в Европу для изучения системы правосудия, финансов, местного самоуправления и организации военного дела. Центральное место в системе задуманных реформ занимал крестьянский вопрос и существовавшее в стране крепостное право. В огромную по масштабам работу были вовлечены лучшие интеллектуальные силы России, и их имена навеки сохранит история: великий князь Константин Николаевич, А. В. Головнин, граф Д. А. Милютин, граф М. Х. Рейтерн, В. П. Бутков, С. И. Зарудный, В. А. Татаринов и многие другие, внесшие огромный вклад в общее дело. В результате страна менялась на глазах — крестьянство получило свободу, заработало земское самоуправление, судебная система приобрела свои уставы, армию стали формировать на основе всеобщей воинской повинности, появились военные округа, изменилось вооружение. Претерпела изменение финансовая система — в стране заработал банковский кредит, формировались рынки труда и капитала. К 25-летию своего управления страной император Александр II подошел к самой главной своей реформе — созданию парламента и введению конституции. Сделать последний шаг ему было не суждено, две бомбы оборвали жизнь реформатора. Убийцы действовали под флагом партии «Народная воля», исчезнувшей, как дым, сразу после совершенного злодейства. Российским монархом стал, уже в день убийства, внук немецкого барона, слуги и сожителя немецкой герцогини. Насилие и кровь на этот раз привели на трон нелегитимную, по российским законам, личность, перешагнувшую через труп своего отца. Прямо на похоронах, без малейшего стеснения, новоиспеченный император украсил себя высшим орденом Британской империи, поднесенным то ли в качестве награды за содеянное, то ли за спасенный «status quo», но, скорее всего, за то и другое сразу.
Окрыленный наградой, внук немецкого холопа принялся за ревизию всего реформаторского наследства погибшего императора. Разнородное российское общество, при молчаливом согласии всей Романовской семьи, с удивлением наблюдало за тем, как орудует на троне расположившийся на заслуженный отдых в Гатчине победитель.
На излете советской власти, в 1970 году, профессор истории П. А. Зайончковский опубликовал свой капитальный труд «Российское самодержавие в конце XIX века». Свое исследование Петр Андреевич полностью посвятил пребыванию на русском троне Александра III, его личности, окружению и разрушительной работе в российском управлении, проделанной под его патронажем. Работа Зайончковского стала настоящим откровением не только для специалистов, но и просто для широкой публики, интересующейся историей. Для убедительности профессор обозначил использованные источники в самом начале своей книги, причем в аннотированном варианте. Список производит впечатление даже сейчас не столько набором известных имен, сколько количеством неизвестного, никогда не публиковавшегося материала. Книга читалась на одном дыхании и заставляла делать неутешительные выводы относительно природы «революционных событий» в России в начале XX века. По Зайончковскому выходило, что на смену реформатору Александру II, после его убийства, заступила и стала управлять Россией уникальная личность: совершенно не образованная, с манерами и речью трактирного вышибалы, не имевшая ни малейшей возможности осмысления даже самой простой ситуации и принятия адекватных решений. Мало того, приступивший к исполнению обязанностей императора не только не сожалел о смерти отца, а был просто одержим идеей как можно быстрее покончить со всем родительским наследством, включая реформы управления страной, и всей командой реформаторов, занятых в правительстве. Понимая, в какое время он живет, профессор Зайончковский ограничил круг научного поиска только временем правления Александра III, обойдя такую специфическую тему, как принятый новым монархом закон «Об учреждении императорской фамилии». Советскому читателю эта тема была абсолютно не известна, и профессор предпочел ее совсем не рассматривать, хотя располагал для этого более чем достаточным материалом. Ко времени появления книги Зайончковского советское общество постепенно созревало к расставанию с коммунистическими иллюзиями и быстро набирало потенциал переосмысления пережитого.
В советской научной среде не нашлось, к сожалению, фигуры, способной развить научный задел старого профессора, и в этом нет ничего удивительного: для этого предстояло подвергнуть ревизии всю историю «освободительной борьбы» русского народа и присмотреться к истории монархического строя, точнее, к истории его быстрой деградации, начиная с правления Александра III. На такой научный подвиг не решился никто, и монография профессора Зайончковского на сегодняшний день остается белой вороной среди разнообразного псевдонаучного мусора. Так как характеристики, оценки и последовательность демонтажа управленческих структур, наработанных командой Александра II, скрупулезно освещены в монографии Зайончковского, нет нужды повторять их снова. В добавление к сказанному можно только усилить некоторые существенные моменты. В советской историографии время Александра III однозначно изображалось как «время самой мрачной реакции», без объяснения главного мотива, пришедшего к власти монарха, в тотальном уничтожении наследства отца. Действия царя-реакционера по перестройке внутрисемейных отношений в клане Романовых советскими историками вообще не рассматривались, как совершенно не существенные и неинтересные. Профессор Зайончковский, обильно цитируя госсекретаря А. А. Половцова, несколько увлекся и, незаметно для себя, впал в очень серьезное заблуждение. При раздаче характеристик ближнему окружению Александра III он затронул императрицу Марию Федоровну, дочь короля Дании Христиана IX, изобразив ее портрет кистью госсекретаря Половцова, как легкомысленную женщину, склонную исключительно к веселью и танцам. Заблуждение профессора переросло в дальнейшем в ошибку целой группы историков, оказавшихся бессильными оценить действительную роль этой замечательной, во многих отношениях, женщины. К моменту обретения статуса русской императрицы дочь короля Дании, принцесса Дагмар, уже имела за плечами серьезный опыт жизни в условиях русского императорского двора, со всеми его особенностями, иерархией и ограничениями. Будучи цесаревной, супругой наследника русского престола, Мария Федоровна сделала свое первое важное дело — организовала стажировку доставшегося ей после смерти жениха тупого и неразвитого цесаревича Александра. Стажировка проходила при датском королевском дворе в несколько приемов, оформленных как семейные визиты. Кроме этого, наследная пара тесно общалась со старшей сестрой Марии Федоровны, Александрой, состоявшей в браке с принцем Уэльским Эдуардом, будущим королем Великобритании Эдуардом VII.
Ненавязчивое общение русского цесаревича в королевской семье было благотворным в части освоения им европейского менталитета и приобретения необходимых навыков. Принц из Петербурга несколько пообтесался, но основные свои привычки сохранил.
К небольшому клубу брачных пар, составленных из дочерей короля Христиана IX, с их супругами из Британии и России, вскоре присоединилась еще одна: дочь Александра II, великая княжна Мария Александровна, состоявшая в браке с сыном британской королевы Виктории герцогом Эдинбургским Альфредом. Обряд бракосочетания проходил в Санкт-Петербурге 11 января 1874 года, а в мае Александр II нанес официальный визит в Лондон и провел девять дней в Букингемском дворце, «чествуемый в семейном королевском кругу, при дворе и в высшем английском обществе, как дорогой и желанный гость» [44].
Общение монархических пар из России, Дании и Великобритании имело место как на британских островах, так и в гостеприимном датском королевстве. Встречи в загородной резиденции датского короля Фреденсборге поначалу носили характер «ярмарки невест», так как король Христиан IX слыл за «европейского тестя». Со временем, однако, общение на лужайках Фреденсборга становилось все более тесным и заметным в Европе, так что даже Бисмарк говорил, что в замке разрабатываются политические планы. Германский канцлер был недалек от истины, так как во Фреденсбург устремились все родственники, переставшие быть королями, владетельными герцогами и князьями в результате объединения Германии в 1871 году. Датское королевство тоже было пострадавшей стороной, потерявшей еще в 1864 году Шлезвиг и Голштейн, в короткой войне с Пруссией. Процесс объединения мелких государств, с населением, говорящим на немецком языке, затронул более двух десятков властителей с их миниатюрными тронами и бесчисленной родней. Вся эта династическая публика, оставшаяся не у дел, находила сочувствие и моральную поддержку в замке Фреденсборг, под крылом датского короля Христиана IX. Дочь Александра III, великая княгиня Ольга Александровна впоследствии вспоминала:
«То было поистине собрание кланов: в Данию съезжались принц и принцесса Уэльские, герцог Йоркский, король и королева эллинов — Георг и Ольга и их семеро чрезвычайно шустрых отпрысков, герцог и герцогиня Кемберлендские, а также множество родственников со всех частей Германии, из Швеции и Австрии вместе со своими детьми и челядью. Многие гости ночевали в домиках, разбросанных по всему обширному парку… Даже во дворце гостям было тесно; кое-кому из мужчин приходилось располагаться на ночь на диванах, но на такие пустяки никто не обращал внимания.
Все окупалось добротой и гостеприимством моего дедушки, хотя кое-кто жаловался на пищу… Были случаи, когда за обеденный стол в Фреденсборге одновременно садилось свыше восьмидесяти представителей наиболее могущественных королевских семейств Европы» [45].
Относительно количества «самых могущественных» семейств Европы великая княгиня допустила явный перебор. При этом по своей политической незрелости вовсе не упомянула, что, кроме «аромата жареной дичи», наполнявшего дворец, вокруг династической тусовки витал четко выраженный антигерманский дух.
Цесаревича Александра принимали в Дании как равного, в отличие от пренебрежительного отношения к его особе в ближайшем окружении императора, на родине. Вращаясь в обществе европейских династических пар, наследник быстро менял самооценку, а тесные контакты добавляли уверенности в своих силах. В целом датская принцесса Дагмар, которую при русском дворе стали звать Минни, сумела создать вокруг своего недалекого супруга атмосферу и настроение, царившие при датском дворе и среди различных европейских монархических кланов.
Здесь, в сердце Европы, знали все и обо всех, и когда в конце 1878 года здоровье российской императрицы Марии Александровны стало окончательно непоправимым, именно в неформальном клубе замка Фреденборг заговорили о появившихся в России династических рисках. В загородной резиденции королевской семьи, за неторопливой беседой, рослому и упитанному цесаревичу растолковали не только особенности его происхождения, с точки зрения европейской монархической легитимности, но и опасности, подстерегавшие его на внутрироссийской политической сцене. С помощью датских родственников тугодум из Петербурга постепенно разобрался, что в России его супруга и он сам живут во враждебном окружении и надеяться, по большому счету, им не на кого, кроме самих себя: статус наследника престола в России весьма зыбок и полностью зависит от воли и желания российского монарха. Именно здесь, в Дании, сразу разглядели созревавшую в Петербурге коллизию вокруг княжны Долгорукой и ее совместных с императором детей. Вероятность повторного брака императора нарастала по мере ухудшения здоровья императрицы Марии Александровны и прибавления детей у княжны Долгорукой. Нет и не может быть каких-либо документов, подтверждающих влияние датского двора на события в России, включая событие 1 марта 1881 года. Однако и представить дело таким образом, что датская политическая тусовка только и занималась гастрономическими изысками и брачными контрактами, было бы совсем наивным. Уровень собиравшихся у «дядюшки Христиана» людей позволял не только трезво оценивать текущую обстановку, но и реально предполагать ближайшие последствия.
Казус с русским императором Александром II, сначала заключившим явно морганатический брак с приемной дочерью Гессенского герцога, а затем намеревавшимся повторно устроить брак с русской аристократкой, обесценивал все карты на руках европейских монархов. Вынашивать подобные планы не имел права ни один уважающий себя властелин. Поведение русского императора было так возмутительно, что противоборствующая коалиция организовалась без лишнего шума и тем более без документальной пыли. Самой заинтересованной стороной во всем деле был тем не менее датский двор. При неблагоприятном раскладе датская принцесса и ее супруг цесаревич Александр могли вернуться в Данию в качестве частных лиц, не обремененных какими-либо серьезными активами.
«Европейский свекр» король Христиан IX оказался лицом к лицу с надвигающимся невиданным скандалом. Самому цесаревичу Александру грозила полная дискредитация в качестве члена семьи Романовых. В такой обстановке, которая сформировалась к началу 1879 года, цесаревна Мария Федоровна все свои надежды на разрешение кризиса возложила на доверенное лицо своего супруга генерала П. А. Черевина. В трогательных письмах своему мужу «милому Саше» содержится обязательный привет Черевину, откуда бы цесаревна не писала. Кроме профильной должности — товарищ министра внутренних дел, Черевин получил европейский канал финансирования, согласованный в клубе Фреденсборга и недоступный русской политической полиции. Ответ на главный вопрос, мучивший российские спецслужбы: откуда в «Народную волю» притекают сотни тысяч рублей, так и не был получен даже таким способным министром, как граф Лорис-Меликов.
Черевин так быстро и эффективно посадил Хозяина «Народной воли» на свою финансовую иглу, что до сих пор все историки удивляются такому изобилию разнообразных покушений на Александра II: в него стреляли в упор, взрывали его поезд и даже дворец, пока не убили бомбой, изобретенной специально на этот случай. Устранение императора Александра II было весьма затратной операцией, по самой скромной оценке, составившей 2,5 миллиона рублей, включая бонус Хозяину «Народной воли» Александру Михайлову. С иностранным паспортом в кармане Хозяин исчез на просторах Америки, и когда-нибудь мир узнает о его беспримерном подвиге. Мы не знаем, накрывался ли во Фреденсборге роскошный стол по поводу победы принцессы Дагмар в ее бескомпромиссной борьбе за русский престол, но повод был достойный. Вместе с Датским королевством глубокое удовлетворение от устранения неправильного императора испытали и на Британских островах.
Главный организатор события 1 марта 1881 года, расчистивший дорогу к российскому трону наследной чете, генерал Черевин, не удостоился даже солдатской медали. Награда его была куда существеннее материальных знаков отличия или презренных денег. Черевин вместе со скромной должностью начальника личной охраны императора получил такой объем властных полномочий, который не мог присниться любимому визирю восточного владыки.
Самую исчерпывающую характеристику приобретенного Черевиным положения дала известная светская львица графиня М. Э. Клейнмихель:
«У Александра III был любимец — генерал Черевин, стоявший во главе охранного отделения. Он пользовался неограниченными полномочиями. Он соединял в себе всю автократическую власть, и никогда еще ни один азиатский деспот так широко ею не пользовался, как он» [46].
Графиня отлично знала, что говорила, и тому есть множество подтверждений лиц, вхожих во властные коридоры тех лет. Генерал Черевин был любим и почитаем императором и императрицей, вхож к ним без доклада, в любое время; его указания любому лицу при дворе исполнялись без обсуждения. Кроме прочего, генерал мог позволить себе появляться в нетрезвом виде в присутственных местах, театрах, клубах и салонах, вызывая лишь добродушные, понимающие улыбки. Особым пиететом Черевин пользовался у императрицы — она умела быть благодарной за бесценную услугу, оказанную ей в самый трудный период жизни.
Общую радость восшествия на российский престол любимой дочери Дагмар разделил и король Христиан IX. Вместе с королевой Луизой он не преминул нанести визит удачливому зятю в его новой резиденции в Гатчине в августе 1881 года. В Кронштадтском порту королевскую чету встречали император Александр III с императрицей Марией Федоровной, огромная свита особ императорской фамилии, высших представителей двора и военной элиты. Принимали Христиана по высшему разряду и, вернувшись в Копенгаген, король написал дочери прочувствованное письмо:
«В России мы часто были свидетелями лояльности Вашего народа по отношению к тебе и твоему прекрасному Саше. Было бы хорошо, если бы у всех русских добропорядочных людей шире бы открылись глаза и они скорее увидели бы и поняли, сколь благородна их молодая императорская чета. Тогда бы у так называемых нигилистов быстрее ушла бы почва из-под ног» [47].
Императрица Мария Федоровна
В Дании постоянно и внимательно следили за происходящим в Петербурге ходом дел. Однако король Дании приехал вовсе не затем, чтобы вмешиваться в назначения министров. Направление европейской политики России интересовало Христиана куда больше, чем внутрироссийские разборки, которые стали теперь предметом заботы его дочери.
Сразу после обретения статуса императрицы Мария Федоровна получила от отца письмо-поздравление, где король выражал уверенность, что «прекрасный Саша» с помощью мудрой Дагмар справится с проблемой подбора «добропорядочных людей» для новой власти:
«Ты должна знать о том, что я часто благодарю Всемогущего Господа за то, что он ниспослал нам такого ангела-дочь, ибо не только мы, твои родители, горды нашим ангелом Минни, но и, поистине, вся твоя старая, честная Родина, доказательством чего могут служить приветствия тебе от Ригсдага и от Гражданского представительства Копенгагена.
Я очень радовался всему тому, что твой любимый Саша до сих пор предпринимал как самодержец. И то, что эти подлые убийцы были казнены, — это была совершенно необходимая и правильная мера, ибо помилование было бы истолковано как страх и слабость.
…Саша, вероятно, лучше всех других знает и понимает, что нужно делать и о чем позаботиться… Но в большом государстве это огромная работа, поэтому Саша должен найти себе умных и надежных помощников. Со своими строгими воззрениями он, конечно, будет в состоянии найти их, особенно если он спросит совета у своей маленькой жены, которая отменно разбирается не только в лошадях, но и в людях…».
Письмо датировано 26 апреля 1881 года, когда в Петербурге началась зачистка политической поляны от министров-реформаторов.
Быстро наладить новый властный механизм не получилось, так как менять пришлось не только персоналии, но и действующее законодательство. Наиболее чувствительным моментом было действовавшее «Учреждение об императорской фамилии». Для переделки его под новую династическую ветвь покойной императрицы Марии Александровны, с дистанцированием от остальных Романовых, в Государственный совет, на должность секретаря пригласили А. А. Половцова, прозябавшего в Сенате при Александре II. Выбор исполнителя был явно с подачи императрицы Марии Федоровны, главным критерием которой, при отборе кадров новой администрации, стало неучастие кандидатов в реформаторской деятельности убитого императора. Половцов действительно сходу вписался в новый политический бомонд и стал вершить все дела в Госсовете, отодвинув в сторону, как декоративную фигуру, председателя, великого князя Михаила Николаевича.
Самым главным для монарха вопросом, о новой редакции «Учреждения об императорской фамилии», Половцов занялся по личному указанию Александра III вместе с министром двора И. И. Воронцовым, при формальном руководстве брата царя, великого князя Владимира Александровича. В качестве консультанта, скорее всего по совету императрицы Марии Федоровны, к работе привлекался уволенный от должности министр двора А. В. Адлерберг.
Половцов навещал отставного министра на дому и обсуждал с ним наиболее щекотливые моменты предполагаемого проекта. Как опытный царедворец Адлерберг, сразу почувствовал опасность развала всей Романовской семьи на два враждующих лагеря. Как мог, он пытался втолковать Половцову, к чему может привести изменение статуса великокняжеских семейств, не говоря уже об их материальном обеспечении. Новоиспеченный госсекретарь плохо понимал опасения Адлерберга и, будучи незнаком со всем контекстом происходящего, трактовал его позицию по-своему:
«12 марта 1884 года. В 9 часов у графа Адлерберга. Разговор о предположениях, касающихся изменений в законе об учреждении об императорской фамилии. Адлерберг опасается умножить дурные отношения членов царского семейства и прежде всего нерасположение их к государю. В его словах чувствуется то, что так редко, — доброе человеческое чувство и желание мира, при всем том, конечно, большое нерасположение к преемнику Воронцову-Дашкову…». На самом деле Адлерберг отлично понимал, что дети покойной императрицы Марии Александровны стремятся побыстрее укрепить свою легитимность на законодательном уровне, и не желал быть участником династической свары. Кроме этого, отставной министр, не в пример выдвиженцу Половцову, доподлинно знал, что представляют собой великокняжеские семьи в материальном отношении, то есть их финансовые возможности. Тем не менее госсекретарь посчитал разговор с Адлербергом настолько важным, что при удобном случае, напоминая императору о необходимости пересмотра учреждения об императорской фамилии, решил выяснить его окончательную позицию:
«27 октября 1884 года. Суббота. Гатчино.
…Государь повторил мне то, что говорил прежде о том, что работа эта поручена им графу Адлербергу. Я возразил, что из разговора с Адлербергом я убедился, что он не хочет ничего сделать, опасаясь возбуждения семейной вражды. Государь сказал: «Оставить все так — значит пустить по миру свое собственное семейство. Я знаю, что все это поведет к неприятностям, но у меня их столько, что одной больше нечего считать, и я не намерен все неприятное оставлять своему сыну»» [48].
Аргумент Александра III о неизбежном разорении своей семьи в случае сохранения прежнего положения в большой Романовской семье любят повторять историки, желая украсить образ императора какой-то особой практичностью. Практичность действительно имела место, но к возможному разорению она не имела никакого отношения, как не имела отношения к самому Александру III. Всеми телодвижениями тучного императора со стальными глазами руководила маленькая женщина из Дании, носившая девичью кличку «Умная».
За всеми разговорами о чрезмерном разрастании Романовской фамилии и необходимости изменения статуса отдельных ее частей стояли совершенно конкретные династические планы лишения Романовых любых возможностей прорыва к трону, даже в случае экстремальных ситуаций. По существу, готовилось «Учреждение о новой императорской фамилии», к которой прежние Романовы имели бы постепенно исчезающее отношение. Разумеется, такой далеко идущий план мог созреть только на лужайках Фреденсборга, по совету «европейского свекра» Христиана IX. «Прекрасному Саше» из Петербурга оставалось только следовать уже проложенному курсу.
Характерно, что вся разработка нового «Учреждения об императорской фамилии» велась исключительно скрытно, и великокняжеские кланы знакомились с уже готовыми документами: сначала с Указом о необходимости внесения изменений в закон, а потом с новой его редакцией. Романовы проснулись к осознанию, что их обошли в большой игре за власть, только после утверждения закона Сенатом в начале июля 1886 года. Последствия принятия нового закона об императорской фамилии не заставили себя ждать. Так же скрытно от посторонних глаз, как готовился закон, сформировалась великокняжеская фронда действующему императору. Странно, что столь значительное событие, как пересмотр «Учреждения об императорской фамилии», занявшее почти два года обсуждений, и целый год разработки специфических вопросов — от статусного положения членов фамилии до их материального обеспечения, не нашло отражения ни в одном историческом исследовании. Создается впечатление, что до сих пор действует какое-то табу на скользкую тему, которой лучше не касаться. Надо отдать должное всем Романовым без исключения, они стойко перенесли болезненный удар, а их реакция нигде не выплеснулась в публичную полемику и даже не прослеживается по мемуарным источникам. Зато последующие события досконально повторили все происходившее с императором Александром II в 1879–1881 годах. Кем был задуман и осуществлен ремейк покушений тех лет на действовавшего императора Александра III, можно не обсуждать — ответ вытекает из новой редакции «Учреждения об императорской фамилии». Обиженные Романовы наглядно показали огромному императору с вытаращенными глазами, что они прекрасно понимают, что случилось с убитым Александром II, и готовы повторить для него всю историю с так называемой «Народной волей», но в новой редакции. Документально определить заказчика, а тем более назвать его персонально, вряд ли кому удастся. Однако слабый намек для потомков оставил нам Д. А. Милютин в своем Дневнике за 1882–1890 годы.
Все началось в новом 1887 году, сразу после утверждения Сенатом, в июле 1886 года, нового закона об императорской фамилии. Бывший бессменный военный министр Александра II, находясь в своем имении Симеиз (Крым), записал:
«25 января 1887 г. Воскресенье.
Великий князь Константин Николаевич пред отъездом своим в Петербург (на короткое время) заехал ко мне проститься. Он озабочен мерами предохранения виноградников от распространения филлоксеры». И уже через месяц с небольшим:
«9 марта. Понедельник.
Несмотря на холодную и бурную погоду, я решился съездить в Орианду и в Ялту. Великий князь Константин Николаевич возвратился 6-го числа из Петербурга, довольный своей поездкой. Он рассказал мне подробности арестования молодых людей, замышлявших 1-го числа новое покушение на жизнь Государя и вовремя захваченных с бывшими при них смертоносными снарядами. Великий князь отзывается с одобрением о теперешнем устройстве тайной полиции в Петербурге и хвалит нового директора Департамента полиции Дурново, бывшего моряка».
Дурново действительно заслужил похвалы великого князя, так и не сумев определить, откуда исходил удар возникшей, как из-под земли, «Народной воли». Арест студентов на Невском проспекте 1 марта 1887 года произвел на императора и императрицу сильное впечатление, тем более что бомбы, предназначавшиеся императору, были заряжены свинцовыми пулями (жеребейками), отравленными стрихнином. Для императорской четы был очевиден заказной характер покушения — нищие студенты не имели никакой организации, а тем более ресурсов для фабрикации динамита и взрывных устройств. Все, что они могли сделать без денег, — это написать смехотворную программу несуществующей «Народной воли». Жестокая казнь пятерых молодых и способных студентов стала жестом бессилия покарать настоящих заказчиков, которые были известны монаршей чете. Дата покушения, вошедшего в историю как «Второе 1 марта», прямо напомнила императору о его собственном преступлении.
Второе покушение на «самого русского императора» было организовано значительно изощреннее и на высоком техническом уровне. Дневник графа Милютина за 1888 год бесстрастно фиксирует череду знакомых фактов:
«6-го октября. Четверг.
Посетил я великого князя Константина Николаевича, который только что возвратился из Одессы, куда ездил опять на свидание с дочерью королевой Эллинов и великой княгиней Александрой Иосифовной. Из Ориадны приехал я в Ялту, там видел множество знакомых…».
«14-го октября. Пятница.
В Севастополе ожидают проезда Государя с императрицей и старшими детьми на возвратном пути с Кавказа; но день прибытия их неизвестен, так как все касающееся Их Величеств хранится в строгой тайне. Чрез это все местное начальство и обыватели заранее уже волнуются в ожидании более определительных известий. Я же после некоторых колебаний решился на этот раз не показываться, тем более что, по имеющимся сведениям, Их Величества пробудут в Севастополе не более двух, трех часов».
«21 октября. Пятница.
На днях получено страшное известие о случившейся 17-го числа катастрофе с царским поездом на пути между Лозовой и Харьковом. Истинно удивительно, как осталось невредимым царское семейство; оно все могло погибнуть зараз. Из свиты, находившейся в момент катастрофы в том же вагоне и за тем же столом (за завтраком) — только немногие получили легкие повреждения; в других же вагонах были убитые и раненые. Подробности события еще не разъяснены» [49].
Прорваться через пелену недоговоренностей и умолчаний невозможно и сейчас. Никаких подробностей, а тем более упоминания обсуждения случившегося с кем-либо, включая великого князя Константина Николаевича, в Дневнике графа Милютина нет. Тема была закрыта. Тем не менее и то, что сказано, характеризует покушение в Борках более чем красноречиво. На этот раз все было рассчитано с ювелирной точностью: в поезде собралось все августейшее семейство, а на момент катастрофы главные объекты уничтожения собрались за столом завтракать. Взрыв произошел в вагоне № 4, где размещалась прислуга, скорее всего, под полом вагона, возможно в одном из подсобных ящиков. После взрыва от вагона остался только кусок стены; больше всего убитых и раненых было именно в этом вагоне. В вагоне № 7 располагалась столовая, где на момент взрыва находилась вся императорская семья и некоторые особы свиты — всего более 20 человек. От лобового столкновения с вагоном № 6, где располагался буфет, вагон № 7 слетел с тележек и частично разрушился, но остался на насыпи. В результате пострадали все три обслуживавших стол официанта, причем один из них, Генрих Лаутер, был убит на месте. Все остальные присутствовавшие на завтраке получили травмы различной степени тяжести. Судить о том, какого рода травмы получили сидевшие за столом люди, трудно, так как вся информация попала под жесткий запрет, исходивший от министра двора Воронцова-Дашкова. Однако факт срочного вызова, по телеграфу, из Харькова профессора В. Ф. Грубе говорит сам за себя. Первым, после катастрофы, императора и императрицу осмотрел именно хирург Грубе, считавшийся крупным специалистом по лечению ран.
Результаты его осмотра и сделанные им заключения неизвестны, но есть все основания полагать, что император получил тяжелый удар в области спины, который имел далеко идущие последствия. Масштаб оказанной медицинской помощи на месте катастрофы в Борках был настолько внушителен, что профессор Грубе написал брошюру, полностью посвятив ее опыту лечения раненных в Боркской катастрофе. К сожалению, в брошюре нет данных о травмах, полученных императором Александром III. О том, что император вовсе не отделался легким испугом, а был серьезно травмирован, можно судить по сообщениям о его недомоганиях, ставших регулярными начиная с 1889 года. Уже к годовщине катастрофы в Борках он основательно заболел, собственноручно записав:
«Все эти дни просидел дома больной, четыре ночи совсем не спал из-за боли в спине и ногах и не мог лежать и долго сидеть, а только бродил по комнатам. Аппетита никакого и страшная слабость. Завтракал и обедал один в кабинете» [50].
Объявив о счастливом спасении своей семьи по воле Господа, Александр III остался верен своему стилю жизни — хранить информацию в чемодане с двойным дном. Настоящая причина катастрофы была спрятана подальше, а виновными крушения поезда объявили железнодорожное начальство, включая министра путей сообщения. Монарх и его проницательная супруга, конечно, знали и без специального расследования, откуда прилетел неумолимый бумеранг, но такова была цена нового закона о царской фамилии. Испытанный 17 октября 1888 года ужас императорская чета носила в себе долгие годы.
Глава 2 Укрепляя Россию
Правление Александра III распалось на два небольших периода — до принятия нового закона о царской фамилии и после… Когда закон был принят и легитимность семьи монарха была закреплена, наступил второй этап — повсеместной ревизии всей системы управления государством, налаженной трудом его отца и окружавших его интеллектуалов. Мотивация монарха оставалась той же — показать российскому обществу свое стремление сохранить в России порядки, свойственные только ей, игнорируя любой иностранный опыт.
В российской историографии деятельность Александра III назвали периодом контрреформ, никак не объясняя причины возникновения столь странного стремления монарха покончить со всем, что сделано его отцом. Профессор Зайончковский в силу своей деликатности ученого предпочел термин «контрреформы», не желая называть вещи своими именами.
Между тем разрушительная деятельность новоявленного монарха имела ярко выраженную цель — превратить Россию во второсортную державу, по возможности вернув в страну крепостнические порядки. Программа, проводившаяся в жизнь императором, не могла родиться в его свободной от каких-либо сложных мыслей голове, а была навеяна извне той монархической тусовкой, в которой он оказался при датском королевском дворе. Завсегдатаи Фреденсборга хотели своего человека в Петербурге, и они его получили.
Оказавшись на российском троне, монарх построил свою повседневную жизнь в загородном стиле, с элементами туризма и охотничьих развлечений. В обязательный список постоянных отлучек императора входил прежде всего Копенгаген с окрестностями. Крым он не любил и бывал там неохотно. Огромный объем выполняемой работы, которую ему приписывают историки, сводился к огромному количеству резолюций на таком же огромном количестве бумаг, поступавших к самодержцу с разных концов. Резолюции монарха давно хотят издать отдельной книгой, чтобы всякий мог насладиться безмерной глупостью и хамством, редкими среди персон такого уровня. Его действительно боялись, как боятся неуклюжего мощного быка, готового броситься на любой раздражитель. Работа над резолюциями не мешала императору сохранять принятый с самого начала развлекательно-туристический режим жизни. Кто же осуществлял практическую работу «на земле», подготавливая материал для императорских резолюций? Этой неблагодарной работой было занято окружение императора, которое имело два круга: ближний и несколько удаленный. В ближний круг входила прежде всего императрица (супруга монарха) и ее родственники, потом братья императора и два человека, ведавших его активами и безопасностью, — министр двора граф Воронцов-Дашков и генерал Черевин. В этом кругу император вращался постоянно в круглосуточном режиме, уединяясь только для написания резолюций. Второй круг окружения императора составляли несколько персон, получавших раз от раза доступ к императору для осуществления собственно государственной работы: обер-прокурор Священного синода К. П. Победоносцев, министр внутренних дел Д. А. Толстой, издатель М. Н. Катков и князь В. П. Мещерский, редактор газеты «Гражданин». Для принятия государственных решений, касавшихся внутрироссийской жизни, вполне хватало такого короткого списка, так как это были выдающиеся по своим интеллектуальным качествам люди, известные своими широкими взглядами, в пределах отпущенного им создателем кругозора. С императором эти люди находили общий язык, пользовались его доверием и неуклонно проводили в жизнь программу «укрепления России», как ее понимали во Фреденсборге. Четверка известных деятелей имела между собой известное разделение труда и, соответственно, вклад в общее дело.
Повсеместно известен обер-прокурор Синода Победоносцев, которого восторженные почитатели возвели в ранг «тайного правителя России». Действительно, чиновник, ведавший делами Церкви, никогда не имел такого влияния и власти, какая была делегирована Победоносцеву. Он получил эту власть непосредственно из рук монарха, минуя должностные обязанности, прописанные в ведомственных положениях и инструкциях; почувствовав силу, пользовался ею самозабвенно, не щадя себя и окружающих. Помимо церковных дел, за которыми он тоже успевал следить, полем его славной деятельности стала пресса и печать, а также образование широких народных масс. Особенно рьяно Победоносцев трудился над усовершенствованием прессы, разболтанной и недисциплинированной со времен императора Александра II. Его самоотдаче удивлялся даже штатный чиновник МВД, начальник Главного управления печати Е. М. Феоктистов:
«Я всегда изумлялся, как у него хватало времени читать не только наиболее распространенные, но и самые ничтожные газеты, следить в них не только за передовыми статьями или корреспонденциями, но даже (говорю без преувеличения) за объявлениями, подмечать такие мелочи, которые не заслуживали бы ни малейшего внимания. Непрерывно я получал от него указания на распущенность нашей прессы, жалобы, что не принимается против нее достаточных мер» [51].
Усердие Победоносцева находило живой отклик императора, поощрявшего всевозможные запреты. Косность обер-прокурора не мешала ему тонко разбираться в подоплеке самых громких событий и доводить до ушей императора существо дела. Так, неудавшееся покушение на Александра III 1 марта 1887 года Победоносцев преподносит императору как желание части молодежи получить от жизни все и сразу:
«Нельзя выследить всех их, нельзя вылечить всех обезумевших юношей, не оттого ли, что мы ввели у себя ложную, совсем не свойственную нам систему образования, которая, отрывая каждого от среды своей, увлекает его в среду фантазий, мечтаний и несоответственных претензий и потом бросает его на большой рынок жизни без определенного дела, без связи с действительностью и с народной жизнью, но с непомерным и уродливым самолюбием, которое требует всего от жизни, ничего само не внося в нее» [52]. Про «рынок жизни» сказано неплохо, и здесь чувствуется знание контекста покушения, но корни преступления, по мнению закоренелого ортодокса, кроются все же в народном образовании. Победоносцев вообще считал, что самой естественной для российского народа системой образования является церковно-приходское с обильной зубрежкой псалмов и евангелических текстов. В этом вопросе у него с монархом было полное единодушие. Обер-прокурор Синода много сделал для развития сети церковно-приходских школ, но сделать образование в России полностью церковно-приходским не успел — не хватило времени.
Роль Победоносцева в схеме управления при Александре III больше напоминала роль усердного чиновника по найму: когда основная работа была закончена, им стали тяготиться и задвинули подальше. Такая же участь постигла и Победоносцева. Госсекретарь Половцов в своем дневнике оставил любопытную запись от 31 октября 1889 года:
«В пятом часу заходит ко мне Победоносцев, который горько жалуется на то, что лишился всякого влияния…
Победоносцев выражает решимость не вмешиваться в дела, до него не касающиеся. Я его обвиняю в том, что сам виноват в своем несчастье, потому что слишком вмешивался дела, до него не касающиеся».
Интересно, что, почувствовав холодок, исходящий от монарха, Победоносцев прибежал именно к Половцову за сочувствием. Иллюзии еще долго витали в воображении обер-прокурора: ему трудно было понять, что большая политика вершится совсем в другом месте, куда доступ таким, как Победоносцев, и не думали открывать.
В том же качестве «людей на подхвате» использовали и двух известных литераторов по найму — М. Н. Каткова и В. П. Мещерского. Они поделили между собой внешнюю и внутреннюю политику России, как делят огород, и возделывали в меру сил порученные им грядки. Восприятие их современниками было неоднозначным, но приписываемая роль — явно завышенной. Так, осведомленный в делах высших сфер Половцов записал в своем дневнике 10 декабря 1886 года:
«Рядом с законченным государевым правительством создавалась какая-то новая, почти правительственная сила в лице редактора «Московских ведомостей», который окружен многочисленными пособниками на высших ступенях управления, как Делянов, Островский, Победоносцев, Вышнеградский, Пазухин[3]. Весь этот двор собирается у Каткова, открыто толкует о необходимости заменить такого-то министра таким-то лицом, в том или другом вопросе следовать такой или иной политике, словом, нахально издает свои веления, печатает осуждения и похвалу и в конце концов достигает своих целей».
Непонятный госсекретарю феномен объяснялся прежде всего большой погруженностью монарха в работу над новым законом об императорской фамилии и полным нежеланием влезать во внутриполитические дела. Проще было отдать всю внутреннюю политику на откуп клубу бескорыстных патриотов, лучшей платой для которых была видимая востребованность, производившая сильное впечатление на слабо информированную публику.
Сам император предпочитал предаваться прелестям загородной жизни, чередуя ее с роскошным туризмом в окрестностях Копенгагена. Бить непуганых зверей, «лучить» рыбу в озерах Гатчины, произносить короткие тосты на банкетах и тайком от императрицы пить коньяк с Черевиным — вот та жизнь, которая была близка и желанна русскому, до мозга костей, императору. Поедавшая друг друга литературно-чиновная публика нисколько не занимала голову монарха, полагавшего, что достаточно выступить арбитром в том или ином споре, выбрав подходящий момент, чем находиться в постоянном напряжении бесконечных совещаний и ненавистной писанины.
Пережив два, следовавших подряд покушения, император несколько сдал обороты, но, даже получив жуткий удар по спине в крушении поезда в Борках, нашел в себе силы вмешаться в принципиальный спор вокруг законопроекта о введении института земских начальников.
Закон о земских начальниках — самое позорное деяние императора-миротворца как введенный только по его личному желанию и под его давлением. Идея введения в земствах института земских начальников родилась в голове образцового помещика земли русской, министра внутренних дел Д. А. Толстого, который доверил ее воплощение в жизнь правителю своей канцелярии Пазухину. Закон о земских начальниках стал лебединой песней министра Толстого. Образцовый помещик задумал ни много ни мало — вернуть русской деревне крепостное право, но в слегка перелицованном виде. Русскому крестьянину, изнемогавшему после отмены крепостного права, без опеки помещика предлагалась полноценная замена в лице земского начальника, разумеется, дворянина. Закон предусматривал следующие функции земских начальников:
1) заведование крестьянским общественным управлением;
2) производство дел по землеустройству сельских обывателей;
3) разрешение судебных дел.
Объем власти земского начальника над мужиком был едва ли не больше, чем у помещиков при крепостном праве. Кандидатуры земских начальников должны были намечаться губернаторами совместно с предводителями дворянства и утверждаться министром внутренних дел. Земскому начальнику как должностному лицу был положен оклад жалованья около 2500 рублей в год, который он мог пополнять в зависимости от справедливости принимаемых решений по землеустройству и судебным тяжбам.
Единственным требованием к кандидатам на столь завидную должность было дворянское происхождение, образование, при этом допускалось «незаконченное домашнее».
Долго обсуждавшийся в комиссиях проект закона 16 января 1889 года рассматривался на общем собрании Государственного совета. Голосование по проекту дало следующие результаты; за проект Толстого проголосовало 13 членов Госсовета, против — 39. Двумя третями голосов Государственный совет отверг повторное введение в России крепостного права. Императору была направлена соответствующая мемория по вопросу, на которой Александр III наложил историческую резолюцию:
«Соглашусь с мнением 13 членов, желаю, чтобы мировые судьи в уездах были упразднены для того, чтобы обеспечить нужное количество надежных земских начальников в уезде и облегчить уезду тяжесть платежей. Часть дел мировых судей может перейти к земским начальникам и в волостные суды, а меньшая часть, более важные дела, могли отойти к окружным судам. Во всяком случае, непременно желаю, чтобы эти изменения не помешали окончательному рассмотрению проекта до летних вакаций» [53].
Ключевое слово вердикта императора «непременно желаю» было, конечно, учтено при дальнейшем рассмотрении скандального закона.
Александр III утвердил проект закона о земских начальниках 13 июля 1889 года.
Государственный совет, состоявший из людей отнюдь не либерального толка, как ни странно, понимал, какая бомба закладывается под русское крестьянство после отмены крепостного права. На глазах подавленной общественности император растоптал многолетний труд русских интеллектуалов, работавших над гармонизацией отношений в русской деревне, максимально приближая их к отношениям свободного рынка. По силе своего воздействия на крестьянскую среду закон был сравним с законом об императорской фамилии, превратившем сплоченную величием семью Романовых в разобщенный лагерь вокруг одного сомнительного клана.
После катастрофы царского поезда в Борках уже никто не покушался на Александра III, по-видимому, решив, что и этого достаточно. Дуб получил основательную встряску, но еще некоторое время украшал окрестности, пока не сгнил на корню.
Глава 3 Политический нонсенс
Начиная с 1887 года император вступил во вторую половину своего короткого правления, когда ощущение величия собственной персоны стало определяющим во всех сферах его деятельности. Это чувство, поселившись в человеке недалекого ума, рожденного геном низкого происхождения, дало экзотические всходы в большой политике, где Россия была не последним игроком. Окружавшая императора русская аристократия и люди, стоявшие у руля внешнего управления, начали испытывать некоторое неудобство, граничившее с оторопью, на поворотах, которые закладывал император. Великокняжеские семьи приняли покорную позу согласия и невмешательства. Романовы самоустранились от механизма принятия решений во всех сферах, тем более что к ним уже не обращались не только за советом, но и зачастую забывали поставить в известность. Внуки барона де Гранси получили полную свободу действий как во внутренней, так и во внешней сфере огромной страны, сея легкомыслие и сомнительные идеи.
Первые признаки обретенного, с новым законом об императорской фамилии, величия Александр III стал проявлять во внешней политике, когда наступило время продления договора между Германией, Австрией и Россией, известного как «Союз трех императоров».
Созданный дипломатией Александра II еще в 1873 году, «Союз» регулировал отношения между тремя европейскими державами и служил в то время системой сдержек и противовесов.
В новом 1887 году час пробил. Учредитель обновленной Романовской фамилии и член клуба замка Фреденсборг решил, что наступило время установить в Европе новый, более справедливый порядок, чем существовавший при его отце. Более удобного случая, чем отказ от возобновления «Союза трех императоров», трудно было придумать. Для создания подходящего мотива в столь щекотливом деле была мобилизована русская «патриотическая» пресса во главе с Катковым и Мещерским, обрушившаяся на российскую дипломатию, которую возглавлял человек с нерусской фамилией Гирс (швед по происхождению). Серия заказных статей в «Московских ведомостях» и «Гражданине», не стесняясь, порочили бедного Гирса, обвиняя его в германофильстве и предательстве интересов России. Стали поговаривать о близкой отставке министра иностранных дел. Однако продавить нужное решение даже при такой мощной поддержке у Александра III на этот раз не получилось. Сначала вновь назначенный министр финансов И. А. Вышнеградский объяснил своему монарху незавидное финансовое положение России, исключающее крупные военные расходы, и желательность проведения миролюбивой политики.
Затем было получено письмо германского императора Вильгельма I, где прямо говорилось о значении «Союза» для поддержания мира в Европе:
«В наших интересах общими силами бороться со стремлениями наших врагов и разрушать их замыслы, единственная их цель — подготовить разъединение монархий, которые еще «на ногах»…
Будьте уверены, мой дорогой племянник, что вся деятельность, которая будет мне предуказана Богом в моем преклонном возрасте, будет посвящена тому, чтобы доказать мою к вам дружбу и мою преданность делу поддержания монархического строя, на котором покоится счастье и спокойствие народов, судьбы которых вверены нам Господом.
На всю жизнь вам преданный
и любящий вас брат и дядя, Вильгельм» [54].
Письмо германского императора, искреннее и мудрое, несколько охладило пыл его российского партнера вместе с советчиками из Фреденсборга. Открытый немотивированный разрыв с центральноевропейскими державами мог больно ударить и по Копенгагену, что ясно читалось между строк письма старого императора. Могучий повелитель России, одурманенный собственным величием, вынужден был дать задний ход. Гирс сохранил пост министра, а действие «Союза трех императоров» было продлено еще на три года.
Все стало меняться со смертью Вильгельма I и появлением на германском троне Вильгельма II.
В отношениях с молодым германским монархом Александр III, под влиянием своего датского окружения, позволял себе высокомерие, игнорирование личных контактов и бестактные высказывания, которые немедленно по дипломатическим каналам доносились германской стороне. Высокая политика делалась на уровне монархов, и здесь утаить что-либо было мудрено. Вскоре германской стороне стало известно о закулисном заигрывании российских дипломатов с французским правительством. Все эти признаки охлаждения отношений с Германией получали немедленное подтверждение в российской «патриотической» прессе. На этом фоне император России продолжал регулярно «пропадать» в Дании, что в Петербурге породило меткую шутку о возможном размене тронами между датским королем и российским императором.
Существует первоклассный исторический источник, подробно освещающий весь период российско-германских отношений в недолгое правление Александра III. Это дневник В. Н. Ламсдорфа, прошедшего в МИДе России путь от начальника канцелярии и советника министра до товарища министра и, наконец, министра иностранных дел.
Владимир Николаевич Ламсдорф не был женат и в силу этого обстоятельства дерзкими языками числился среди гомосексуального сообщества. По службе ему действительно приходилось тесно общаться со своим секретарем А. А. Савинским, что и служило пищей для досужих сплетен. Впоследствии сам Савинский, уже после смерти своего шефа, опубликовал в Лондоне (1927 г.) свои «Воспоминания русского дипломата». Возможно, это частное обстоятельство Ламсдорфа сыграло свою роль в том, что российская историография, а тем более советская, почти не использовала его архивные материалы. Времена, однако, меняются — приходит новая генерация историков, и вот уже появилась диссертация А. Н. Лошакова «Граф В. Н. Ламсдорф — государственный деятель и дипломат», защита которой прошла в МГУ.
В фонде В. Н. Ламсдорфа, хранящемся в ГАРФ, имеется 26 рукописных тетрадей, исписанных по-французски и составляющих его личный дневник. Записи в «Дневнике» охватывают период с 1886–1896 гг. Отсутствуют тетради за 1888 г., июнь — август 1894 г. и сентябрь 1896 г. Дело в том, что после смерти Ламсдорфа в 1907 году тетради хранились у его близкого друга и коллеги В. С. Оболенского, хорошо знавшего контекст всех событий и, скорее всего, убравшего самые скандальные записи подальше. Как нетрудно догадаться, отсутствующие записи посвящены катастрофе в Борках, болезни императора Александра III и подробностям коронации Николая II. Дневник Ламсдорфа введен в научный оборот в 1926 году как иллюстрация внешней политики самодержавия. Публикаторы сами плохо разбирались в том, что издают, руководствуясь только классовым чутьем. В действительности дневник раскрыл неприглядную картину управления внешней политикой России монархом, который сам находился под внешним управлением сил, ничего общего не имевших с интересами страны. Профессионально и красноречиво Ламсдорф поведал потомкам, в какой сложной и противоречивой обстановке приходилось работать всему дипломатическому корпусу России — от министра до зарубежных посольств, буквально спасая свою страну от накачанного величием, потерявшего ориентиры императора.
Дневник Ламсдорфа универсален — любой исследователь может найти в нем нужную информацию «из первых рук», не искаженную субъективными оценками и акцентами. Автор предоставил будущему читателю самому судить об уровне политической грамотности императора, точно передавая его резолюции на документах, справедливо полагая, что они говорят сами за себя. Владимир Николаевич вел записи на французском, соблюдая известную осторожность, отлично понимая, что любая утечка будет ему дорого стоить.
Однако иногда чувства брали над ним верх, и тогда он позволял себе более широкие высказывания, но таковых в тексте немного.
В 1889 году, когда величие монарха начало переваливать через край, в дипломатическом ведомстве России началась тихая паника из-за нежелания императора нанести ответный визит германскому императору:
«Среда, 15 марта.
Придя сегодня утром к министру, нахожу его еще всецело под впечатлением вчерашнего доклада: «Никогда государь не говорил так резко. В нем было что-то, что напоминало Павла I». Когда министр коснулся щекотливого вопроса поездки в Берлин, по поводу которой Шувалов[4] в своем последнем письме просил указаний, государь вышел из себя и заговорил тоном Юпитера. Он называет германского императора мальчишкой и не допускает, чтобы этот «мальчишка» мог желать знать его планы. «Довольно с него, что цесаревич был в Берлине» — то есть этой осенью на обратном пути из Копенгагена. На замечание Гирса, что все государи заявляют о своем намерении отдать сделанный им императором Вильгельмом визит, августейший монарх отвечает, что ему это безразлично: «Они его вассалы, пускай себе и едут на поклонение, а я нет». (Хорошенькое отношение к императору Францу Иосифу, королям Италии и Швеции и к датскому тестюшке!) Какая программа? Кто имеет право расспрашивать его по поводу его планов? Решения зависят только от его воли. «Я никому не предоставляю право вмешиваться в мои замыслы».
«Не забуду я доклада 14 марта, — говорит мне министр. — Я обжегся и не стану больше возвращаться к вопросу о поездке в Берлин. Я исполнил свой долг, обратив внимание государя на необходимость нанести визит государю Вильгельму, теперь пусть Его Величество делает, что хочет».
Иногда мне кажется, что такая враждебность наших государя и государыни вызвана у них чувством как бы некоторой зависти. Им не особенно приятно видеть этого маленького прусского принца, которому они считали возможным не придавать особого значения, императором и королем, возглавляющим державу, которая является реальной силой, которую уважает и перед которой почти заискивает вся Европа и весь мир!» [54].
Корни отношения к Германии у российского монарха и его супруги имели, разумеется, датское происхождение, но не это главное. Уже в 1889 году российский монарх стал все чаще проявлять свой характер, некоторые признаки которого в русском народе называют «дурью». Ламсдорф очень точно определил момент появления этого тревожного симптома, записав в Дневнике 28 ноября 1889 года:
«В сущности, в настоящий момент его Величество не питает ни к кому особого доверия. В нем все более и более проступает самодержец, а может быть, растет уверенность в собственной непогрешимости, которая рано или поздно роковым образом приведет к крупным ошибкам. И никого среди окружающих, кто был бы в состоянии иногда наставить его, чтобы он мог подумать, понять и хотя бы отчасти увидеть истину. Их Величества не любят ни разговоров, ни благодетельного общения с серьезными и образованными людьми. Их сфера — общие места, анекдоты, смешные словечки. Чтобы нравиться при этом дворе, быть к нему близким и пользоваться благосклонностью, требуется особый ценз. «Противно, зато весело!» — как говорят немцы» [54].
Живописная картинка от Ламсдорфа, в которой преобладают эмоции, но есть все же рациональное зерно: монархическая пара, прикрываясь внешней мишурой беззаботной придворной жизни, взяла курс на изменение политической конфигурации в Европе. Практическая работа велась в российском дипломатическом ведомстве в условиях строгой секретности, причем в разработке генеральной линии участвовало всего несколько человек, занятых в основных европейских посольствах. Могли ли эти люди сколько-нибудь реально влиять на происходившее? В известной мере могли, но каждый из них дорожил своим местом и прекрасно представлял, что их корреспонденцию внимательно читают оба Величества, оценивая каждую букву.
В 1890 году совершились два события, которые затем определяли дальнейший ход внешнеполитических подвижек: отставка канцлера Германии Отто фон Бисмарка и односторонний выход Германии из тройственного союза с Россией. Уход с политической арены семидесятипятилетнего канцлера стал не просто сенсацией, но проложил новый рубеж между Россией и Германией. Канцлер никогда не был русофилом, как ему приписывали на родине, но всегда трезво оценивал российскую мощь. Его парадоксальное высказывание: «Россия опасна мизерностью своих потребностей» — до сих пор не выглядит как анахронизм и характеризует автора как глубокого знатока русской специфики.
Бисмарк стоял не только у истоков объединенной Германии, но в полной мере являлся созидателем баланса сил в Европе. Баланс сил сразу нарушился, и винить в этом германского императора Вильгельма II вряд ли стоит. Тем не менее выход России из тройственного союза пробудил чувство тревоги во Франции, где в нейтралитете России были заинтересованы меньше всего. Ламсдорф приводит в своем Дневнике за 1991 год письмо российского посла во Франции А. П. Моренгейма, передававшего в Петербург настроения французских властей:
«Обстановка постоянных неожиданностей, к которой приучил Европу слишком порывистый характер Вильгельма II, заставляет думать, что давно предчувствуемый роковой исход в виде вооруженного столкновения в настоящее время значительно приблизился. …Со стороны Англии были уже сделаны попытки заранее обеспечить будущей войне между Германией и Францией характер дуэли, удержав ее в пределах локализированной войны» [54].
Остаться один на один с Германией было для Франции перспективой сущего кошмара. Память Седана и позорной капитуляции 1871 года заставляла весь французский истеблишмент буквально дрожать от страха. Российский посол Артур Павлович Моренгейм был первым «выпускником» русской дипломатической «академии», основанной в Копенгагене королем Христианом и его дочерью принцессой Дагмар, в замужестве русской императрицей Марией Федоровной. Моренгейм проработал послом в Дании пятнадцать лет (1867–1882) и затем по личному указанию Александра III был два года послом Великобритании, а в 1884 году занял место посла во Франции. Миссия Моренгейма во Франции была с самого начала специальной — обеспечить «сердечное согласие» между Россией и Францией с перспективой военного союза. Стратеги из Фреденсборга спланировали все загодя. Похоже на то, что инструкции русскому послу в Париже поступали не только из российского МИДа. Уже в июле 1891 года произошла демонстрация российско-французских достижений во взаимном сближении. Ламсдорф сухо сообщил в своем Дневнике:
«11 июля в Кронштадт прибыла французская эскадра под командой адмирала Жерве. Встреча эскадры превратилась в шумную манифестацию франко-российского сближения. Во время обеда, данного французским морякам, Александр III стоя слушал «Марсельезу». Затем имел место обмен телеграммами между царем и президентом Карно. Во время этих торжеств за кулисами шли переговоры о франко-российском союзе» [54].
Важнейшее сообщение Ламсдорф никак не комментировал, но между строк чувствуется шок от происходящего: самодержавный монарх, растоптавший в своей собственной стране первые ростки конституции, готов внимать гимну революции, где имелись и такие слова:
Дрожите, тираны, и вы, изменники, Позор всех сословий, дрожите! Ваши планы, отцеубийцы, получат наконец по заслугам! Все станут солдатами, чтобы с вами бороться, Если они упадут, наши молодые герои, Франция породит новых…[5]
Вместе со своим всеядным монархом внимал звукам «Марсельезы» покорный своему повелителю Двор. Даже лондонская «Times» не нашла от смущения других слов, кроме как: «Мы увидим, сколько это продлится». Монархическая Европа замерла от изумления. Говорят, что любимой поговоркой Бисмарка была «Глупость — дар Божий, но не следует им злоупотреблять». Российский монарх стал явно злоупотреблять даром Божьим, отпущенным ему сверх меры.
После столь знаменательного события, которым явился восторженный прием французских моряков в Кронштадте, в российском МИДе почувствовали необычную роль посла в Париже Моренгейма. Оказалось, что Моренгейм ведет прямые переговоры в Париже, а в Петербурге с нетерпением ждут их результатов. Моренгейм прибыл с докладом в Петербург 5 августа 1891 года. Ламсдорф, когда узнал подробности доклада своего министра императору 7 августа, первым почувствовал, что монарх ведет прямую дипломатию с французским правительством, а российский МИД с Гирсом во главе являются простыми статистами:
«Странные порядки в нашем министерстве! …Тем не менее во всем этом кроется нечто такое, что мне не слишком нравиться. Государь также ясно выразил желание, чтобы Моренгейм не приезжал в Копенгаген. Это очень хорошо, что он сюда приехал, этак можно о всем переговорить и тут покончить» [54].
Предстоял ритуальный отъезд Их Величеств в Копенгаген, и перед самым отъездом монарх пожелал лично повидаться со своим послом. Моренгейм был принят императором в Петергофе и имел с ним короткую, но исчерпывающую беседу. Как следовало из доклада посла, дела подвинулись настолько, что на повестке дня стоял вопрос о способе совместного отпора врагу. Получив личные инструкции императора, Моренгейм немедленно отбыл в Париж.
Несколько притормозили развитие событий перемены во французском правительстве, но появившийся новый хозяин особняка на Гагаринской набережной в Петербурге (посольство Франции), Гюстав Луи де Монтебелло, инициировал продолжение темы российско-французского сближения. «Сердечное согласие» при новом после Франции стало плавно перетекать в военную конвенцию. Надо отдать должное российской дипломатии — она проявила в этом вопросе достаточную разборчивость и скептицизм. Решение, однако, оставалось всегда за всесильным и не слишком мудрым монархом. В феврале 1892 года Монтебелло составил секретную записку, адресованную лично императору, с конкретными предложениями по военной конвенции.
В рассказе Ламсдорфа, имеющемся в его Дневнике, содержится еще одно указание на прямые контакты императора с Французской республикой, минуя своего собственного министра иностранных дел. Ламсдорф так описывает доклад Гирса императору 25 февраля 1892 года:
«Когда заходит речь о весьма секретной записке Монтебелло, государь выражает намерение оставить ее у себя, с тем чтобы прочитать ее на досуге, но сразу же высказывается в духе этой записки:
«Нам действительно надо договориться с французами и в случае войны между Францией и Германией тотчас броситься на немцев, чтобы не дать им времени разбить сначала Францию, а потом обратиться на нас. Надо исправить ошибки прошлого и разгромить Германию при первой возможности. Когда Германия распадется, Австрия уже ничего не посмеет» и т. д. и т. п. …Его Величество молол такой вздор и проявлял столь дикие инстинкты, что оставалось лишь терпеливо слушать, пока он кончит. Наконец, Гирс задал ему вопрос:
«Что же выиграем мы, если, поддержав Францию, поможем ей разгромить Германию?» — «Как что? А именно то, что Германии не станет и она распадется, как и прежде, на мелкие и слабые государства». Но ведь в этом и заключается вопрос. Едва ли Германия распадется, когда речь зайдет о ее независимости; скорее, можно предположить, что она сплотится в этой борьбе. …Франция в случае успеха, уже удовлетворенная реваншем, не будет более в нас нуждаться…
…Будет ли удобно оставлять в руках столь непрочного правительства компрометирующее нас соглашение, намеченное в записке графа Монтебелло? …Это соображение, по-видимому, произвело на нашего монарха некоторое впечатление, он сохраняет у себя записку …и высказывает намерение вынести решение позже» [54].
Диалог императора со своим министром иностранных дел напоминал беседу дедушки-профессора со своим внуком-школяром, до смешного самоуверенным. Между тем решение уже было принято на лужайках Фреденсборга, под жареную дичь с добрым бокалом вина. Император, преодолевая сопротивление российского МИДа, вел дело к заключению с Францией военной конвенции. Последующие прямые переговоры бесцветного военного министра Ванновского с начальником генерального штаба Французской республики генералом Буадефром подвели черту под усилиями русских дипломатов сохранить в Европе баланс сил. При этом и сам министр иностранных дел Гирс, и его проницательный советник Ламсдорф добросовестно заблуждались относительно настоящей мотивации своего монарха. Как-то, обсуждая между собой современный внешнеполитический курс России, они невольно коснулись влияния императрицы:
«Так мы начали говорить об императорской семье. Министр замечает, что императрица не играла до сих пор благотворной роли; с ее появлением семья, обладавшая прекрасными качествами, выродилась как физически, так и морально; ее ненависть к немцам поставила нас политически в неблагоприятное положение, так как именно датские счеты к ним, несомненно, привили и государю, и наследнику чувства и поведение, приведшие к постоянной натянутости в наших отношениях с соседними империями» [54].
С таким суждением, лежащим на поверхности, трудно согласиться. Безусловно, императрица Мария Федоровна не испытывала теплых чувств к государству, обобравшему ее родину как липку. При этом, без всякого сомнения, она отдавала себе отчет в том, что вернуть утраченное невозможно. Натянутость в отношениях с Германией имела совершенно другие корни, и ее первопричиной на самом деле являлся российский император Александр III. Груз условной легитимности его как монарха не исчез даже после полной переделки «под себя» «Учреждения об императорской фамилии». Именно в Германии была хорошо известна скабрезная история, связанная с происхождением его матери, императрицы Марии Александровны. Намерение уничтожить Германию, о котором проговорился император своему министру, объяснялось его желанием избавиться от дамоклова меча собственной нелигитимности, которую в любой момент могли раструбить по всей Европе. Возможно, о такой перспективе ему намекнули во время работы над новой редакцией «Учреждения об императорской фамилии», вероятно, на одном из «саммитов» во Фреденсборге.
Идею уничтожения Германии, которую упорно продвигал российский император, готовый ради ее осуществления спеть Марсельезу, не разделяли не только в дипломатических кругах, но и в среде русской аристократии. Александру III все это было прекрасно известно, и одержимость его на этом направлении поражает. Старание императора засекретить проработку вопроса в военных кругах Франции и России, конечно, было обречено на разного рода утечки и приводило к нарастанию противостояния с Германией в экономической сфере.
Политика Александра III в последние годы правления отличалась авантюризмом и непредсказуемостью: император как будто задался целью создать в Европе два враждебных лагеря, что ему и удалось в конечном итоге. Ламсдорф в своем «Дневнике» не скрывал своего отношения к происходящему и искренне поражался творящейся на его глазах государственной глупости:
«Наше сближение с Францией и проистекающее отсюда пресловутое равновесие сил в Европе, с другой стороны, на долгое время закрепляет разделение великих держав на два вооруженных до зубов лагеря, которые постоянно подстерегают друг друга и готовятся напасть друг на друга в ущерб безопасности и благосостояния народов.
…Бояться полного разгрома Франции при той материальной мощи, какой она обладает, нет оснований; насколько бы мощной и вооруженной ни была Германия, в войне она приобретает не «провинцию Францию», а беспощадного врага, который надолго ее свяжет. Столкновение между двумя этими нациями было бы ужасным, но, быть может, закончилось бы победой над разрушительными элементами внутри каждой из них… Наше дело сторона! Вместо того чтобы систематически ссориться с немцами и донкихотствовать в пользу французов, мы должны были бы договориться с ними о нашем нейтралитете, необходимом для них обоих; мы могли бы его обещать при условии предоставления нам известной свободы действий на Востоке. После этого нам оставалось бы только заниматься нашими собственными делами, предоставив другим устраивать свои дела между собой. Им понадобилось бы на это не менее столетия!» [54].
Такой анализ европейской политики был, к сожалению, недоступен российскому императору. Он был всецело занят конфронтацией с блоком центральноевропейских держав и организацией неразрывной дружбы с пораженной страхом Францией.
Российская историография дружно объявила Александра III «миротворцем» только на одном основании — при его жизни не случилось ни одного крупного вооруженного конфликта. При этом историки почему-то выпускают из виду, что именно «миротворец» продавил политическое решение, которое в конечном итоге привело Россию к войне за чужие интересы. Военный союз с Францией был окончательно оформлен в конце 1893 года и 8 января 1894 подписан Александром III.
Глава 4 Перед Господом
Утверждением союза с Францией российский монарх в самом начале нового 1894 года закончил тяжкую работу по подготовке России к разнообразным испытаниям на прочность ее государственности, которые были уже на пороге. Впереди была передача власти наследнику престола, о которой никто еще даже не задумывался как о событии отдаленного будущего, до которого еще жить и жить. Ламсдорф оставил в Дневнике за 1892 год свое впечатление от личности наследника:
«Наследник, 24 лет от роду, представляет странное явление: наполовину мужчина, маленького роста, худощавый, незначительный, — хотя, говорят, он упрям, — проявляет удивительное легкомыслие и бесчувственность. Когда он начал службу в Преображенском полку, говорили, что он хороший товарищ, но как только его перевели в гусары, он порвал с прежними товарищами…» [54].
Среди гусар наследник прошел хорошую школу повального пьянства и традиционных увлечений балетными актрисами. В Красном селе, под Петербургом, каждое лето проводились летние лагерные сборы гвардии с маневрами и стрельбой. Для вечернего отдыха офицеров и приобщения их к музыкальной культуре в Красном выстроили деревянный театр, где выступала балетная труппа Императорских театров. Летний сбор 1890 года особенно запомнился наследнику и оставил след в его личном Дневнике:
«10 июля. Вторник. Был в театре, ходил на сцену».
«17 июля. Вторник. Поехали в театр. В антракте пел Paulus. Кшесинская мне положительно очень нравится».
«30 июля. Понедельник. Дело на Горке разгорелось и продолжалось до 11 часов утра. Я был отнесен офицерами домой…»
«31 июля. Вторник. Вчера выпили 125 бутылок шампанского. Был дежурным по дивизии… После закуски в последний раз поехал в милый Красносельский театр. Простился с Кшесинской. Ужинал у Мама…» [55].
Незабываемое лето 1890 года… Поздней осенью наследник отправился в кругосветное путешествие, в котором ему было суждено получить боевое крещение и приобрести международную известность. Начавшись в Афинах, круиз цесаревича представлял в высшей степени экзотическую экскурсию по историческим местам: Каир, Бомбей, Калькутта, Цейлон, Сингапур, Сайгон и, наконец, Япония. Путешествовал наследник в сопровождении отборной свиты и в компании с греческим принцем Георгом, таким же повесой и затейником. Своими впечатления от поездки цесаревич поделился с великим князем Александром Михайловичем в Коломбо, на Цейлоне, где они пересеклись в январе 1891 года. Великий князь охотился в джунглях на слонов и с удовольствием почувствовал неприкрытую зависть цесаревича и его досаду на скуку, однообразие своих впечатлений:
«Моя поездка бессмысленна, — с горечью сказал он, — дворцы и генералы одинаковы во всем мире, а это единственное, что мне показывают. Я с одинаковым успехом мог бы остаться дома» [56].
Впереди, по курсу крейсера «Память Азова», на котором путешествовал цесаревич, была Япония, и похоже, что именно там ему удалось по-настоящему развеяться. Взыскательный вкус цесаревича обрел в Стране восходящего солнца те острые ощущения, которых ему не хватало. По прибытии крейсера с цесаревичем в Нагасаки ему при посещении русского ресторана «Волга» сразу объяснили все преимущества отдыха в окружении гейш и посоветовали сделать памятную наколку. Мастер цветного тату был вызван на борт крейсера и выколол красивого дракона на правом предплечье наследника. Близкое знакомство с гейшами происходило уже в Киото, древней столице Японии, где существовал целый квартал увеселительных заведений Гион. Там были заранее предупреждены о визите высокого гостя из России, интересующегося частной жизнью гейш и их бытом:
«Хозяина заведения уже успели предупредить, поэтому перед входом в ожидании гостей выстроились сорок гейш и девочек танцовщиц… Веселье было в полном разгаре, когда гейши поднялись из-за стола и последовали к сцене… За танцами последовали песни, игра на сямисэнах, малых и больших барабанах. Цесаревич так увлекся незнакомыми ритмами, что вскочил со своего места. Следуя примеру сопровождавших его японцев, он принялся наполнять чарки гейш вином» [57].
С русским принцем общалась самая привлекательная гейша по имени О-Мацу. Она через переводчика поинтересовалась, сколько цесаревичу лет и правда ли, что он сделал себе татуировку. Наследник проводил время весело, и его визит освещался в местной прессе. Неприятность случилась, когда цесаревич возвращался с приема очередного губернатора и следовал в кавалькаде рикш по узкой улице городка Отсу. Полицейский Цуда Сандзо, 36 лет, стоявший в оцеплении, внезапно выхватил саблю и нанес русскому принцу два последовательных удара по голове. Цесаревича спасла мгновенная реакция, с которой он выскочил из рикши и бросился наутек. Бежать пришлось недолго, какие-нибудь 60 метров, а полицейского с саблей задержали извозчики рикш. Окровавленного цесаревича завели в какую-то лавку, и доктор Рамбах наложил повязку. Раны были глубокими, но не смертельными. После перевязки наследник пожелал немного перекурить на скамейке и продолжил путь. Схваченный полицейский, естественно, оказался психически ненормальным, свихнувшимся на почве религиозного фанатизма. Инцидент в Отсу до сих пор живо обсуждается историками, но в действительности представляет собой только результат развязного поведения цесаревича Николая, напрочь забывшего, что он не в Красном селе, а в окружении людей иной религии и культуры. Другие подробности поездки наследника, с посещением злачных мест, тщательно скрывались, но Александру III, без сомнения, докладывались каким-то «стукачом» из свиты. Именно поэтому император приказал наследнику немедленно покинуть Японию и вернуться в Петербург. Наследник отметил свое 23-летие в Осаке и отбыл во Владивосток. Перед отплытием на борту крейсера «Память Азова» цесаревича посетил император Японии Мейдзи, которому было заявлено, что впечатление от посещения Японии «ничем не омрачено». Инцидент с сумасшедшим полицейским был исчерпан.
Два месяца добирался наследник из Владивостока в Петербург. Минуя сибирские города, он мог убедиться, до какой степени русский народ предан своему монарху. Цесаревича встречали триумфальными арками, затейливыми дорогими подарками и, разумеется, роскошными банкетами. Все проходило достойно, во всяком случае в литературе никакие казусы или конфликты не нашли своего отражения. В Петербурге семья императора вздохнула с облегчением, встретив наследника целым и невредимым. Дневник Ламсдорфа скупо описал впечатления своего министра в записи среды 7 августа 1891 года:
«Министр завтракал с императорской семьей, очень обрадованной возвращением наследника, с которым государь обращается с некоторой предупредительностью, называя его «Николай Александрович». Гирс говорит, что нельзя сказать, что Его Высочество похорошел, но он находит его совершенно здоровым и не мог даже заметить шрама от недавней раны.
Вся семья садится в субботу 10 августа на новую яхту «Полярная звезда», которая, говорят, доставит их, окруженных сказочной роскошью и самым утонченным комфортом, в Копенгаген в течение 50 часов» [54].
Император научился делать хорошую мину при плохой игре. В данном случае здоровый вид наследника только подтверждал досадный сбой в целом успешного путешествия. Неизвестно, каким был разговор наследника с родителями по поводу случившегося с ним в Японии. Был ли это строгий «разбор полетов» или император с императрицей ограничились родительским сочувствием? Скорее, второе, потому что все разговоры на эту тему в прессе и в среде официальных лиц были строго запрещены. Фигура умолчания чувствуется даже в Дневнике Ламсдорфа.
Во Фреденсборге предстояло обсудить возможные варианты женитьбы наследника. Первые зондажи показали, что проблема не будет простой, так как немецкое направление категорически не устраивало датскую сторону. Сам наследник склонялся к браку с Алисой Гессенской, дочерью великого герцога Гессенского Людвига IV и внучкой английской королевы Виктории. Гессенский дом и его отпрыски были для императрицы Марии Федоровны сущим кошмаром, и сама возможность брака ее любимого сына Николая с одной из дармштадских принцесс даже не рассматривалась. Императрица всерьез рассчитывала на принцессу Шамбург-Липпе, сестру королевы вюртембергской и внучатой племянницы датской королевы. Цесаревича планировали познакомить с ней в Копенгагене, на праздновании золотой свадьбы датской королевской четы. Жизнь, как известно, бывает зачастую сильнее намерений даже сильных мира сего.
Наследник по возвращении из Дании, в качестве демонстрации своей воли, возобновил свои контакты с балериной Кшесинской. Никто, кроме самой Кшесинской, не рассматривал эту связь наследника как имеющую хотя бы какую-то перспективу.
Матильда Феликсовна связывала свой ошеломляющий успех на сцене Мариинского театра с прямой возможностью войти в семью Романовых. Наследник, как мог, уверял свою «Панну» (так Матильда подписывала свои записочки Николаю), что такой вариант невозможен. Дело получило общественную огласку в основном благодаря вызывающему поведению примы балета. Первый тревожный сигнал подал, как всегда, «политический тяжеловес» К. П. Победоносцев. Не решаясь обратиться напрямую к императору по столь скабрезному делу, Константин Петрович направил секретное письмо великому князю Сергею Александровичу, недавно занявшему пост московского генерал-губернатора:
«Ваше Императорское Высочество!
Не с кем говорить о том, что тяготит душу при мысли о Наследнике Цесаревиче. Но считаю нелишним сообщить Вам о толках, которые здесь повсюду слышишь и которые переходят уже из гостиных в передние и обратно. Рассказывают, что у него образовалась связь с молодой дочерью балетного танцовщика Кшесинского; что для нее куплен дом на Набережной; что Цесаревич ходит туда по вечерам один, без всякого, что там бывает с ним только офицер, которого называют Зедделером и который ухаживает за другой дочерью Кшесинского.
Конечно, для большинства, это одна из скандальных историй, о коих болтают без толку. Но честные и серьезные русские люди озабочены тем, что эта девица полька и семейство ее польское. Опасаются тайного воздействия на Великого Князя, в чем так искусны поляки и несчетные у полек ксендзы. Опасаются и того, как бы не прокрался в этой обстановке к цесаревичу один из тех злодеев, коих так много всюду рассеяно…» [58].
С годами маразм Победоносцева сильно укрепился, до такой степени, что заговор танцовщика Кшесинского и его дочерей, опиравшийся на польских ксендзов, расплодившихся в Петербурге, уже не казался тяжелым сном русского попа. Сигнал от «честных русских людей» прошел по инстанции, и наследнику пришлось несколько скорректировать свое поведение. Матильда Кшесинская, не скрывая разочарования, написала в своих мемуарах:
«Это лето было для меня очень грустным. Наследник всего-навсего два раза заехал ко мне на дачу верхом из Красного села. Один раз предупредил меня, и я его ждала, но во второй раз он заехал без предупреждения и не застал меня дома, я была в это время в городе на репетиции красносельского спектакля. По-видимому, Наследнику было трудно покидать лагерь.
Затем начались красносельские спектакли, но уже не было того веселья и той радости, как в прошлом году. Тяжелое предчувствие наполняло мое сердце: что-то должно было случиться…
Потом опять отъезд Наследника с Государем 10 августа 1893 года сперва в Либаву, а потом в Данию.
Наследник вернулся обратно лишь поздно осенью, 8 октября 1893 года» [59].
Предчувствие любящей женщины не обмануло — развязка приближалась. В апреле следующего, 1894 года в Кобурге состоялась помолвка цесаревича Николая и Алисы Гессенской.
Сообщения о болезненном состоянии императора появлялись ежегодно после боркской катастрофы, но с конца 1893 года состояние здоровья императора стало неуклонно ухудшаться. Последствия сильнейшего удара по спине во время крушения поезда в Борках император переносил, не меняя своего образа жизни. Современные историки взяли за правило описывать образ жизни императора как исключительного трудоголика, который между тяжким трудом по сочинению резолюций на всевозможных бумагах находил время «лучить рыбу» на озере в Гатчине и охотиться на дичь. Однако была у императора еще одна привычка, которую теперь принято считать вредной. Он позволял предаваться ей в так называемое «благовремение», то есть время, свободное от приемов, докладов и резолюций. Термин «благовремение» ввел в оборот начальник охраны императора и его личный друг генерал Черевин. Сам генерал никуда не выезжал, но однажды, летом 1891 года, отправился в Стокгольм навестить родственников. Ламсдорф оставил живописное описание этого короткого путешествия Черевина в компании И. А. Зиновьева, директора Азиатского департамента МИД:
«Когда Зиновьев ездил этим летом в Стокгольм, он путешествовал вместе с генералом Черевиным, ездившим на несколько дней в шведскую столицу. Зиновьев мне рассказывал, что его спутник пил всю дорогу и так напился в Стокгольме, что, отправляясь на пристань, чтобы сесть на пароход, сей генерал-адъютант и в некотором роде друг императора всероссийского на улице шатался, чем страшно смущал сопровождавшего его Зиновьева. Взойдя на пароход, он тотчас же уронил в море свою шляпу» [54].
В разговоре с родственником, находясь в приподнятом настроении, генерал позволил себе объяснить свой реальный статус при императоре:
«На самом верху стоит Александр III, при нем на страже он, Черевин, и, пожалуй, императрица Мария Федоровна, а где-то внизу «прочая сволочь», включая великих князей, министров и т. д.» [54].
Секрет «благовремения» был таким же нехитрым:
«Государь выпить любил, но «во благовремении». Он мог выпить много без всяких признаков опьянения, кроме того, что делался необычайно в духе — весел и шаловлив, как ребенок.
Утром и днем он был очень осторожен относительно хмельных напитков, стараясь сохранить свежую голову для работы, и только очистив все очередные занятия впредь до завтрашних докладов, позволял себе угоститься, как следует, по мере желания и потребности…
К концу восьмидесятых годов врачи ему совершенно запретили пить и так напугали царицу всякими угрозами, что она внимательнейшим образом начала следить за нами. Сам же Государь запрещения врачей в грош не ставил, а обходиться без спиртного при его росте и дородстве было тяжело» [60].
Собственно, кроме откровений Черевина, имеется достаточно указаний на то, что образ жизни императора был именно таким и никаким другим. Достаточно вспомнить общеизвестный случай в декабре 1883 года, когда Александр III, уже угостившись после трудов, следовал вечером по Петербургу и на полном ходу вывалился из саней. Полученная при этом травма руки вынудила отменить предстоявший парад войск. Увы, самый внушительный внешне российский император был банальным алкоголиком скрытого типа. Российские историки с удовольствием подхватили термин «благовремение» и трансформировали его в некую умеренность, которая и продолжает гулять из одного исследования в другое. Для врачебного синклита, действовавшего вокруг императора, ход болезни определялся с самого начала как последствие полученной травмы, но выводы делались ошибочные, так как предполагали, что пострадали почки. Уже в 1892 году люди, постоянно общавшиеся с императором, отмечали заметные изменения его внешности: землистый цвет лица и мрачное настроение. Основной диагноз, который ставили лейб-медики царю, — нефрит, болезнь почек. В 1893 году во время пребывания в Дании у Александра III открылось носовое кровотечение, сопровождавшееся лихорадочным состоянием. Несмотря на грозные симптомы, император и в новом, 1894 году предпочел обычный график развлекательно-охотничьего времяпровождения с элементами обильных застолий. Для полноты ощущений была выбрана Беловежская пуща, где имелось оборудованное поместье Спала. Самое красочное описание охотничьего отдыха в Спале оставил доктор Н. А. Вельяминов, хирург по специальности. Вельяминов нравился царю за его недокучливое поведение и общительность. В Спале охотились на оленей и кабанов, чередуя это увлекательное занятие с приличным застольем, которое Вельяминов описал как настоящий воспитанный человек:
«За обедом в Спале существовал обычай, что убивший в данный день оленя должен был, стоя и поклонившись Государю, выпить до дна кубок шампанского, вмещавший ¾ бутылки вина, который Государь наливал сам и посылал «виновнику торжества».
Старикам, которым вино было вредно, Государь наливал кубок далеко не полным. В этот день, когда я по ошибке убил молодого оленя и старого, Государь прислал мне кубок два раза, сказав, что это в наказание за промах. Я благополучно исполнил приказание, хотя не без страха, и в этот вечер с успехом играл с Государем в винт…
Кстати сказать, во время болезни Государя распустили сказку, будто Государь очень любил кушать и злоупотреблял вином, чем и стремились объяснить его болезнь. Должен сказать, что это совершенная неправда.
Государь не был гастрономом, как его братья, и, как многие очень полные люди, для своего роста кушал скорее мало, никогда не придавая еде особенное значение; пил ли он водку за закуской — не помню, кажется, нет, а если и пил, то никак не больше одной маленькой чарочки; за столом он пил больше квас, вина почти не пил, а если пил, то свой любимый напиток — русский квас пополам с шампанским, и то очень умеренно; вечером ему подавали всегда графин замороженной воды, и он пил такой ледяной воды действительно очень много, всегда жалуясь на неутолимую жажду» [61].
Даже из этого короткого отрывка нетрудно оценить воспитанность гостя и заодно составить представление о происходившем за царским столом испытании на прочность.
В то последнее лето 1894 года Вельяминова в Спале не было. Он был вызван в Ялту (телеграммой министра двора Воронцова), куда совершенно больной император был вынужден переехать из Спалы по совету врачей.
Прибыв в Ялту 1 октября, Вельяминов застал там весь цвет российской медицины во главе с профессором трех европейских университетов Эрнстом Лейденом, приехавшим из Берлина. Еврейское происхождение профессора пришлось игнорировать. На состоявшемся консилиуме положение императора было признано безнадежным. Начиная с 5 октября стали выходить ежедневные бюллетени о состоянии здоровья императора, фиксировавшие медленное угасание организма. В связи с критической ситуацией из Дармштадта была вызвана невеста цесаревича Алиса Гессенская. Круглая сирота, которую для общественности подчеркнуто называли внучкой английской королевы, немедленно выехала через Варшаву в Симферополь. В день прибытия в Симферополь, 10 октября 1894 года, гессенскую принцессу встречали Литовский пехотный полк, супруга Таврического губернатора и почтовая тройка лошадей, предоставленная каким-то евреем по фамилии Иоффе. До Ливадии принцессе предстояло преодолеть 90 километров. В Алуште ее встретил наследник, великий князь Николай. Времени оставалось совсем мало.
Бюллетень от 18 октября уже не оставлял даже малейших шансов:
«10 часов вечера.
В течение дня продолжалось отделение кровавой мокроты; был озноб, температура 37,8; пульс 90, слабоват; дыхание затруднено. Аппетит крайне слаб. Большая слабость. Отек значительно увеличен.
Подписи: профессор Э. Лейден
профессор Г. А. Захарьин
лейб-хирург Г. И. Гирш
доктор Попов
почетный лейб-хирург Н. А. Вельяминов».
В два часа 15 минут пополудни 20 октября государь император Александр III «тихо в Бозе почил». В тот же день Манифест за подписью «Николай» сообщил русскому народу о смерти императора и объявил формулу передачи власти:
«…Повелеваем всем Нашим подданным учинить присягу в верности Нам и Наследнику Нашему Его Императорскому Высочеству Великому князю Георгию Александровичу, Которому быть и именоваться Наследником Цесаревичем, доколе Богу угодно будет благословить рождением сына предстоящий брак Наш с принцессой Алисой Гессен-Дармштадскою.
Дано в Ливадии, Октября 20 дня».
Время императора Александра III закончилось так быстро, что главные действующие лица были ошеломлены и воспринимали происходящее как сон. Это особенно касалось новоявленного императора Николая II, который, подписывая Манифест, вдруг начал понимать, что прежняя жизнь за спиной своего огромного Папа́ уже никогда не вернется. Единственный возможный путь для него — следовать во всем схеме управления своего отца, опираясь на советы императрицы-матери.
Послесловие
Внезапная смерть Александра III стала для «Умной» императрицы Марии Федоровны настоящим шоком. Мало того что она потеряла свою главную жизненную опору в лице супруга, ей пришлось пережить бракосочетание своего сына с девушкой из того же самого Гессенского рода, который чуть не стал причиной крушения всей ее жизни. Круг замкнулся, но императрица сумела взять себя в руки и мужественно пройти через очередное испытание. Сразу после свадьбы Николая она поделилась своими чувствами со своим сыном Георгием:
«Для меня это был настоящий кошмар и такое страдание… Быть обязанной вот так явиться на публике с разбитым, кровоточащим сердцем — это было больше, чем грех, и я до сих пор не понимаю, как я могла на это решиться». Действительно, свадьба через неделю после похорон — на такое надо было решиться. Однако Марию Федоровну можно было понять: трон — не то место, которое может долго оставаться незанятым. Поэтому все было сделано быстро.
Вообще, семейство Александра III, включая его братьев великих князей Сергея, Алексея и Павла, вновь объявившегося зятя — великого князя Александра Михайловича, было уверено, что почивший в Бозе император создал такой задел прочности власти, который обеспечит спокойное правление его сыну императору Николаю II. Действительность оказалась куда более жестокой, чем предполагали эти люди.
В том же 1894 году, когда умирал император Александр III, в Петербурге приехал и начал свою деятельность молодой человек 24 лет отроду, с лицом сорокалетнего опытного мужчины. В охранительных структурах он числился неблагонадежным, и не в последнюю очередь потому, что его брат Александр Ульянов был повешен за покушение на жизнь умиравшего императора.
Внешне Владимир Ульянов мало походил на своего брата: если Александр был черноволос, то у Владимира волосы на голове были рыжеватые. Голову Александра украшала роскошная шевелюра, а у Владимира к 24 годам уже обозначилась лысина. Словом, внешне это были совершенно два разных человека. Не внешность, конечно, выделяла этого человека из общей массы, и даже не родство с известным «террористом», а цель, с которой молодой человек прибыл в столицу. К своим 24 годам он имел за плечами оконченную с золотой медалью гимназию, диплом юриста первой степени, полученный на основании результатов экстерна в Петербургском университете и небольшую юридическую практику в качестве помощника присяжного поверенного. Даже по нынешним временам список впечатляющий. Кроме перечисленных внешних признаков, Владимир Ульянов успел досконально познакомиться с трудами известного исследователя капитализма Карла Маркса. Прочитав и проанализировав особенности капиталистического способа производства, изложенные в трудах Маркса, Ульянов пришел к неожиданному для себя выводу. В формулах Маркса явно просматривался ключ к решению проблемы, занимавшей голову молодого юриста. Проблема, к решению которой присматривался Ульянов, была на первый взгляд нерешаемой: опрокинуть и развалить государственный строй в стране, в которой он сам проживал. Однако ключ к решению явно существовал, и Маркс на него указывал, без сомнения. Некоторые сомнения все же были и требовали тщательной проверки. За этим и явился в Петербург провинциальный юрист Владимир Ульянов.
Романовы, занятые своими повседневными хлопотами, и не заметили появления у себя под боком такого опасного человека. Между тем заметить его уже тогда в далеком 1894 году стоило. Стоило и оценить заложенный в этом человеке потенциал. Роскошной компании великих князей вместе с их занятыми дворцовыми интригами женами и в голову не могло прийти, что какой-то провинциальный юрист может представлять малейшую опасность. Новоявленный император Николай II хотя и был на два года старше юриста Ульянова, но по своему развитию уступал ему, как гимназист профессору. В таком неравном во всех отношениях положении император Николай II и юрист Ульянов находились вплоть до 1917 года, когда главное преимущество одного из них стало фатальным.
Библиография
Вместо предисловия
1. Манфред А. З. Наполеон. М., 2002.
2. Памяти Александра Николаевича Савина. 1873–1923 гг. // Труды института истории: сб. статей. Вып. 1. М., 1926.
Часть I
Глава 1
3. Валуев П. А. Дневник 1877–1884. Пг., 1919.
4. К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Тайный правитель России. М., 2001.
5. ГАРФ. Фонд М. Т. Лорис-Меликова. Оп. 1. Д. 143-а.
6. Кривенко В. С. В Министерстве Двора. СПб.: Нестор-История, 2006.
7. Рыженко И. Э. Александр III в Гатчине. СПб., 2011.
Глава 2
8. ГАРФ. Ф. 677 (Александр III). Оп. 1. Д. 1061.
9. На чужой стороне: сборник. Прага, 1924.
10. Княгиня Екатерина Юрьевская. Воспоминания. М., 2016.
11. Милютин Д. А. Дневник 1876–1890. М., 2009.
12. Калинин Н. Н., Земляниченко М. А. Романовы и Крым. Симферополь, 2007.
Глава 3
13. Процесс 20-ти народовольцев в 1882 г. // Былое. СПб., 1906. № 1–6.
14. ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 512–513.
15. ОР ГИМ. Ф. 282. Ед. хр. 396.
16. ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1. Д. 79.
Глава 4
17. РГИА. Ф. 1280. Оп. 5. Д. 245.
18. Алексеевский равелин. Секретная государственная тюрьма России в XIX веке: сборник. Кн. 1, 2. Л., 1990.
19. Минувшие годы. СПб., 1908. № 4.
20. Прибылева-Корба А. П., Фигнер В.Н. А. Д. Михайлов. Л., 1925.
Часть II
Глава 1
21. Кудрина Ю. В. Мария Федоровна. М., 2009. С. 41.
22. Половцов А. А. Дневник государственного секретаря. Т. 1: 1883–1886 (здесь и далее цитируется Дневник).
23. Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия. СПб., 2011.
Глава 2
24. Милютин Д. А. Дневник. 1882–1890. М., 2010.
25. Арапова А. П. Дневник // ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Отдел рукописей. Ф. 10.
26. Лукашевич И. Д. // Былое. СПб., 1917. № 1.
27. col1_3И. Ульянов и П. Я. Шевырев по воспоминаниям Говорухина // Пролетарская революция. М., 1925. № 7 (42).
28. Говорухин О. М. // Октябрь. М., 1925. № 3–4.
29. Воспоминания О. М. Говорухина. Голос минувшего на чужой стороне. Париж, 1926.
30. ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 649: Протокол допроса № 27 от 14 марта 1887 г.
31. ГАРФ. Ф. 102 (7-е делопроизводство). Д. 47. Т. 1. Л. 348.
32. Поляков А. С. Второе 1-е марта: Покушение на императора Александра III в 1887 году: материалы. М., 1919.
33. ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 646. Л. 98.
34. ГАРФ. Ф. 102 (7-е делопроизводство). Оп. 184. Д. 47. Т. 2.
Глава 3
35. Потто В. А. Царская семья на Кавказе. 18 сентября — 14 октября 1888 года. СПб., 1889 г.
36. ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 592: Материалы следственного производства о крушении царского поезда 17 октября 1888 года (извлечения из 1–4 томов следственного дела).
37. Богданович А. В. Три самодержца. Дневники генеральши Богданович. М., 2008.
38. Кони А. Ф. Собрание сочинений в 8 томах. 1966.
39. Таубе М. А. Зарницы. Воспоминания. М., 2007.
Глава 4
40. Фигнер В. Н. Запечатленный труд. Т. 1. М., 1964.
41. Воспоминания Льва Тихомирова. М.; Л., 1927.
42. ГАРФ. Ф. 102. Оп. 84. Ед. хр. 545.
43. Красный архив. 1924. № 6.
Часть III
Глава 1
44. Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. СПб., 1903.
45. Воррес Йен. Последняя Великая Княгиня. М., 1998.
46. Клейнмихель М. Из потонувшего мира: Мемуары. Пг.; М., 1923.
47. Кудрина Ю. В. Мария Федоровна. М., 2009.
48. Половцов А. А. Дневник государственного секретаря. Т. 1–2. М., 1966.
49. Милютин Д. А. Дневник (1882–1892). М., 2010.
50. Рыженко И. Э. Александр III в Гатчине. СПб., 2011.
51. Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. Л., 1929.
52. Письма К. П. Победоносцева к Александру III. Т. 2. М., 1926.
53. РГИА. Фонд департамента законов. 1889. Д. 44. С. 853.
54. Ламсдорф В. Н. Дневник (1886–1890). Минск, 2003.
55. Дневник императора Николая II (1890–1906). М., 1991.
Глава 2
56. Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания. Минск, 1992.
57. Амира Ясимура. Покушение. Цесаревич Николай в Японии. М., 2002.
58. ОР РГБ. Ф. 253. Картон 29. Ед. хр. 1.
Глава 3
59. Матильда Кшесинская. Воспоминания. М., 1992.
Глава 4
60. Александр III. Воспоминания, дневники, письма. СПб., 2001.
61. Вельяминов Н. А. Воспоминания об императоре Александре III // Российский архив. Вып. 5. М., 1994.
Примечания
1
Гремучая ртуть — кристаллический порошок, дающий взрыв от соприкосновения с открытым пламенем. Используется как детонатор динамита.
(обратно)2
По старому стилю.
(обратно)3
Делянов И. Д. — министр народного просвещения; Островский М. Н. — министр имуществ; Победоносцев К. П. — обер-прокурор Синода; Вышнеградский И. А. — министр финансов; Пазухин А. Д. — правитель канцелярии МВД.
(обратно)4
Шувалов П. А. — посол России в Германии.
(обратно)5
Русский перевод текста Руже де Лиля.
(обратно)




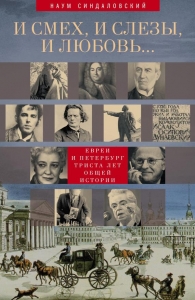


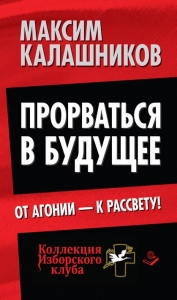
Комментарии к книге «Пошатнувшийся трон. Правда о покушениях на Александра III», Виталий Михайлович Раул
Всего 0 комментариев