ПРОЛОГ
Последние десять лет я живу "на колесах". Из оседлого москвича, из актера любимовской "Таганки" я переквалифицировался в режиссера-кочевника. Вскоре будет дописана книга "Жизнь в гостях". Там ведется рассказ о новом опыте жизни. Об отъездах и приездах - из Москвы и в Москву. О драмах и операх, которые я поставил в Германии, Чехии, Америке, а также в Питере, Марселе, Иерусалиме. Об актерах и певцах, которых смело называю "моими", хотя общался с ними через переводчика. Об интернациональном языке театра. Почему я здесь пишу о будущей книге? Потому что любое впечатление сегодняшнего дня связано с прошедшим. Я неразлучен с моим вчерашним днем. Грибоедовское "все врут календари" для меня - чистая правда.
Книга, которую вы открыли, тоже о путешествиях. По городам и годам, по спектаклям, по биографии. Я не думаю, что могу поразить читателя необычными мыслями. Но пережитое и удивляет, и учит. Мне невероятно повезло: с юности сразу попал в водоворот лиц, театральных экспериментов, происшествий. Хотя книга составлена из "пестрых глав", я живо чувствую единство ее сюжета. Не самое благородное дело - выставлять себя на обозрение, да и хвастать "знакомствами" уже поздно. Зато порадовать доброго читателя приключениями и встречами - хорошее дело. И еще: с каждым днем все интереснее учиться. Не только у книг, у шедевров искусства, у стран, у молодежи, у жены, у друзей, но и у собственного прошлого. И об этом книга.
Моя профессия - "актер драмы и кино". Учился в лучшей московской театральной школе - при Театре имени Евгения Вахтангова. У прекрасных мастеров и в отличной компании студентов. И в хороший отрезок плохой эпохи. Потом - Театр на Таганке. Почему мне так сильно повезло?
Во-первых, Бог избавил меня от чувства зависти к кому бы то ни было.
Во-вторых, Он смолоду подарил мне острое чувство мимолетности и сюрпризности бытия. Отсюда мое сочувствие к завистникам и злопыхателям. Я считаю, что так проявляется мой эгоизм: выгоднее сокращать плохие эмоции, чем развивать сюжет обиды.
Я не верю дневникам, которые издают родственники после смерти автора. Еще меньше доверяю дневникам, которые издают сами авторы. Но составляя части этой книги, я перечитал свои старые тетради. Последние лет тридцать (то есть полжизни) я старался вести записи для себя. И вот, что называется, "поднял архивы". Начал читать записанное в 70-е, 80-е и потонул в забытом и славном времени личных "бурь и натисков". Никак не ожидал такого эффекта: оказалось, что память давно навела свой порядок, где - вычеркивая, а где - редактируя реальность событий. Что делать? Иду на риск, публикуя записи прошлых лет. Они оказались необходимы как аккомпанемент к основным мотивам. Со сцены сегодняшней жизни я заглядываю за кулисы моего прошлого.
Мой эгоизм - это произвол моей памяти. Театра моей памяти. И заполняют сцену, и повторяются на ней такие эпизоды, такие встречи, глаза и лица, речи и события, от которых на душе, извините, цветут незабудки. Я, к счастью, не Демокрит с Гераклитом, и мне легко удается вступать в одну и ту же реку. В театре моей памяти - в живом, счастливом театре - идет непрерывная премьера. В театре моей памяти - избранные. Моим сердцем избранные. Вечно живые, вечно действующие лица…
"Театр уж полон, ложи блещут, партер и кресла"… Все, как в театре.
Я назвал давние заметки для журнала "Юность" почти по Булгакову: "Записки на кулисах". И снова, и снова перелистываю драгоценные "кулисы"…
"Давайте восклицать, друг другом восхищаться…" На сцену выходят замечательные мастера. "Высокопарных слов не надо опасаться…" Это поэты, актеры, писатели. "Давайте говорить друг другу комплименты…" Все они, хотя многие ушли из жизни, очень живые, очень. "Ведь это все - любви счастливые моменты…" Имена выкликаются произвольно - по прихоти памяти…
Раньше я был добровольно несвободен, был привинчен к будням и праздникам родного Театра на Таганке. Сегодня цепь сдана в архив. Однако новое чувство - никому не подчиняться - постоянно смущается грустью. За друзей, за коллег, за несправедливую подмену судьбы так называемой жизнью.
Двадцать лет жила-была судьба. Она сверкала трудами, грехами и победами на сцене маленького здания напротив метро "Таганская". Двадцать лет сверкала, а потом пошли годы интриг и пошлости. Неважно, кто виноват - все виноваты, в конце концов. Наверное, меньше всего - актеры, по-прежнему играющие в зале, где никак не остынет воздух от двадцатилетней канонады оваций. Может, вообще нельзя называть Театром на Таганке то, что творится теперь напротив метро "Таганская". Метро пусть зовется, как звалось, а театра того же имени нет с 1984 года…
Книга составлена в хронологическом порядке. В ней собраны рассказы и попутные размышления, связанные с театром: со школьных и студенческих лет - до событий в Театре на Таганке. Я вспоминаю его (театра) "детство, отрочество, юность", зрелость. Затем следуют портреты - по выбору личных пристрастий. Книгу завершают рассказы, привязанные к работе над двумя моими ролями: в кино это - Атос из "Трех мушкетеров", в театре - Воланд из "Мастера и Маргариты".
Судьба переселилась в память. Книга, если и недописана, зато ПРОписана в кулисах моей памяти. Там готовятся к выходу любимые персонажи. Там шумят, интригуют. Там живут герои важных событий, и им безразлично, кто из них кого "популярнее". Там звучит любимая музыка. И никто даже не собирается умирать, "ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии" (И.Бродский).
ОТ МЕЩАНКИ ДО ТАГАНКИ
УСПЕХИ НА СЦЕНЕ ДЕТСТВА
Дома, в школе и в кружке пионерских дарований
Мое детство. Вторая Мещанская улица, Москва. Пленные немцы строят во дворе здание районного отделения милиции. В соседней церкви на Второй Мещанской, угол Безбожного переулка, от взрывной волны зияют рамы-раны. Мальчишка на спор сует голову в жуткую дыру подвала, потом, дрожа, рассказывает: "Нет, они меня не тронули… ух ты, черная темнота, сыростью воняет… и эти… скульптуры голые… духи безрукие… ага, шевелятся… и один на меня как двинется… Я - бегом! Всё!.."
Отец пришел с войны - и с головой в работу. Мама - участковый врач. Мы видимся перед сном и в воскресенье. Детский садик, школа, рождение сестренки, с нами живет моя няня - тетя Настя Хвостова, она из-под Воронежа и навсегда член нашей семьи. Мы живем впятером в одной комнате, коридорная система, общая кухня и прочее. Тетя Настя по выходным шепчет и шепчет в своем углу, собираясь в церковь: "Так! Это я взяла, сумку захватила, в церкву не опоздать бы… Господи, прости грехи наши… Чулки штопать надо, стирку завтра, в церкву нынче… не разбудить бы энтих… ну все, в церкву пошла…" Мой сон, убаюканный тетинастиным уютным шепотом, переводит услышанную "церкву" в сладкую сторону: счастливая тетя Настя, каждое воскресенье в цирк ходит…
У отца ко мне два требования: никогда не врать и учиться "на максимум". Если человек не способен, но старается - это одно дело, а если ты можешь, но ленишься и работаешь вполсилы - это "стыд и позор". А тетя Настя говорила: "Это грех".
…Папа - партийный с начала войны, тетя Настя молится Богу, мама всю неделю лечит чужих людей, приехал из Гомеля дедушка Моисей, отец моего отца. Он тоже молится - совершенно по-другому, чем тетя Настя. Однако оба вызывают уважение таинством веры и какого-то знания.
Мы были дети двора. Мерялись силой. Стыкались до первой кровянки. Сходились в глухих переулках "троицкие" пацаны с "мещанскими". На стадионе "Буревестник" катались на "снегурках", веревками привязанных к валенкам. До боли в сердце стеснялись девчонок, отрезанных от нас сталинским указом: мужская № 254, женская № 235, в Пальчиковом переулке, возле церкви.
Во втором классе на переменке держу в руках учебник Мишки Бермана, обернутый в газету. А там - стихи Владимира Маяковского. И хотя далеко не лучшие, но они меня ошарашили. Такого разрыва с привычными размерами, такой веселой дерзости в обращении с русским языком я не подозревал. Я их переписал и вызубрил. Через четыре года, в шестом классе - первое испытание актерского честолюбия. В актовом зале соревнуются чтецы. В основном восьмые и седьмые классы. Из шестого только я и болельщики. Распаренно читаю Маяковского. Ребята жмут руки: "Ты всех победил". Так я узнал, что актерством можно не только наслаждаться, но и кого-то побеждать.
Без спросу родителей (а тогда без спросу ничего не делалось) я поступил с другом в драматический кружок при Дворце пионеров Дзержинского района. Это был не рядовой, а знаменитый кружок. Его спектакли "С тобой товарищи" и "Васек Трубачев" передавали по радио. А когда появилось телевидение - то и по телевизору. Коллектив кружка близко дружил и сотрудничал с пионерским театром при Дворце культуры ЗИЛа с легендарным С.Л.Штейном во главе. И, кроме того, из его рядов вышло много профессиональных актеров: В.Коршунов, Т.Лаврова, О.Якушев, А.Эйбоженко, Г.Бортников, В.Беляков… Но самое главное: в нашем кружке царила атмосфера дружбы и праздника. Праздника - быть вместе и играть все что угодно. Пусть главную, пусть неглавную роль - лишь бы вместе, лишь бы сцена, лишь бы праздник. Конечно, душой и автором этой атмосферы была руководитель кружка Варвара Ивановна Стручкова. Она играла в Московском ТЮЗе хорошие роли. То есть большие. Хорошими их трудно назвать, ибо самая известная ее актерская победа - это роль Бабы-Яги. Но мы гордились ею, она хорошо играла. И старшие, и младшие кружковцы любили Варвару Ивановну как родную. Она неплохо ко мне отнеслась, но я был очень длинный для детских ролей младшей группы и сыграл пионервожатого, а мои "подопечные", вроде Леши Горизонтова или Юры Конькова, были в жизни старше меня на несколько лет.
Я очень любил кружок. Все там были необыкновенно талантливые, а игра ребят в "Двенадцати месяцах" С.Маршака казалась совершенно недостижимой для меня. К нам приезжал в гости автор, и мы, кружковцы, навещали Самуила Яковлевича у него дома, и он тоже "разделял мою высокую оценку" спектакля. Все домашние невзгоды и радости обсуждались и переживались кружковцами. Дело в том, что коллектив родился во время войны, и это отчасти напоминает ситуацию из пьесы М.Светлова "Двадцать лет спустя". В голодное и холодное время тревог дети познавали цену искусства, творили роли вопреки меланхолии и быту, и военные годы надолго сказались в жизни ребят. Когда все ладится и спектакль имеет успех (плюс радио, телевидение, поездки и дружба), театр кажется вечным, нерушимым, даже если он детский. Но театр, увы, можно сохранить только в пространстве, во времени же он безнадежно хрупок. Не уходили кружковцы (даже совсем взрослые), не уходили традиции и вечера встреч - уходила атмосфера. Умудренный историк театра поставил бы обобщенный диагноз, годный для любого театра: "Пятидесятые годы - не сороковые…" Я ушел из кружка, так и не сыграв своего. Меня просто похитил отец, объяснившись с глазу на глаз с Варварой Ивановной. Что-то хуже стало с отметками, и, кроме этого, было куплено… пианино. Меня, переростка тринадцатилетнего, определили учиться музыке. Я плакал, как барышня. Я адски завидовал другу, который остался и прекрасно сыграл Мазина в "Ваське Трубачеве". Я изредка забегал в Дом пионеров и ужасался… Поезд уходил, а я отставал. Что мне ваша музыка, черт возьми! Однако судьба свое ремесло знает крепко, и через годы не мытьем, так катаньем, а все же прибило меня к драгоценному берегу. Я был десятиклассником, когда по просьбе Варвары Ивановны меня отпустили выручить кружок. Ставилась пьеса совсем молодого драматурга Михаила Шатрова - "Чистые руки". Мальчик, мечтающий стать актером, попадает в семью большого мастера по фамилии Лавров, а по званию народный артист СССР. Витю Дубровского, ветерана-кружковца, прямо с генеральной призвали в армию. А через неделю объявлена премьера. И вот я явился по зову кружка: запудрить голову сединой, нарисовать морщины и срочно выучить роль этого Лаврова.
Спасительное дело - не иметь времени на комплексы и на досужие словопрения. Тогда все умение и вся природа актера посвящены только сути дела.
Премьера состоялась, сыграл я, очевидно, ужасающе, но бодро и смело, что и решило мою участь. И Варвара Ивановна, и Сергей Львович Штейн (на премьере присутствовали зиловцы) хвалили меня, и отец начал медленно расставаться с мечтой слепить из меня ученого.
…Андрей Егоров - это тот самый друг, с которым я пришел в кружок и который играл в нем и после меня. Андрей жил в Тополевом переулке… Это наша незабвенная маленькая Москва, с ворохом крохотных и горбатых улочек, с булыжными мостовыми и уютными именами: Тополев, Выползов, Безбожный, Капельский, Пальчиков переулки, улицы Самарская, Мещанские, Самотека, Цветной бульвар… Деревянные домишки, мечеть, Уголок Дурова, Театр Красной Армии, парк "Буревестник", библиотека на улице Грибоедова, кино "Перекоп" в Грохольском, "Форум" на Колхозной, "Экран жизни" в Каретном ряду.
Гулять с этим парнишкой, как и дружить, - сплошная мука. Мы не ходили, а "мотоциклетили", мы не говорили, а "пулеметили". Мы просидели за одной партой с первого по десятый класс. Когда стали соединять мужские и женские "монастыри", я перешел из 254-й школы в 235-ю. И Андрей велел родителям перевести себя туда же. И только в семнадцать лет мы разбежались: он - в МГУ, в математики, я - в Вахтанговский институт, в актеры…
Я считаю всерьез, что мой однолетка и кореш оказался моим Сухомлинским, Янушем Корчаком, Макаренко - кем угодно. Голова его была набита книгами из всех областей знаний. Он равно зачитывался с детства "мушкетерами", Конан Дойлем, "Капиталом" Маркса, "Утопией" Мора и словарем иностранных слов. Но он не желал хранить в себе богатства разношерстных знаний, он бы взорвался взаперти. Главное в нем - агрессия электропередачи. Он был захватчиком всех моих когда-то сонных мирных территорий. Избрав меня, несчастного, мишенью, он вгонял пулеметные ленты, истребительски расходовал весь патронташ своей эрудиции. Он требовал достойного ответа! Где было взять? И я научился кивать без знания дела днем, а вечером глотать книги, энциклопедию, теребить отца, чтобы на утро как бы вскользь, как бы нехотя и как бы невзначай потрясти друга своей точкой зрения на вчерашнее и даже шагнуть чуть дальше, блеснув вычитанным каким-нибудь "квиетизмом" или строкой из "Облака в штанах"…
Становление наше проходило в известные годы, на фоне нарастающего гула политического калорифера. Обогревались души, дома, из черно-белого мир превращался в цветной. С опозданием открывались плоды цивилизации: телевизор, общение материков, разнообразие одежды, отличие мужчин от женщин, трофейное кино, затем итальянский неореализм. Затем танго и фокстрот, Есенин, Ильф и Петров. И, наконец, Ив Монтан и фестиваль молодежи 1957 года. На этом фоне и носились мальчишки со скоростью мотоциклов, а жадность всепознания была подогрета тонусом общества. Я вдруг стал сочинять стихи и даже прозу, подражая то Маяковскому, то Лермонтову, а то… Бичер-Стоу. Увлекся музыкой, и не столько занятиями с учительницей, сколько залом Консерватории и тем, что звучало по радио. Все чаще сказывалась во мне любовь к лицедейству - и на школьной сцене, и в мечтах.
Казалось бы, ну что Андрею, книгочею, математику и "мотоциклу", эти чужие острова? А он, узнав, что их освоил не кто иной, как я, бросился в новый матч. Насчет стихов - не помню, но в школьной газете, где я отрабатывал страсть к литературе, и он печатался. Летние расставания все сплошь уходили на… письма. Причем дурным тоном было объявлено писать короткие письма. И мы заваливали почту бандеролями эпистолярных очередей.
Если я увлекался толканием ядра, то он обгонял меня в прыжках и беге. Если я чего-то добился в волейболе, то он оказывался рядом и уничтожал противника не мячом, так искрами из глаз. Причем очки обязательно падали в одну сторону, а Андрей в другую. Если я влюблялся в одноклассницу и вскоре расставался с ней, то он влюбился в "соседнюю парту" так, что небу стало жарко, так, что и по сегодняшний день их не разлучают никакие кульбиты судьбы… Да и театральный вид спорта не обошел послужной список наших общих дел. Извольте видеть, в двенадцать лет мы поступили в драмкружок (я поступил, а он чуть позже - "наступил"), где сыграли в одной пьесе. В школе нашей, где все музы были в почете (а учительницу пения так просто звали Муза Петровна), мы сыграли вдвоем кучу ролей. В том числе: он - Ивана Никифоровича, я - Ивана Ивановича; он - Хлестакова, я - Городничего; он - Сережу Брузжака, я - Павку Корчагина; в современных пьесах, в чеховских рассказах, в "Любови Яровой" (где я почему-то помню себя Швандей) и т.д.
В старших классах наше драматическое состязание вылилось в целый вечер имени Пушкина. Чудом успевая переодеваться в прокатные (подлинные!) костюмы, за три часа перед изумленной публикой имело место быть сыграно мною: Самозванец "У фонтана" (Мнишек - моя первая любовь, Леля Богатина); Онегин (за Татьяну - вторая любовь, Надя Денисова); Моцарт (Сальери, конечно, Андрей). В "Каменном госте" он был Дон Жуаном, а я "подыгрывал" Статую Командора… Азарт многостаночников, страстные муки любви к поэту увенчались шквалами рукоплесканий, и все кончилось… почти что без увечий. Почти, потому что в "Каменном госте" я ужасно хотел напугать Андрея - Дон Жуана явлением Статуи. Перед самым выходом меня накрыли скатертью на манер снежной вершины Памира, а на затылок зачем-то прилепили тарелку… Чтоб не грохнуть тарелку, двигался я вполне "статуйно", вслепую протягивал из-под скатерти длань, звал Дон Жуана басом на ужин, манил и ухал сычом… Андрей и за Жуана, и за себя так напугался, что свалился со сцены и как-то чересчур по-волейбольному отбросил руку назад… А там - окно. Визг, бой стекла, грохот. И в последующей тишине я жму сквозь белую скатерть его жуанскую окровавленную руку, а он изрекает пушкинское "Ах, тяжело пожатье каменной его десницы". Зритель ахает! Живая кровь льется на пол. Белоснежная Статуя, тоже в крови, важно уходит из зала, унося на макушке глупейшую тарелку. И пока игрался "Борис Годунов", артиста Егорова Андрея отвезли в соседнюю Склифосовку, рану обработали, и очередного своего Сальери мой друг играл изящно забинтованным… Если это был пролог актерской жизни, то к нему сгодилось бы эпиграфом напутствие Некрасова: "…умрешь недаром, дело прочно, когда под ним струится кровь".
Мой первый театр - наивный, самонадеянный, во всех отношениях "школьный" - имел финалом то, что я, заготовив тургеневское "Как хороши, как свежи были розы…", маяковское "В сто сорок солнц закат пылал…", крыловскую басню "Слон в случае", а также монолог Незнамова, влился в тысячную толпу абитуриентов сперва мхатовского, затем Щукинского училищ.
За вахтанговскую школу было твердое "за" художника Льва Смехова, моего дяди и неколебимого для меня авторитета в искусстве. Дядя театры недолюбливал, но светлым лучом почитал "Принцессу Турандот" Евг.Вахтангова, которую смаковал до войны раз десять. "Стоящий театр, с юмором и с фантазией", - сказал дядя Лева. А я поглядел в этом театре с Астанговым "Перед заходом солнца" и тоже возрадовался. И выбор мой пал на Училище им. Б.Щукина.
Была отобрана с первого тура группа человек в двадцать как "наиболее вероятных", и до всяких экзаменов ее показали Борису Захаве, ректору института. 16 июня, в ночь на 17-е, ректор взыскательно прослушал группу "наиболее вероятных". Читал я Захаве Маяковского. Разогревал меня этот поэт безотказно, даже вопреки страхам и застенчивости. А тут еще злила скованность предыдущих ораторов, а за окном - совершенно исключительная гроза, сказочная, небывалая, гром и молнии. Восемнадцать человек были, увы, отвергнуты, но меня и Риту Арянову сразу определили студентами. Правда, еще устно. Надо было явиться лишь на заключительный, четвертый тур.
Дома мама и папа не спали, отец достал том БСЭ на букву "З", откуда на меня глянул этот же самый что ни на есть знаменитый Борис Захава. То, что сына признает светила из энциклопедии, сразило стойкого отца.
Итак, июнь 1957 года, Москва кипит фестивальной подготовкой. Школа гудит экзаменами на аттестат зрелости. Товарищи мои полны тревог за будущее. Куда пойти и т. д. А я сдаю на "отлично" экзамен по физике, (которая мне в дальнейшем и сниться-то поленится), имея фактически звание студента…
ВАХТАНГОВСКАЯ ШКОЛА
Уроки и удары судьбы. Мои учителя
Итак, я приблизился к театру. На четвертом туре импровизировались этюды на заданную тему. Я был управдом, а девять человек из моей десятки приходили ко мне "на прием"… Потом счастливчики были объявлены. Потом сдавались общеобразовательные, история и сочинение. Потом первый курс перезнакомился. Узнали, что художественным руководителем будет не Мансурова и не Андреева, а всего лишь молодой "незаслуженный" Вл.Этуш, и - разбежались на отдых. Трын-травою были покрыты для меня поля и лесные массивы Подмосковья, где мы жили на даче, играли с Егоровым в волейбол, с Димой Орловым сочиняли поэтическое направление "вуализм", с Сашей Величанским слушали потрясающую музыку и танцевали прощальное детское танго на опушке леса неповторимой деревни Бузланово, что возле Петрова-Дальнего. Трын-трава росла для меня и осенью, когда я впервые вступил в стены вахтанговского питомника. Мое участие не в фокусе, размыто… Кажется, худрук Этуш сразу же потерял ко мне интерес. В тумане первые отрывки, показы, волнения и болельщики. Старшекурсники, наше участие в их дипломных спектаклях в качестве рабочих сцены… Поездка курса на уборку картошки… Сессия зимой и собрания, суета и "толковища". Первые посещения нового театра в гостинице "Советская", в концертном зале. Театр называется, как пушкинский журнал, "Современник".
Кое-что все же, оказывается, в фокусе. И лекции лицейски кристальных педагогов Симолина (изо) и Новицкого (русская литература). И беседы Владимира Ивановича Москвина. Дальше в фокусе - похороны В.И.Москвина, и вся театральная Москва у гроба… Наши курсовые вечеринки у Иры Ложкиной или Люды Максаковой, у Наташи Маевой или просто в столовой училища. И лекции французского языка вместе с уроками манер Ады Брискиндовой. Четко помню безошибочный приговор студенчества… Если хочешь научиться профессии, стремись попасть к Москвину, к Мансуровой, к Андреевой, к Рапопорту - это к "старикам". А из молодых - к Ульянову и Любимову, которые очень скрупулезны по "школе", или к Шлезингеру и к Этушу - там царят фантазия и юмор.
Но самоличное продвижение по первому курсу - в тумане. В тумане - на зловещем уже фоне трын-травы.
Я не желал вникать в бесконечные этюды по программе "мастерства актера". Я утешал себя мыслью, что этюды - это далеко не театр, это не мое, я могу подождать, а когда придет мой час, тогда я и жахну из гаубицы. Время бежало. Весна потопила сугробы, и вылезла на свет, подсохла на новом солнышке упрямая трын-трава. Я торопился вперед, где наверняка меня ждут мои такие милые, такие сердцещипательные победы - а как же? В школе побеждал? Побеждал. Роли играл? Да еще как! На всемосковском конкурсе чтецов за "Теркина" в восьмом классе получал первую премию? Получал. А в девятом за стихи Маяковского? Получал. Ладно, а поступление возьмем в расчет! Это не я ли под гром и молнии читал Захаве так, что раньше всех… ну и т. д.
Моя дурная трава перерастала всю реальность, никого не желая слушать, боясь вникать в прозу жизни. А проза своим чередом докатила меня до летней сессии. Состоялся показ. Я играл, как и прожил год, весь в тумане… Но вот туман рассеялся, объявляют итог. Из тридцати четырех студентов на второй курс переведены… двадцать человек. Среди отчисляемых - моя фамилия. Стоп. Это беда. Я один, словно в чистом поле. И ни травинки, ни трынки, пусто и страшно.
Очнулся. Вокруг - товарищи, сочувствие, участие, хлопочут, советуют. А меня, жалкого в тот миг, совсем новое открытие прожигает… В театре быть середнячком - гибель. Коль уж становиться актером, то только особенным, отличным, если не великим… Это слова отца. А то, что стряслось, - какое будущее может сулить, если с первых шагов ты ниже "середнячка" падаешь… Нет, не только самолюбие страдало. Весь организм, вся любовь к театру, к искусству, мечты, предчувствия… чего уж говорить. Полное фиаско, самая настоящая трагедия случилась в жизни восемнадцатилетнего "трынтравоеда".
Этуш вызывает по одному всех, с кем расстается. Две минуты взаперти, дверь открывается, бодро-наигранно выходит Саша Збруев, прощается с друзьями, свежие второкурсники вздыхают, кивают. Запускают следующего. Вызывают меня. Это - на всю жизнь. Мой руководитель, гроза и вожделение курса, протягивает металлическую правую руку - для прощания. Объясняет. Вы, мол, еще очень молоды, ошибка произошла, но она исправима. Надо идти в математики, всего, мол, доброго… И вдруг, наверное, впервые за долгий учебный год, я заговорил с Этушем, глядя глазами в глаза. Мол, я не хочу в математики, я хочу в артисты. А он: нет, для артиста вам многого не хватает - обаяния, темперамента, юмора. Всего доброго. Я - холодеющими губами: оставьте, вольнослушателем (Боже, какое унижение!). А он: в математики. И руку жмет. Я: вольнослушателем, а? Мол, бывают же случаи? А он: в математики, случаи бывают, но ваш - другой. И жмет мою руку. Да, тяжело пожатье каменной его десницы. Я вышел из кабинета и девически упал на руки ребят. Слабость, слезы, стыд, боль.
Но совет училища проголосовал - "за". Против - один голос: Владимир Абрамович Этуш вышел с совета, хлопнув дверью. Ему не доверили, ему навязывают этого типа. Вот он и вышел. А тип подрагивал на лестничной клетке. И все, кто за него болел, и все, кто за него вступался перед кафедрой, - и педагоги, и Наташа Захава (однокурсница и как-никак дочь ректора), и другие студенты - все поздравляли с победой. Тип не ликовал, тип был только рад факту. Настроение его находилось в прямой зависимости от силы удара, с которой худрук хлопнул дверью.
Начались каникулы. Два месяца до второго курса. Ясно, что от того, каким я явлюсь, зависит, выгонит он меня через полгода или нет.
Советчиков не было. Мама пропадала в поликлинике день и ночь. Отца послали в Алма-Ату, в Госплан КазССР, повышать там их уровень. Это переживалось дома как ссылка. Всем было не до моих неприятностей. Ходил, ездил, жил под гнетом самоанализа. Казалось, ответь я на один вопрос - и буду отдыхать спокойно. Вопрос: что произошло? Почему это случилось, кто виноват… ясно, что сам виноват, - но что именно во мне виновато? И ситуация перепутья, и магия театра породили свое законное чудо: открылась истина.
Метро. Сидят на скамейках люди. Стою в углу. Привычно стесняюсь сесть, потому что впоследствии буду стесняться встать, уступая место старшим. В дальнейшем я назову это комплексом. А пока это никак не называется, а - происходит. Стою. Неожиданно замечаю (раньше не замечал): если встречаюсь с кем-то глазами, то немедленно отвожу взор. Опять блуждаю глазами, опять встречаюсь, снова неудобно. Вспоминаю: это вообще черта характера. Стесняться публичного разглядывания, стесняться быть заметным. Ненавидеть, когда в толпе кто-то выкликает мое имя. А как же со сценой? Ага, я ведь всегда боялся выхода, первого шага. Только проделав его, произнеся "чужие" слова, расходился, горячился, чтобы потом начисто пропадала заячья трусость… да-да, появлялось совсем новое чувство, какая-то "антеева земля", врастание в другую реальность и сладкая, взлетная самоуверенность… Почему? Да потому, что это уже не я, это уже были Маяковский, Тургенев, Островский, Мольер… кто угодно, только не я, который так переживает любое публичное проявление. Метро продолжается. Открытия - тоже. Пробую вызвать взгляд вот этого дядьки с газетой. Смотрит. Задание: не убирать глаза, быть "как он" - то есть непринужденным разглядывателем. Так, он протяжно поглазел, ушел в газету. Иду дальше. Беру на себя миловидную девушку - это уже совсем стыдно. Она смотрит, я - из последних сил тоже. Тьфу, струсил, перевелся на дядьку (уже "побежденного"). Нет, борьба так борьба, опять вызываю миловидную. Миловидная отзывается. Минуты три, по-моему, не спускает своего чарующего и пыточного взгляда. Я не свожу с нее глаз, я окостенел, она мне уже совсем неприятна, и чего я в ней, косоватой, миловидного нашел? Ура, победа… Ну, и так далее. Следующий этап - подумать, взвесить. Вот я какой, оказывается. А каковы же другие? Те, которым Этуш не пожал руки на прощание после первого курса? Те, успешники, завидные нестесняльцы? И сама собой перед воспаленным воображением всплывает фигура… Женьки Супонева. Удалой воронежский парень, ходячий экстракт бесшабашности, легкости, чтобы не сказать - нахальства, он не только стесняться таких пустяков, он вообще, наверное, и моргать не умеет. А если и покраснеет раз в два года - только по причине самовосхищения. Молодец, умница, Женька! Будь другом, Женька, помоги… И он, представьте, помог. Надо выходить из вагона, а люди стоят, мешают… Как бы вел себя тут Супонев, а? А вот как! И, весело задрав голову, супоневски улыбнувшись людям, я Женькиным жестом отодвинул препятствие, супоневским тенорком вякнул: "Вы не выходите? Разрешите тогда мне", - Женькиным манером прорвался на платформу и даже неслыханно надерзил собственному воспитанию: вагонно-миловидной девушке на ходу пожал приветливо локоток, бухнув ей в почти родимые очи: "Добрый день!" И вмиг расстался с этой своей супоневидностью, сбежал от стыда, смешался с толпой. Я втянулся в игру. Я всюду подставлял под "удары жизни" спасительную, вертлявую, прекрасную спину Евгения Супонева. Два месяца каникул сплошь усеяны Женькиными веснушками… Откуда-то вырвалась на волю невиданная энергия. Я играл в волейбол, как никогда, был подвижен и остроумен, как никогда, прочел бездну книг, исполнил весь долг второкурсника по всем предметам и даже с опозданием на целую юность… выучился плавать в Москве-реке. Скучно перечислять все эти будничные достижения, но важно отметить, что для личной биографии "игра в Женьку" принесла нешуточную пользу: энергетический взрыв у "парникового" городского отрока.
Я ни с кем не поделился своей бедой, мне вполне было достаточно самого себя, то есть человека, с кем проходила моя война. К исходу августа, неудачник и вольнослушатель, я был так занят делами, что вопрос надвигающейся тревоги отодвинулся как бы на Камчатку. Вот главные заботы: дочитать Гюго и Драйзера, описать в дневнике мысли по их поводу, отработать удар по мячу над сеткой способом "крюка", не влюбиться по уши в недоступную девушку Наташу и доиграть в лесу - один на один… Мартина Идена. В Джеке Лондоне собралось множество ответов на собственные вопросы бытия. Я обработал лесную березовую "трость", придумал Идену тембр голоса, манеру глядеть исподлобья, симпатичное прихрамывание и, не расставаясь с книгой, двигался по тропинкам смешанного леса, имея перед собой всех персонажей книги, которых шумно убеждал, опровергал и повергал в смятение.
В сентябре Театральное училище им. Щукина впустило студентов в очередное плавание. Не задержусь на особенностях моей встречи с курсом, потороплюсь описать событие. Товарищи мои были веселы и беззаботны, руководитель курса серьезен и недоступен. Меня, разумеется, не замечал. И вот первое занятие по предмету "мастерство актера". Светлая аудитория. Вдоль стен и окон расположились на стульях товарищи. Во главе этой буквы "П" - Этуш, "патрон" (как сказал бы Мартин Иден). Занятие проходит живо, "дети" делятся с "папой" летними происшествиями. Шутки, хохот. Меня здесь как будто нет. Но когда педагог задает тему и задания на послезавтра - я весь внимание. Тема называется "Наблюдения". Класс разбит на "пятерки". Моя группа должна наблюдать за людьми, которые пишут. Ничего не сочиняя, ничего не изображая, выбрав двух-трех интересных типов, проследить их манеру писать (письма, заявления - что угодно) и показать на следующем занятии как можно более точно. Я, помню, обрадовался конкретности дела, вмиг пропало вязкое чувство чужого праздника. Конечно, кто-то заявил, что это, мол, детское задание; Женя Супонев вызвался тут же показать пару десятков (или сотен?) подобных типов, но Этуш предупредил, что в этих вещах обман очевиден, сцена не терпит вранья и т. д.
Конечно, для полноправных студентов полениться, продлевая каникулы, - святое право. А мне уповать было не на что, срок моего условного "вольного слушания" - один семестр… И я бегал целый день по Москве, аж искры из глаз. Теперь-то ясно, что меня особо подстегивало. Я ведь не собой, а другими был занят. И я пропадал целый день на почте, на телеграфе: искал занятных пишущих людей.
Типов обнаружил роскошных. Одна старушка стоя писала текст телеграммы, забавно аккомпанируя себе отставленной левой ножкой. Другой человек после каждой фразы, ставя у себя точку, довольно шмыгал носом. Третий широко открывал рот и улыбался по мере завершения письма. Четвертая - то жмурилась, то шептала, то язвительно хихикала - словно вела активный спор с собственным сочинением. Пятый стал моим любимцем. Далеко оттопырив верхнюю губу, он ею часто-часто двигал по воздуху, в совершенстве подражая движению пера. Самописка доводила строчку до правого края, и его "самогубка" четко убегала вправо… Он ухитрялся губой подражать черточке переноса, точке с запятой и даже вопросительному знаку.
Наступил день расплаты. Записная книжечка испещрена заметками, я вооружен до зубов… гм, до "губы". Этуш взимает оброк. Студенты, кроме двух-трех аккуратистов (вроде Юры Авшарова и Люды Максаковой), не работают, а "отбояриваются". Один за другим вызывается, подымается, отчитывается и садится на место весь курс. Где-то ближе к краю сижу я. Состояние - вполне понятное. "Смехов!" - назвал потусторонним голосом мой учитель. Я выхожу. Занудно докладываю, где был и кого наблюдал. Этуш холодно ожидает конца. Но во мне живут и требуют выхода мои милые облюбованные типы. Я показываю старушку - вернее, ее ножку. Вот тут она пишет, а тут вот эдак… - показываю второго…
Маленькое отступление. Подробно следуя системе Станиславского, верой и правдой служа имени Евгения Вахтангова, наше училище отдельной, особой страстью любило третьего кумира. Кумир сей - юмор. За его отсутствие бывал горько наказан любой талант. Без юмора нельзя было ни репетировать, ни играть, ни существовать. Зато копеечная, но смешная выдумка награждалась овациями. Ерундовый, но остроумный трюк ценился чуть ли не выше целой роли. Эта молодеческая "религиозность", наверное, грешила избыточностью. И высокомерные мхатовцы-студенты с удовольствием язвили на тему "щукинцы - показушники"…
Стало быть, в описываемое время доказать успех работы, допустим, по разделу "Наблюдения" можно было только через юмор. Что же касается Владимира Этуша, то он почитался щукинцами едва ли не самым остроумным педагогом, а еще через десять лет и вся страна полюбила в нем комедийного "кавказца".
Итак, я покончил со старушкой с ножкой, перешел к старичку со шмыгающим носом. Дяденьку с губой-"самопиской" держу про запас. Впрочем, педагог имеет право прервать и недосмотреть. Я тороплюсь. Ребята, полные сочувствия, хорошо почуявшие в аудитории запах "пороха", дружно смеются и перебегают глазами с моих "типов" на Этуша. Я через час имел подробную картину матча. Мне рассказали, что старушку восприняли неплохо, а Этуш - ноль внимания. Второму типу засмеялись охотнее, а Этуш - ноль внимания. Третью чудачку мою встретили искренним гоготанием, я совсем разошелся и поглядывал только на друзей… На чудачке Этуша что-то удивило, он поглядел на дружную веселую команду питомцев и, кажется, подняв брови, сотворил силуэт улыбки. Это оживило ребят, они стали гоготать, может быть, больше, чем я заслуживал. И от радости, что меня не сажают, не перебивают, я заявил своего любимца с губой. Страсть моя к этому "виртуозу" одолела всякую застенчивость, мне просто необходимо было поделиться своим наблюдением. Говорят, смеялись все. Смеялись самые скучные. Хохотали ценители юмора. Смеялся даже я сам. Но в разгаре разбега моей губы-"самописки" комната огласилась характерным резковатым смехом Этуша…
Таких случаев на памяти моих коллег, должно быть, десятки. Я хочу лишь на своем примере подчеркнуть итог некоторого самообразования, некоторой борьбы с самим собой. И для тех, кто понимает толк в дружбе, поклясться в верной, вечной любви к полному списку того второго курса, которому премного обязан "последующими десятилетиями"…
"Что же за всем этим следует? Следует жить…" Я написал в давнишней статье, что наше училище - лучшее в мире. Объяснил исчерпывающе: мы учились возле Арбата (старого) - это уже аргумент; Театр Вахтангова - серьезный аргумент: у нас высшего качества юмор, педагоги, красавицы, методика и традиции…
Теперь стал старше и слов на ветер стараюсь не бросать. Теперь не скажу: "Наше училище - лучшее в мире". А скажу так. Если была когда-либо идеальная театральная школа, то это именно наша, образца 1950 - 1960-х годов. Атмосфера нашего обучения словно исключала возрастные различия. Все щукинцы были равно молоды - от шестидесятилетних Мансуровой, Львовой или Захавы до семнадцатилетних первокурсников. Исключение составляли, может быть, только завхоз Майборода и тов. Серебрякова из учебной части - постоянные герои эпиграмм и шутливых зарисовок. Мы гордились даже специальным подбором кадров в училище: осветитель по фамилии Слепой, пожарник - Горелов, а буфетчица - Неелова.
В конце 50-х - начале 60-х годов в вахтанговской школе была такая атмосфера, из которой мог произрасти "праздник игры". Первый элемент или составная часть ее - взаиморасположенность. Во многом опять-таки "виновата" весенняя погода в общественной и культурной жизни страны. В описываемое время резко изменялись репертуар, стиль постановок, даже социальная обойма персонажей. Вместо трубоголосых генералов от всех инфантерий по сцене заходили, заколобродили обыкновенные люди с их заботами. Первые пьесы Розова, первые спектакли Эфроса! Повеяло озоном после грозы, очищались легкие у творцов и очевидцев. На этом фоне - как хорошо быть студентом такого прекрасного института!
Ритуал "посвящения" первокурсников. Дипломники раздают каждому по гвоздике. Объясняется: это любимые цветы Бориса Васильевича Щукина. Отныне через все обучение пройдут имена учителей и корифеев сцены. Отмечу важное: близким людям Вахтангова, Щукина, Горюнова - всем, кто теперь вошел в историю, было в то время каких-нибудь бодрых пятьдесят с небольшим лет. Рассказы о Мастерах постоянно шли во время занятий и в коридорах. Связь времен оживала, крепла, звенела смехом. В соединении юмора и цепкой наблюдательности рождается мимолетный рисунок случая. Опытные актеры-педагоги показывают мастерски, рельефно, гравюрно - животики надорвешь. И надрывали. Без "показа", актерского анекдота, поддразнивания знакомых лиц не проходила ни одна репетиция.
Вахтанговской школе на роду было написано стать генератором игрового зрелища. В аудиториях штудировали элементы "системы". По крупицам складывали и шлифовали образы персонажей. Учились: каждый человек носит в себе неповторимые особенности. Как их выразить, как повторить? Внутреннее содержание раскроется не раньше, чем ты, актер, вникнешь в мир героя, его мыслей, его биографии. Но человека отличает богатейшая картина внешних проявлений. И студентам задают на дом, а потом их проверяют на занятиях: как твой тип топает по улице, как дышит, как говорит, как держит голову, как смотрит на партнера. Из этих кропотливо отобранных маленьких "как" в случае везения, а точнее, в случае труда и таланта, вырастает конечное наиважнейшее - способ существования на сцене. Унылая грамотность, бесцветное правдоподобие - отвергнуты. Театру потребны особые, немаловажные, обобщенные и совершенно оригинальные - при абсолютной достоверности! - образы. И студенты-щукинцы из аудиторий в коридоры переносят удачно скопированные походки, гримасы, акценты и говорки… Училище гудит от показов, зарисовок… Мансурова говорит: "У нас самая счастливая профессия! Мы можем работать постоянно! Я лучше всего готовлюсь к роли, когда еду в троллейбусе". Пороги, разделяющие часы занятий и отдыха, стерты. Наш объект - весь мир. И мир этот - оглушительно интересен. Мы репетируем "Недоросля" Фонвизина. Педагог - Е.Г.Алексеева (та, которую до небес вознес в статье об ее Виринее сам Луначарский). Многие хнычут: Алексеева скучна, она не умеет показать. А я доволен. У педагога те же задачи, но метод новый: не "собою" изображать, а словами, подсказками "наводить" на образ. Она требовательна и добра, красива, женственна, чуть вальяжна в работе, речь ее протяжна, и очень хорош - почти из А.Н.Островского - ее язык. Я репетирую Вральмана. Алексеева, ухватившись за малейшую смелость в моем показе, за миллиметровое заострение рисунка, подбадривает рассказом… Только что вышел спектакль "Идиот" у вахтанговцев. Ремизова - постановщик, Алексеева - режиссер, Гриценко - князь Мышкин.
- Как он интересно нас всех замучил! - восклицает Елизавета Георгиевна. - Все ползком крадутся поначалу, присматриваются, прислушиваются. А Николай Олимпиевич на вторую репетицию приходит: "Вот я такого типа заметил…" И вдруг сморщился, съежился - пошел по комнате. Ремизова обрадовалась: "Отлично, это Мышкин! Давайте его сюда". А он: "Нет, а еще вот какого я видел. Кажется, тоже хороший…" И опять удивляет всех совсем новым, но совершенно точным, как будто мы его сами только что видели на Арбате. "Стоп! - кричит Ремизова. - Это готовый князь. Давайте его сюда". А Гриценко назавтра еще трех типов - и все разные, и все, понимаете, годятся! Но за этими зарисовками - бездна труда, отбора, верного глаза… ну, и таланта, конечно же…
Важнейшее достижение школы - самостоятельные отрывки. Сегодня это уже заимствовано и другими теавузами, тогда это было нашим "специалитетом". Рядом с текущими, выписанными на доске работами с мастерами - собственный выбор, личный вкус, своя режиссура и свой особый день. В этот день в зале показа - не продохнуть. Педагоги кафедры мастерства актера сидят широко, в глубине нашего гэзэ (гимнастического зала) на возвышении. В центре - вечно бодрый, динамичный, отутюженный и румяный, любимый всеми директор Захава. Слева и справа от него - его соратники и сотоварищи по вахтанговству 20-х годов, наши учителя… Только что здесь бывал, да покинул стены училища и Рубен Симонов. Расхождения и распри между двумя ветеранами тщательно скрываются, но результат их очевиден и печален. Захава, поставив "Гамлета" с Астанговым, покинул театр. Рубен Николаевич, выпустив отрывки на французском языке на третьем курсе, хлопнул дверью училища. Его дом - театр, у Захавы - училище. На том и расстались. Однако вернемся к самостоятельному показу. Сцена в гэзэ не имеет подмостков, но кулисы и занавес на местах. Зал обширен. Много окон. Вдоль окон и стен - станок, то есть длинный шест для занятий танцами. В левом заднем углу, у входа - рояль. Правая стена отгорожена длинной черной портьерой, идущей от комнаты № 30 (где готовятся на выход) и до правого входа на сцену…
Вы вошли в гэзэ. Темно, но яркие фонари высветили занавес. Справа от вас, по стене, примыкающей к двери, бежит до потолка шведская стенка: днем этот зал расписан до минуты, в нем учатся танцам, сцендвижению, фехтованию и просто физкультуре. Между кафедрой и сценой - рядов десять стульев. Наш гэзэ для непросвещенного посетителя - уродлив по форме. Он сплющен в длину зрительного зала, зато сильно разбежался в ширину: как города вдоль Волги. Если вам не занято место, прибейтесь хоть к двери, а то вас сомнут. Студенты не деликатничают в такие дни: кто успел, тот и сел (даже на уши другого студента). Обратите внимание: на шведской стенке, как нотами или птицами, уже все забито публикой. Снизу доверху. А слева, а везде? А шуму-то, шуму! Но постучал в ладоши, звякнул звоночком дежурный старшекурсник - все утихло. "Начинаем показ самостоятельных работ студентов второго курса. Художественный руководитель курса - и.о. доцента Владимир Абрамович Этуш!" Всё тихо, все в ожидании чудес. Одна непослушница - занавеска справа. Она шуршит, морщит, за нею пробегают на выход, там - магия кулис, там царят дрожь в коленках, нервный шепот и бесконечные "ни пуха ни пера! - к черту! - иду!". И они выходят. То есть мы. К черту в пекло - на публику. Диапазон этих вечеров - безграничен. От нелепых провалов одних до сказочных взлетов других. Подражательство и чепуха, комическое и слезы - все тут. Здесь сильно раскаются те, кто плохо подготовился, кто поверил в либеральное увещевание педагогов: "Самостоятельные отрывки - это необязательная вещь. (Врут, необходимейшая…) Оценок вам никто не ставит (неправда, еще какие)… Выводов никто не делает (ложь, и выводы, и выходы - все отсюда)… Наша традиция - отмечать только положительное в самостоятельных показах (так я тебе и поверил), да, только положительное. Кафедра ставит две отметки. Высшая - "плюс", другая - "поощрение"…" Зато удача в выборе и исполнении роли, малейшие признаки фантазии, игры, красок и мастерства - стократ отблагодарятся. Я думаю, что самым одаренным в эти дни является зрительный зал. Я уже много с тех пор побывал и в институтах, и в школах, и за границей в подобных же заведениях (не говоря уже о самих театрах): такого отзывчивого зала я не встречал.
Это ведь очень понятно: училище соединило людей только по признаку жажды, и на этой ступени театра никто никого локтями не теснит. Всем места хватает, прочь зависть, наушники и подхалимы; нам жить вместе только четыре года, и мы зависим друг от друга таким образом, что каждый каждому только в помощь, а в преграду никто. Это дальше - когда за зарплату, когда в старых театрах - там будет все… да. А здесь - учеба, бескорыстное сотрудничество и праздник игры. Конечно, для тех, кто работает. Идут иногда споры на тему: что важнее - труд или талант? На это мудрый учитель выдает байку: "Рубен Симонов и Борис Щукин давно-давно сидели как-то в театре и оба вздыхали… "Эх, Борис-Борис, - говорит Рубен, - мне бы твою работоспособность - я бы таким артистом стал…" А Щукин ему в ответ: "Эх, Рубен-Рубен, мне бы твой талант - я бы таким артистом стал…"
Вот и судите сами… Живые рассказы живейших участников истории любимого театра. Цвет преподавательского состава - это не педагоги из числа неудачников сцены, а лучшие из актеров этого театра, обладающие передаточным даром учительства. Наш список учителей громок и горделив: Ульянов, Этуш, Андреева, Любимов, Синельникова, Шухмин, Борисов, Катин-Ярцев.
Учителя…
Борис Евгеньевич Захава
Цитирую собственную запись в дневнике 1961 года:
"О нем писать трудно, как и о Новицком: и с тем и с другим я и теперь поддерживаю живую связь, уже "без связи" с училищем. Сначала это был просто всесильный и единственный. Затем, после многих занятий с ним, - земной, обаятельный человек коренастого вида. Затем Педагог № 1. Затем - тот, от которого многое зависит… А уже на старших курсах - любимый, осознанный и "свой" Борис Евгеньевич. Даже для некоторых упрощенно и уважительно: "Боря".
До революции - кадетский корпус, коммерческий институт… кстати, наши преподаватели пластики часто ставили в пример Б.Е. - его лаконичный, всегда оправданный, всегда изящный жест. Самое поразительное состоит в том, что он никакой не администратор. Его твердое "нет", зафиксированное канцелярией, при наличии слез и жалостливых слов можно запросто поменять на "да". И этим безошибочно пользуются десятки поколений щукинцев (в основном дамского пола). Несмотря на известный риск, именно он, Захава, протянул руку помощи замечательным специалистам: и вот изгнанный проректор Литинститута П.И.Новицкий - профессор Училища им. Щукина, а бывший соратник С.Михоэлса и директор школы ГОСЕТа М.С.Беленький - доцент кафедры марксизма-ленинизма, одни из самых лучших, дорогих педагогов. Когда-то Б.Е. перемещали с поста руководителя школы, но ученики тех лет свидетельствуют: ничто практически не менялось, Захава оставался неназванным главой училища.
Самый большой подарок студенту - это увидеть хохочущего Захаву на показе отрывков. Не забуду, как бегают в гэзэ наши глаза - со сцены на Захаву. Потрясающе хохочет. Краска заливает его лицо сразу, в мгновение ока. Одновременно он выбрасывает короткие энергичные руки на стол и так резко перегибается головою назад, через спинку стула… аж страшно: не упал бы. Потом вытирает глаза безукоризненным платком, а лицо все еще румяное, как крымское яблоко. Когда Саша Биненбойм, играя Сганареля, упрямился соврать, что он лекарь (в "Лекаре поневоле" Мольера), и когда его, по наущению жены, Авшаров-Лука лупил бревном по хребту, а он все твердил "не лекарь, не лекарь, не лекарь…", вдруг количество ударов перешло в качество "прозрения", и Саша, не меняя лица и голоса: "Не лекарь, не лекарь… Лекарь я! Лекарь!" - твердо нашел спасительное слово - я видел, как грохнул зал (и сам я грохнул), какой восторг прокатился по рядам, но даже спиною, кажется, я бы отличил реакцию Захавы. Он отдавался хохоту вдохновенно, он трудился всем телом, его спасали только ноги и хорошая устойчивость на земле…
Через десять лет в день семидесятипятилетия Бориса Евгеньевича Захавы на пятом этаже училища в знаменитом гэзэ состоялся большой семейный праздник щукинцев. Заканчивался один из первых сезонов "Таганки". Я зычно поздравил ветерана-вахтанговца, не скрывая романтического пафоса таганковского представителя:
Друзья мои! Прекрасен этот вуз! Он как Арбат неповторим и вечен. Привет тебе, Борис-профес-КутузИлларионович*, Евгеньич! Пока Захава здесь, я не боюсь: Нехай он над "системою" колдует, Наш вуз - козырный туз, и, значит, в ус Не дует! Подхалимажа за собой не зная, Клянусь быть искренним, покуда цел: Люблю грозу в начале мая И день рожденья ректора - в конце. Блюстители чиновного порядка Играют мимо нашенских ворот! О щукинцы! Рубите правду-МХАТку Во имя славное Принцессы Турандот! Быть молодым всегда красиво, Особенно, когда ты где-то стар… Мой милый маг, моя Россия**, Благослови сей Борин дар!..…Когда я служил в Куйбышевском театре, мы переписывались. Борис Евгеньевич отвечал подробными наставительными письмами. Но он был на Олимпе, а я - на земле. И мне тогда показалось, что и он, и я одинаково одиноки, хотя проживаем на разной высоте. Впоследствии жизнь не стояла на месте, что-то менялось в людях и… в богах. Сегодня грех судить нашего старого классика. О чем-то, пожалуй, стоит молча пожалеть. И я сожалею о превратностях и метаморфозах, хотя ностальгически верен образу Педагога № 1 Бориса Захавы. В конце 1976 года он умер. Низко кланяюсь памяти и имени его.
К ритуалам того времени надо прибавить отношения между курсами. Никто этого не объявлял, это сложилось само собой. Для первокурсников с момента получения первой гвоздики и до июня следующего года дипломники (все поголовно) суть первые люди, прекрасные актеры. Все, что они делают, как играют, что говорят и во что одеваются, непогрешимо, некритикуемо. Конкретное приложение ритуала - дипломные спектакли. Если третий и четвертый курсы в порядке спецпрактики участвуют в спектаклях Театра Вахтангова (массовые сцены либо даже роли), то первокурсникам доверена учебная сцена. Наше училище делит ее с Оперной студией Консерватории. И вот я в числе пятерых-шестерых "рабочих сцены" являюсь перед спектаклем "Чудак" Н.Хикмета, надеваю что похуже и… "раз-два - взяли…". Белые оперные балюстрады уносятся, расставляются декорации, мебель, подвязываются задники, вешаются кулисы-заглушки, их придавливаем грузиками кило по пятнадцать каждый… В 19.30 - пожалуйте. Наш помреж Юра Авшаров дает звонки, и спектакль пущен!
Публика любит учебные спектакли - за свежесть лиц и голосов, за возможность угадать судьбу и просто за театр, за праздник игры. А мы в эти редкие, но горячие вечера "пролетарского труда" успеваем тоже полюбоваться. Замечательно, по-моему, играет Вася Ливанов - смешно, темпераментно, остро. Очень хороша пожилая характерность у Алика Бурова. Красива и правдива героиня - Кюна Игнатова. Очень здорово играет харкактерную героиню Маша Пантелеева. Смешно поет, слегка наигрывает, но все равно нравится Дима Гошев. И очень приятен, обаятелен сам главный исполнитель - Вася Лановой. Это курс И.М.Рапопорта, а Вася - с курса Мансуровой, но он пропустил много занятий из-за съемок в "Павле Корчагине", и его наказали, оставив на второй год. Наказание это вышло сомнительным: Вася уже играл в Вахтанговском театре приличные роли, и Назыма Хикмета в училище также можно причислить к подаркам. Ну вот простое свидетельство иерархического ритуала. Я встречаю Ланового и сегодня. Разница в возрасте за много лет благополучно стерлась. Знаю, что это совсем другой Вася. Но если неожиданно увижу его, инстинкты первокурсника мгновенно оживут: я снова мальчишка, а Вася - мастер. И не только это: чего стоил фильм "Аттестат зрелости" с его главным героем. И не только он. А как блестели глаза щукинцев, когда из Парижа вернулась Татьяна Самойлова и они с Васей шли, накрепко обнявшись, - муж и жена, одна сатана. Таня была божественно хороша, она воплощала собой победную комету - юную и неслыханно знаменитую. Она привезла из Франции "Золотую пальмовую ветвь", ее узнал мир, так высоко оценивший фильм "Летят журавли"… Поэтому, когда Лановой выходил на сцене в "Чудаке", меня покидало всякое критическое начало.
Самым любимым зрелищем тогдашнего выпуска был их самостоятельный спектакль "Три толстяка". Тут повезло курсу: и актерских талантов много, и свои режиссеры-непоседы, и художники. "Толстяки" Юрия Олеши вышли озорные, яркие, фонтанные, как разрисованные шары у одного из героев. Самым совершенным было исполнение роли доктора Гаспара Арнери Павлом Сорокиным. Наш Паша не был добряком, как его герой, но он тоже прожил невезучую жизнь: сиротство, голодное детство, война. Он был дьявольски талантлив и не умел врать на сцене. Доброта его доктора получилась воинственной, лукавой, едкой, захватывающей. Да простят мне кинофилы, но подобное мне увиделось только через много лет у Пазолини: иссушающая, беспощадная доброта его Христа в "Евангелии от Матфея".
Учеба выигрывала от ритуала. Нас обучали в классах. Нас обучала работа в дипломных спектаклях. Нас обучали посещения Театра Вахтангова, сама обстановка в кулуарах и традиции внимания старших к младшим. Готовую сценку принято показать тому, кому доверяешь. После своих занятий старшекурсники заходят к младшим, и до поздней ночи творится братская акция помощи. Павел Сорокин, переодевшись и снявши грим, двигаясь к дому по Арбату, продолжал невольно процесс моего обучения - в простой беседе. Изредка случаются - и бывают очень полезны - смешанные курсовые работы. Скажем, когда я учился на третьем курсе, младшая студентка Оля Яковлева предложила сыграть вместе отрывок из книги Лескова "Обойденные". И на показе второго курса я выступил представителем "старшего поколения", мы оба получили по "плюсу" - высшему знаку показа. Кажется, отрывок оказал услугу обоим участникам. Я играл некоторое подобие князя Мышкина. Для Яковлевой героиня Лескова подсказала выбор в пользу драматических ролей, а не инженю. Мне очень хорошо было смотреть спектакли А.Эфроса, где играла Оля. К 70-м годам она выросла в отдельное, высокопрофессиональное, уникальное явление сцены. Однако, признаюсь, что-то вроде гордости во мне застряло, и к законному зрительскому восхищению примешивалось эдакое двоюродное чувство семейного братства. И все, что между нами случилось позже - разочарование, потрясения, вражда, - не может вытеснить из памяти образ трогательной лесковской героини.
Почему столь важны самостоятельные работы? Помните, как обучают плавать или водить автомашину? Как бы хороши ни были уроки теории или даже практические занятия под тренерской опекой, ученик никуда не годится, пока лично сам, без надзора и контроля, не забарабанит по водной глади, не зарулит баранкой в городском потоке.
Два завета К.С.Станиславского особенным образом запомнились со школьной поры. Первый: учитесь и живите на сцене по "системе", верьте ей и слушайте ее до тех пор, пока не пришло вдохновение. Второй: любое накопление знаний в театре, рациональное построение здания роли или спектакля - все посвящено тому моменту работы, который непознаваем. Акт творчества - торжество подсознания. Завет Учителя краток: через сознательное к подсознательному.
А вот одно из наших застарелых предубеждений: "Чем наивнее, доверчивей человек театра, чем он дальше от заумных самокопаний, тем он выше по своим возможностям". Так гласит предубеждение. Оно идет дальше: "Рационалист" не может стать настоящим артистом". И оно доводит до абсурда: "Чем глупее актер, тем он подвижнее, неожиданнее в проявлениях своего таланта…" С первого дня театральной школы до сегодняшнего момента я слышу эти рассуждения. Опыт и ведомственный мусор накапливаются одновременно. Боязнь "рационализма" не только заслуженно оглупляет драматических актеров. Она приводит к искусственному инфантилизму. Она оправдывает невежество, неначитанность, серость. Любимов часто повторял слова А.П.Чехова: наши актеры, мол, отстали от жизни на семьдесят пять лет. Это шла речь о больших актерах Московского Художественного общедоступного…
Мне повезло в училище: я попал в круг интересных, думающих людей. Мы проталкивались на "Лису и виноград", когда ленинградцы гастролировали в помещении Центрального детского театра, открывали для себя первые спектакли "Современника", вечера старинной музыки, первые московские концерты Рудольфа Керера, номера "Нового мира", "Юности"… Потом в доме на Якиманке, в сутулой комнатке коммунального жителя Саши Биненбойма, меж чаем и проигрывателем, успевали интересно поорать друг на друга, дискутируя и формулируя.
Ада Владимировна Брискиндова
Уроки французского языка. Любимый учитель. Высокая, с несгибаемой спиной, высший класс выдержки, поведения, речи и - совершенно свойская, почти простецкая манера общения со студентами. В аудитории - дистанция и "минус двадцать по Цельсию"… Вблизи - искренняя, добрая, с крайней заинтересованностью именно в твоей судьбе, в твоей персоне. Наиредчайший случай: не актриса, не педагог по мастерству, ни разу не перейдя черты компетентности вмешательством в "кухню профессии", она оказывала невольное влияние не только на твое поведение, на образ мыслей, но и на все твое профессиональное развитие… Замечательно интересны все ее работы с французскими отрывками. Она давно махнула рукой на актеров в отношении изучения грамматики. Зато мелодику речи, изыск оборотов, законы звучащего языка ей удавалось внушить вечно зеленому, беспокойному племени студентов. На нашем курсе она ввела новый предмет - манеры поведения. Это было адски интересно. Что надо быть вежливым, пропускать впереди себя даму, помогать ей и старшим надеть пальто, снимать шляпу, держать в левой руке вилку при еде и проч. - это мы знали (даже если и не выполняли). Но Ада Владимировна, внешне обманчиво педантичная, холодно-аристократичная женщина, на самом деле увлекла всех захватывающей игрой. И смысл игры оказался самым что ни на есть театральным: все знаки "правильного поведения" гроша медного не стоили без их органичного "незаметного" воплощения. Да, снять шляпу на улице. Но так, чтобы прохожие не испугались, что ты ее снимаешь вместе с головой. Да, уступить место кому-то. Но так, чтобы тот не чувствовал себя виноватым перед "уступателем". Да, вилку в левую руку. Но так, чтобы правая при этом не обливалась слезами ревности. Ну, словом, мы трудились - всерьез и со смехом - над естественностью любого "культурного" шага. Благовоспитанность не должна быть надменной, чопорной. Аристократ, на лице которого написано презрение к "черни", - самозванец. Благовоспитанность сродни благозвучности - она не может раздражать. Оля Яковлева рано вышла замуж. Она жила весьма обеспеченной жизнью. В эпоху нашего обучения и в одежде, и в косметике, и в украшениях преобладала скромность. Обеспеченная студентка выделялась резко из числа своих подруг - и тем, как велик был ее гардероб, и тем, как хороши были разнообразные украшения. Но разве она виновата в чем-либо? Ведь это ее вещи! Ведь они ей, кстати, вполне к лицу! Нет, мягко возражает Ада Владимировна. Не замечать окружающего, находить удовольствие в "первенстве" среди равных тебе людей не "благозвучно"…
Вскользь упомяну о совершенно оригинальных работах-этюдах с костюмами на заданную музыкальную тему. Наш новый учитель, преподаватель истории костюма Ирина Ипполитовна Малыгина, женщина внешней и внутренней безукоризненности, соединила три предмета в этих этюдах. Я помню музыку Вагнера из "Тангейзера", где по законам поведения той эпохи, по законам моды и ритмического движения фантазировалась сценка из рыцарских времен. Нам помогали и Ада Владимировна, и незабвенный педагог по музыкально-ритмическому воспитанию Вера Александровна Гринер. Уроки, далеко превосходящие "предметное", узкое назначение…
Уроки французского языка или "манер"… Но главным уроком на будущее оказалась личность Учителя.
Дина Андреевна Андреева
Все, что играет Дина Андреевна - эпизод либо роль, - полно яростного жизнелюбия, озабоченности делами персонажа, партнеров, каждого зрителя в зале. Она заходит в аудиторию, а вместе с ней влетает вихрь. Все беспокойно вокруг нее, и студентам трудно лениться в присутствии такого концентрата энергии. Ее репетиции (я дважды работал с ней - в "Школе злословия" и "Бериакском цирюльнике") отличались необычайной дотошностью, пристрастием ко всем мелочам сцены. Она не очень складно формулировала преамбулу дела, но само дело знала весьма крепко. Сто потов сойдет со студента, прежде чем Андреева даст ему дойти до конца отрывка. Она заставляла нас быть правдивыми без сучка и задоринки. Она словно забывала, что перед нею не готовые артисты, а студенты. Но борьба за правду, психологическую достоверность на ее занятиях была столь увлекательна и честна (изредка она могла грубовато прокомментировать чью-то тупость), что все это напоминало хорошую спортивную игру. "Здорово, братец, как твои дела?" - вот и все, что вы говорите у двери - но Андреева не сойдет с этой реплики, пока в вашем голосе и в вашей пластике не сольются воедино биография образа, биография дня, отношение к "братцу", ясность зрения, точность оценки места, куда он вошел, и проч. Загоняет, замучает - но не ради ли подобных мук мы пришли под эту крышу? Вот и отличие педагогического отрывка от самостоятельного: в последнем непременно осваивается результат, все посвящено результату, а в педагогическом отрывке главнее всего - процесс работы. И если автор процесса, тренер или дрессировщик, столь же самобытен, талантлив, ворчлив и безжалостен, как Дина Андреевна Андреева, учеба не пройдет даром. И сто потов от муштры глубоко врежутся в профессиональную память. Я не преувеличиваю суровости процесса, я могу лишь посожалеть о том, как снисходителен и бесполезен иной метод обучения драматического артиста. "Тяжело в учении - легко в бою" - сказано Суворовым не для красного словца.
Нас учили педагоги, книги и личные наблюдения. Художник в те годы был носителем общественной мысли. Это прозвучало тогда в фильмах Калатозова, Ромма, Чухрая, в спектаклях Театра "Современник" "Вечно живые", "Два цвета", "Пять вечеров" и т. д. Помню оживленное собрание с чересчур звенящим заголовком: "Готов ли ты жить при коммунизме?" Выступило человек пятнадцать. Сетовали на вялость сердец, вздыхали о поколении отцов-фронтовиков, ругали комсомольское бюро за недостаточную активность. Юра Авшаров запальчиво возмутился "дешевой традицией" непременного спутника вечеринок - алкоголя. "Старшие" Шлезингер и Новицкий итожили и делились мудростью. Шлезингер рассказывал о том, как недавно с вахтанговцами посетил Раменский народный театр. Вагоноремонтники, слесари и монтеры после работы бегут в театр - чистить души, просветленно творить искусство.
Другой вечер - у нас в гостях совсем молодой, но очень известный поэт Евгений Евтушенко. Бритая голова, напористая жестикуляция, прекрасные стихи о станции Зима, о тревогах и надеждах нового поколения.
Третий - памяти Веры Комиссаржевской. Навзрыд читает Блока Цецилия Львовна Мансурова.
Вечер Екатерины Полевицкой, которая после долгого забвения приглашена вместе с Алисой Коонен в наш Театр им. Вахтангова. Гордая и красивая, без тени тщеславия, Полевицкая ведет рассказ о жизни императорских театров. О ревности к ней, молодой и успешной, со стороны корифеев Александринки. Великая М.Г.Савина принесла много горя юной коллеге. Полевицкая играет сцены из Б.Брехта, Л.Толстого. Мы замираем от невиданного: чужая школа, незнакомые приемы игры, но какой талант! Как глубоко и как по-русски страдает эта потрясающая героиня старой Александринки!
Но самое сильное впечатление - от истории с ролью Катерины в "Грозе". Полевицкой не давалась роль, и она пошла на психическое испытание. В старом доме были спрятаны письма от бросившего ее возлюбленного. Она поехала туда, нашла письма, осталась наедине с ними, пережила потрясение, чтобы ее второе, актерское "я" могло холодно, жестко контролировать правду чувств. Роль Катерины прославила Полевицкую, но никто из зрителей не представлял себе той цены, что заплатила актриса за успех.
Я вспомнил эпизод из жизни В.А.Этуша. Вдали от Москвы на гастролях он получил телеграмму о смерти матери. Рубен Симонов отпустил его только на день. Молодой актер вернулся почерневший и чужой для всех окружающих и замечательно играл в шекспировской комедии…
Владимир Абрамович оказался для меня - хотел он того или не хотел - великим воспитателем. Он встряхнул всю жизнь, сбил с ног домашнее чувство благополучного прозябания…
Наш курс любил, уважал и побаивался В.А.Этуша. За глаза мы называли его "Безо" (от слова "безобразный") и "Крок" (от слова "крокодил"). Через двадцать два года после окончания училища мы встретились семьями в августе, в мой день рождения, в санатории г. Пятигорска. И Этуш миролюбиво сообщил мне, потрясенному: "Да я знаю, как вы меня называли: "Крок" и "Безо". Я спросил: "А вы знаете, какая из ваших фраз была у нас самой любимой?" - "Не знаю". - "Вы однажды потребовали, чтобы мы выдали вам имя студента, который в чем-то провинился. Мы молчали. И вы пригрозили страшным и спокойным голосом: "Полетят невинные головы". Мы были уверены, что это у вас - из фронтового прошлого. Мы ведь иногда величали вас "майор разведки", по вашему воинскому званию".
Атмосфера студенческой бесшабашности, соблазнительные парП бахвальства и самоопьянения - они меня "не достали": все-таки сильное потрясение на рубеже первого и второго курсов легло на сердце навсегда. Ни звезды с неба вахтанговской галактики, ни похвалы и "плюсы" на показах - ничто не могло заглушить отзвуков первого грома. Они долго приходили мне на помощь. Например, обуял меня страх перед выходом на сцену, кажется, все забыл - и роль, и смысл выхода… И тут на помощь является известный "шприц". Острым жалом по самые лопатки пронзает видение: Этуш протягивает металлическую руку, ты молишь о пощаде, он - ледяная гора, он роняет в центр твоего мозга смертельный приговор: "Ошибки бывают, но с вами это не ошибка. В математики!! В математики!!! В математики!!!!!" Стократное эхо разбегается по всему телу, взрывает остатки нелепого страха, и ты влетаешь на сцену. Радостно, жадно, благодарно - к зрителю, к партнеру, к этой судьбе.
На занятиях по теории мастерства актера Борис Захава однажды объяснил принцип актерской повторяемости чувств. Он произнес - "эмоциональное воспоминание". Пример: мать, потерявшая маленького сына, в день похорон плачет так, что сама может погибнуть от горя. И через много лет, приходя на могилку ребенка, она тоже плачет - безутешно и горько. Но эти слезы только очищают душу, через час она может быть спокойной и даже радостной. Поэтому знающий человек не удивится, если увидит изрыдавшегося на сцене героя - когда тот переоденется и переключится - веселым и счастливым.
Этот урок теории сгодился не только в практике игры на сцене, но и в "предыгре". Яркая, чувственная картина металлического рукопожатия шефа при исключении меня "из жизни" безошибочно электризовала, вселяла здоровую упругость спортивной злости.
Учителя…
Татьяна Ивановна Запорожец
Зав. кафедрой сценической речи. Беспощадная муштра согласных и гласных. На первых курсах она "заездила" нас своими скороговорками, распевками, упражнениями на дыхание и этим бессмертным, общесоюзноактерским: "Бык тупогуб, тупогубенький бычок; у быка бела губа была тупа". Попробуйте-ка это произнести со скоростью поезда. Не выйдет. И у нас не выходило, и мы недолюбливали придиру учителя. Но когда вдруг вышло, и задания ее стали шире, и каждый стал работать с ней наедине с отрывками из Пушкина, Толстого, Достоевского и Чехова - ее полюбили, потому что узнали.
Я много с тех пор занимался "художественным чтением" - и в театре, и на концертах, и на радио, и на телевидении. Позже я расскажу, как чуть было не ушел из актеров и что удержала меня и заставила поверить в свои силы именно поэзия, стихия стиха. Не было бы на Таганке поэтических представлений, не было бы, наверное, там и меня. Но этот случай - еще одно свидетельство работы Татьяны Ивановны.
Владимир Георгиевич Шлезингер
Любимый педагог - само изящество, фонтан остроумия, бездна знаний, идеальная музыкальность на фоне благорасположенности к вам и неудовлетворенности собой… Вспоминать о Шлезингере - это улыбаться и причмокивать от восхищения, как смакуют память о хлебосольном столе уникальной хозяйки. Выбором студентов в свои отрывки и спектакли Шлезингер оказывал им великую честь. На его уроки шли как на любовное свидание, как на соблазнительное приключение, на знаменитый концерт.
Каждая встреча со Шлезом (как непременно звали его щукинцы со второго, наверное, месяца учебы) - это встреча с изобретательным шалуном, автором словесных и сценических фейерверков. Наш дипломный "Мещанин во дворянстве" был, может быть, самым лучшим из его режиссерских изделий. Обижало нас лишь одно: почему Рубен Симонов не дает ходу такому обворожительному актеру, такому блестящему постановщику?
При всей своей искрометности, стремительности Владимир Шлезингер никак не почивал на лаврах. Он успевал быть добрым и чутким хозяином своего дела. Он умел быть и граждански рискованным оратором на кафедре, и отечески внимательным к капризам иных "индивидуальностей"… Я закончу личным фактом. Шел третий или пятый "Мещанин во дворянстве". Обстановка раскалена до предела. В зале кроме прочих неслыханно "важных" гостей - сам Рубен Николаевич. Это не только редкий посетитель института, не только тот, от кого зависела судьба кое-кого из дипломников (и, более того, судьба артиста Шлезингера), это еще и просто Рубен Симонов. На спектакле - усиленное дежурство рабочих, костюмеров, ассистентов, бдительности, страха, совести и т. д. Да, усиленное дежурство совести. Первый акт идет бережно и страстно. Зрители довольны. Мой первый выход в качестве слуги Ковьеля - в конце акта. По привычке, чтобы ничто не мешало собраться, я готовлю себя двумя этажами выше, в пустой аудитории. И именно в этот день, и именно я, столь нетерпимый к опозданиям и нарушениям (школа отца!), сорвал важнейшую сцену. Марш, на который я и Л.Упитер - Клеонт вылетаем на сцену, с перерывом в десять секунд повторяла Анна Осиповна, милейший концертмейстер, в третий раз. Дали непредусмотренный занавес! Паника и злость участников. Вдруг я влетаю за кулисы, занавес пошел, марш снова повторился… И я отважно, с бескровным лицом и с коченеющими руками, доиграл акт до антракта. Вокруг меня - пустота, словно возле прокаженного. Один Шлезингер зашел ко мне и, хотя мог чувствовать себя наиболее пострадавшим, наговорил мне изумительно бодряцким тоном кучу комплиментов, доказал чепуховость и незначительность моей вины, обласкал, напоил каким-то чертовым ситро… Спектакль окончился в тот день нормально.
Наш Мольер - замечательное детище Шлеза. Это стало еще понятней спустя много лет, когда постановщик сдублировал сам себя - создал своего "Мещанина" - на вахтанговской сцене. В спектакле играли мастера, вместо пианино звучал подлинный оркестр, сцена была украшена дорогими декорациями - никакого ученичества, никакой самодеятельности. И, осмелюсь вздохнуть, никакого Мольера. На дипломном спектакле катались от смеха и устраивали овации. В Вахтанговском театре на той же пьесе стояла почтительная тишина, разноображиваемая тремя-четырьмя взрывами смеха, аплодисментами за "номер" и т. д. "Мещанин во дворянстве" в Театре им. Вахтангова отнюдь не был копией с нашего представления. Он был самостоятелен. Но его воспитало академическое правосознание, а не озорство первооткрывателей.
Кстати, если кто там блистал и совершал свои актерские акции "впервые" - так это служанка Николь. Артистка Л.Максакова - после дипломного спектакля - выступила в этой роли. А артист Вл. Этуш мне очень понравился в роли Журдена… Повторяю, дело не в отдельных элементах: главного героя мог тогда же гениально сыграть Рубен Симонов или Юрий Яковлев… дело в том, что это нисколько не убавило бы основного - солидного, покойного чувства театральной значительности…
Итак, второй курс. Осенью - этюды на профнавыки. Один из важных элементов в характере человека - комплекс черт, выросших на почве его профессии. Умение проникнуть в мир труда персонажа, отбирать характерные детали - специфического проявления - твердая тропинка к психофизической разгадке образа. Здесь еще очень трудно удержаться от банального подражательства. Опасность непереоценимая, если на школьной скамье пропустить банальность, за молодое копеечное обаяние простить бациллу ранних штампов. И высокомерными толпами бродят якобы правдивые актеры, кучкой непуганых штампов заменяющие живые, оригинальные явления жизни. А у зрителя скулы сводит от зевоты при виде того, как в триллионный раз потирает руки, закатывая рукава, очередной "якобыдоктор", простуженно простонародничает "якобыдворник" или красиво хмурится усталый, зоркий "якобышпион"…
По закону вахтанговской школы этюд на профнавыки не может быть выдуман. Студент обязан, не отвлекаясь, как бы забыв об актерстве, совершить "от и до" свою узкую операцию. Отбор деталей, точность воспроизведения профжестов, накопление привычек в пластике, мимике - это все сливается в стремительную кинокартину "нового поведения".
По справке из училища каждого второкурсника - по его выбору - направляют на месяц в некую организацию. Он "прилипает" к какому-то специалисту, учится, всматривается и тренируется. Через месяц в гэзэ - показ. Даже старые щукинцы, узнав о "вечере профнавыков", бросают свои дела и стараются попасть. Что делают студенты? Все что угодно. На нашем курсе были пожарники, кондитеры, токари. Авшаров и Биненбойм провели на сцене целую хирургическую операцию - в детальнейших подробностях. Дима Андрианов "обрабатывал" кремом торты, а Люда Максакова их "затаривала" в коробки и ловко перевязывала ленточкой. Я месяц проторчал в Самарском переулке, в бюро ремонта телефонов. Утрами топал с опытными мастерами по адресам. Они чинили, искали повреждения, созванивались со станцией, меняли аппараты. Двигались мембраны, отвертки, микрофоны… а я наматывал на ус, записывал, чтобы дома тренировать на учебном аппарате спецкомбинацию.
Мой "телефонист" в числе еще двух-трех этюдов был особо отмечен. В короткий сценический срок надо было уложить по порядку и в темпе массу деталей… Помню стремительный подход к аппарату, рывок трубки - на плечо, сразу глаза на потолок (автоматический поиск проводки), машинально кидаю тяжелую отвертку на рычаг "вместо трубки", трубку хозяйски разбираю, чего-то трясу, куда-то дую, завинчиваю, тороплюсь, вздыхаю, "как монтер" (привык, насмотрелся), вскрываю аппарат, чего-то заменяю, звоню "Валечке" или "Томочке", прошу меня проверить, проверено, дефектов нет. Сматываю удочки, опять гляжу на потолок, открывши рот (тоже привычка), хлопнул замком чемоданчика, ушел по новому заказу.
Зимой второй курс готовился к показу "этюдов на образы". Две современные повести (одна из них - "Жестокость" Павла Нилина) разобраны по винтикам, по сценкам и ролям. Я готовился играть автора, Нилина. В.Ганшин - героя, Веньку Малышева, З.Высоковский - начальника угро (которого в кинофильме вскорости прекрасно сыграл Олег Ефремов), Юра Авшаров - бандита Баукина, а героиню Юлю Мальцеву - Максакова. Мы фантазировали "биографии" образов и посещали МУР. На занятиях придумывались сценки, далекие от повести: персонажи встречались за какой-нибудь шахматной доской, например, или на случайной вечеринке… Способ поведения, общения, манера говорить и двигаться выявлялись на практике. Следующий этап - срепетированные сценки из выбранной прозы.
В апреле - показ самостоятельных работ. Именно он, повторяю, выявляет лицо курса. Лицо признано интересным, обнадеживающим. Богат урожай "плюсов" и "поощрений". У меня лично завершился испытательный срок, и я переведен в студенты. На показе я в обоих отрывках заработал по "плюсу": за деревенского громилу-растяпу из венгерской прозы Жигмонда Морица и за испанского альгвасила-идиота у Сервантеса, в пьесе "Два болтуна". Роль вспомогательная, но я выпятил нижнюю губу, напряг книзу верхнюю, голос от этого стал утробным и беспомощно-жалобным, брови свел "домиком" и сам себе сильно напоминал одного милейшего воспитанника нашего кружка Варвары Ивановны Стручковой… Длинный, немного нелепый, но очень добрый парень, я им воспользовался, я его "гипертрофировал" и - спасибо - заработал успех. Впоследствии эта внешняя характерность выручит меня на профессиональной сцене, в "Жизни Галилея" Брехта, в роли куратора Приули. Стоимость "плюса" на самостоятельном показе в училище сильно возрастет в цене: за комического типа я получу две театральные премии, а главное - десять лет хохота и аплодисментов, признание у Любимова, у Высоцкого, у Смоктуновского, у коллег и поклонников, у целого Института русского языка Академии наук! Но вернемся к урожаю "плюсов" на втором курсе.
Кончился показ, и неподкупный Этуш царственно возглашает: "Кто сегодня самый удачливый?" "Белявский и Смехов", - отвечает курс. "Ясно, ну-ка, Смехов, как самый молодой, бегом на Арбат. Ты заработал право вызвать мне такси". Хохот, мир, дружба, и я лечу за такси.
Второй курс завершился вечером педагогических работ. У меня были "Человек с ружьем" (роль Чибисова) и "Недоросль", о котором упоминал. Лето. Заседание ученого совета, кафедры мастерства актера… Студентов место - за линией фронта, на лестничной площадке. У профессуры в 21-й аудитории - шум и гам, у нас - по пять кило никотина на душу дрожащего населения. Хорошо, старшекурсники с нами, сочувствуют, укрепляют дух анекдотами да байками из личного опыта. Старшекурсник Игорь Охлупин пересек линию фронта и замер ухом у двери совета. Больше всего боялись Шихматова Леонида Моисеевича. Он частенько хлопает по уху открываемой дверью, из-за которой высовывается его мощная рука с сигаретой, пепел стряхивается, и дверь закрывается. Когда этот момент изображается на студенческих капустниках, звучит гомерический хохот, сегодня же - не до смеха. "Смехов!" - свистяще шепчет Охлупин. Значит, завкафедрой Анна Орочко назвала мое имя. Плевать на все, подбегаю к Игорю. Ухо к уху - дверь и гул за дверью. Перечисляют мои работы за год. Ни жив ни мертв, я отброшен на год назад, прибит к дню своего падения, когда Этуш хлопнул дверью… Орочко спрашивает: "Оценка за год?" Этуш, без промедления: "Пять!" Игорь Охлупин, тоже без промедления, шарахает меня по спине. Марья Хрисанфовна Воловикова, заместитель Захавы: "Товарищи, так нельзя. Мы же его не аттестовали в прошлом году". Этуш громче: "Пять!" Воловикова: "Товарищи, мы расписываемся в своей некомпетентности. Студент проделал работу, он переведен из вольнослушателей, нельзя же зачеркивать нашу с вами…" - "Что вы предлагаете?" - "Ну, три, ну, с плюсом, если хотите…" Голоса, споры, выкрики… Окончательный приговор Захавы: четверка с плюсом. И я бегу курить боевую сигарету.
Поздравляющий выпускник (кажется, Сорокин) заявляет: это самая лучшая щукинская отметка для второго курса. Напоминает: Шура Ширвиндт тоже был не аттестован на первом, на втором получил четыре с плюсом, а теперь - отличный актер…
Курс празднует победу на квартире у Иры Ложкиной. Мы молоды. Мы любим друг друга, театр, училище, Этуша. У нас четыре пятерки, шесть четверок с плюсом, троек мало, двойки две… да. Деля итоги с вином пополам, танцуем и прощаемся. По солидной бумаге ЦК ВЛКСМ восемь студентов едут добровольно на месяц каникул в Восточный Казахстан, на целину - в концертной бригаде. Бригадир Авшаров, его верное подспорье - Саша Биненбойм - Бом и я, крепкое ядро - Акульшина, Нечаева и Ганшин, а непременных "швейков" сыграют в поездке Женя Крючков, по кличке Крючок, и Женя Супонев. К нам приписаны музыкальные номера: гнесинец Валерий Федулаев - баянист и двое консерваторцев - баритон Кубаныч Арзиев и тенор Витя Кириченко.
Пять суток в поезде. Двое суток не отрываемся от окон. Особенно - Урал. Особенно - озера. Тут и ночью не заснуть. Красота. Мы еще ни черта не видели мира, а он - вот каков. Из-под колес вырываются далеко вверх горы, леса и пригоршни деревень… Вдруг снизу вверх - зарево огоньков, по склону разбежались домишки и трассы. Это, оказывается, город Уфа. Другие двое суток - тоска. Степь, солончак, редкие кустики, жара. Лежим на полках, читаем, обсуждаем программу, поем и вспоминаем "прошедшие дни"… И вот - новое впечатление. Двери соседних купе - нараспашку. Там проживают казахи. Они-то все наши горы и леса проскучали на своих полках. А теперь их не загонишь на места. Приросли к окнам, жадно взирают на степную очевидность и красиво мычат свои мелодии. Вот как делится жизнь - по разным корням, по различным, "личным" мотивам…
Потом - Барнаул, Алтай и наконец Усть-Каменогорск. Заставляю себя вести дневник. Кроме любви к литературе меня стережет общественная нагрузка: я в бюро комсомола отвечаю за стенную печать, а недавно с группой щукинцев стали выпускать свой рукописный общественно-литературный журнал "Рост". Туда впоследствии и попадет мой "Казахстанский дневник". И сам Владимир Шлезингер скажет, что ему понравилось и что мне "надо писать". Гм. Вот я и пишу.
Из дневника.
4 июля 1959 года. Выгрузились. На машинах - в Усть-Каменогорск. Нина Петровна Афанасьева - очень мила! Гостиница "Алтай". Вечером - концерт в парке им. Джамбула. Зря волновались: они только того и ждали, чтобы нам похлопать. Объявлял Супонев. Путано, но зычно. Уходим, любуясь красивой афишей: "БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ АРТИСТОВ…" Это про нас.
6 июля. Колхоз им. Куйбышева. Деревня Черногорка. Горбоносый старик 84 лет: "Наше село не урожайное нынче на молодежь… сын мой хотел художником быть… и ладно рисовал… ушел на фронт… умер в сорок шестом… так-то…" Колхозники разобрали нас по хатам после концерта, трое спали на сцене. Ужин - мед с молоком.
8 июля. Страшная жара. Колхоз им. Кирова. Играть невозможно. Солнце в глаза. Жмуримся, потеем, а кто играет в телогрейках - худеет на глазах. Супоневу напекло голову: зычности, правда, он не утратил, но смысла слов не донес. Ему надо бы объявить: "Сцена из пьесы Николая Погодина "После бала". Исполняют студенты Татьяна Акульшина и Вениамин Смехов". А он бодро, без улыбки, гаркнул: "Николай Погодин! Исполняют студенты!" И - в тень. А мы - играй тут. Под вечер Женя, Витя и Вадим "объезжали" коней, Ганшин потерял очки. Чеченец-конюх потерял терпение. Состоялась бурная социально подозрительная ссора. Вечером концерт. Центральная усадьба. Блестящий прием. "После бала" и "Поднятую целину" с Юрой и Бомом вызывали сто раз. Долго ждали Валеру с его баяном: колхозники попросили немножко подыграть танцам. Два часа они танцевали. Хороший характер у баяниста - слова не проронил. Профессионал. Спать уложили в детяслях. По четыре кроватки на студента. Блеск и чистота.
9 июля. Отгонные пастбища. Сопки. Лазим по камням. Клубника. Восторг. Концерт в клубе-саманке. Потолок ниже меня ростом. Казахи очень приветливы, гордятся, что мы из Москвы, но к театру не приучены. Поэтому обмениваются впечатлениями тут же, как в кино. Галдят, жестикулируют, опять смотрят. Уверены, что нам это не мешает. Мы всё им простили за обед. Такой бешбармак, такая шурпа-бульон, такой чай и с таким молоком… Саше Бому, как старшему по возрасту, лучшие куски, самый жир - дорогому гостю… Его чуть в обморок не бросило, а Арзиев под столом ему ногу давит: ешь, гад, не обижай восточных обычаев… И гад давился, но ел. Даже улыбался хозяину. Тоже проверка актерской воли. Хозяева торопят: через час в соседнем ауле другой концерт. Пятнадцать километров отсюда, но надо спешить: они уже барана режут в честь дорогих гостей… Дорогие гости побросали свои потолстевшие "кости" в кузов грузовика… Сытые, серьезные, оглушенные мясистым гостеприимством… Прошло часа три. Трясемся по размытым дорогам бывшей целины. На пятый час, когда стало смеркаться, замечаем: шофер сбился с пути. Проделав около 200 км, уже ночью наткнулись на чужой аульчик! Приютили в первой же саманке. Одиннадцать "артистов" в дикой духоте, но на роскошных перинах под пуховыми одеялами и под самой печкой. Она не топилась, но на ней спала детвора. Ровно столько спящих деток, сколько успела народить хозяйка молодая: восемь чертенят. Я не сплю и спасаю друга Сашу, которому через каждые пять минут на лицо падает немытая детская ножка.
12 июля. Дуем в Усть-Каменогорск. Оттуда сразу в городок рабочих свинцово-цинкового гиганта. Зажиточно и щедро живут ребята. Мотоциклы, пианино, драмколлектив. Прием на концерте - потрясающий. И довольно квалифицированный. Большой ужин. Обсудили Москву и театральное искусство. Замечательные ребята - привет из будущего. Добрые, работящие, музыкальные и читающие люди.
13 июля. Колхоз им. 1 Мая. Сумасшедшие пространства. Немцы-трактористы. Украинцы-колхозники. И много "прочих шведов" - интернационал. Председатель бодро крикнул: "Приветствуем дорогих товарищей из Московского цирка!" И исчез. Дневное солнце. Тень от грузовика. Еле играем. Отползаем вместе с тенью. Супонев попал не в тень, а впросак. Всегда объявлял: "Иоганн Себастьян Бах! Бурре. Исполняет на баяне студент Института им. Гнесиных Валерий Федулаев!" Сегодня же ему удались только такие слова: "Себастьян Бах. Играет Институт Гнесина!" - и амба. Решением бригады Женя уволен из конферансье. Вечером - получше. Почему-то не накормили. Тоска в животе.
14 июля. Купаемся в Иртыше. Слишком уносит река, слишком страшны валуны. Выиграли в волейбол у местных. Ели яйца с кислым молоком. Нина Дмитриевна - из обкома ЛКСМ. Валерий бледен. Нина хороша. Любовь и солнце - день чудесный.
17 июля. После солнца и красот природы - грязь, слякоть, дождь и ужасный прием. Насильственный концерт. Но мы их пробили, растопили. Играем в освещении керосино-бензиновых ламп. Неграмотный морж-председатель. Ночью в порядке социального протеста организованно ревем песню "Ревела буря, гром гремел…". Бригадир Авшаров демонстративно спит. Объясняться с председателем ходил Смехов. Дорога в горы размыта. Медленно рычим мотором, прицепленные к трактору "Беларусь". Вокруг сопки, горы, хвойность, клубника, птички. Блеск.
20 июля. 2-е отделение Бухтарминского совхоза. Начальство про нас забыло. Сами ищем центральную усадьбу. Бригада ропщет, начинается раскол. Прекрасный шофер-фронтовик с простреленным горлом. Концерт прошел кое-как. Номера взбунтовавшихся артистов быстро заменяли на новые. Я читаю "Теркина". Не сбился. Биненбойму стало худо с сердцем. "Поднятую целину" они с Авшаровым провели адажиообразно.
21 июля. Директор совхоза. Хвалит концерт. Обед. Всем хорошо. Паром через Бухтарму - силой течения. Знай только рулем поворачивай. Село Больше-Нарым. Райком. Превосходный крепыш Фрунзе Кажгалиев. Ему о нас не доложили, но он все сделает. И сделал отлично. Программа концертов, поездок и спанья, еды и ухода - спасибо. Колхоз им. Абая. Фрунзе гарцует на диком коне Серко. И Федулаев пробовал. Серко унес его в горы. Еле спасли всадника. Об этом только и разговоров. Выступаем в зерноскладе. "Что им Гекуба?" Но слушают внимательно. Ночью с Юрой и Сашей - у чудесного учителя из Алма-Аты. Длинный рассказ о жизни и учительстве. Чистенький домик. К потолку подвешена люлька. Трое детей. Свежий мед. "Столичная" водка.
23 июля. Училище механизации. Море черных гимнастерок. Любопытные глаза и реплики: "О! Артисты приехали. Из погорелого театра". Мы и вправду сильно загорели, а многие - облезлые, облупленные, обгорелые. Зато на концерте - работа дотла. Прием триумфальный, незаслуженно оглушительный, второй за всю поездку (после Согры). Молодые, здоровые, изголодавшиеся по впечатлениям ребята от души хохочут, хлопают, счастливы. А про нас и говорить нечего. Сразу позабыли о всяких глупых трудностях. Концерт играли не два, а три часа - все, что умели, и все, как могли. Покуда машина удалялась от училища, вдали чернела шеренга провожающих курсантов. Сначала махали фуражками, а потом просто стояли. И радостно, и грустно.
27 июля. Отметили день рождения Вадима Ганшина. Играли в плохом состоянии духа. "Крючок" "бюллетенит", Наталье плохо с сердцем, у Валеры палец распух, и не баянится… В чеховском "Суде" вместо Крючкова вышел Ганшин. Забыл текст, поперхнулся. Состоялась клиническая потеря серьеза. Что бы он дальше ни пытался говорить, все персонажи прерывали, прыскали, роняли головы в руки, отворачивались к стенке… Так бессмертный Чехов и не дошел до местной публики. Спалось ничего. Получили первую критическую записку. Так и надо.
28 июля. Купаемся, загораем, волейбол… Вечером - ответственный концерт в Больше-Нарымском дворце культуры. Прекрасный прием. Прекрасное фойе. Прекрасные подрумяненные киноартисты на стенах. Во время "Горячего сердца" прекрасный безбилетный зритель ворвался в зал и заполнил все проходы. Кроме того, время от времени громко плакало чье-то прекрасное дитя.
30 июля. Серпантин-шоссе ("тещин язык", называют водители). Паром. Пыль. Пункт Серебрянка. Пьем невкусный, но утоляющий морс. А вот и Бухтарминская ГЭС. Сдали в конторе паспорта. Экскурсовод - секретарь райкома Денисов. Четыре шлюза, бурная река, шесть турбин справа и канал слева. Высота подъема воды - аж 90 м. Ходишь и ощущаешь свою букашечность. ГЭС еще строится. Рядом громадный бетонный завод. На Иртыше запросто ловится всяческая рыбица. Банкрот Супонев задержал рыбака с двумя щуками. "Почем продашь свою рыбу?" - "Да сколько дашь, за столько и бери…" Пауза. Женьке дать нечего. Вздыхает: "Да я бы купил…" Конец истории. Занавес. Директор ГЭС - Г.Маленков. Свергнутый Хрущевым, живет барином, им тут гордятся и вольные, и "заключенные". День в "зоне" прошел нестрашно.
Дорога на Усть-Каменогорск. Красивее не видел в жизни. Где-то там гора Белуха, китайская граница, Алтай, а мы - все выше. Горные лесные массивы. Шоссе ввинчивается в пики патетических наименований. Смертельные пропасти зеленеют приветливыми стадами кустарников и гигантских пихт. Белые пионерские лагеря в самом сердце массивов. Подъемы и спуски - перехват дыхания. Задержала автоинспекция. Показалась нам корыстной и нетрезвой. Ни за что ни про что обидела прилежного водителя.
Итак, с двенадцати утра до двенадцати вечера - дорога. Усталости никакой, ибо - восторг. Город. Сюрпризы: за проделанную работу обком на три дня снял шикарные номера люкс по паре в каждом; на завтра в знаменитом Дворце металлургов объявлен наш прощальный концерт; послезавтра - съемка на телевидении… Правда, афиша традиционно спутала имена классиков русской сцены и озаглавила нас метровыми буквами так: "ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ С УЧАЩИМИСЯ ТЕАТРАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ ЩЕПКИНА г. МОСКВЫ".
31 июля. Нервный день. Слава богу, все позади. Все довольны. Теперь мы говорим: "Эх, видел бы нас Этуш…" Комсомольцы комбината и города - добрый и веселый зритель. Мы отвечали на их вопросы и выступали. Им понравилось все: и баян, и Мольер, и "Теркин", и Чехов, и Шолохов, и романсы Арзиева, и Погодин, и залихватская сценка из оперетты "На берегах Амура" в мастерском исполнении Акульшиной и Ганшина, ну и, конечно, чудесный тенор Вити Кириченко. Фрунзе Кажгалиев вручил под дружные овации зала каждому по грамоте обкома.
2 августа. Вчерашнее телевидение отзывается сегодняшними улыбками. В гостинице, на улице и на вокзале. Непонятно, понравилось народу или не понравилось. Ясно только, что им приятно узнавать "живых артистов". Но мы уже не очень-то живые. Именно за три часа ожидания поезда ощутилась усталость, тоска. Хочется домой ужасно, надоели до чертиков родные лица однокурсников. Слишком велика доза совместного актерского быта. Как же профессионалы накручивают на сотни тысяч километров десятки тысяч повторений одних и тех же номеров? Как они не отупеют и что за безжалостная профессия!
Дневник окончен.
Третий курс. Мы уже старшие. Мы уже уверенно опекаем младших. Они заглядывают нам в глаза. И глаза излучают тепло сочувствия. Новые вечера и показы. Общеобразовательный курс наук. Военная кафедра. Здесь мы работаем и учимся только благодаря врожденному такту и дисциплине. Во-первых, наша профессия - из самых миролюбивых. Во-вторых, уж больно чудной нам достался полковник. Как вояка он, вполне возможно, был хорош, но как педагог он не "рожден был хватом". Отсюда - бесконечные наши шутки и показы его зычного косноязычия: "Товарищ етот самый Бортник! С вас мать артиста ждет, а вы идьотничаете!" Или - "Ну и заслали нас в этот самый Большой театр, на, ето самое, на "Война и мир", ну и что мы там имеем, ето самое? Безобразие: Кутузоу - и поет! Тьфу!"
Из новостей жизни - массовые сцены в спектаклях Театра им. Вахтангова, наша практика. Мы всей душой любим "Город на заре", поставленный молодым Евг. Симоновым. Мы рады были играть в этом лучезарном, певучем, грустном, азартном зрелище, где рядом с нами в числе "строителей" нового города весело разгуливали, распевали и делили хлеб-соль молодые Яковлев, Борисова, Ульянов, Дугин, Коровина, Гунченко и более взрослые Пашкова, Греков, Гриценко…
Из репертуара театра того времени невозможно забыть "Перед заходом солнца" и "Филумену Мартурано". На сей последний мы бегали по справкам из училища (очень строги к нам были администраторы) несчетное число раз. Вообще мне помнится, что лучшие впечатления от театра я получал не в креслах, а именно "на своих двоих", отстаивая по три-четыре часа на балконе. Это были (кроме вахтанговских): "Лиса и виноград" с В.Полицеймако, "Каменное гнездо" с В.Пашенной; "Власть тьмы" с И.Ильинским, В.Дорониным, М.Жаровым, М.Шатровой; "Неравный бой" у А.Эфроса и у него же "Друг мой, Колька"; "Катрин Лефевр" с В.М.Марецкой и Р.Пляттом; "Живой труп" с Н.Симоновым; "Маскарад" с Н.Мордвиновым…
А "Филумена Мартурано" вспоминается как волшебная шкатулка. Итальянская трагикомическая история "благородной уличной женщины" Филумены сильно удалена от быта, от пошлостей, от национальной экзотики. Она разыграна по ажурной партитуре стареющей, но яркой любви. Любовью пропитаны декорации и персонажи, романс "Ах, как мне грустно…" и смешные сцены спектакля. Она гармонична от начала до конца, эта сентиментальная сказка из жизни Доменико Сориано.
Рубен Николаевич Симонов и Цецилия Львовна Мансурова играли свой лирический дуэт как подлинно великие артисты психологической школы России. Это не заграничные Доменико и Филумена смеялись и дуэлировали рапирами обидных реплик, плакали и любили насмерть. Это Симонов и Мансурова, прожившие счастливейшие и окаянные, долгие, как единый миг, невозвратимейшие годы вот здесь, на московском Арбате под одной крышей, потерявшие отца своего и бога Евгения Багратионовича Вахтангова в расцвете его лет, прогремевшие на весь мир "Принцессой Турандот", - вот эти самые Симонов и Мансурова, перед лицом бессмертного суда сцены не скрывающие горьких ран памяти своей, счастливых звуков поседевшей юности своей, распахнувшие зрителю печальную правду осеннего возраста… да, это они разыгрывают словами русского перевода с итальянского оригинала собственную подлинную жизнь. И сквозь изящную вязь мизансцен и текста пульсирует, просвечивает и захватывает сидящих в зале их любовь.
Учителя…
Цецилия Львовна Мансурова
Великая Турандот. Невероятно, залпом прожитая жизнь - от университета и первых репетиций Вахтангова, сквозь голод и отвагу студийцев в Гражданскую войну, взлеты и страхи 30-х, отчаяния и бессонницы 40-х, прыжки и сюрпризы 50-х - к беспокойной именитой старости 60-х и 70-х годов - до самой смерти. В последние годы она многих не узнавала, болела тяжко, звонила Евгению Симонову и вела "живые" беседы с самим Вахтанговым… Распалась связь времен.
Мансурову любили все. Даже те, кого она раздражала.
Если любить театр, нельзя не поклоняться таким людям. Позволю себе обратиться к старой записи. Мы заканчивали училище. Нас влекло вперед. Доделывались последние работы. Я случайно зашел в 23-ю аудиторию, где мои товарищи репетировали с Цецилией Львовной.
Итак, дневник.
17 мая 1961 г. Приспичило записать. Сегодня днем нахально напросился посидеть на репетиции у Мансуровой. Заговорила меня так, что до сих пор не могу съехать на родной ритм мысли. Нервные центры все еще копируют ее рваную речь: "Да? Хотите посмотреть? Молодец. Садитесь, Смехов". Свой стол она ставит не между собой и актерами (как все), а как-то боком, выворотно, под левый локоть. И я сел в "шахматном порядке" - от нее. Но начать репетицию так и не смогла. За то, что я пришел просто так, на меня был обрушен целый поток. Не слов, не фраз, а тем. Всяческих. Самоперехлестывающихся. Нервная неровность интонаций. Холмистые спады с низов на верхи голоса. Словно она тебя на санях промчала по горкам, и вниз, и снова вверх. При этом - высокая речевая культура. Самоконтроль. Юмор на страже безопасности. Ветвистая жестикуляция с обязательным задеванием всех элементов собственной одежды, а главное - прически, волос… Рыжая Турандот 1922 года сейчас, через сорок лет, ничуть не старше, ей-богу. Просто - больше видела и пережила…
"Я, знаете, очень люблю все узнавать про своих учеников! Вот Женя - я все знаю! Женя, ты женишься? Не ври, видела. У него, товарищи, размилейшая дама. Я всех… У меня, знаете… А Юра скрывал, скрывал… Ну Бог с ним. Я с ним мало работала. Я все должна знать про учеников. А правда! Ну чтобы из них вынимать эмоции. Я же опираюсь на живые ассоциации. А как же!
Да! Это страшная вещь - общение, а! Вот Евгений Багратионыч, знаете? А мы-то как сложно общаемся в жизни, ого! Вы меня, Смехов, не просто слушаете, правда? Вы же успеваете замечать и замечаете, черти! Какая я там - похудела, не знаю, постарела, черт меня знает… ну, что я и немного кокетничаю и довольна, что меня хорошо слушают, и… а на сцене! - всегда общаются плоско, глупо! а сколько упускаем в жизни… вот ведь бывает… а мы с Елизаветой, с Алексеевой, знаете, вместе когда жили… кошка… такая кошка, а мы наблюдали… это война была гражданская, да? Наблюдали - кошка с мышкой общались! Была у Елизаветы кошка… брр! - неприят… нехорошая… а звали Матрешкой… потом Лизу Матрешкиной мамой звали… брр! да, соседский мальчик играл с кошкой во дворе, а Елизавета из окна: "Матрешка! Матрешка!" - "Иди, Матрешка!" Этот мальчик-то ей: "Иди, тебя мама зовет…" Смешно. А вот и смотрим: мышка… а я… у меня, знаете… фу, ненавижу мышей, ей-богу! Но этот какой-то слабый был, жалкий - дотронуться даже хотелось… война была, голод - жалкий мышонок… И вот раз выскользнул мышонок из щели… А кошка лапой р-раз - обхватила, но не ест! Да. Не ест, а водит, гладит - ух, садистка. Нас с Елизаветой можно было снимать - цены бы фильму не было - так мы, наверное, на это глазели… Да нет, и не съела! Не съела! А вдруг оставила - ого, и вроде отвернулась, дрянь… А сама спиной ли, задницей, хвостом - не знаю, - но чует! Общается! А рожа - прямо человеческая, вот так - "и я не я, и лошадь не моя!"… Но только лишь мышонок оправился от страха, только… и так - юрк! А она - черт ее знает как! - Р-РАЗ! - и опять в лапу его… обхватила… и держит… довольная… Вот, я говорю, какое общение? Ха-ха-ха! Возбудители должны жить на сцене - во! Ну, идите, ладно, не мешайте работать. (Я не ухожу.) Гм-м. А скоро вам в Куйбышев? Да? Хорошо… Там моя ученица… Сильверс Нелли… симпатичная… я к ней всегда ласково… а она так сурово держится… я-то сама человек довольно тонкий… и она меня очень растрогала… когда мы в Куйбышеве… с гастролями…
Да, дисциплина у нас, конечно… не такая была… а вот я о себе… тогда голод, разруха была… и мой муж устроил… ну, и мы по Волге… в деревушку, а там его родственники… и вдруг корова! Понимаете? Тогда - и вдруг корова! И вдруг Юра Завадский… он тогда уже у нас чин был большой… и даже все равно за мной немного ухаживал… "Тебе, - говорит, - Евгений Багратионович роль, - говорит, - главную… и надо ехать в Москву… репетировать…" Ну, а я только пискнула: "А как же отпуск?" И всё! И что там было… прихожу… ну, и говорят: "Мансурову к Вахтангову!" Это как сейчас бы простого студента, ну, не знаю… в кабинет к министру! Так мы боялись… я и стою, и дрожу у двери - а в другом конце кабинета… за столом - он. Вот вам буквально его фраза, которая во мне все перевернула - на всю жизнь: "ВЫ!!! (а в подтексте - сопливая дура…) КОТОРОЙ!! (а в подтексте - такая-рассякая) оказана честь!!! играть такую РОЛЬ!!! И ВЫ!! (а в подтексте - ничтожество, дрянь, девчонка). И вы сме-е-те!! Просто подумать (Вы представляете - подумать…) СОГЛАШАТЬСЯ ВАМ ИЛИ НЕ СОГЛАШАТЬСЯ??!! ВОН!! За одну эту мысль я вас выгоню к чертовой бабушке!.." Выгнать-то он бы меня не выгнал… я хорошо играла… работала много… это первый срыв… но уж, конечно, больше я такого и подумать не могла… никогда…"
На третьем курсе взяли старт два будущих дипломных спектакля. В.Шлезингер репетировал "Мещанина во дворянстве". В.Этуш и Ю.Катин-Ярцев работали над "Горячим сердцем" А.Н.Островского.
К чеховскому юбилею шестеро из нас приготовили самостоятельно "Палату № 6". Работа была тяжелая, чаще всего поздними вечерами, и вроде отмечена была признанием… Но я, игравший Ивана Дмитрича, как главный итог вынес огорчительную мысль: "не дорос". Каждому овощу свой срок. Однако для опыта, для закалки - это тоже на пользу. Очень много пришлось поездить по концертам. Училищное командование "не простило" дружного хохота в гэзэ, и "виновники" комедийных сценок (в том числе и мой дуэт с Таней Акульшиной из "После бала" Погодина) принуждались к шефским выступлениям. Спустя рукава играть не удавалось. Если выезжали в больницу, где лежал М.Астангов, то тут же в "Двух веронцах" выступал сам Этуш. Если дважды пришлось играть в единственной тогда английской спецшколе в Сокольниках, то в зале среди родителей сидел не только И.Ильинский, но и сам Борис Захава… На наших вечерах и выступлениях все чаще можно было видеть "солидных" театралов из числа писателей, режиссеров, технократов и… кинодеятелей.
Так уж водится, что последние торопятся заранее, со школьной скамьи, разглядеть раньше других и будущих Ермоловых, и будущих Качаловых, и будущее звездное небо отечественного кинематографа. Разглядывали, разгадывали, шумно пророчили будущую славу. Об этом промолчим.
Третий курс пройден. По "мастерству актера" двенадцать пятерок (одна из них, экстраординарно, "пятерка с плюсом" Юрию Авшарову за Учителя фехтования в Мольере); двенадцать четверок, ни одной тройки: курс признан одним из самых интересных.
Четвертый курс. Финишная прямая ("этушная прямая"). Полный расчет по всем предметам. Традиционная помощь младшим собратьям (и со-сестрам) - добрым словом, "богатым" опытом, соучастием в самостоятельных отрывках и в постановке оных. Вечера и праздники, диспуты и концерты, отдыха никакого. Все худеют - повально, буквально и фатально. Однако главное - в выпускных спектаклях. Наибольшая часть молодецких сил и упорства - именно туда. Я занят повсеместно, и, кажется, что-то удается - и в роли Ковьеля у Шлезингера, и в роли разбойного безобразника Наркиса в "Горячем сердце". Кроме того, помогаю выпуску современного спектакля "Щедрый вечер", где и сам немного играю, и руковожу бригадой "рабочих сцены" с первого курса. Как мы когда-то передразнивали с восхищением интонации и трюки Ливанова, Иванова, Бурова, Цубис-Гошевой или Державина, так сегодня нас "показывают" друг другу за нашей спиной наши младшие товарищи, наша смена. А это, кстати, будущий состав "Доброго человека из Сезуана" - З.Славина, А.Кузнецов, А.Демидова, И.Кузнецова…
Параллельно заботам дипломных постановок ведутся нервные поиски трудоустройства. Правда, наше училище столь знаменито, что главрежи и директора сами толпятся у наших учебных подмостков… За год до своей кончины меня посетила незабвенная Варвара Ивановна Стручкова; она ласково и почтительно оценила мой труд в Мольере за кулисами учебного театра ГИТИСа, куда иногда выезжали дипломные представления…
Я получил диплом с отличием, и теперь мои близкие, а также все друзья, во главе, конечно, с блестящим мехматовцем Андреем Егоровым, имели случай убедиться в правильности моего выбора, сидя в зрительном зале Училища им. Щукина.
Особенную известность приобрел в Москве спектакль "Мещанин во дворянстве". На него ходили как на изюминку сезона. Его записывали для радио, снимали для телевидения, его посещали по нескольку раз театралы, это было признано блестящей удачей вахтанговской школы, Владимира Шлезингера, Зиновия Высоковского - Журдена и всех участников. Так писали в газетах, так говорили на словах. Откуда-то явились слухи, что Рубен Симонов, чрезвычайно одобривший спектакль вместе с худсоветом театра, собирается принять в свою труппу чуть ли не одиннадцть человек. А мы, привыкшие смело критиковать свой театр в утечке уровня и старых достижений, мы трепетали и ждали.
Это было время той молодой прозы, в которой говорилось об освоении столичными жителями просторов родной страны. Я верил книжкам, как самому себе. И столичные переговоры, предложения, пробы были мною "единогласно" отвергнуты, я посоветовался с Захавой, с Новицким, с Этушем и решил ехать. Захава предложил: в Куйбышев. Огромный город, старинный театр, новый хозяин (бывший ученик Б.Е. к тому же) - перспективы и т. д. Явились на "Мещанина" и главный режиссер Петр Львович Монастырский, и директор Лидия Ивановна Григорьева. Я им "подошел". Они меня брали, обещали, миловали и ласкали. Ну не чудо ли? Чудо. И я уехал в Куйбышев. На три года. Но через год буквально дезертировал, удрал… Как мечтали чеховские героини: "В Москву! В Москву! В Москву!"
Учителя…
Борис Николаевич Симолин
Учитель истории изобразительного искусства. Учитель жизни: вот как рождались, цвели, мучились, побеждали художники, вот как надо бы жить. Учитель игры: вот как шалили, выдумывали свои картины и каноны эти дьявольски забавные, чудесные Леонардо, Буонарроти, Веласкесы, Врубели, Поликлеты и Малевичи…
Он погиб на вздохе, нежданно-негаданно. Борис Николаевич успел при жизни так влюбить в себя театральную Россию - ведь он учил много поколений (во многих вузах), - что его имя служило как бы паролем. Для нормального тщеславного художника смерть означает перевес хвалы, отмену хулы, торжество преклонения. Симолин снискал все при жизни, ему незачем было умирать. Борис Николаевич, чья каждая лекция была подарком и произведением искусства, влетал в аудиторию всегда с небольшим опозданием. Он тащил с собою папки с репродукциями или ничего не тащил. Но его приход не был явлением преподавателя. Это влетал к нам ветер истории искусств, вольный ветер художества, учитель-артист. Говорят, постановочному факультету Школы-студии при МХАТе он то же самое трактовал совсем иначе - фактологически, аналитически и даже академично. Так, он считал, им полезнее. Но в это трудно поверить. Ибо, глядя на него на наших занятиях, невозможно было представить какого-то иного Симолина. В его рассказах преобладала эмоция, но она была продуктом обширных знаний. Способ его рассказов - это словесная живопись, правдивейшие описания только что испытанных чувств. Только вчера вечером он расстался с Паулем Рубенсом, и вот вам, граждане, что это за человек. Только вчера ему встретился его давнишний приятель Сандро Боттичелли, и вот вам его дела у Лоренцо Медичи, в Сикстинской капелле - пришел, сотворил и исчез… Борис Николаевич рисовал словами суету и детали городов, эпох и братство "барбизонцев", и будни "передвижников", и несчастную жизнь Ван Гога или Саврасова… Во время жарких лекций перед впечатлительными очами студентов вдруг возникали мадонны с младенцами, Вестминстерское аббатство, воспаленные персонажи Эль Греко, портреты Греза, Рембрандта… И то, чего не хватало в папке с репродукциями, он сам, Борис Николаевич, изображал собственным телом, мимикой, руками… И таинственно улыбался Моной Лизой, и трагически хмурился роденовским Мыслителем, и был замечательно хорош в роли Неизвестной Крамского…
Он шел по улице Вахтангова, с готовностью отвечая на приветствия, чуть выдвигая правое плечо вперед, как бы прислушиваясь к чему-то… В сереньком потертом костюме, с неизменным галстуком, а галстук с заколкой, а воротник кремовой сорочки чуть топорщится… Старые башмаки, вечная небрежность к внешнему виду, к быту и вообще к своей персоне… Да, на голове очень милая тюбетейка. Входит в аудиторию. Прокуренным, низким и озабоченным голосом, не потеряв темпа ходьбы: "Здравствуйте, товарищи! На чем мы остановились в прошлый раз? Так. Ренессанс…" В руках - обязательно костяной, кажется, бордовый, мундштук. Глаза подымаются кверху, а руки совершают вечную манипуляцию: достать пачку мятой "Примы", уполовинить сигарету, вставить в мундштук, убрать пачку, достать спички…
"Ренесса-анс…" Все готово, чтобы закурить. Но зажженная спичка застыла без дела, ибо явился Ренессанс… "О, это было счастливое время… Человечество нарушило законы возраста… Оно переживало снова свое детство - да еще какое! Вы представляете себе улицу старой Флоренции…" Оживает улица старой Флоренции. Спичка добирается своим огнем до пальцев Бориса Николаевича. Пальцы вздрагивают (он-то не вздрагивает, он сейчас в Италии). Зажигается новая спичка. Сигарета вот-вот прикурится… Нет, все-таки что там было во Флоренции… как поживает Микеланджело и что задумал Рафаэль… В разгаре лекции учитель закурит, обожженные желтые пальцы вслед за сизым дымом поплывут вверх… И вот вам являются образы прошлого, совершенно живые и мятежные лица великих мастеров…
На экзаменах он был, что называется, слишком добр. Откуда бы вы ни взяли свой ответ - из головы или из шпаргалки, он будет вам кивать и поставит высокую оценку в зачетку. Разве дело в вашей подготовке к экзамену? Бог с ними, с зачетками. Они забудутся тысячу раз. Но навечно сохранится в памяти того, кто это слушал и видел. Спичка догорает в руках. Сизый дым подымается к потолку аудитории. Из него реально возникают картины и скульптуры, бессмертные лица художников, их голоса, и темперамент, и сама жизнь… Когда в 1977 году я бродил по Парижу и глядел не нагляделся на Нотр-Дам, на работы Родена, Шагала, Ренуара, Фрагонара и Ван Гога, на ажурные переливы улиц и домов, на волшебное объятие балконных решеток… я не мог отделаться от грустного, радостного ощущения: сизоватый колорит волшебного города только что родился из-под рук Бориса Николаевича Симолина, здесь всюду слышатся его низкие, хрипловатые интонации и чудится запах этого легкого дыма, взлетающего к потолку 30-й аудитории…
Павел Иванович Новицкий
Снова возвращаюсь к дневнику: 1961 год. "Изумительно красивый, крупный, броский старик. Ему 71 год, и он - самый юный человек в училище. Ярко-белая прядь густых волос резко разделена надвое и падает на мощный лоб. Когда-то имел совершенно мексиканскую внешность - я видел фотографию, где они с другом, художником Диего Ривера, стоят, как родные братья. Но и сегодня кое-что осталось. Черные, блестящие, съедающие собеседника глаза. Яростная, гневная, грохочущая басом речь. Ненависть к фальши, показухе, комплиментам и сантиментам. В углу рта - язвительная полуулыбка, которую ему смолоду не простили многие из его коллег-литераторов (например, Тренев). Пристрастен и тенденциозен. Его послужной список: годы революции и Белого террора - в Крымском университете и в крымском подполье. Один из чудом уцелевших подпольщиков. Его спас красавец-усач (условно именованный им как "эдакий Ноздрев"), устроивший ему побег из тюрьмы, а себе - расстрел.
Москва. Новицкий - директор знаменитого Вхутемаса, зав. Теанаркомпроса у Луначарского. Дружен с Чичериным. Активно работает в художественном совете "того" МХАТа и близко дружит с Н.П.Хмелевым, чему свидетельства - многие письма и фотографии у него дома. Потом - проректор Литературного института, ближайший товарищ Бориса Щукина по жизни и по худсовету Вахтанговского театра. Ныне - профессор нашего училища, преподает русскую литературу.
Ему очень много пришлось хлебнуть лиха - и за улыбочку в углу рта, и за излишнюю резкость собственного мнения, и за затянувшийся азарт 20-х годов. Как он мне с хохотом рассказывал, мейерхольдовцы в пору открытых схваток (далеких, впрочем, от административных выводов) носили по улицам бутафорский гроб с надписью "Павел Новицкий" за его статьи и "мхатовство" позиции.
Ни одна мысль не исходит от него надменно или уравновешенно. Все, что он говорит, не говорится, а вулканически вырывается, азартно и бурно. Как горячо он проповедует любовь к новой литературе! Раньше всех других распознает и тормошит нас, пожилых и инертных: ищите, читайте, не теряйте времени - Сэлинджер, Фолкнер, Ремарк, Ю.Казаков, Вознесенский, Яшин, Тендряков, Николаева, Солоухин, Евтушенко… Выставка Фалька, фильм Хуциева, симфония Шостаковича… Но это, впрочем, будет позже.
А с чего все началось? Он вперевалочку, грузно вошел в комнату, втащил на стол массивный желтой кожи портфель и сел перед нами. Одет с иголочки, чисто и красиво. Заявил:
- Первое. Вы, как новые ученики, должны ответить на мою анкету. Запишите вопросы… Второе. Начнем с поэзии. Великую поэзию России характеризуют семь классических имен. Это великие и оригинальные поэты: Державин, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Блок и Маяковский. Поговорим о них. Третье. Каждый из вас должен выбрать себе тему для семинарского доклада. В этом докладе можно будет увидеть личность студента или ее отсутствие.
В заключение Павел Иванович короткими фразами рассказал о жизни Державина Гаврилы Романовича. Он прочел, глядя перед собой и покачивая вправо-влево белую шевелюру… не прочел, а простонал и сердцем, и душой:
Поймали птичку - голосисту!
И ну сжимать ее рукой!
Пищит бедняжка - нету свисту!
А ей твердят: пой, птичка. Пой.
Резко запел звонок в коридоре. Новицкий словно бы "слизнул" огромный портфель и выплыл из классной комнаты.
У нас на курсе был культ Новицкого. Даже самые забулдыжные невежды сидели по струнке на его лекции. Он грохотал стихи, покачиваясь и зловеще тряся седым кулаком. Его тоже легко было копировать. И мы копировали его манеру - почтительно и любовно. Он читал лекции, не глядя на нас, словно предоставляя нам свободу выбора - слушать или не слушать. Не здоровался и не прощался с курсом, очень не любил условностей. Появлялся с портфелем и читал, покачиваясь, глядя в сторону и вниз. И внезапно - там, где ему недоставало собеседника, - он всаживал свой черный глаз, как пулю. И почему-то именно в меня (потом разобрались - так почти в каждого). В самое глазное дно - ни сдвинуться, ни вздохнуть… И уже страдаешь и хуже воспринимаешь.
Мы влюблялись-изумлялись: вот каковы были Державин и Тютчев, Толстой и Достоевский, Чехов и Маяковский… Тот новый для меня Маяковский, тайны щедрости, ошибок, заносов и любви которого расшифровал Павел Новицкий. За его лекциями никогда не стоял "педагог", то есть контроль, проверка исполнения, оценка знаний. Он тревожил и теребил в нас любопытство к чтению, любовь к прекрасному.
Мне крайне повезло - он обратил на меня свое внимание. Он почтил меня личной заинтересованностью. Я носил ему свои стихи. Он их безжалостно браковал, но кое-что отбирал для журнала, им же организованного. На третьем курсе он сделал меня главным редактором "Роста", и я стал бывать у него дома, где удостоился ласковой опеки его красавицы жены - бывшей Лисистраты у Немировича-Данченко, Лидии Степановны. Я потонул в его стеллажах, наслаждался историями его встреч, историей театра и страны, биографиями художников, режиссеров, Хмелева и Щукина. Его ругательные или вдруг хвалебные отзывы о моих актерских работах, о стихах или о "Казахстанском дневнике" - целая школа неоценимого достоинства. Еще меня поражала его память. Он помнил, кажется, всех и все, что видел, и лаконично формулировал до подробностей. Но я его все равно побаивался. А перестал бояться однажды на четвертом курсе, когда он потащил меня подышать воздухом в Сокольники и там под лучами весеннего солнышка неожиданно разоткровенничался о своей судьбе, о своих странностях, о взгляде исподлобья и улыбочке в углу рта… Он стал мне сразу близким, дорогим по-родственному, я почему-то за него стал бояться (он ведь очень немолод и все чаще болеет). А когда проводил его домой, то Лидия Степановна шепнула мне тайно на прощанье: "Вы не оставляйте его. Он никогда не скажет, но ему обязательно нужно видеть возле себя молодежь, своих учеников, понимаете?.." Я это понимал.
Из Куйбышева я писал Новицкому, но сегодня, разбирая свой архив, с горьким стыдом обнаружил, что трижды не удосужился ответить на его чудесные послания. Я ведь жил трудно, жаловаться не хотелось, а в будущее верил твердо. Вот в будущем, мол, и поговорим. Мы поговорили с учителем, но огорчительно мало. И виноват в этом я один. Последние встречи касались его посещений Театра на Таганке. Он искренне радовался за Москву, что здесь родилось такое свежее, нужное театральное слово, он не торопился корить за недостатки: новому делу полезнее поощрение и пряник.
Последняя встреча произошла в день восьмидесятилетия Павла Новицкого. У него дома, на ул. Кирова, дом 21, вход со двора. Там же, где когда-то было общежитие Вхутемаса. Несмотря на прежние заслуги и высокие посты, он пальцем о палец не ударил для личного благоустройства. До последних дней своих прожил в коммунальной квартире, и книги, журналы, картины никак не могли с этим смириться. А он мирился и теснился. От празднования своего юбилея наотрез отказался, хотя к этому понуждали его и училище, и Министерство культуры СССР, и Союз писателей, и такие знаменитые ученики, как Кукрыниксы, Урусевский, писатели, артисты… Он позволил приехать к себе домой узкому кругу людей. Он хотел видеть у себя Захаву, Ульянова, Катина-Ярцева… Распили торжественно шампанское. Пили "Хванчкару", которую десятки лет присылал ему Акакий Хорава из Тбилиси.
Когда встречаются щукинцы прежних поколений, они начинают воспоминания с имен Новицкого и Симолина…
На вечере в училище, посвященном первой годовщине со дня смерти Павла Ивановича, замечательно гордо и строго глядело на всех прикрепленное к занавесу лицо яркого и яростного человека с улыбкой в углу рта. Я ничего не мог сказать. Я поцеловал Лидию Степановну и прочел Маяковского, обращение к потомку:
Не листай страницы. Воскреси!
Сердце мне вложи.
Кровищу - до последних жил…
Занавес.
Спасибо дому на улице Вахтангова.
"СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА" В ДОБРОВОЛЬНОЙ ССЫЛКЕ
Самара-городок
Удача на безнадежном поприще театра:
Ричард III как зеркало русской оттепели
Слава богу, человек получил диплом. Там сказано: "Актер театра и кино такой-то…" Значит, что осталось позади? Время школьной "вольности святой".
Авось мой опыт сгодится кому-то из новых поколений. От ударов судьбы нет иммунитета: увы, об этом надо помнить ежедневно, театр не оплачивает отпусков по болезни самолюбия. А легкомысленному актерскому племени так охота бывает отдохнуть - особенно после трудов и "побед".
Я переехал на Волгу в возрасте двадцати одного года, имея на руках следующее: 1) пару чемоданов для первого обзаведения; 2) договоренность с главрежем о роли Часовникова в "Океане" А.Штейна; 3) свежий титул молодожена, юная супруга которого оставалась в Москве заканчивать техническое образование; 4) мечты и надежды - с некоторым оттенком иждивенчества (волжская труппа, мол, непременно прослезится при виде такого подвига москвича с таким дипломом и т. д.) и 5) два пустых блокнота - вести дневник непременных успехов… То есть не диплом, а уже "апломб с отличием"…
Первые впечатления. Город огромен и самобытен. Волга хороша, и набережная, на которой мне сняли комнату, - также. Театр возвышается классическим архитектурным "пряником" XIX века над рекой, на холме, на площади Чапаева, дом № 1. У театра вековые традиции, чувствуется "порода". Меня приняли на "вы", по имени-отчеству, почтительно и сухо. О том, каковы актерские их страсти - закулисные мордасти, а также о том, как напряженно и по-разному в труппе ожидали моего первого шага, узнал значительно позже. У каждого своя жизнь, свой быт, а главное: здесь не один-два дипломных спектакля за год в нежных, парниковых садах училища, а восемь скоростных пулеметных "очередей" в сезон. Петр Монастырский твердо пообещал роль, и это пока выполняется.
"Океан" Штейна произвел хорошее впечатление и как пьеса, и как спектакль Н.П.Охлопкова в Московском театре им. Маяковского. На премьере "Океана" я испытал восторг, зависть и влюбленность в роль Кости Часовникова. Ее чудесно, упрямо, заикаясь и размахивая руками, сыграл у Охлопкова молодой Александр Лазарев. Это было еще весной. Теперь осень. Роль обдумана, любима, раздуваю ноздри и паруса.
Попробую разложить по нотам "музыку" первого сезона… Во вступительной части мне жмут руки и величают по имени-отчеству. Размах Волги, театра и города щекочет самолюбие, радует глаз. Звучит сольная тема тромбона. Оркестр исполняет уверенное "тутти". Вдалеке мерещатся медные трубы. Первая скрипка ведет параллельную тему разлуки. Все хорошо.
Первые репетиции "Океана". Выясняется: а) они позволяют себе с места идти в карьер и уже в застольных репетициях, не пробуя и не сомневаясь в себе, громко "играют" образы; испугался их готовности, их штампов и отчаянного темпа; б) главные роли поручены главным артистам, ибо пьеса хороша и ставится к открытию XXII съезда партии; в) Монастырский, очень грамотный режиссер, увлечен идеей, умеет работать и серьезно, и весело; г) я автоматически отодвинут на второй план, ибо один из корифеев театра, Михаил Лазарев (тоже ведь Лазарев!) - первый Часовников. Правда, возраст его вдвое превышает возраст персонажа. Однако я испытываю к нему уважение - за талант и в драматических ролях, и в комическом колхозном фарсе "Марюта ищет жениха". Мой "соперник" интеллигентен, меня опекает, а чуть позднее, как директор студии при театре, вовлечет в педагогическую работу. Мне неловко признаваться самому себе, но он ни темпераментом, ни наивностью не напоминает нашего "общего Костю". Режиссер дает мне репетировать, читать с листа за столом текст. Вокруг бушуют голосовые страсти. Я в беспокойстве подчиняюсь атмосфере аврала. Текст врубаю зычно, без смысла, хорохорюсь, теряю самоконтроль. Режиссерские указания не умею переводить на привычный мне язык. Еще более деревенею нутром, еще зычнее рокочет мой непроверенный баритон.
Из дневника.
15 сентября 1961 года. Репетировал Часовникова. Зажавшись от присутствия лишних актеров и студийцев в день первого своего выхода из-за стола в мизансцены (руки чужие, ноги тяжелые), начал сцену с отцом "на связках", как говорит Монастырский. Тут только он занялся мною, направил внимание на существо задачи. Дальше стало получше, но зажим почти не покидает. Очень это непривычно: чувствуешь себя голым, покинутым, почти сиротой. И роль чего-то скуксилась, весь этот сыр-бор пьесы кажется мизерным.
Обедать повел меня с собой звезда театра Григорий Левин - однокурсник С.Бондарчука и И.Скобцевой. Год в этом театре, два - в Краснодаре, до того - в Свердловске… Герой-кочевник, любимец публики. По дороге в столовую, не дожидаясь моих вздохов, заявил ругательно и смачно: "Деточка, не обольщайтесь этим гадюшником. Им же все до фени. Кому здесь нужны люди искусства, милый мой?! Это же гордая провинция - здесь гонят сроки, здесь травят людей, а работать, извините за выражение, "творить" - ищите дураков в других местах". Опечалил он меня. Потом к нам подсел другой актер. И они вдвоем, между первым и вторым блюдом, съели последнюю веру в святое местное искусство. О ком я еще не слышал правды, кто мне еще понравился на сцене? И хохоча, и не трудясь над словами, они крест-накрест зачеркнули, раздели, посрамили уважаемую труппу - до последнего старичка-ветерана. Юмор притягателен, и я даже стал поддакивать.
Вечерами я изучаю театр, смотрю спектакли. Сразу выделил для себя Николая Засухина. Это артист. И это видно всегда - и на сцене, где он всегда неожидан, и в жизни, где он скромен, молчалив, но очень по-доброму внимателен. Безусловно, интересен Георгий Шебуев, народный артист и величина всероссийского масштаба. Старая школа внятного сценического языка. Значительность каждого жеста и поворота головы. А в закулисных буднях - бесконечные анекдоты и воспоминания - также с оттенком анекдота. Еще нравятся комик Пономарев (толстый и хитроватый дядя с одышкой - очень достоверен в ролях) и Зоя Чекмасова, стареющая красавица с царственным сценическим поведением. Из молодых актрис - обе героини театра, как "западная" Нина Засухина (любимица Мансуровой), так и "русская" Светлана Боголюбова, очень искренняя в "Барабанщице" А.Салынского.
18 сентября. Гуляю вдоль Волги, обучаюсь вести хозяйство, преодолеваю бесконечные трудности быта легко и мимоходом, ибо все мысли - о театре. Вдруг кто-то заболел, и меня срочно, в полчаса ввели в эпизодическую роль некоего лирического лейтенанта Юрия в спектакль "Осторожно, листопад!" С.Михалкова. С Юрия начинается пьеса, затем он исчезает, погибает, и его три часа подряд поминают прочие герои. Молодец Юрий, что быстро освободил меня от роли и от обязанности читать пьесу до конца. Репетиции "Океана" проходят в темпе шторма. Уже обсуждали макет. Уже была примерка костюмов. Я вот-вот раскрепощусь. Жалко, что режиссер совсем ничего мне не говорит, только разрешает пройти ту или иную сцену вслед за Лазаревым. Все бегом, все в спешке, будто есть что-то более важное, чем сделать спектакль. Слишком запомнился охлопковский вариант, никак не подкупает игра моих новых товарищей. Неживое, патетическое искусство. Кажется, беседуют, спорят персонажи - все как надо. А слышится и в глазах написано: "Господи, скорей бы доиграть и - по делам, по нуждам…"
20 сентября. Проливной глупый дождь. Дядя Костя, шофер, грузовик, погрузка - и казенный матрац отдан моей хозяйке, тете Тоне. Через двадцать минут - опять в театре. Вызван к Монастырю: "Ну-с, В.Б., с Часовниковым мы поторопились!" Очень бодро говорит, смеется сквозь очки, добродушно скалит сверкающие зубы, потирает руки… Десять минут я слушал не дыша. Говорилось о том, что я не уложусь в ритмы работы, не разожмусь, не сыграю. Надо начать с легкого, с небольшого - так нас учит опыт. После моих лепетаний (на мотив первого курса и беседы с Этушем): "Ну хорошо, я не отказываюсь от обещаний. Часовникова вы будете делать и дальше и сыграете его. Даже если будет на "тройку" - я вас выпущу, договорились?" Ласково оскорбил, потом хмуро польстил: я ему, оказывается, импонирую своей школой, своими данными, культурой речи, манерой работать и т. д. Предлагает сыграть простака Бориса в современной пьесе "Рядом человек!". Пьесу написал "свой автор" Владимир Молько, а ставит в параллель с "Океаном" Яков Киржнер, второй после главного режиссер Куйбышевского драматического театра им. Горького…
На "вступительную часть" ушло еле-еле полмесяца. Парниковый москвич познал вкус профессиональной горечи, запах кулис, тщету ранних надежд, наждачное касание производства о гладкое тело. За две недели сыгран ввод в старую пьесу, пройдена и потеряна роль-мечта в новой пьесе, изучен репертуар, получена новая роль. Стремглав проявлены характеры актеров, многократно прослушана перекрестная Хула Ядовна - этого на "того", а того - на "этого". Но и тот и этот - друзья: не стесняясь, при мне же, ласкают друг друга теплым словом, и уже можно фантазировать, как они оба судят обо мне за глаза. Звучит запев первой части, победная тема тромбона завалилась в преисподнюю, нарастает гул ударных, флейты и саксофон справляют деловую воркотню, а грустную мелодию первой скрипки уже подхватила вся стая смычковых: "Разлука ты, разлука, родная сторона…"
Встречаю на лестнице режиссера Киржнера. Он улыбается: "Как дела, милый?" - "Да так себе. Петр Львович говорит, чтобы я посидел у вас в зале и присматривался…" - "Э, черта ему с два! Пусть сам к себе присматривается, а мы с вами будем работать и копать. Устраивает?"
Пьеса на строительную тему, корявая, но не бездарная. Наконец-то я столкнулся с Засухиным. Стеснение прошло быстро - уж очень близкий, открытый человек. Обстановка у Киржнера свойская, из "корифеев" почти никого нет, много молодых, много студийцев. С первого же вечера (репетиции идут параллельно спектаклям) я начал острить и пробовать своего чудака Бориса по-училищному, без оглядок на чей-то прищур. Засухин меня подбадривает, мы уже не раз бродили и с ним, и с его милой Ниной по набережной, они первые, кто расспросил меня о Москве, о театрах, об учебе и о жене. Я веду обширную переписку и даже получил ответы от Б.Захавы и П.Новицкого.
Из письма Бориса Евгеньевича Захавы:
"…Ваше письмо меня очень обрадовало… Вы живете хорошей творческой жизнью… То, что Монастырский отстранил Вас от роли в "Океане" - это удача. Ваша удача! Чем дольше Вам не будут давать ролей первого плана (ведущих), тем лучше. Не торопитесь, успеете! У Вас все впереди… Если партнер не общается, то нужно: 1) всеми силами постараться вызвать его на общение (тут допустимы и всякого рода фокусы вроде неожиданной перемены мизансцены… всякого рода приспособлений…) и 2) если это не помогает, отвечать… на предполагаемое воздействие партнера. Ведь актер - это такой человек, который умеет к чему угодно отнестись, как к чему угодно. Следовательно, я могу и к реплике партнера отнестись как к такой, которая будто бы наполнена определенным содержанием (мною нафантазированным), хотя на самом деле в бездарной интонации актера этого содержания и в помине нет. Что делать? - это все же - выход из положения!..
Все усилия нашей школы (в отличие от других, например мхатовской) направлены на то, чтобы наши воспитанники могли работать (успешно) с режиссером любой школы. Нужно научиться режиссерское указание, на каком бы языке (в смысле школы) оно ни было сделано, переводить на наш язык для того, чтобы потом выполнить его средствами нашего метода… уверен, что Вы это сумеете. Примите, мой друг, сердечный привет! Пишите, как идут дела. Хоть, может быть, и с опозданием, но всегда непременно отвечу…
Ваш Б.Захава".
Из письма Павла Ивановича Новицкого:
"…Я верю, что Вы сохраните чистоту души и не будете никогда приспособленцем и человеком позорного благоразумия. Мне было весело читать Ваше письмо… Мне завидно - Вы начинаете новую, профессиональную, творческую жизнь. Перед Вами просторы, необозримое будущее, не только волжские русские дали, но и штурм вершин, взятие этапов, одного за другим, во имя жизни, не своей только личной, но во имя общей жизни, жизни нового искусства, жизни народа, жизни человечества. Всякая слабость, всякие жалобы - клевета на Жизнь и на человека. "Город будет, когда такие люди есть!"
Акклиматизация - дело тяжкое, но захватывающе интересное. Все можно перенести, если веришь себе и жизни…
Шебуева я, кажется, знаю. Демича и Засухина не знаю, но тем интереснее представить их себе. Почувствовать живое дыхание неизвестного тебе человека по отзыву другого человека, которому веришь, всегда отрадно.
Самара близкий мне город. Там жили и боролись Ленин и Горький. Для меня это не историческая абстракция, а живая конкретная действительность. Во время выборов в Третью Государственную думу зимой 1908 года я юным студентом в черной папахе и длинном осеннем студенческом пальто вел предвыборную агитацию, разнося по квартирам большевистские бюллетени. Стоял жуткий мороз, и верховой ветер с Волги обжигал щеки.
И потом летом я десятки раз ездил в Самару… Из Ставрополя Самарского, где жил мой отец. Я люблю среднюю Волгу и Жигули… А зимой по Волге - в розвальнях на лошади. Раз даже тонул в полынье (Вы знаете, что такое полынья?). "О Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я?" А за мной гонялись всякие исправники, жандармы и предводители дворянства. Ах, сколько воспоминаний окружило мою бедную голову! Если Вы приживетесь в Куйбышеве и получите скромную квартиру, я приеду к Вам погостить на два дня. Если буду жив.
…Седьмой номер "Роста"… вышел вовремя! Переплет малиново-оранжевый, веселый!
…Статью присылайте, буду очень рад. Это будет здорово, если раздастся Ваш голос. Перекличка поколений! Сердечный Вам привет. Пишите обо всем, что Вас волнует…
П.Новицкий".
"Океан" я дорепетировал без режиссера, после чего меня снова вызвал Монастырский. Он отстранил меня от роли, заявив, что не хочет портить сложившееся обо мне в труппе доброе мнение. Через полгода мне, бестолковому, объяснят, что я пал жертвой чужих страстей, что просто-напросто был разговор: мол, если Смехова выпустят на сцену в "Океане", то кто-то может пенять на себя… То есть Лазарев объявил Монастырскому ультиматум. Разбираться в слухах мне было недосуг, да и неинтересно.
"Второй этап" начинается с нового, 1962 года. Я поменял третье жилище. Жил на квартирах, жил и в гостинице.
Отзвучали меланхолические скрипки, новая часть началась мужающей темой тромбона, самоуверенно вторят фагот и флейта; уже согласованно, без суеты и нервов, поддерживают ударные, иногда вдали на горизонте вспыхнет и погаснет силуэт звука медных труб… Но не о них речь, вторая часть полна деловых забот.
Приглашенный из Москвы режиссер Алексей Грипич, пожилой, но бодрый, бывший мейерхольдовец, осуществляет скоростную постановку пьесы Горького "Егор Булычев и другие". Я играю гарцеватого и лощеного Алексея Достигаева. Радости от работы было мало. При всем уважении к предыдущим заслугам мастера, душа моя не хотела мириться с нынешней тоской. Однако сыграл и даже нашел какую-то усатую характерность (о, эти маленькие актерские радости). Нравился в роли Булычева А.Демич - старая школа, немного торжества "изображения" над "переживанием", но все-таки вполне достойная, грамотная работа.
Прочитана на труппе ультрасовременная пьеса о журналистах местной писательницы Ирины Тумановской - "Звездные ночи". Главные исполнители разделены на два состава. Постарше возрастом - "первые исполнители", а мы, младшие, - "вторые". Эта работа оказалась горячей и выливалась в целые дискуссии. Не только о том, как играть, но и о том, как жить на свете. Ходульность текста преодолена юношеским азартом участников. Я назначен на главную роль - журналиста Валерия Калитина. Мою "любовь" играет отличная актриса Боголюбова, моего друга - беспокойный Володя Павлов. Мы очень подружились и с ним, и с его женой-художницей. Мы выдумывали новые сцены, боролись за лейтмотив спектакля, за ставшую в те времена популярной песню "Бригантина поднимает паруса…". Под флагом бригантины нам не терпелось сыграть заботу молодежи - прожить свои годы ярко, бескорыстно, на благо людям и беспощадно к окружающей серости или подлости. У нас были противники. Под видом борьбы с "пиратскими" и "вульгарными" стихами они отстаивали свое право - жить тихо, по старинке, не заглядывая ни в прошлое, ни в будущее. Но время и новые книги были нашим подспорьем, и мы все-таки спели свою "Бригантину" на сцене, над бутафорским костром, обмениваясь бутафорскими же репликами, зато глаза наши горели искренним вызовом мещанству - и в жизни, и в театре. Наш состав, по негласному молчаливому признанию труппы и по реакции зрителей, выиграл сражение.
Я не припомню на этот счет победительной радости. Будни большого периферийного театра несут в себе громоотвод против идейно-творческих конфликтов: первым исполнителям важнее всего знать, что они - "главный состав", а после престижного этапа премьеры их уже совсем не волнует судьба пьесы или ролей. Слишком много текущих дел, новые назначения отодвигают старые премьеры в тартарары… и конфликт разжижается сам собой. Нравятся вам эти "Звездные ночи" - пожалуйте, играйте на здоровье. И мы "молодым составом" выехали на десять дней - по области, по городам и селам… не столько утверждаться в своих позициях, сколько физически изматываться по площадкам и по зрителям, не очень хорошо подготовленным к столь "современным коллизиям".
Из письма Павла Ивановича Новицкого:
"…Никогда не успокаиваться, всегда помнить ответственность за жизнь. Всегда помнить, что надо жизнь спасти. Это не фраза. Надо спасти человечество от гибели и надо спасти свою душу от омертвения, от равнодушия, от обывательского перерождения.
Надо не довольствоваться средним уровнем своей работы и жизни. Средний уровень означает прозябание, трусость, попытку спрятаться от ответственности, предательство тех, кто борется и творит жизнь.
Надо работать только над трудными задачами, ходить по неизведанным дорогам, изобретать более совершенные вещи и орудия, произведения и методы.
Веня, желаю Вам бодрости и веры. Главное - вера в людей, вера в победу. Жму Ваши руки, целую, будьте здоровы, веселы и всегда правдивы.
Почему Вы замолчали? Обыденщина заездила? Никогда не унывайте и не сдавайтесь. Уверен, что Вы всегда сохраните гордую бодрость духа и не станете слякотью.
П.Новицкий".
…Во второй части - зимняя Волга, семейные война и мир, превосходное окружение старших друзей, шесть сыгранных работ, четкий фокус театральных физиономий, поездки со спектаклями, традиционные "творческие часы" в театре с несколько высокопарным анализом сценических трудов, а также неожиданная радость чтения стихов на радио и целая обойма скороспелых ролей на телевидении: я сыграл там, например, сразу трех великих композиторов - Шопена, Рахманинова и даже Моцарта (в инсценировке "Старого повара" по К.Паустовскому). Здесь пришли на помощь и уроки грима, и музыкальное образование.
Беспощадные мои друзья-интеллектуалы совершили важное дело для начинающего актера: никак не позволили впасть в соблазнительное самоупоение по поводу первых ролей… А соблазн велик, как велик инстинкт самосохранения. Чуть адаптируется актерский организм, чуть минует начальный этап личного вклада в общее дело - и вот уже нас тянет махнуть рукой на пережитки энтузиазма, подменить качество самокритичности количеством видимого успеха. А что за успех и как он соотносится с высотой нашей студенческой "планки" - у профессионалов нет ни времени, ни охоты подумать. И незаметно затягивает быт, и студенчество вспоминается только как музыкальный факт биографии. Выигрывает, говоря словами Павла Новицкого, "средний уровень" и - самодовольство в связи с ним…
Третья часть проходила на фоне таяния волжских снегов, обвального вторжения весны и принесла с собой новое впечатление - может быть, самое долгосрочное для сценического опыта. Здесь ракетою к небу взвивается звонкое соло трубы, работяги смычковые симпатично варьируют основную тему, грустными пятнами врезается старая музыка разлуки, появилось множество побочных тем и вопросов у флейты и тромбона, тут есть и цитата из Вагнера, что соответствует действительности третьей части "нашей программы".
Я считаю настоящим везением моего первого сезона участие в спектакле "Ричард III". Спектакль Петра Монастырского и роль Ричарда-Засухина обрели тогда всесоюзную славу и украсили советское шекспиро-освоение. Тема диктатуры и культа Сталина со страниц газет перебралась на сцену.
Что касается Вагнера, то это подробность личной биографии. Роль мне была поручена небольшая - сэра Кэтсби. Всему миру известна истошная фраза Ричарда: "Коня, коня! Полцарства за коня!" Здесь у нас на втором плане звучала музыка Вагнера. А кто ее предложил постановщику, а кто принес из дому свою пластинку с записью "Валькирии" и "Тангейзера"? Сами понимаете, я. Вагнер звучит роково и жестоко. Ричард мечется по сцене, требуя коня взамен за полгосударства, а верный Кэтсби - и никто иной! - отвечает на всемирно популярную реплику: "Спасайтесь, государь! Коня достану!"
Говорят, выигрывают те артисты, которые познают себя на великой драматургии. На данном персонаже, пожалуй, ничего особенно не познаешь. Но сам Шекспир плюс работа постановщика и главного исполнителя оказались в итоге заметной школой на моем пути.
"Ричард III" затмил все частные переживания, все подробности моего быта и трудов земных. Работа над Шекспиром вырастает в моей памяти монументально, как единственное воспоминание трех-четырех месяцев 1962 года. Городская молва театралов пророчила провал "Ричарду III". Не будучи эпигоном, любя театр как самого себя (и наоборот), Петр Монастырский получал за счет дурной молвы прекрасное оружие - оружие "преодоления". Самой большой брани - и внутри театра, и вне его - режиссер удостоился за выбор актера… Николай Засухин - Ричард? Ну - Ваня, ну - Петя, Миша, в конце концов, но уж никак не Ричард, вы меня извините… Пророки-театралы перестарались, они забыли, что каждая новая работа Засухина на куйбышевской сцене побеждала вопреки предчувствиям. Это существует такой разряд актеров - играющих вопреки предчувствию, но абсолютно убедительно. Засухину приходилось преодолевать гораздо больше, чем молву и чьи-то домыслы. Он преодолевал каждый раз всего себя: внешность, социальный тип, покойную речь, домашний "неактерский" человеческий стиль.
Итак, "Ричард III". От первой до последней репетиции я прошагал от дома до театра, просидел в зале независимо от личной занятости - и все рядом с Николаем Николаевичем, и все благодаря предчувствию чуда. "Ричарда III" готовили в театре весной и в начале лета 1962 года. Показали городской "премьерной" публике. Как это часто случается, публика "лицом к лицу лица не увидала", похлопала дружно и кратко, разошлась по домам… Театр выехал в Москву, на гастроли. "Гвоздем" программы служил "Ричард". Москва жила активной счастливой театральной жизнью. Вот неполный перечень удовольствий любителей театра того времени:
"Варвары" и "Идиот" - Т.Доронина, И.Смоктуновский, П.Луспекаев, Е.Копелян и др. - в дни гастролей театра Г.Товстоногова; розовские спектакли А.В.Эфроса и его громкое начало в Театре им. Ленинского комсомола; "Власть тьмы" и "Каменное гнездо" в Малом; "Дамоклов меч" у Плучека в Сатире; акимовская "Тень" Е.Шварца (тоже гастроли ленинградцев); все первые спектакли О.Ефремова и молодых "современниковцев"; "Вид с моста" у А.Гончарова… Москва была близка к театральному зазнайству. И тем не менее "Ричард" имел оглушительный успех.
Надо сказать, что спектаклю повезло и с художником: москвич Петр Белов создал одну из своих лучших декораций. Два или три раза "Ричард III" был сыгран на сцене Театра им. Ермоловой. И зашел я как-то после спектакля в гримерную Засухина. Вижу, входит известный артист, красивый, полный, сияющий улыбкой Леонид Галлис. Ермоловец пришел приветствовать в своем доме дорогого гостя. Засухин стоит перед ним Ричард Ричардом, взмокший, но добродушный.
- Браво, дорогой коллега! Спасибо, поздравляю от всей души!
Засухин вежливо кланяется, извиняется, переодевается. Галлис садится, и Николай Николаевич ему виден только в трюмо. Они весело обмениваются репликами.
Галлис перечисляет, кто из столичных знаменитостей был сегодня и какие комплименты дарили… И вдруг… бледнеет на глазах. А артист привычно снимает иссиня-черный, до плеч парик, накладные брови, бережно отделяет гуммозный нос, стирает морщины… На месте жгучего брюнета с рельефной физиономией оказывается простодушный, белобрысый, лысеющий и курносый самарец, рыбак, добряк - кто угодно, только не кровожадный Ричард… И видавший многие виды Леонид Галлис начинает хохотать, бить себя по коленке, изумляться и цокать языком:
- Вот это номер! Вот это не ожидал! Чтобы такой простой парень - и вдруг… Ну и ну! Теперь уж я поздравляю, извините, самого себя… гм, с открытием!
Засухин, мне казалось, больше уставал от выходов на поклоны, чем от всего спектакля. Зритель без конца скандировал: "Браво, Засухин! Оставайся в Москве!" Через много лет он "послушался" и остался. И работал, между прочим, артистом (народным артистом) в Художественном театре. Но это - совсем другая песня, другой разговор.
Я опустил в рассказе, как много Засухин, обычно молчаливый и внимательный слушатель, - как много он говорил во время подготовки "Ричарда III"… Говорил о детстве, о родителях, о каких-то обидах и недоверии к нему смолоду в театре, о своем любимом дядьке - знаменитом артисте П.А.Константинове, а всего чаще - о войне, о риске, о смертях, об аэросанях, о своем фронтовом прошлом… И это он не ради моих "красивых глаз" исповедовался. Ради великой роли интуиция актера поставила на карту все сущее в нем. Он хлопотливо разгребал то, что нажил, и особо доискивался сильных впечатлений. Война и болезни, смерти и подлость, взлеты и падения питали, мне кажется, мозг и фантазию артиста. Этот багаж личных страстей и догадок о мире позволил ему сыграть труднейший образ так просто, трагично и неповторимо.
Третья часть отзвучала фанфарами в честь большого артиста. Первоначальная тема тромбона переплавилась и составила бодрую основу мелодии фанфар. Оркестру словно бы позабылось самодовольство увертюры. Словно найден таинственный ключ к благозвучному разрешению темы надежды.
Однако финальная музыка достаточно горька и печальна…
Человек начал самостоятельную жизнь с приличным запасом гордости. Человек сам решил свою судьбу в пользу нового знания, он нарочно уехал подальше от привычного, милого, от опеки - а для чего? Для того, чтобы первые опыты в профессии помогли скорейшему достижению искомого результата - найти самого себя, раскрыться на сцене. Будем смотреть в глаза правде: ему удалось многое. Превозмочь детское иждивенчество, научиться встречать удары судьбы без капризов меланхолии, работать в жестоких условиях периферийных авралов, не обольщаться видимостью успехов, не доверять закулисным сквознякам пасквилей и лицемерия. Ему удалось многое, но главное осталось за бортом. Ни многочисленные спектакли (9 названий за один сезон!), ни товарищи, ни режиссер, ни он сам ни на шаг не продвинули, по сравнению с училищем, ответ на вопрос: кто ты такой?
Все множество задач, которые в пушечной поспешности я решал в театре на Волге, оказывается, были подчинены производству, плану, дисциплине труда, но ни разу - собственной индивидуальности. И только под занавес жизни в Куйбышеве на опыте отчетливого потрясения старшим мастером в шекспировской роли я понял: во-первых, этот театр обошел меня, не задел, не просквозил моего личного сознания, а во-вторых, возможен и прекрасен другой случай, где актер становится артистом - то есть возвышается над ролью, вооружается ролью и играется ею, филигранно отработав все детали, ради чего-то высшего, ради высшего добра, может быть. Только в этом случае театр оказывается праздником игры и школой жизни в самой нешкольной, захватывающей степени.
Ошибется тот, кто обернет мой рассказ против данного театра или, не дай бог, против провинциального искусства вообще. Истина в актерской судьбе индивидуальна. У меня лично сложилось так, а не иначе. Но я на всю жизнь сохраню глубокое почтение к труду моих первых коллег и товарищей - тем более достойному, чем суровее его режим. А что до понятия "провинциальность", то я и сегодня убеждаюсь, что оно скорее ментально-эстетическое, чем географическое.
Когда закончились гастроли, когда прошел летний отпуск, когда я с "семьей" (жена и два чемодана) переехал на теплоходе в Куйбышев, меня хватило в новом сезоне только на один месяц. Я дезертировал в тыл, в Москву, без определенных надежд, но с уверенностью. Все было при этом - и беседы, и переживания, и телефонные звонки, и масса советчиков. Я уехал. К этому времени у меня сложились деловые и дружеские связи с куйбышевскими журналистами из "Волжского комсомольца". Вышло несколько моих заметок - на темы кино и театра. А в мой последний день, 29 сентября - так случайно совпало, - вдогонку моему "поезду побега" газета напечатала на трех полосах мою огромную пламенную статью. Там состоялся посильный разбор и расчет со всеми ценностями искусства, связавшими начинающего актера с городом, который он теперь покидал навсегда.
Я уехал, потому что второй сезон не обещал мне ни интересных ролей, ни развития. И режиссер не обещал. Я уехал не только в родной город - согреться после "ненастья". Нет, я надеялся на удачу, на такое дело, где буду нужен и полезен, я сохранял в душе все затихающий звук камертона, внушенного вахтанговской школой.
МОИ МОСКОВСКИЕ ДРАМЫ И КОМЕДИИ
Москва. Осень 1962 года. Живем с женой в стареньком бараке, ожидающем слома: приютил двоюродный брат. Я топлю кое-как печку и совершаю налеты на театры. Кто-нибудь да примет. У Охлопкова отложили до весны. В Ермоловском Б.Шатрин назначил показ и недовольно буркнул: "Не надо было из Куйбышева сбегать, хорошими театрами не бросаются". Евгений Симонов дружески обнимает (он руководитель Малого театра), многословно посвящает в свои неприятности, обещает. Но от нашего общего с ним педагога узнаю, что не стоит больше ходить. Месяц моей персоной занят Ю.А.Завадский. Он видел "Опаленных жизнью", хвалил мою роль, созванивался со старым другом Б.Е.Захавой. Тот ему подтвердил хорошее мнение, рассказал, что за надежды я подавал и как умел "держать зернышко". То есть зерно образа, по термину К.С.Станиславского. Юрий Александрович слушает мои отрывки, советует, очень приятно делится новостями - об американском балете, о премьере в Большом театре; шутит, вспоминает Маяковского. Затем велит мне готовиться к серьезному показу перед художественным советом. Монолог из "А.Б.В.Г.Д." Виктора Розова и монолог Дон Карлоса из Шиллера. Время идет, худсовет откладывается, Юрий Александрович просит позвонить через два дня. Я звоню через три, он недоволен, что я не мог еще пару дней подождать: заболела Серафима Германовна Бирман. Жена моя Алла устроилась инженером не по прямой специальности, но ее жалованья кое-как хватает, жарим котлеты под треск печи в стареньком бараке на Бутырском хуторе. Стены оклеили афишами и фотографиями моих спектаклей прошлого года. Я пишу повесть об актере. Настроение бодрое. Выдержки читаю профессору Ю.Бореву, живому и близкому человеку, щукинскому преподавателю эстетики. Из Петропавловска-Камчатского вернулись, по моему образу и подобию, Юра Авшаров с Наташей Нечаевой, друзья-однополчане. Юру после мытарств взяли в Театр сатиры, а Наташа, чрезвычайно одаренная характерная актриса, прописалась в родном институте, преподает сценическую речь и художественное слово… Возникли было надежды-разговоры о создании нового театра - на каких-то романтических условиях: и профессионального, и человеческого отбора. Это все слухи, мечты, прожекты. В ноябре мне посоветовали показаться в Театр драмы и комедии. Я совсем ничего о нем не знал, кроме того, что туда ушли многие наши выпускники и что там работает Надежда Федосова, поразившая меня в роли матери в фильме Ю.Райзмана "А если это любовь?". Покажись, советовали, какой-никакой, а театр, там перезимуешь, а потом, глядишь…
Ничего не знаю печальнее на театре, чем эти регулярные показы артистов. Когда предъявляются к новой жизни студенты-дипломники, это еще полбеды. Они хоть сколько-нибудь защищены отметками, молодостью, фанаберией. И кроме того, они являются в театры своей командой. Но когда профессионалы, кочевники-горемыки решаются переустроить судьбу: записываются в очередь к заведующему труппой такого-то театра, ждут, репетируют со случайными помощниками-партнерами, не спят ночей, узнают о бесконечных переносах дня показа и, наконец, предстают перед лицом незнакомого синклита… Сердце сжимается при виде этих хлопот с переодеванием, с реквизитом… На лицах, конечно, возбуждение, воодушевление и остатки былой самоуверенности. А в душе… Актеры выкладываются в отрывках, поют, танцуют, играют на гитарах - подчас в нелепой обстановке случайного помещения. Главный режиссер сидит в окружении главных артистов, членов совета. Они о чем-то значительно переговариваются. Входят и выходят здешние актеры - солидные люди с зарплатой, с ролями. А что такое показываться в знаменитый театр? Помню, меня попросили "подыграть" в некоем отрывке, и я проехался по показам в Театр сатиры, на Малую Бронную и в Театр им. Пушкина, к Б.Равенских. Мне-то ничего не грозило, я-то уж, как говорится, был "в полном порядке", но боже мой, что делалось с моим организмом. Дрожь заячья. Руки-ноги не поспевают за словами. Слова не поспевают за мыслями. Мысли обледенели. А на тебя внимательно взирают, удобно расположась в креслах, на стульях и на столах, знакомые, незнакомые, маститые, киноэкранные… А каково же главным "виновникам торжества" - этим тысячам по праву и без права ушедших, уволенных, ищущих место актеров! Бедная актриса или актер обязаны целому сборищу неродных людей выдавать напоказ не только страсти и умение играть образы, но заодно и свои руки, ноги, торс, волосы, дефекты речи и лица, цвет кожи и неказистый рост… Благословен тот коллектив, который умеет быть гостеприимным в день показа (независимо от того, нравятся или не нравятся нынешние гости); низкий поклон тем хозяевам театра, которые делают все возможное, чтобы унизительную суть данного зрелища максимально приукрасить покойной атмосферой, дружеским участием и хотя бы видимостью теплоты, заинтересованности, что ли…
Короче говоря, я показался и был принят. Монолог Дон Карлоса читал в настроении Ричарда - Засухина. В отрывке из "После бала" Н.Погодина, в шутовской роли Барашкина, выступил с помощью однокурсницы Татьяны Акульшиной. По обычаю, доказывал, на что способен и в драме, и в комедии. Тем более что к этому призывало название театра (самое, к слову сказать, расплывчатое из названий).
Итак, с конца ноября 1962 года я служу в Московском театре драмы и комедии. Главный режиссер - Александр Константинович Плотников. Один из первых выпускников ГИТИСа, приглашенный когда-то Вс.Мейерхольдом на пробу Хлестакова, острохарактерное, недюжинное дарование… Когда в 1964 году он покинул наш театр, его несколько раз приглашали в кино, и перед смертью он доказал, что актерское ремесло забросил напрасно. Я очень запомнил его занозистого, крикливого генерала в фильме "Возмездие" А.Столпера по книге К.Симонова. Да, он распорядился судьбой, как мне кажется, менее успешно, чем она желала распорядиться им. Александр Плотников организовал театр в 1945 году, сразу после войны. Горячий пафос победителей, гордая, счастливая любовь к Родине находили выход в откровенной громогласной патетике. Таковы были фильмы той поры, ансамбли песни и пляски, архитектура высотных зданий и избыточная лепка вестибюлей кольцевой линии Московского метрополитена. Таков был и молодой Театр драмы и комедии со своим первым нашумевшим спектаклем "Народ бессмертен" по В.Гроссману. Историки - специалисты театра называют в качестве особенно заметных еще два спектакля: "Дворянское гнездо", где блистала Татьяна Махова, и "Каширская старина". К моему времени театр этот хвалили двояко: за старые заслуги либо за то, что это… "театр тружеников". Так говорили и в Московском управлении культуры. Моральное, человеческое состояние труппы находилось на вполне достойном уровне. А то, чего не мог делать режиссер А.Плотников, того уж, увы, не мог. Патетические взывания к артистам, старые методы работы… Актеры, живые свидетели искусства нового времени, участники современных кинофильмов, радио- и телеспектаклей, с трудом переживали свое анахроническое состояние на сцене. Я опускаю перечень спектаклей репертуара, чтобы не впадать в тон сожаления и упреков. Ложные позы и мизансцены, комикование и заигрывание со зрителем, выбор пьес и прочее никак не отвечали ни духу эпохи, ни запросам дня.
В начале декабря в театре случилось событие: приехал Леонид Леонов, которого Плотников и друг театра критик Евгений Сурков уговорили отдать право первой постановки его пьесы "Метель". Пьесу отыскал, опубликовал в "Знамени", предпослав свое вступление, именно Е.Д.Сурков. Пьеса по-своему касалась трагических судеб времени. Классик приехал. Народ почтительно расселся вокруг него. Началась читка. Слегка прижат и неподвижен один угол рта. Седоватые короткие усы. Едкий колющий взгляд… Слова высекаются ясно, четко, крупными слитками. Читал Леонид Максимович замечательно. Мы почувствовали, с какой высоты спустился к нам писатель. После чтения он побеседовал. Мнения труппы особенно не испросил, поделился воспоминаниями о 30-х годах и о том, как ему не посчастливилось с этой пьесой (и даже, кажется, позабыл, как до этого везло и после этого вскоре повезло со следующей, с "Нашествием" - впрочем, и ему, и театрам)… Главные роли поручены главным силам театра - В.Кабатченко, Т.Маховой, Н.Федосовой… Я заработал хорошую, хотя и небольшую роль несчастного влюбленного таджика Мадали Ниязметова.
Ровно год пройдет со времени читки Леонида Леонова. Спектакль "Метель" просмотрит комиссия. В результате Плотников перейдет на радио, а "Метель" разберут по кирпичику. Но это будет через год.
А тогда театр стоял на пороге кризиса. Ходили тревожные слухи о чьих-то интригах, о том, что недруги главного режиссера хотят его свержения, но кризис был объективным фактом. Театральная Москва обходила Театр драмы и комедии. Аншлагов не было. Билеты выдавались "в нагрузку" к дефицитным "современникам". Контингент зрителей был, мягко выражаясь, пугающе пестрым. Александр Константинович Плотников трагически упорствовал, не желал видеть изменений в жизни, не посещал ни одного другого дома, кроме своего театра и своего жилища… Кого-то он обидел, кого-то обманул, кого-то не понял. Например, не принял в свое время Иннокентия Смоктуновского и Евгения Лебедева - за "бледность" их художественных дарований…
Кризис делал свое дело медленно, но верно. Появились группировки. Выделялись свои Робеспьеры и Талейраны. Все смелее подымались головы на собраниях. Свежий ветер времени занес в театр выпускника ГИТИСа, ученика Н.М.Горчакова и А.А.Гончарова, режиссера Петра Фоменко. Вокруг него и его экспериментальной работы, пьесы С.Ларионова "Даешь Америку!", образовалось магнитное поле. Молодые актеры мечтали работать с Фоменко. Часть труппы ворчала, часть молчала, часть сочувственно кивала. Я попал сразу и в "поле", и в компанию третьей части. Вечерами и ночами, вне плана, работали "Даешь Америку!". Днем шли репетиции пьесы венгра Иштвана Каллаи "Правда приходит в дом". Постановщик - выпускник вечернего режиссерского отделения Училища им. Б.Щукина Яков Губенко. Он нервно и стремительно осуществлял свою выдумку. Участников спектакля мало, шесть человек. Спектакль, что называется, мобильный. А он его решил еще мобильнее сделать: лишил света, музыки, радио, мизансцен. Очень увлечен был идеей обнаженного диалога и "крупных планов" на сцене. Пьеса без претензий, на уровне актуальной дискуссии в газете.
Сын отдаляется от родителей, у него своя жизнь, которая взрослым кажется подозрительной. Происходит темная история с какой-то машиной, с какой-то девицей… Родители бьют тревогу, оскорбляют сына недоверием, но все становится на свои места, сын достоин своих родителей; он, оказывается, ничего дурного не совершил, был вполне благороден, и мать плачет, и сын плачет, и правда-таки "приходит в дом". Это было данью так называемой проблеме "отцов и детей". Мою мать играла Надежда Федосова.
Мастера…
Надежда Капитоновна Федосова
Актриса изумительной достоверности. Появление ее на репетициях вызывало чувство надежности и покоя, а на сцене - с первых же слов - чрезвычайного к ней расположения, интереса. И внутренней жизнью, и чистотой речи, и внешним обаянием она мне казалась родной сестрой Николая Засухина. Такие люди вызывают глубокое и сильное уважение к истинной культуре так называемого простого русского человека, без городской мещанской спеси, без громкой родословной. Они полны чуткой заинтересованности в своей работе и в окружающей жизни. Они всегда готовы помочь ближнему, способны на бескорыстие и поддержку. Особая радость - наблюдать, как они далеки от социальной зависти, от суеты, от раболепия перед "высшими" и чванства перед "низшими". В результате выигрывает самое дорогое в искусстве - индивидуальность. С первых же шагов моих в новом коллективе Федосова вела трогательную роль материнства - и на сцене, и в жизни. К совершенно неопытному, щенячьи звонкому режиссеру Яше она отнеслась с верностью профессионала и служаки-капрала. Именно такие мастера лишены досрочной гордыни, умеют слушать указания режиссера. Они хорошо знают цену театральной тарабарщины, когда актер из светлых побуждений не дает постановщику рта раскрыть, спорит, глушит живые ростки интуиции и прозрений долгими "справедливыми" беседами, путает две разные специальности, а жертва тарабарщины - именно он, актер, и больше никто… Федосова - председатель месткома, борец за справедливость, у нее острый язык, и если ее осмеливались недолюбливать, то исподтишка, ибо в открытом споре она обязательно держала верх. Как у любой премьерши, у нее были завистницы, критиканы и недоброжелатели, но, в отличие от молодых примадонн, она не опускалась до сведения личных счетов. Во всяком случае, в пожилые годы не опускалась, не знаю, как было раньше. Она училась в студии у Алексея Дмитриевича Попова, и на премьеру нашего спектакля пришел ее однокурсник Виктор Розов. Я был, как и все, очарован его ранней драматургией и за кулисами глядел на него, как на гения. А они звали друг друга Надя и Витя; он хвалил спектакль (и даже меня лично) - за остроту, за аскетическую форму, за актерские удачи. Надежда Капитоновна сияла - нет, не за себя, а за успех молодых, за призрак светлой надежды…
…Кроме Розова нас посетил Назым Хикмет. Красивый и подтянутый, говорил с нами охотно и с большим акцентом. Он считал важным делом поиск современного языка, отсутствие выспренности в форме и в содержании. Хикмет написал о нашей премьере "Правда приходит в дом" большую статью в газету "Известия". Статью мы прочитали, в ней сдержанно, но твердо одобрены и вкус режиссера, и выбор проблемы, и строгая правдивая игра. В газете статью почему-то не напечатали. Вскоре стало известно, что после долгого недуга прекрасный турецкий поэт и драматург скончался. Я вспоминал его очень бледное, до белизны, лицо, и мне казалось, что тогда заметил какие-то приметы близкой кончины.
Леонид Сергеевич Вейцлер
Отца моего героя в спектакле "Правда приходит в дом" играл Леонид Вейцлер. Актер прекрасной школы, сверстник Ростислава Плятта, он остался в памяти чуть ли не образцом интеллигентности в театре. Начитанный, знающий человек. Ухитрялся даже в самых "пограничных" ситуациях оставаться выше склок и выяснения отношений. Если выступал на собраниях, то темой себе избирал не обвинения, а защиту кого-то. Неглубокие люди объясняли эту черту артиста трусостью. Глупость! Ему нечего и некого было опасаться в его устойчивом авторитетном положении. Скорее всего, для человека его воспитания театр начинался и оканчивался сценой. Кулуары и закулисные кают-компании ему не ближе, чем публика в троллейбусе или в метро. Он совсем не бесчувствен, он абсолютно лишен высокомерия "надевшего шляпу" интеллигента. Просто скандал в троллейбусе или сплетни в театре всегда заставали его соседом, очевидцем, но никак не участником.
Леонид Сергеевич умел хорошо слушать, был замечательным собеседником и отличным партнером в спектаклях. А это редкий талант - дарить вместе с репликами живые заинтересованные глаза, а не пережидать с прохладцей, когда ты договоришь. Благодаря этим чертам и Вейцлер, и Федосова оказались самыми современными артистами театра, сохраняли подлинную молодость духа и живейшую готовность к новому. Через год в новой "Таганке" они оба заиграли у Ю.Любимова. Леонид Сергеевич вскоре умер от разрыва сердца, и это была первая из тяжких потерь нашего театра. Надежда Федосова не захотела оставаться в молодом коллективе, ушла на пенсию.
Петр Наумович Фоменко
Режиссера Фоменко я почитаю третьим из своих главных учителей, из коих первыми явились Владимир Этуш и Николай Засухин. Петр Наумович не довел до конца экспериментальную работу "Даешь Америку!". Помню, сильно возмущались работники театра легкомыслием сюжета (два Колумба готовят к старту каравеллу, набирают участников рискованного рейда; там и штормы, там и паника, там и подвиг, там и открытие, естественно, Америки; в финале Колумбы расходятся, один скромно верен идее новых открытий, а другой, оглушенный медными трубами славы, изменяет идее); кроме того, возмущались развязным поведением "фоменковцев". Пьеса была пусть не безгрешна, зато уж никак не легкомысленна. Развязности тоже не наблюдалось, зато в ночном театре, после трудовой обработки эпизода, допустим, Колумба и Девушки (где присутствовала бутафорская бутылка коньяка), энтузиасты-колумбовцы весело гоняли мяч по обширному фойе. Колумба Первого играл Алексей Эйбоженко. Второго - я. Главными футболистами были - П.Фоменко, Леша-Колумб и художник Коля Эпов.
Через некоторое время, поставив на Малой Бронной "Один год" Ю.Германа, Фоменко приступил в нашем театре к работе над спектаклем "Микрорайон" по Л.Карелину. Петр молод, широк в плечах, спортивен и всем своим обаятельным, спортивным обликом заставляет вспоминать добрые слова "раблезианство", "эпикурейство" и почему-то даже "фламандская школа". Он оставил позади, кроме ГИТИСа и двух первых постановок, целую жизнь в переулках послевоенного Замоскворечья и студенчество в Московском педагогическом институте. Среди его друзей студенческой поры - Ю.Визбор, Ю.Ким, Ю.Ряшенцев… Фоменко не просто эрудирован, он - ходячая библиотека. Он не просто музыкален - он врожденный "консерваторец", собиратель серьезных пластинок с вариантами дирижерского прочтения и т. д. Он превосходно знает поэзию. Одновременно обладает завидным уровнем "научно-популярных" знаний в спортивной, общественно-политической и сексуально-исторической областях. Можно еще перечислять составные части этой пирамиды, но важнее всего самый пик ее: Петр Фоменко посвящен искусству театра. Где бы он ни служил, где бы ни находился - рядом немедленно сколачиваются блоки единомышленников. Он настолько талантлив, что его идеям подчиняются немедленно и радостно. Я помню его первый рассказ: малознакомых актеров он агитировал за пьесу о Колумбах. Характеристики персонажей молниеносны. Формулировки задач парадоксальны и притягательны, а вся речь Фоменко столь обильно сдобрена тут же рожденными афоризмами: "кувыркаться на сцене в блаженном идиотизме", "радушное равнодушие", "степень нахальства снимает со штампа ржавчину". Он так умеет по ходу дела рассмешить и удивить блеском иронии, что первая встреча с постановщиком спектакля превратилась в счастливое событие, в надежное обещание праздника. Процесс работы - это крушение актерских надежд на привычный отдых, на сонливую прилежность. В потоке изобретательных суждений растворены и точное знание предмета, и мечта уйти от умозрительности, отдаться прихоти чувств. Это увлекательное занятие. Фоменко цепляет сегодняшнее настроение артиста, сталкивает его с текстом, будоражит партнеров. Поле наэлектризовано до предела. Сцена сыграна - стоп! "Я подумал - я уверен…" - начинает стаккатированно режиссер. Из конца зрительного зала он барсовым прыжком оказывается на сцене и с ходу воплощает внезапную перемену. Он ее не объясняет, он ее дарит в виде метафоры: "Понимаете, это не любовная сцена - мы ошиблись. Она не унижается до объяснения в любви. "Я тебя люблю, мы должны быть вместе" - это по-деловому. Она жертва своей игры. А он для нее - карта. Хочу - переверну, тогда будешь козырь. А будешь тянуть, сопеть - готов. Я такая, завтра - новый козырь, все! Ясно? Она не дрянь от этого, она от этого - такая, а не всякая другая. Тогда и тебе с ней - трудно. Надо обойти препятствие, тряхануть ее, убедиться в ее одушевленности. "Ты что? Ты кто? Кто ты? Кто?!!" Ясно? Говори мне текст!" Я ему говорю текст, он идеально отвечает, "показывает" ее. Потом, если я что-то импульсивно меняю, ломается привычная интонация, рождается что-то хрупкое, необъяснимое… "ВО-ОТ!" - орет и хохочет режиссер. Хохочут еще двое-трое. Фоменко отбирает у меня реплики, теперь ему "подбрасывает" партнерша. Он хватается за мою случайную ноту, удесятеряет ее звучание. Я перехватываю инициативу. Актриса увлечена новой задачей. Обостряются наши отношения. Я сгораю от нетерпения - дойти до найденного куска… Дохожу, копирую режиссера с добавкой от себя (это еще не бронза, это ведь этап "в глине") - дружный хохот всех, кто в зале… Слово "я" здесь означает любого из моих товарищей.
Назавтра Фоменко может явиться и все поломать. "Я подумал, я убежден - надо не так!" Это только вступление. Он отменяет вчерашнюю "победу", издевается над ней, обзывает "детским садом", мотивирует новую, "окончательную" перемену. В умных рассуждениях режиссера иного типа, в его четкой планировке мизансцен и темпо-ритмов есть свои заслуги, если есть талант. В процессе же работы такого, как Фоменко, идея и познание, размышления и иконография эпохи пьесы - все остается пережитым, обработанным багажом, пройденным этапом. На живой сцене с живыми актерами Фоменко творит внезапность, торопит предчувствие сюрпризов… И они являются… Режиссера волнует живое пересечение материала с кровью и плотью исполнителя, возбуждает богатство красок, музыкальная щедрость голосов, его нервирует настроение пассивных участников.
Рыцарская преданность игре, искусству, живому делу лишила Фоменко многого. Например, отчаяния в годы его затяжного непризнания. Например, страданий от предательств. Разумеется, эта же верность делу, да еще в таком африканском климате работы, объясняет и другие, скажем, досадные качества. Непрерывное горение вариантами и бесконечные переделки плохо совмещаются с плановостью постановок. Значит, кто-то должен нежно "хватать за руку", показывать на часы и следить за своевременностью результатов - да еще так, чтобы не обидеть, не возмутить "рыцаря".
"Микрорайон" репетировали в долгой, почти трехмесячной поездке театра на Север. Это было лето 1963 года. Последние гастроли Театра драмы и комедии. Что запомнилось ярко - это дружная компания юного окружения Петра Фоменко и художника Николая Эпова. Походы и поездки вдоль и поперек Вологодчины. Концерты в Северодвинске. Съемки для телевидения в уважаемом и чистом Череповце. Но более всего: иссиня-белые ночи в Архангельске. И песчаные пляжи, и потешные купания, и долгие разговоры о будущем и настоящем на перевернутых лодках посреди яркого мира Северной Двины где-нибудь в три часа, в пять часов - какая разница? - растерянной, обомлевшей тамошней ночи. В Архангельск все были влюблены - так уж все там совпало… И время надежд, и время года, и природа, и деревянные мостовые, и набережная, и даже уютный памятник Петру Первому. Фоменко беспрерывно взывал к игре - воображения, проделок. Или игре слов. Затащил нас, человек восемь, куда-то далеко над рекою часа эдак в два ночи. Настроил всех на серьезный лад и с видом государственной важности подвел к одинокому фургону с квасом. Таинственно приоткрыл крышку - замок оказался по халатности фальшивым, чего-то еще проделал доступное любому, и мы сладострастно утолили жажду. "А теперь прошу расплачиваться!" - сурово требует Фоменко. И, сдирая с каждого ровно столько, сколько тот задолжал, сдавая каждому сдачу до копейки, Петр Наумович аккуратно уложил, прикрыл крышкой и оформил распиской наш долг архангельскому пищеторгу.
Спектакль "Микрорайон" увидел свет и узнал успех. В полузабытое театралами здание повалил зритель. Замечательно играл роль матерого бандита Алексей Эйбоженко. С неожиданной для "газетно-положительного" героя горячностью, без конца сбивая очки на интеллигентной переносице, хорошо и обаятельно справлялся с ролью агитатора Леонид Буслаев. Всякому Фоменко подарил свою заостренную определенность. И молодому заносчивому другу бандита (Ю.Смирнов), и его невесте (Г.Гриценко). И высокой, красивой героине (Т.Лукьянова), и уморительно смешному "бровастому агитатору" (Н.Власов) с его самодовольным, ни к селу ни к городу распеванием песни "Я люблю тебя, жизнь… я шагаю с работы устало!". Спектакль был чужероден в своих стенах, но прогнать его было нельзя. Он и сослужил службу своеобразного "троянского коня". Он братски протягивал руку брехтовскому "Доброму человеку из Сезуана", разделившему через полгода одну с ним сцену на Таганской площади.
На двадцать четвертом году моей жизни, на третьем году - актерской навсегда закрылась вторая театральная страница.
Таганка
Записки на кулисах
РОЖДЕНИЕ И ДЕТСКИЕ ГОДЫ "ТАГАНКИ"
Ранней зимой 1963 года Москва стремилась попасть на улицу Вахтангова, дом 12а, где на сцене нашего училища шло представление пьесы Брехта "Добрый человек из Сезуана". Дипломный спектакль студентов конкурировал силой производимого впечатления с самыми "взрослыми" новостями сцены. Что я слышал тогда об этом? Училищные друзья мои уже целый год твердили о необычайных событиях, происходящих на четвертом курсе, которым руководила Анна Алексеевна Орочко.
Все старались посидеть на репетициях "Доброго человека", который, как говорили, долго вынашивал и "пробивал" в дипломные спектакли педагог Юрий Петрович Любимов. Помогал ему активно наш старшекурсник и товарищ - Альберт Буров. Главную роль исполняла Зина Славина. Все свои, знакомые лица. Говорят, показали на третьем курсе заготовку первого акта. Народ восхитился. Кафедра раскололась. Кто говорил, что это новое слово в развитии вахтанговской школы, кто требовал немедленного прекращения этого кощунства над вахтанговскими традициями. Мнение студентов и любимых педагогов было, однако, единым: Любимов создает необыкновенный спектакль. Говорят, он сам потрясающе "показывает" Водоноса, придумал какую-то занятную условную пластику… Китайскую? Да нет, какую-то другую. Говорят, играют один лучше другого, а главное - неслыханное единство дыхания. Странно, курс-то обещал быть не ахти каким… Правда, Славина, Демидова, Алеша Кузнецов, Игорь Петров, Ира Кузнецова и еще некоторые с первых шагов обратили на себя внимание, но чтобы так, всем курсом, и один лучше другого… Еще странно, что Любимов, известный своей верностью "системе Станиславского", мастер психологической достоверности в работе со студентами - и вдруг такая вольная по форме, озорная интерпретация Брехта. Еще странно, что именно Юрий Петрович, один из внешне благополучных "героев-любовников" Театра им. Вахтангова, очаровательный "киноудачник", "кубанский казак", вроде бы баловень судьбы и будто бы близкий к "стабильному" руководству Рубена Симонова (и как зав. труппой, и по партбюро, и по худсовету Министерства культуры Союза) - именно он создает уличную, дерзкую драму об отверженных, нищих, обозленных бродягах…
В декабре месяце я пришел в училище, и мой добрый приятель (который когда-то "обслуживал" наш выпуск) Алеша Кузнецов устроил меня на приставном стуле в проходе родного зала. Рядом ходили, сидели и беседовали Завадский, Нейгауз, Шостакович, Юткевич, писатели, ученые - словом, я попал в новую среду… Но вот появился в проходе Ю.Любимов. Здрасте-здрасте, буднично и озабоченно пристроился сбоку, возле фонаря, стоящего на высоком штативе. Повертел фонарем, кому-то поклонился, кому-то из студентов передал указание… Теперь все в порядке. Это не Большой театр, это милое учебное заведение, знакомое до винтика в штативе. Погас свет, началось… Предварительные похвалы, посулы и нервическая обстановка признанного "бума", конечно, помешали личному впечатлению. Для себя в тот раз я усвоил: спектакль удивительной чистоты стиля, напоминает идеально отработанный часовой механизм. Единодушное горение студентов. Славина играет потрясающе. Водонос-Кузнецов восхищает пластикой и музыкальностью. Прекрасны песни-зонги и многое другое…
"Добрый человек из Сезуана", победоносно сыгранный в стенах училища, прошумел в залах Дома литераторов, Дома Советской Армии, в Академии наук, в городе Дубна у физиков-ядерщиков, четырежды сыгран на сцене самого Театра Вахтангова… Множились слухи об успехе щукинцев. Появилась лестная статья Константина Симонова в газете "Правда". Спектакль решили проверить на "рабочей аудитории". Тираны-режиссеры приходят и уходят, а диктатура пролетариата у нас, мол, навсегда. "Добрый человек" триумфально прошел на двух столичных заводах - "Станколите" и "Борце", что помогло поставить важную "галочку": пролетарии поддерживают тов. Брехта. Представители широких слоев театральной общественности в один голос требовали сохранить интересный спектакль, предоставить Любимову с его питомцами профессиональную самостоятельность. Рубен Симонов написал в "Московском комсомольце" о переводе "Доброго человека" в репертуар вахтанговцев. От кого-то из педагогов я слышал о предоставлении выпускникам-"сезуанцам" некоего Дворца пионеров.
В январе 1964 года начались перемены в Театре драмы и комедии. Был представлен новый директор - Николай Лукьянович Дупак, бывший артист Театра им. Станиславского, член бюро Свердловского райкома КПСС, фронтовик, орденоносец, офицер-кавалерист и муж дочери легендарного Чапаева. В конце зимы новым главным режиссером нашего театра стал Юрий Петрович Любимов. Он посмотрел старый репертуар и приступил к нелегкому, но необходимому делу реорганизации… Кого-то из актеров оставляли в труппе. Кого-то трудоустраивали по другим адресам. Какие-то спектакли были сразу сняты. Какие-то доигрывались "по финансовым соображениям"… В актив нового театра был допущен только один "Микрорайон" Петра Фоменко. С курса А.А.Орочко были приняты девять человек, в том числе Славина, Демидова, Кузнецова, Петров, Комаровская, Колокольников… Вывешены первые приказы нового руководства театра. Начались репетиции. Любимов вводил в "Доброго человека" актеров, выверял, уточнял детали для первой премьеры Театра драмы и комедии на Таганке, как его вскоре окрестили в Москве. Хотели и просили: назовем просто "Театр на Таганке". При чем здесь "драмы и комедии"? Все равно никто из театралов его так не кличет. Однако кто-то из начальства заупрямился: "Любимов требует изменить название! Вот ведь какой непослушный!" Итак, нарисовали новую эмблему - квадратный кадр, красный с черной окантовкой, вывесили первые афиши… "Главный режиссер театра - Юрий Любимов". От перечисления двух своих титулов (заслуженный артист РСФСР и лауреат Государственной (бывшей Сталинской) премии) он тогда отказался. То было его актерское прошлое, теперь наступило режиссерское будущее.
В марте 1964-го я успел еще раз посмотреть Брехта - 25-го числа, в день последнего исполнения в стенах училища. Теперь он произвел оглушительное впечатление. Вместе со многими новыми исполнителями я пришел с деловыми намерениями, хотел проследить линию роли Третьего Бога, мне порученной. Я пришел как актер, а не как зритель. И был застигнут врасплох - искусством. Притча о добре и зле. "Театр улиц" - вывеска слева. Прищурившийся Бертольд Брехт - портрет справа (художник Борис Бланк). Над сценой длинная, ломкая надпись "Добрый человек из Сезуана". Декораций почти нет. Спустится сверху детское "облако", за ним вырастут три чинных типа в галстуках и зеленых шляпах "велюр" - вот вам и боги. Вынесут в темноте черную вывеску "Фабрика", сядет под ней на табуреты плотный строй исполнителей, забарабанят в ритм ладонями по коленям - вот вам сцена "фабрики". Убрали табуреты, сдвинули два черных учебных стола, установили вывеску "Табак" - вот вам и лавка героини Шен Те. Здесь торжествует детская страсть подражать взрослому миру, побеждать отсутствие натуральных предметов игрой воображения. Любимов стремительно вводил зрителя - с первых же секунд пролога - во все правила игры. Зритель благодарно соглашался отвечать наивностью на наивность, верой на веру, любовью на любовь. Трагический парадокс разыгран по всем законам психологического театра, но традиции расширены новой эстетикой. Структура замкнутой реальности по требованию автора и режиссера разрушается в необходимых местах, актер выходит из образа, "отчуждается" и прямо обращается в зал… Такого чувственного, такого увлекательного соединения игры и идейности, сценической шалости и гражданской совестливости я никогда не знал. И не предвидел.
Итак, март 1964 года. Сокращение кадров. Добровольный или недобровольный уход прежних жителей Театра драмы и комедии. Один за другим следуют приказы и показы - к Любимову потянулись молодые силы. На сцене активно репетируется "Добрый человек из Сезуана". Из Ленинграда приехала Инна Ульянова с солидным стажем работы у Акимова, бывшая выпускница нашего училища. Ей поручена роль хозяйки Ми Тци, она играет ее остро и уверенно. Щепкинец Валерий Погорельцев вводится на роль Безработного. Станислав Любшин, работавший в "Современнике" и сыгравший у Марлена Хуциева в фильме "Мне двадцать лет", репетирует столяра Лин То. Репетирует маленькую роль тщательно, мучительно, терзает постановщика бесконечными вопросами по системе Станиславского, по сто раз повторяет свои реплики, "проживает" этого Лин То так глубоко, что вызывает к себе уважение одних и раздражение других. Из циркового училища приняты в труппу пантомимисты Валерий Беляков, Аида Чернова и Юрий Медведев. Их сопровождает знаменитый маэстро Сергей Каштелян. Ему суждено заниматься пластическим решением спектакля "10 дней, которые потрясли мир" по Джону Риду. К тому же он будет соавтором и сопостановщиком Любимова. Роль Водоноса репетирует Алексей Эйбоженко. Это центральный образ. Когда-то, на стадии зарождения спектакля, простодушного, хлопотливого, замученного Ванга-водоноса играл в училище Коста Бирагов. Вместе с Бибо Ватаевым, который в "Добром человеке" был красивым, темпераментным героем Янг Суном, летчиком, они составляли осетинскую группу знаменитого щукинского курса. Перед публикой на улице Вахтангова и всюду, где торжественно путешествовал любимовский Брехт, роль Водоноса исполнял Алексей Кузнецов. Удивительно сценичный в каждом жесте и звуке, он, кажется, с пеленок стал профессиональным актером. Во всяком случае, даже на первом курсе я не видел в его работе следов ученичества. Завидная порода! В Водоносе он восхищал легкостью почерка в сложнейшем рисунке, изяществом импровизаций, а также тем, как сквозь все мытарства и обидные неудачи его простецкого героя неугасимо светился насмешливый ум актера. Музыкальный, грациозный, многообещающий талант А.Кузнецова должен был найти интересное развитие в молодом театре. Но актер предпочел отозваться на приглашение Театра им. Евг. Вахтангова. Он работает там все эти годы, но его Водонос, по моему убеждению, остался пиком актерской судьбы. У Эйбоженко этот образ приобрел совсем другую, но не менее интересную жизнь. Я услышал тогда от Хуциева по поводу Ванга-Эйбоженко слова "загнанная собака". Герой Эйбоженко появлялся в любой сцене в состоянии крайнего отчаяния. Маленький светловолосый крепыш добровольно взвалил на себя тяжкую ношу. Он из последних сил воевал перед богами за кандидатуру Шен Те в "добрые люди", впопыхах получал увечья от жадного цирюльника Шу Фу (которого виртуозно играл Игорь Петров), поспевал всюду, задыхаясь. Пот заливал ему глаза, а он все бегал и бегал, по геометрической партитуре Любимова вычерчивал углы воображаемых улиц города Сезуана, успевая поспорить с власть имущими, поунижаться перед богами, похитрить и даже помечтать в своей песенке:
Если б дождь не выпадал бы, Если б он сто лет не лился - Вот бы я с воды разжился: Я по капле продавал бы!..В труппу зачислены два вгиковца: Елена Корнилова смешно сыграла плаксивую Беременную, а Николай Губенко - главного героя, безработного летчика Янг Суна. К тому времени Николай успел сыграть Фокина в том же хуциевском фильме "Мне двадцать лет" и Артура Уи в дипломном спектакле ВГИКа. Казалось, что Губенко весь пропитан солнечной энергией творца и победителя. Он был единственным из актеров, которому Любимов не только внушал и показывал, как надо играть, но которым очень скоро, не скрывая, любовался. Он занял, вместе с Зинаидой Славиной, "вакантное" место фаворита и лидера нового театра.
…В марте-апреле 1964 года на Таганке не было ни дней, ни ночей, ни выходных, ни перерывов… "Доброго человека" готовили единым духом и все вместе. Отыграв эпизод, каждый шел в зал и следил за репетицией независимо от своей занятости. Ночью администратор с обещающей фамилией Удалый подгонял к служебному входу десяток такси, мы разъезжались в спорах о театре… Каким ему быть? Что нам предстоит? Знал ли это сам Любимов? Конечно, прикидывал, но все его существо горело и заражало питомцев одним-единственным: обрести себя сегодня, доказать всем, кто в нас поверил, и тем, кто не хотел верить… Переход с училищной сцены в театр, работа с новыми актерами над "готовыми" ролями, размеры площадки, возможности техники, света - все требовало от режиссера решительности переводчика с одного языка на другой. Спектакль обновлялся, терял и приобретал одновременно.
Премьера разразилась неожиданно быстро, мы не успели как следует испугаться риска: в кассе заранее, авансом, исчезли все билеты, наверное, на год вперед (даже при ежедневном представлении Брехта). А риск был велик, и я хорошо помню разноголосицу первых отзывов. Охотников похоронить затею хватало, и это естественно: слишком редкостный выпал лотерейный выигрыш, слишком молоды хозяева нового дела и слишком явно тут пахло самонадеянностью. Подтверждаю: у неопытных студийцев, схвативших "Бога за бороду", действительно задирались носы при виде очередей у входа. Апрель. Весна. Счастливое время рождения театра. Раннее солнце разморило юные головы. Уж очень утешали восторги первых зрителей… В самом сложном положении оказалась группа "сезуанцев-дипломников". У них не случилось перехода от студенчества к профессии. Тепличные условия вахтанговского парника будто бы продолжались под прежним отцовским попечением. Они не осознали перемен, не учли, что семья разрослась и у Любимова появились новые заботы. Наивными капризами, попреками и обидами сопровождался переход. Привыкшие к училищному теплу, "сезуанцы" удивлялись театральным сквознякам. Правда, в самом начале было не до того. Первая премьера - жаркая страда. Общие тревоги. Совместная бессонница. Единство цели. Отдыхать не удавалось. Главный режиссер требовал крайней отдачи. Его, казалось, не коснулся успех "Доброго человека".
Что помогло тогда Юрию Любимову? О его уникальном чувстве театра здесь не говорим.
Во-первых, "Таганка", что называется, родилась вовремя. Актуальности такого искусства, а не чьей-то прихоти, соответствовал знак Зодиака, под которым Брехт и Любимов заговорили с современниками.
Во-вторых, явление нового режиссера было подогрето духом тогдашней полемики. В заостренности формы, в поэтическом оптимизме студийцев и в их плакатном, простодушном обращении к зрителю звучали явственно заветы Вахтангова. У артиста Любимова за долгие годы театральных успехов, простоев, неудач и наблюдений сложился богатый счет к продолжателям дела Вахтангова. Юрий Любимов боролся за живой театр и за традиции русского авангарда. В его борьбе была благородная корысть: восстановление в правах театра яркой формы народного зрелища. Собственная карьера меньше всего беспокоила тогда педагога училища. Слишком высока была поставленная цель и слишком много сил уходило на доказательство своей правоты.
В-третьих, счастливым обстоятельством оказалось то, что Юрий Петрович не постеснялся в сорок шесть лет стать начинающим и имел мужество пройти мимо своего первого успеха ради чего-то более возвышенного. Тому "виной" - тогдашнее умение слушать, учиться и, как он сам любил говорить, "хорошая компания". Его окружали не болтуны от искусства, а замечательные люди и замечательные специалисты своего дела. И мы скоро поняли, какого класса друзья у нашего театра и каково, отсюда, наше везение.
Многие влиятельные лица помогли "Таганке" состояться в последние месяцы хрущевской "оттепели". Кончалась эпоха, так что театр родился в нужное время и в нужном месте. (Кстати, о месте. В ремонте здание нуждалось чрезвычайно: частенько в фойе стояли ведра, принимавшие в себя то, что пропускала старорежимная крыша.)
Причиной успеха оказался и темп работы. Будучи человеком спортивного склада, не давая себе выходить из атлетической формы, Любимов сразу взял мощный темп. Терять его было бы опасно. Многим казалось, что начинать лучше по-другому. Не пороть горячку. Фундаментально освоиться. Выпустить пару пробных шаров. Дать другим режиссерам поработать - для плана, для отвода глаз и для других реальных выгод. Любимов опустошил афишу старого театра. "Доброго человека" приходилось играть до тринадцати раз в месяц, так что сотое представление таганковского первенца случилось через восемь месяцев эксплуатации.
За три недели заново поставлена шедшая у Плотникова сказка Т.Габбе "Жан Бесстрашный". Режиссер Борис Бреев, протеже П.Фоменко, тоже из ГИТИСа, подвижный, озорной, увлекающийся… Сказку перевернули шиворот-навыворот, в самых невинных сценах наслаждались абсолютно недетскими ассоциациями, дали волю фантазиям и прибауткам… Сказка игралась год; почти все дети были довольны, ограничусь такой рецензией. (А педагоги - не все.) Художника Александра Тарасова, друга Б.Бреева, Любимов привлек к следующему своему замыслу - к пьесе по книге Джона Рида. Искались и находились новые таланты, свежие силы. "Героя нашего времени" оформлял ленинградский художник Валерий Доррер. Музыку сочинял молодой Микаэл Таривердиев. Композитору Николаю Каретникову поручили работать над партитурой к "10 дням". Ассистенты трудились вместе с главным режиссером над Лермонтовым. Трудолюбивый Юрий Андреев, помощник Любимова, корпел в Ленинской библиотеке. Регулярно все собирались. Любимов слушал, поправлял, прикидывал… Он не знал, каким именно будет его театр, но уже точно знал, каким он не будет. Во всяком случае, одним из первых условных рефлексов режиссера стало неприятие говорильни за столом, работы без конечной цели. Жертвой той же полемики пал застольный период. "Нечего трепаться, раз-другой прочли - пошли на сцену. Там надо пробовать, там наша жизнь. За столом другие работают, они за это деньги получают". Следующая жертва - грим. "Мне надоели эти раскрашенные губы и глазки, эти подозрительные мужские румяна - на кой черт обманывать зрителей? Зачем отдалять себя от них еще и гримом? Зритель умен, он хочет видеть живую плоть - и как артист бледнеет, и как краснеет… Грим оправдывает фальшь!" Цитата, разумеется, по памяти…
Петр Фоменко готовил пьесу "Хочу быть честным" В.Войновича. К сожалению, Любимов поспешил прервать работу, не принял ее. Фоменко начал в экспериментальном порядке трудиться над комедией "Корова" Назыма Хикмета… Я репетировал у него Капитана-жениха… Любая сцена в руках у Фоменко начинала соблазнительно играть неожиданными красками, отдельной радостью было следить за его обращением со словом. Преданность литературе, поэтический слух, любовь к форме - это роднило Любимова и Фоменко. Позже нашлось довольно поводов, чтобы их пути разъединились… "Корову" сняли с репетиций за… бездумность и вычурность. Через три года спектакль "Дознание" по пьесе П.Вайса на генеральной репетиции расколол зрителей на восхищенных и возмущенных режиссурой П.Фоменко. Любимов снял готовый (по-моему, превосходный) спектакль с репертуара. Петр Наумович покинул "Таганку".
Ремонт в театре, спектакли идут в помещении Театра им.Маяковского. Затем мы выехали на гастроли в Рязань, где активно репетировался "Герой нашего времени". В Рязани "Доброго человека" больше всего оценила студенческая аудитория. По приезде в Москву выпускали "Героя" срочно, не дождавшись утепления здания и окончания ремонта. В зале вместо рядов кресел стоял стул Любимова и табуреты из "Доброго человека". Все сидели в пальто. На сцене, где изображался Пятигорск, персонажи скидывали пальто, играли сцену, снова накидывали и шли в зал. В театре появились еще два новых артиста, они поступили где-то перед началом работы над "Героем". Валерий Золотухин репетирует Грушницкого, одновременно "доигрывает" свои роли у Завадского, в Театре им. Моссовета. Весьма успешно окончив "музкомедию" в ГИТИСе, бодро начав профессиональную карьеру в академическом театре, он вдруг посмотрел "Доброго человека из Сезуана" и бросил все на свете ради мечты сыграть… Водоноса. Я его за такое "бешенство риска" полюбил. Вторым приобретением накануне "Героя нашего времени" был наш ровесник, выпускник Школы-студии при МХАТе, разменявший второе или третье место работы, сочинявший пародии на блатные песни - Владимир Высоцкий. Ему поручили роль драгунского капитана. Губенко был Печориным, княжной Мери - Елена Корнилова, Верой - Алла Демидова, мамашей Мери - Инна Ульянова, Максима Максимыча играл Леонид Вейцлер, а самого Лермонтова - Станислав Любшин. Инсценировали роман Юрий Любимов и Николай Эрдман. Перечень близких друзей, наставников и советчиков нашего режиссера всегда начинается с этого имени. Я помню, еще студентами, мы видели, с каким почтением этого знаменитого драматурга встречал весь Театр Вахтангова и как провожал в ложу на премьере своего театра Рубен Симонов. Я читал у Валентина Катаева в "Траве забвения" о первой читке "Бани" в 20-х годах, дома у Маяковского: поэт пригласил самых дорогих гостей, цвет тогдашней художественной интеллигенции - Эрдмана, Мейерхольда, Вольпина, Бабеля… Первым был назван Эрдман… После триумфа его "Мандата" в театре Мейерхольда он написал новую пьесу, высокую комедию о низменных страстях совмещанства. Ее приняли и у Мейерхольда, и во МХАТе. Главные роли репетировали Эраст Гарин и И.М.Москвин. Она называлась "Самоубийца". Константин Сергеевич слушал автора дома. Третьим был Виталий Виленкин. Эрдман читал без тени улыбки, озабоченный делами персонажей, с той прозрачной, невинной и ровной интонацией насмешки, которая доводила слушателей до гомерического хохота, хотя автор, казалось, не имеет к этому никакого отношения. Он прошел в качестве поэта школу имажинизма рядом с Есениным и Шершеневичем. Он был прославлен своими стихотворными памфлетами, частушками и цирковыми репризами. Я слышал от В.Я.Виленкина, как радовался Станиславский, как восклицал, вытирая слезы и уставая смеяться: "Гоголь! Ну, Гоголь!" - и каких похвал удостаивал на труппе МХАТа очень тихого, подтянутого, обаятельно заикающегося, аристократически горделивого Николая Робертовича. Мне посчастливилось, вместе с моими товарищами, через тридцать три года после К.С. присутствовать при чтении "Самоубийцы" ее автором… И это оказалось едва ли не сильнейшим театральным событием всей моей жизни. Тогда же Любимов предпринял безнадежную попытку поставить комедию Н.Эрдмана. Все делалось в одно и то же время: и "Герой нашего времени", и "10 дней", и "Корова", и "Самоубийца", и сказка, и "Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и миссис Мун" Д.Пристли. На последнем немного задержусь.
В числе первых безоговорочных защитников нового театра, кроме людей нетеатральных профессий, было, разумеется, много артистов и режиссеров. Гостями наших премьер, широких обсуждений или дружеских вечеринок были Борис Бабочкин и Юрий Завадский, Аркадий Райкин и Леонид Утесов, Михаил Ульянов и Владимир Этуш, Анастасия Зуева и Михаил Яншин, Софья Гиацинтова и Серафима Бирман… Серафима Германовна поставила у А.К.Плотникова, за год до прихода Ю.П., эту пьесу Д.Пристли. Любимов попросил ее возобновить работу с новыми исполнителями. Демидова второй раз сыграла героиню Пристли (в постановке В.Г.Шлезингера "Скандальное происшествие" было тоже дипломной работой "сезуанского" курса). Борис Хмельницкий и Всеволод Соболев назначались на роль мистера Кэттла. Никакого отношения к программной линии театра пьеса не имела. Но как выход из репертуарной паузы, как выигрыш времени и актерская практика, спектакль был признан весьма достойным.
Я попросился посидеть на репетициях. Ученица Станиславского, сверстница Вахтангова, Серафима Германовна Бирман больше всего поразила меня в "Иване Грозном" С.Эйзенштейна и в "Обыкновенном человеке", фильме по пьесе Л.Леонова. Это была фантастическая актерская флора. Она обдавала зрителя тропическим жаром, высокими, фальцетными звуками голоса, потом она делала один шаг, и мы вместе с нею замечали, как вдруг оказывались в северно-ледовитой области ее басового ключа… Русские психологические корни и речь, южный темперамент и заполярное свечение глаз, владение собой где-то на широте Шпицбергена - все это запросто уживалось в высокой женщине с некрасивым лицом, от которого, однако, невозможно было оторваться. Как же я был удивлен присутствием всего перечисленного арсенала у Бирман-режиссера, рядом с собою, в двух шагах от меня! И как же я глуп, что посмел удовольствоваться всего двумя посещениями ее занятий.
В "Скандальном происшествии" репетировались тогда дуэтные сцены героя и героини. Демидова играла изящно, стильно и умно. Хмельницкий не умел скрыть молодости, даже восторгался, до чего же он молод и хорош, и этот восторг понемногу разделяли и зрители. Соболев играл расчетливей, суше, очень убедительно: насколько возможно, когда русский играет породистого англичанина. Посреди расчетливой серости чопорной Англии происходит взрыв протеста. Он соединяет двух людей, которые пытаются спастись от бездушности мира. Они совершают чудачества, навлекают на себя подозрение в сумасшествии, составляют вместе отчаянный домашний оркестр на кастрюлях и Бог знает на чем, "разучивают" музыку "Половецких плясок" - и все это обуздает общественный приговор, и все это, оказывается, было любовью. Таков вкратце смысл пьесы. Теперь цитирую дневник 1964 года. Репетиционный зал. С.Г.Бирман и исполнители главных ролей - А.Демидова и Б.Хмельницкий.
"Вот что я успел втихаря записать и запомнить. Это - ее речь, вернее, обрывки. Ей важно заразить репетирующих. Она не желает следить за плавностью своих фраз. Выпаливает их поспешно, часто не завершает, часто дополняет жестами и гримасами, мимикой. Вообще поразительно беспокойна. А если вдруг покойна, слушая диалог актеров, - тогда тревожно-неестественна, комична, как надувные зверюшки. Зато в беспокойстве своем - органична, грубовата, хороша, в чем-то даже гениальна… Вот ее обрывки:
- …изумительно оптимистическая вещь (это - баритоном);
- …у него тут - ЛЮБОВЬ!! (последнее - фальцетом);
- …меня ученики либо ненавидели, либо очень любили (это - влажным контральто);
- …сейчас много модного искусства… все знают, что можно, что принято… много модного… вот ведь шубы гордо носим искусственные, да, а вчера Маша Максакова вышла петь, на ней - живой палантин… и все любовались… шубы-то носим искусственные, а кусочек настоящего - дороже всего!
- …эта пьеса - над уровнем моря… надо играть, двигаясь по проволоке…
- …он солидарен с этой свободой, он сам не половец, нет, он аккомпанирует половцам… а его душа - с нагайками! по степи! в это же время! (сказала так, что в ушах засвистел ветер);
- …надо играть роли перпендикулярно словам!!!
- …он этой свободе аккомпанирует, как сестре! как чему-то самому любимому! (сказала и помрачнела, будто бы сама себя задела за живое);
- …я иногда могу сказать глупость, а иногда - очень верную вещь… - Вздохнула и завершила неожиданно тихо: - Это - как судьба…
- …надо уметь тормозить. Здесь у вас торможение чего-то, что трудно тормозить… вот ведь бывает тормоз Матросова, а бывает - Вестингауза… в поездах (кажется, даже ей показался странным этот взлет технической эрудиции);
- …уверенных - ненавижу! верящих в себя - да! (то есть верящих очень любит). Когда я стану уверенной - значит, умерла (совсем низким голосом, угрюмо и упрямо);
- …а вот какая нужна актерам непосредственность. В Бессарабии справляли какой-то юбилей. Идет царь по рядам. Подошел к красавцу молдаванину: "Хорошо тебе живется, молодец?" Тот ответил, как его выучили, по всем правилам. Через некоторое время - от нечего делать, что ли, царь опять спросил у красавца: "Хорошо ли тебе жи…" А тот брови задрал и перебил: "Ваша ампараторская величества, вы ж уже спрашивали!"
- Императрица приезжает в МХТ. Все выстроились после спектакля, весь театр по струнке. Она - вопрос, ей сразу - ответ. А вопрос один и тот же: "А вам трудно играть было вашу роль?" - "Да, ваше величество, трудно". - "А вам трудно?" - "Да, ваше величество!" - "А вам?" и т. д. Леонидов терзался-терзался, - когда до него дошла очередь, как грохнет: "А мне не трудно!" И убежал (кажется, впервые засмеялась, глаза стали теплые и добрые);
- …у него, понимаете, спортивные ноги, и у нее - спортивные лопатки, надо чувствовать пружину, это надо почувствовать самому.
Скоропалительно пронзает диалог тонкой иглой замечаний, не прерывая хода дела, - как дирижер своей палочкой:
- Восторг! У него тут сидит восторг!!
- Так! А теперь - в атаку! Не спускайте с нее глаз - атакуйте!
- Так! Так! Главное почувствовать: "Ты был безрассуден - и я влюбилась…" Значит, как надо быть безрассудным, чтобы можно было влюбиться!
- …а вы смотрите, ловите: он сегодня сидит НЕ ТАК! смотрит на вас НЕ ТАК! говорит НЕ ТАК!
- …муж мой уходил в ополчение, будь оно проклято, и мы прощались. Попрощался хорошо и вдруг, нарушая все законы, заорал на меня: "Нка тебе два куска сахара, и… не будь дурой! - не оборачивайся!!"
- …наши учителя никогда не льстили молодым, вечная им память. Зато уж они никогда не узнали унижения зависимости от молодых. А мы теперь знаем (сказано быстро, просто и как-то по-новому ровно, одним духом)…"
Первой премьерой после перевода "Доброго человека" из вахтанговской студии на сцену театра стал "Герой нашего времени". Пьесу по роману Лермонтова писал специально для Любимова Николай Эрдман, и уже самим прологом предвосхитил будущую "навязчивую идею", тему множества таганковских работ… Государь император расхаживает вдоль фрунта придворных, давая свою печально известную аттестацию роману Михаила Лермонтова: "Я прочитал "Героя" и скажу…" Поэт и власть. Свободное творчество и диктатура режима.
Конечно, каждому из нас и всему таганковскому зачину повезло оказаться в точке скрещения трех дорог - Лермонтова, Эрдмана и Любимова…
Странный казус случился на премьере. Мы в темноте заготовились на сцене, поднялся, глухо рокоча, световой занавес… Сейчас он застынет, и начнется сцена "На водах". Но он не застыл, а снова опустился, рокоча, до нуля, и снова поднялся, и опять опустился… Мертвая тишина: задумчивая - в зрительном зале, обморочная - на сцене.
Так с технической накладки и открылся наш "Герой". Но историческая реприза впереди. Мы сразу рычание настырного занавеса сочли за дурной знак (актеры суеверны). Правда, когда спектакль завершился овациями, многие забыли про начало. Но день-то был - 15 октября 1964 года! В этот вечер Юрий Карякин принес за кулисы известие: сняли Хрущева. И вся историческая символика "накладки" объяснилась тревожной новостью: сняли Хрущева… Вот отчего рычал наш занавес, никак не давая двигать историю дальше.
Спектакль не был признан шедевром Любимова. В будущем мы поминали "Героя" добром и шуткой: мол, премьеру гнали к юбилею Лермонтова, начальство за это обещало отремонтировать театр, так что - "какой ремонт, такой и спектакль". Впрочем, я готов представить, как мог бы Ю.П. через десять лет вернуться к Лермонтову, переведенному Н.Эрдманом и им самим на язык сцены. Мне кажется, что сама по себе инсценировка со стремительной сменой картин, с введением в прологе и эпилоге Царя, рассуждающего о "Герое", и Автора, очень хороша и заманчива для "второй попытки". И режиссура, и вся пластика спектакля, и его музыкальность, и множество остроумных находок - все вошло в копилку "молодого режиссера". Может быть, одним из просчетов была "линия наименьшего сопротивления" в решении образа Печорина. Николай Губенко предпочел не уходить далеко от успешно сыгранных ролей - Артуро Уи и Янг Суна. Мне нравились перенесенные из этих образов экстремизм Печорина, его ядовитый глаз на окружающих и упругая легкость, подвижность манер и походки. Но глубокая впечатлительность героя, обаяние незаурядной личности, лермонтовская тоска по неистраченности духовных резервов и едкое жало иронии к самому себе - увы, не состоялись в нашем Печорине. Он не вырастал из чайльдгарольдов, онегиных или чацких, он ощутимо врастал в породу глумовых, в компанию бездуховных циников, разрушителей идеалов. Изумительные слова Лермонтова "А ведь было же мне предназначение высокое…" звучали по адресу какого-то другого Печорина…
И все-таки надо оценить явные заслуги (и Губенко, и всего спектакля) перед лицом будущих премьер и поисков. К таковым, помимо всего прочего, относятся и выработка общего языка для режиссуры и артистов, и закрепление художественной позиции театра, и - что крайне важно - первая основательная встреча с техническим подспорьем, с будущими верными друзьями Юрия Петровича Любимова: с резервами театрального света, музыки, особого языка конструкций… В пристрастиях Любимова окончательно возобладала потребность конструктивных решений противу павильонного натурализма. Навсегда отменялись расписные задники, громоздкие декорации, бутафория кустарников, последние признаки "четвертой стены". Следующая работа театра во весь голос справляла торжество вольной фантазии, наивного и свободного обращения с пространством, богатой игры света, музыки, драмы, пантомимы, поэзии, плаката - и все во имя единого образа, новой небывалой метафоры театра. "10 дней, которые потрясли мир" изготовляла уже рука уверенного мастера.
Когда Ю.П. читал на труппе сценарий по книге Джона Рида, в наших рядах почувствовалось замешательство. Как ни прочен был сговор единомышленников-студийцев творить сценические эксперименты, однако привычка к драматургическим канонам была сильнее. Раз уж сказано "пьеса", так подайте действующих лиц и сквозной сюжет (он, допустим, любит ее, а она увлеклась, скажем, старшим агрономом), а потом уж извольте искать и экспериментировать. И вдруг нам выдаются за готовую пьесу разрозненные эпизоды, сотни персонажей, хаос картин вне видимых связей меж собой: то вдруг массовый митинг с речами и выкриками, то вдруг из-под земли вырастает Пьеро с песенкой Вертинского, то вдруг живая (как в нормальной пьесе!) сцена матери и сына-арестанта из Леонида Андреева, то вдруг схематическое обещание такой или иной пантомимы… Было над чем задуматься. Но доверие к постановщику "Доброго человека из Сезуана" было столь велико, что работа закипела буквально во всех углах маленького здания. В буфете, в гримерных, в фойе - под рояль, на сцене и в кабинетах дирекции - под гитары. Из Брехта взяли готовый образ уличных музыкантов. Расширили строй гитаристов. В центр их водрузили того же Бориса Хмельницкого с аккордеоном: это ведущие спектакля, его музыкальные гиды. Борис Хмельницкий и Анатолий Васильев еще второкурсниками-щукинцами помогли дипломному спектаклю Любимова не просто сочинением музыки к зонгам Бертольда Брехта: их гитара и аккордеон, их облик и манера исполнения стали образом уличного оркестра. Теперь они приступили к созданию новых песен. К этому же делу Любимов привлек, помимо композитора спектакля Н.Каретникова, нового своего актера - Владимира Высоцкого. Его стихи, музыка и исполнение в картине "Логово контрреволюции" мощно организовали важнейший эпизод. Рождались песни. Они ложились в основу новых и новых сцен. Они служили монтажными стыками, они итожили, резюмировали происходящее - на стихи Тютчева, Блока, Брехта, Самойлова, Окуджавы… Эпизоды, наскоро слепленные в кулуарах, выносили на сцену. Совместный азарт предложений насыщал эпизоды красками. Любимов благодарно использовал личные возможности каждого, корректировал манеру и ритмическое дыхание пьесы… Закон студии - отдача сил без расписания. Назначен на роль - репетируй усердно, как можешь и как обучен в школе. Но сверх этого - пожалуйста, предлагай от себя. Преуспел в вокале, способен сделать сальто-мортале, знаешь хитроумные фокусы, пишешь стихи, отыскал древнюю фольклорную прибаутку или просто от природы забавно умеешь кукарекать - все может сгодиться, все давай сюда в общий котел, за все тебе спасибо. Шумно бывало в здании театра. Хохотали до слез, восхищались выдумками друг друга, безбожно ругались и спорили… Сергей Каштелян создавал массовые пластические картины: "Тюрьмы и решетки", "Падение дома Романовых", "Последнее заседание Временного правительства". На занятиях пантомимой, куда Любимов загонял всех (и старых, и малых), учились азам и вершинам. "Двигались против ветра", вырабатывали ногами узоры пантомимической ходьбы. Евгений Лаговский тренировал по законам циркового воспитания выразительность наших рук, "перетягивание каната", всевозможные отчаянные пассы имени великого Марселя Марсо и т.д. Несколько занятий по "биомеханике" провел Зосима Злобин, истовый мейерхольдовец, очень скоро, к несчастью, скончавшийся.
Мы доверяли выбору Любимова, хотя поведение "тренера" Каштеляна вызывало глухой ропот. Наряду с зонгами пластические зарисовки трех солистов пантомимы (Чернова, Медведев, Беляков) становились рефреном, проходили через весь спектакль. Их эпизоды - "Пахарь", "Вечный огонь", "Стена", "Кузнецы" - Каштелян отчеканил превосходно. Но его отношение к массовым сценам было прямо противоположно любимовскому. Если постановщик требовал сознательного участия всех и каждого, без конца повторял: "На сцене не может быть ничего лишнего, все вы видны как на ладони, каждый участник народных сцен обязан создавать свой образ, даже простое вращение тела полезно опыту артиста, а вялое пребывание или "отбывание повинности" растренировывает на всю жизнь…", то Сергей Каштелян не скрывал своей небрежности к любому "винтику"-актеру, грубовато требовал бездумного подчинения, лепил не народную сцену, а выразительную "массовку". Может быть, Любимов преувеличивал сознательно, прибегал к педагогической хитрости, когда настаивал: "В этом театре не будет премьерства! Сегодня ты - Гамлет, а завтра - третий стражник, сегодня - главная героиня, а завтра ты - в массовой сцене!" Однако эта установка, во-первых, вселяла надежду, а во-вторых, в начальный период соответствовала действительности. Что же до соавтора Любимова, то его знаменитая фраза звучала так: "Гамлетов вы у меня здесь играть не будете!" И точка. Но Каштелян закономерно споткнулся не только на незнакомом студийном мировоззрении, но и на крутом характере самого главного режиссера. С нашим театром после "10 дней, которые потрясли мир" его пути разошлись. "Гамлетов" мы все же сыграли - правда, несколько позже.
В работе по книге Джона Рида сложился и созрел главный технический принцип Любимова: каждая сцена ищется сразу во всех измерениях театральных средств. Актер не может сегодня просто проговаривать текст, чтобы завтра его согласовывать с мизансценой, послезавтра - с музыкой, а через две недели - с освещением площадки. Художник по свету, радист, зав. постановочной частью, даже костюмеры и реквизиторы - все играют "главную роль", и во всех поэтому ежедневная нужда. Актер двадцать раз повторит одну и ту же фразу, прежде чем Любимов двинет дело дальше: как может Губенко-Керенский уйти со сцены "Последнего заседания Временного правительства", если не додумана до конца, не проверена и не вычищена вся партитура света, звука, пластики и конструкции? Наконец его ставят за ширму, позади него оказывается осветитель с фонарем в руках, на его партнере Джабраилове найден точный узкий свет "пистолета" из правой ложи электриков, сцена начисто репетируется в жанре "театра теней", в нужном темпе, на нужном фоне музыки, света и тьмы, и завершается резким акцентом ружейных выстрелов. Это не буквальный выстрел "Авроры", это театр только ставит точку на болтовне и бессилии премьера Керенского, обрывает буффонный побег переодетого в женское платье "Александры Федоровны". Паника персонажа поддержана светом. Ему на смену взрывается звук. На этот звук откликается новое включение - полный свет на "членов правительства". Над залом гремит фонограмма - три удара. Они рождают пантомиму - втягиваются и вытягиваются восемь голов. Вслед за тем с грохотом входят восемь солдат и матросов, и по одному, под новую музыку, садятся на скамью, где по другую сторону (также по одному) законно сваливается бывший кабинет Керенского. Новые хозяева скамейки сидя отплясывают лихую чечетку. В ушах зрителя еще звучит их мощное "Которые тут временные? - слазь! Кончилось ваше время!.." Финал сцены собрал воедино все средства драмы, фарса, силу звука и яркость света. Вдруг тишина, вдруг темнота - это явный конец сцены, темы, исторического периода, чего угодно. Так сообщен всем нашим органам чувств (без назидания и по законам жанра) смысл театральной и карнавальной игры. А уже из темноты жарко вступает частушка, голоса, гитарный шаг - и снова свет, и новая картина, улица, афиши первых декретов… Ясно, что улица: таково поведение, география движений уморительно комического буржуя - Г.Ронинсона, смысл пантомимы "расклейщиков афиш". Буржуя солдаты, не успевшие в грамоте, заставят читать декреты, он проблеет, поперхнется и застынет по всем правилам сатиры, и над ним гордо завершит под гитару свой приговор Матрос - Высоцкий: "Стоит буржуй на перекрестке…" Свет погаснет, звук умолкнет, родится стремительно новая сцена, новая игра, детски увлекательная, но исполненная вполне "взрослого" смысла… Переплетение и хоровод народного зрелища только поверхностному взгляду покажутся хаосом. Все здесь тщательно отобрано, многократно перетасовано, найдена наивыгодная комбинация, в результате чего множество устных и печатных рецензий сообщили тем, кто не был на спектакле: в "10 днях" нет ничего случайного, калейдоскоп эпизодов рождает графически четкий образ времени, соответствует этому времени и главной фразе, которую Максим Штраух (в роли Ленина) произнес по радио в финале представления: "Революция - это праздник угнетенных и эксплуатируемых! Мы окажемся предателями и изменниками революции, если не используем этой праздничной энергии масс и их революционного энтузиазма!"
Победа Любимова и театра была победой метода, прямым развитием достижений брехтовского спектакля - поэтического, публицистического по содержанию и остро-условного по форме народного зрелища. Побеждал любимовский метод авторского соучастия в деле всех цехов, всех цветов таганской радуги. В относительном проигрыше оказывались актеры. Поле для создания образов в их драматической динамике и в протяженности - такое поле было предоставлено одному Н.Губенко - Керенскому. Но эта "издержка производства" в те времена легко оправдывалась великодушием нашей актерской юности. В позитиве, однако, было многое: утоление студийных страстей, овладение новыми приемами игры, расширение знаний о жанрах.
С новым спектаклем безвозвратно канула в прошлое любимовская подробная педагогическая дотошность в освоении образов Брехта. Захватывающий режиссерский поиск цельности, ежеминутная борьба за соучастие всех средств театра, поиски света, композиции, мелодического и образного озвучивания каждого куска пьесы не только физически крадут у актеров время постановщика. Школьная практика требует работы тонкой, неторопливой, с глазу на глаз, с учетом индивидуальной психики. Новый стиль "тотального производства", с одной стороны, обогащал театральную информацию, дарил явные преимущества будущим экспериментам. Но с другой - как тут быть с проникновением в "душу образа"? Искать логику поведения персонажа, мотивы и приспособления актерам придется самим. Для того чтобы разнообразить процесс общения с актерами, менять приемы психологического воздействия - весь режим нового театра, теснота задач прав не дают. Я бы сказал: "и сам характер режиссера", но это было бы ложью. И в Училище им. Щукина, и в Театре им.Вахтангова, и в очень, правда, редких случаях в своем коллективе на Таганке Любимов доказывал обратное… Одним словом, актеру предложена конкретная реальность. Это такой театр - такой, а не другой. Поспешные любители вешать ярлыки слишком беззастенчиво обошлись с особенностями театра. Забыв о своей зрительской радости лицезреть через артистов любимовские новшества, они наименовали нас театром диктатуры, насилия над личностью актера. Что же касается "других" театров, то и здесь, к слову сказать, не все обстоит гладко с осью "режиссер - актер". Школьный анализ логики поведения героев, долгие словопрения вокруг и около образов чаще всего засушивают атмосферу репетиций, лишают фантазию смелости, оборачиваются "правдивой" скукой на сцене. Никем еще не доказано, какой же именно путь - кратчайший. И врезаются в память выдающиеся образы, сыгранные артистами, - от каждой школы приблизительно поровну: три от Мейерхольда, два от Таирова, четыре от Станиславского, три в "Современнике", четыре у Товстоногова, два у Эфроса, два у Любимова, один в Театре Ленсовета и так далее. Но истина остается истиной: Юрий Любимов не облегчает, а усложняет труды актеру. Даже на первых порах, когда средний возраст его питомцев не превышал двадцати пяти лет, от каждого исполнителя значительной роли требовалось мужество самостоятельной работы.
…Итак, мы рождены, чтоб сказку сделать былью, а также для того, чтобы быль очнулась в сказке. Это случилось в мудрой притче Брехта, и волны поэзии омыли славный дебют. Поэзия просилась на сцену. В стране повторялся по-своему поэтический "бум" 20-х годов. Миллионные тиражи стихотворных сборников, Лужники, Политехнический музей и домашние чтения… Поэты держали верх над всеми жанрами литературы. Помню рассуждения Любимова: все великие драматурги были поэтами… Вспомните историю театра: Шекспир и Шиллер, Пушкин и Лермонтов, Гюго и Лессинг, Мольер и Островский, Грибоедов и прочая, и прочая, и прочая… А что у нас? Укрепилась привычка писать для сцены "языком презренной прозы". Поэты предпочитают любить театр в качестве зрителей… Любимов не стал ждать явления своего Лопе де Веги, горячая жажда современного материала сама свела его с новым жанром. В 1965 году, 20 января, в среду, родилась в нашем репертуаре поэтическая рубрика. Поэт Андрей Вознесенский накануне своего тридцатитрехлетия неожиданно для всех (и для себя самого) оказался автором театрального зрелища. Он не переучивался, не сжигал мостов и страниц, он не боролся за звание драматурга: оно ему было просто присвоено. Наряду с множеством своих коллег Андрей Андреевич проникся к любимовскому детищу теплотой и уважением. И однажды после беседы с завлитом театра Э.Левиной Вознесенский приносит в театр три своих сборника: "Мозаика", "Треугольная груша" и "Антимиры". Вот, собственно, и вся работа знаменитого поэта при вступлении в права таганковского автора. Все остальное сделано режиссерской фантазией и азартом студийцев.
…Это было перед новым, 1965 годом. На сцене шли репетиции "10 дней, которые потрясли мир". На доске объявлений вывешен список: желающие участвовать в вечере поэта Вознесенского на сцене нашего театра могут присоединиться и явиться в кабинет к Любимову тогда-то вместе с таким обязательным составом… Далее названы Губенко, Славина, Высоцкий, Золотухин, Хмельницкий, Васильев… Так сказать, демократия по-тагански. Я черной завистью проникся к списку. Особого внимания Любимов мне не уделял, в "Добром человеке" я играл небольшую роль, но как-то не присвоил ее, не обжил и перенес в качество исполнения свое стороннее восхищение вещью. Значит, был несвободен. В "Герое" я играл эпизоды и массовые сцены, в "10 днях" мне готовилось то же, "Корову" сняли, в сказке играл маленькую роль врача… Я знал стихи Вознесенского, может быть, лучше, чем все вызванные, но максимум, на который был способен, - это тихо пожаловаться дома. На следующий день, в паузе репетиции, Любимов сам, повторяя свои вечные воззвания к студийной инициативе, пожурил артистов за лень и за инертность в связи с объявленной работой над стихами. Я решил возразить: инициатива ограничена списком избранных фамилий. Режиссер искренне удивился - и приказал мою фамилию немедленно приписать карандашом. И еще пара желающих набежала.
Собирались вечерами, трудились по ночам и в перерывах между репетициями и спектаклями. Распределяли между собой условно произведения поэта - кроме тех, которые он сам должен был прочесть во втором отделении. Готовили "номера" увлеченно и раскованно: это, скорее, напоминало студенческое "рыцарство на час", нежели солидную плановую работу. Сами собой рождались сценки и трюки. Стихотворение "Стриптиз" лучше всего сопровождать музыкой и пантомимой. "Баллада-диссертация" просится в маленькую сценку-диалог. "Бьет женщина" - это, конечно, сольное чтение. Из "Оды сплетникам" или "Первого льда" могут выйти хорошие песни-зонги. Хмельницкий, Васильев и Высоцкий включились в создание музыки. Петр Фоменко срежиссировал три ярких эпизода: "Лонжюмо", "Париж без рифм" и "Римские праздники". Мы с Высоцким сами выбрали и разыграли фрагменты поэмы "Оза". Хореограф Большого театра Ной Авалиани занимался постановкой сцены "Рок-н-ролл". Структуру спектакля, порядок номеров и световое решение зрелища обдумывал и выверял, конечно, сам Любимов. Художник Энар Стенберг, электрики, монтировщики и вся режиссура заботливо выращивали сценический облик "вечера поэзии", подчеркивая его "таганское" происхождение. Из "Доброго человека" взят напрокат образ уличного мальчишки: актриса Людмила Комаровская, в тех же черных брючках, свитере и кепочке из Брехта, с черным маятником в руке, стала Ведущим - так зримо выглядела тема Времени, главная тема будущего представления. Вознесенский написал для мальчика с маятником серьезный и шутливый конферанс к стихам, актриса спела рефренную песню со странным и живописным содержанием - "Осенебри".
Успех поэтического представления "Антимиры" был невероятным - сродни балету Большого театра. За 15 лет спектакль выдержал 800 представлений. Читая и разыгрывая стихи со сцены, я неожиданно поймал свою "синюю птицу". Тут сразу два успеха: и я нашел себя (заговорил впервые уверенным тоном, почувствовал право на власть над залом), и Любимов нашел меня, то есть поверил и признал. Позднее мне сообщили подробности. Драматург Алексей Арбузов и писатель Константин Симонов, мнением которых Ю.П. дорожил, не только похвалили, но даже выделили мою работу в "Антимирах". Сразу после этой премьеры на меня свалилось совершенно лотерейное счастье. Я стал получать роль за ролью, и одна лучше другой. Меня назначили членом художественного совета "Таганки". Любимов все чаще поручал мне режиссерскую работу по вводу новых исполнителей в наши спектакли. После ухода из театра Славы Любшина я стал играть роль Лермонтова в "Герое нашего времени". Через месяц после "Антимиров" я получил роль Ведущего в "Павших и живых", через год - заказ на сочинение пьесы о Владимире Маяковском.
С "Антимиров" пошла традиция концертов "компании солистов": нас звали к себе, нам устраивали "левые заработки", за это влетало организаторам, но концертов не уменьшалось. Мы сидели на эстраде так же, как в "Антимирах", - все вместе. Один из нас выходил вперед, рассказывал о театре, затем шли номера из поэтического представления, песни из "Доброго человека", из "10 дней". Годы расширяли репертуар, но не меняли жанра: ты играешь, читаешь или поешь, а твои товарищи поддерживают тебя за твоей спиной.
У "Таганки" становилось все больше "своей" публики. Любители театра предвидели неиссякаемость нового источника. Каждая встреча с "Таганкой" обещала открытие и праздник. Кроме того, ни одно событие в политической, культурной, научной жизни страны, ни одно заметное явление международного значения не оставили главного режиссера Театра на Таганке равнодушным. Все, что творилось вокруг А.Солженицына, А.Сахарова, А.Гинзбурга, А.Синявского, вся история "Пражской весны" и ввода войск в Прагу - все находило отражение в главном месте театра - на сцене. Для режиссера Любимова конфликты современности далеко превосходили рамки газетных сообщений. Они составляли живой инструмент воздействия на гражданское сознание членов труппы и зрителей, они приходили к нему на помощь в самых, казалось бы, далеких от 60-х годов случаях.
Первые пять лет наш театр был похож на крепкую семью искателей счастья. Не было места закулисным пошлостям и иерархии "патрициев" и "плебеев". У нас установился свой театральный быт доброжелательных и демократических отношений. В процессе работы режиссер открывал все двери своего доверия актерской инициативе. На предпремьерной стадии он брал власть в свои руки, и теперь уже рисунок мизансцен, поведение персонажей, темпоритм и все отобранные краски спектакля требовалось соблюдать безоговорочно. Поскольку режим работы опирался на сознание и единомыслие всех работников сцены, о жалобах на какое-то унижение, насилие режиссуры не могло быть и речи. Нас влекла общая цель, и все распри-разногласия не мешали общему делу. Очереди в кассу театра, изобилие квалифицированных сторонников, растущая популярность спектаклей среди самых разных слоев общества вселяли все большие надежды… Хотя газеты и журналы избрали традицию задумчивого немногословия в адрес любимовских исканий, однако пожаловаться на отзывы прессы в период выхода "10 дней" мы не могли. Живой анализ и твердая поддержка журнала "Театр", руководимого в ту пору Юрием Рыбаковым, укрепили дух и веру студийцев. Собственно, на этой странице следует попрощаться со словом "студия". Как в свое время наш старший собрат - ефремовский "Современник" - снял, не без сожаления, вторую половину своего заглавия "Театр-студия", так и мы, повинуясь законам возраста и опыта, расстались с эпохой бессонных ночей, студийных буйных и частых собраний, работы без разделения на "главных" и "неглавных"… Сам театр постепенно становился мастерской одного художника. И хотя Любимов привлекал коллег-постановщиков, режиссеры приходили и… уходили. Внешне это выглядело, мягко скажем, негостеприимно. Всего обиднее, что в конце концов ушел один из ближайших сподвижников Любимова - Петр Фоменко. Поводом здесь послужила, по всем канонам "театральных романов", игра самолюбий, взаимная неуживчивость. Всевышний судия нашел бы в претензиях обеих сторон немало справедливого. Причины же, уверен, гораздо основательней и глубже. Забегу вперед лет на десять и перескажу один эпизод. Наш театр выступал в Белграде на Международном театральном форуме (БИТЕФ). Шла пресс-конференция. Любимов отвечал на вопросы. Мы сидели с актером Виталием Шаповаловым. Возле нас оказался Питер Брук. Обсуждаемый вопрос о разногласиях Любимова и Эфроса (Анатолий Васильевич незадолго до того поставил у нас "Вишневый сад") живо заинтересовал Брука. Ответы Любимова его, очевидно, не удовлетворили, и он шепотом обратился к нам за разъяснением. Я, как мог, описал, так сказать, фабулу разногласий. В свою очередь сам задаю вопрос: "Как господин Питер Брук считает - в мастерской Рембрандта мог бы существовать самостоятельно, извините, Рубенс?" Брук ответил, что ему как раз безразлично и он легко бы вынес такое сотрудничество. Минуту погодя он сообщил следующее: "Допустим, я люблю путешествовать и вы - мой друг. Я иду в дорогу со своей семьей и приглашаю вас. Это нормально, это хорошо. Ничего не меняется, я получаю удовольствие… Но если мой друг захочет взять с собой и своих близких, свою семью - дело другое. Мое путешествие не получится по-моему. То есть оно станет совсем другим…" Вот, примерно, такое рассуждение. И я заметил, что Питер Брук отчасти подтвердил мое предположение.
Спектакль "Жизнь Галилея" по лучшей пьесе Б.Брехта вышел летом 1966 года. Гигантские ворота, закрывающие и открывающие сцену, остроумно и рельефно декорированы… картонными ячейками из-под яиц (художник Э.Стенберг). Над зрителем - звезды Большой Медведицы. Мальчишка в школьной форме стреляет из рогатки, пересчитывая звезды. За ним гонится консерватор-монах. Время старых событий сомкнулось с нашим, "догнало" его. Телескопами служат световые пистолеты на штативах. Они реально излучают "свет новых истин". Когда осатанелый от косности чиновников папской церкви Галилео Галилей будет бешено вращать свой "телескоп" в поисках несуществующей небесной тверди, "небесного отца" и т.п. - свет прибора будет чувствительно резать глаза сидящих в партере, как больно режет открытие Галилея дух и уши консерваторов. В левом портале просунуты в дырки головы черных монахов, в правом - хор детей в белых кружевных воротничках. Дети невинно упрашивают взрослых внять просьбам Галилея. Монахи в черном грубо обрывают детские псалмы - таково двоякое сопровождение фабулы Брехта. Композитор спектакля - Д.Шостакович, а музыку к псалмам-зонгам детей и монахов сочиняли "наши собственные" Борис Хмельницкий и Анатолий Васильев. Перевод пьесы Льва Копелева. Стихотворные вставки придуманы Наумом Коржавиным. Покаяние Галилея застает его в центре сцены: "Я отдал свои знания власть имущим, чтобы те употребили их… или злоупотребили ими… и человека, который совершил то, что совершил я, нельзя терпеть в рядах людей Науки…" Но театр возвращает яркий праздничный свет. Площадку заполняют дети. Они яростно раскручивают маленькие глобусы. Земля весело вращается.
Гастроли
Тбилиси № 1
Октябрь 1966-го. Сорокаградусной жарой встретил наш театр гостеприимный город Тбилиси. Двухгодовалое дитя "Таганка" было принято многоуважительно и по-грузински изысканно. Польщенные таким вниманием, мы стеснялись вспоминать про жару. Играли на совесть, не щадя своих сил. Взамен получали поездки по древнему горному краю и чудесные встречи. Для развлечения - два момента.
Первый. Встречали нас пышно. Кинокамеры и интервьюеры давали повод думать, что нас перепутали с "кем-то западным". Впереди нас бежала молва. Газеты уже пестрели фотографиями из спектаклей - все обещало неслыханный успех. Открывались мы "10 днями, которые потрясли мир". И вдруг - в зале Театра музыкальной комедии - масса свободных мест. Хлопают вежливо, спектакль прошел так, словно они его сто раз подряд смотрят… Что такое? Разъяснение пришло через пару дней, когда зал был набит битком. Некий умный филолог все поставил на свои места: "Не удивляйтесь, слушайте! На первые дни все билеты, конечно, захватили наши тузы. Это такие дяди, которым самое главное - отметиться, что он, мол, причастился к модному театру…" - "Хорошо, Резо, а почему же пустые места?" - "Ха, зачем напрягаться! Билеты достал, всем показал, на улице жарко, сел в машину, уехал на дачу - всё! Я считаю, он молодец. Зачем ему в душном зале какой-то условный театр… Да в газете все прочитаешь! Не отходя от дачи! Впрочем, самые любопытные все-таки явились? Будем справедливыми, не все увезли за город ваши билеты…"
Второй момент. Слово "друг" - святое слово, мы это знали. Но дееспособность его, оказывается, не имеет границ в прекрасной Грузии. Как-то пятеро из нас случайно замечтались в красивом месте в сорока км от Тбилиси. Спохватились слишком поздно: через час начинается "Добрый человек из Сезуана". Грузины-хозяева пришпорили моторы своих четырехколесных коней… и вдруг - стоп! Шлагбаум перед нашим носом опускается, мы готовы зареветь от бессилия… Заранее были предупреждены, что меньше двадцати минут ждать не получится: подряд пройдут три-четыре состава в обе стороны. Вдруг водитель подбегает к стрелочнику, происходит таинственная перепалка на незнакомом языке, да еще с такими страстями и жестикуляцией, что можно ожидать самого худшего. Водитель возвращается, шлагбаум медленно подымается, мы пулей проносимся на ту сторону и доезжаем до центра Тбилиси в зачарованном безмолвии. Узнав, что мы поспели вовремя, затеребили водителя: "Что вы ему сказали?!" Следует разведение рук и удивленный подъем густых черных бровей: "Я сказал: "Это мои друзья!" Всё!"
…Через три дня мы играли в зале городской филармонии. Весь театр знал: после окончания нас повезут на дружескую встречу с Театром им. Руставели. Это произойдет в тбилисских Черемушках, довольно далеко отсюда, в мастерской трех художников. И кое-кто из нас взял грех на душу - усомнился в успехе дела. Ну как можно ночью перевезти такую ораву? На всякий случай поглядывали за ограду: не подошлют ли блестящим жестом штук двадцать такси? Нет, такси не было. Театр собрался во дворе. Руставелиевцы выводят нас… к остановке автобуса. Боже, какое падение, рейсовый автобус. Человек десять пассажиров мирно читают газеты. Мы стоя трясемся. Все нормально. Наш тбилисский коллега Бадри Кобахидзе перегибается к водителю, громко переговаривается с ним. Лучше сказать, перебранивается… Едем, едем. Остановились. Шофер поднялся, заглянул в салон и обратился к сидящим мирным жителям… Речь его была краткой, но резкой. Пассажиры сложили газеты и неожиданно спокойно вышли. Шофер развернул автобус, взревел мотор, и мы понеслись к цели уже "в собственном транспорте". Оказалось, что до сих пор вообще-то ехали в обратную сторону. Я не выдержал, спрашиваю Бадри: "Что ты ему сказал?" Следует разведение рук с одновременным подъемом бровей: "Сказал: "Это мои друзья", ничего другого не сказал"… - "Хорошо, а шофер как же объяснил несчастным пассажирам?" - "Шофер? А что ему надо объяснять? Он встал и сказал, что вы - "мои друзья". Вот и все. И они никакие не несчастные. И у них есть свои друзья, и им, бывает, надо помогать…" Ах, прожить бы с таким паролем хоть год и у себя дома!..
Закончились гастроли в Сухуми, на берегу Черного моря. Перед "10 днями" я стоял в солдатской форме с тремя другими актерами, отрывал "контроль" у билетов и накалывал на штык. По условиям гастролей, билеты здесь стоили вдвое дороже, чем на Таганской площади. Так обычно и бывает в поездках. Помню, зрители, пока им отрываешь "контроль", хвастают: "А мы ведь тоже москвичи! Дома к вам не достанешь… Пришлось ехать на отдых сюда, платить за дорогу, платить за жилье, да и билеты подороже стоят… Спасибо еще, достали на все спектакли…"
На горячих камнях сухумского пляжа артисты загорали перед работой, а Любимов, кажется, обрек себя на жизнь без отдыха. На этот раз я был больше всех посвящен в суть его планов. В течение всего сезона шла работа над сценарием для поэтического спектакля о Владимире Маяковском. Первоначальный вариант, по просьбе шефа, я подготовил. Черновое название: "Скрипка и немножко нервно". Мне казалось, я придумал такую славную конструкцию… Памятник поэта раскалывается на части, и в центре образуется гигантский биллиардный стол. Он будет эстрадой и рингом. Поэт будет выбивать из него недругов, и они попадут в лузу, где, пружиня, словно в гамаке, какой-нибудь Северянин красивенько отпоет сам себя:
Меня положат в гроб фарфоровый,
На ткань снежинок яблоновых
И похоронят, как Суворова,
Меня - новейшего из новых…
Что-то препятствовало окончательному решению. Через пару месяцев Любимов с художником Энаром Стенбергом придумают внешний вид, стиль спектакля "Послушайте!". Зато следующую вещь, есенинского "Пугачева", Ю.П. придумал неожиданно быстро. Говорил, что видит весь спектакль, его одежду и конструкцию, его движение и ритм, знает, в какой манере играть актерам, с чего начинать и чем кончать… И действительно, "Пугачева" Любимов сделал в рекордные сроки, как ни один другой спектакль.
НЕТИХИЕ ЗОРИ "ТАГАНКИ"
1968 год и дальше
Рождение спектакля "Мать" - чрезвычайное событие. Плоский хрестоматийный текст "глашатая революции" Максима Горького не раздражал слуха. Ю.Любимов соединил ткань романа с мотивами горьковских рассказов, чтобы снова языком площадного зрелища повторить опыт "10 дней, которые потрясли мир". Но если в первом спектакле зритель любовался мозаикой маскарада, то "Мать" сделана художником Давидом Боровским и режиссером Любимовым как серия масштабных сценических гравюр. Главный образ спектакля: каре солдат в шинелях, а народ (Россия) живет, танцует, поет и лузгает семечки внутри этого каре. Образ России как "зоны". Звучат речи. Звучит музыка веселой кадрили. Раздается команда. Гремят затворы ружей. Солдатская "мышеловка" сжимает народ. Кто-то вскрикнул. Солдаты по команде расходятся, печатая шаг и снова замирая вдоль стен. Кадриль народа под дулами, "свобода" в кольце шинелей. Конечно, Любимов играл с огнем: премьера состоялась после августа 1968 года, после советских танков в Праге. Финал первого акта - "Первое мая". Шеренга солдат отступает под троекратным накатом народной волны под торжествующие звуки шаляпинской "Дубинушки". В конце концов мы прижимаем шеренгу солдат к самому краю сцены, и к зрительному залу рвутся руки, вытянутые из-за серого солдатского сукна шинелей: "на помощь, братья…" Мы так бьемся в шинельных тисках, что, кажется, вот-вот упадем в зрительный зал… И тут - обрыв в музыке. Темнота. Еще две секунды паузы… На сцене ни души. Свет в зал. Антракт. Любимов хорошо изучил законы эмоционального воздействия. Зритель должен уйти на отдых, когда он хорошо "поработал"… сердцебиением.
Может быть, на пути эстетических освоений, после "Доброго человека из Сезуана" и "Пугачева", спектакль "Мать" обладал наибольшей метафорической цельностью. На фоне ярких режиссерских мизансцен четко отработаны актерские образы. На этот раз их очень много, и каждому определен свой черед и портрет. Маленькую роль Надзирателя Игорь Петров играет на аплодисменты, по справедливому зачету "старого, доброго театра". Мне нравится руководитель всего военного "декора", царский офицер в исполнении Всеволода Соболева. С первой своей фразы, открывающей спектакль: "Я театров не выношу! Цирк - другое дело…" и до последних слов финального драматического монолога он - породистый вояка, мыслитель-парадоксалист, скептический "слуга царю" и мучительный "отец солдатам", обреченный верно служить обреченному делу.
Мне нравятся исполнители ярких, но малых образов - и наш "классический комик" Готлиб Ронинсон, и кудрявый крупногабаритный "тип" Юрия Смирнова, обильно лузгающий семечки, поплевывая на всю эту "затею" Павла Власова. Искренне, напористо, безжалостно к собственным голосовым связкам играет Павла Иван Бортник. Я сыграл жандармского генерала, в дуэте с Офицером (В.Соболев), и в списке моих комедийно-драматических ролей этот эпизод можно считать из самых удачных. Поскольку я изрекал монологи, морща нос под пенсне - умный зритель сразу узнавал Лаврентия Берию. Но перечень актерских удач спектакля "Мать" не только размером роли, но и силой образа возглавляет Ниловна, сыгранная Зинаидой Славиной. Роль ее отшлифована, профессионально разделена на "куски", на "задачи". Славина прекрасно общается с партнерами (и с залом - как "соавтор" постановки). У нее сильный голос, отзывчивая нервная система. Она доносит текст ясно, крупно, без единой потери. Но это, так сказать, первый этаж. Здание ее образа вопринимается на нескольких уровнях. Высший среди них - достоверность страдания матери. Она играет чувство страха и гордости за сына больно, ранимо, как главное в жизни. Это вообще свойство актрисы Славиной - играть роль как первое и… предсмертное дело. Она беспощадно, исступленно темпераментна. Славина играет так, как летят в пропасть, и вы можете услышать даже удары ребер о каменные выступы…
Спектакль "А зори здесь тихие…" работался почти незаметно, особенно для тех, кто в то же время усердствовал над "Гамлетом". Любимов оставил нас на время с Шекспиром наедине, и вдруг - вышел спектакль. Повесть Бориса Васильева честна и чиста, как документ страшного события. Пятеро зенитчиц во главе со старшиной Васковым. Тыловые будни обороны северных рубежей. И всех девочек, по одной, настигает гибель от десантников-фашистов. Любимов и Боровский, сочинив спектакль по наивным законам детской игры, заставили зрителей поверить в расщепляемые на части щиты грузовика как в "деревья", в "избы", в "могильные холмы", признаки "рельефа" и "землянку" спящих гитлеровцев. В аскетическом режиме условностей сцены, в упругом биении сюжета, в системе повторов тем, отпеваний, причитаний, смертей, в ритмах речи Виталия Шаповалова - Васкова проза Б.Васильева обрела качество поэзии. Я смотрел "А зори здесь тихие…" много раз, и всякий раз поражался… Обнажая бессмыслицу чудовищных убийств, театр доставлял наслаждение - словно от грустной музыки. Очень хорошо играли Татьяна Жукова - Четвертак, Марина Полицеймако - Бричкину, Инна Ульянова - соседку, Нина Шацкая - Комелькову… Первые десятки представлений все играли замечательно. Виталий Шаповалов в роли Васкова вызвал, пожалуй, самый мощный поток похвал в прессе и в устных отзывах. Слияние с образом старшины, поэтическая истинность страстей у Шаповалова заставляли вспоминать примеры - такие, как Б.Бабочкин-Чапаев.
Однажды на "Зори" пришел Алексей Николаевич Грибов. После окончания спектакля он долго не хотел уходить из любимовского кабинета. Один из правдивейших мастеров Художественного театра плакал, всплескивал руками и то восхищался увиденным, то ругал себя… за доверчивость к слухам о "Таганке": "театр режиссера", "театр без актера", формалисты и так далее. Как, мол, он сам мог поддерживать хулу, не проверив своим опытом! А вот сегодня он потрясен и слов найти не может… "Ну что за чудеса! - снова и снова набрасывался Грибов на Любимова. - В других театрах все есть, все натуральное - а я сижу и хоть бы хны… А у вас? Ни-че-го нет, сплошные фантазии - а я сижу и реву натуральными слезами!.." Затем взял фломастер и на стене кабинета, между надписями Юткевича, Сикейроса и Александра Яшина четко вывел: "Блестящее и дерзкое искусство! А.Грибов".
С годами за нами укреплялась репутация "синтетического", "зрелищного" театра, где актеры преуспели во всем - и в драме, и в пантомиме, и в дерзости начальству, и в песнях, и в лиризме, и в массовых сценах, и в массовом сочинительстве. Конечно, хватало и среди коллег, и среди чиновников "гробожелателей":
- Это не театр, а уличная банда!
- Это не театр, а шесть хрипов, семь гитар!
- Я не отрицаю таланта Любимова, но он один, актеров нет!
- Да они ему и не нужны!
- Артельщики-синеблузники…
Приходили новые актеры, уходили "старые" - как правило, в кино, и, как правило, оказывались крупными мастерами: Губенко, Калягин, Эйбоженко, Любшин… Мы и ушедшими гордились: таганковская закваска, мол! Устные и печатные похвалы, частые успехи на малом и большом экранах, на эстраде и на радио сами собой сняли ярлык "безактерской" труппы. Эксперимент "Таганки" развивал дело современного театра вширь и вглубь. В неразрывности трех слагаемых - зрелищной яркости, политической остроты и поэтического ключа - самобытность и важный вклад таганковской школы в дело культуры. Любимовская афиша - независимо от жестокой тормозной системы "сверху", снискала к середине 70-х годов устойчивую славу и в СССР, и за рубежом. Зрительный зал - лучшие люди страны (это не бахвальство, а повседневность былой "Таганки"). Споры, полемика, схватки вкусов, ни одного свободного кресла, ни одного скучного дня!
Если подробно описать, каким путем пришла "Таганка" к устойчивому успеху, покажется фантастикой театральная реальность. Сократим подробности, окинем беглым взглядом биографию, так сказать, таганофобии.
Ни одну постановку не допустили к зрителю без унижений коллектива. "Доброго человека из Сезуана" уже на первых сдачах ругали за формализм, трюкачество, осквернение знамени Станиславского и Вахтангова. "10 дней, которые потрясли мир" - за грубый вкус и субъективное передергивание исторических фактов, за отсутствие в концепции руководящей роли партии. "Павших и живых" запрещали, перекраивали, сокращали и - сократили. После многих переделок, благодаря общественному мнению и лично трем-четырем работникам международного отдела ЦК партии, поэтический реквием погибшим интеллигентам вышел. Правда, исчезли из спектакля прекрасные стихи Ольги Берггольц, эпизод "Дело о побеге Э.Казакевича", сцена "Теркин на том свете"… Вырезаны строки, заменены стихи, несколько страниц внесено по принуждению. Вот, к примеру, рядовое кощунство чиновников: от фразы из письма с фронта Всеволода Багрицкого: "Мама, очень хочется победить немцев и еще комитет искусств, чтобы никакой чиновник не мешал нам работать" осталось: "Мама, очень хочется победить немцев…" Их не трогала суть драмы: юный военкор под пулями врага не забывает о тех, кто ломал судьбу молодого советского искусства в мирные дни, причем его письма адресованы матери, отбывающей срок в лагере под Карагандой! Как скажет спустя годы в аналогичном случае бравый запретитель "Живого": "Да, это было в нашей стране, но… этого не было!"
Обстановка любой сдачи спектакля - традиционно иезуитская: актеры готовы принять зрителей. Спектакль вот-вот обретет свое законное дыхание, но его раз за разом подвергают "таможенному досмотру". Никого со стороны! За появление в зале "суда" любого нечиновника - полный запрет плюс суровые взыскания. Сколько выговоров - и каких! - сколько устных разносов легли рубцами на кардиограммы Ю.Любимова. Сдавали в очередной раз "Павших". Здание "Таганки" - на ремонте; играем в Театре имени Маяковского. Гулкая пустота зала. Враждебные лица приемщиков. Не забыть, как ловили чиновники завернувшихся в портьеры на ярусах преступников вроде народных артистов Г.Менглета, Л.Касаткиной и других. Годами длилась тяжба театра с одним из главных судей Москвы - М.Шкодиным. Несостоявшийся артист, прикрывший свою несостоятельность дипломом Высшей партшколы, казнил и миловал: "Таганку" и "Современник", Гончарова и Плучека, Захарова и Розовского, Эфроса и снова "Таганку" - предмет его особой страсти… Исковеркав судьбы спектаклей и людей, в 80-х годах он был уволен за… маленькую купеческую слабость. На закрытом обсуждении "Послушайте!" я, сидя в качестве соавтора сценария, с изумлением обнаружил, что пересказы Любимова - не гипербола, а бледный оттиск с того пыточного ритуала, которым Московское управление культуры награждает страстные поиски строителей нового театра. Кто знает, каким ухищрениям шефа мы должны быть благодарны, чтобы вдруг на заседании оказались "посторонние" лица - Виктор Шкловский или Лев Кассиль, Елизар Мальцев или Семен Кирсанов… О нашем "Маяковском", о его многократных запретах, о ненависти к "Послушайте!" - долгий рассказ. Ограничусь фрагментом. В.Шкловский вежливо намекает Шкодину на его литературное невежество после того, как начальник зачитал перечень претензий и указаний к вымаркам, путая ударения, рифмы и даты… А С.Кирсанов, всплеснув руками после агрессивных указаний, зачитанных по бумажке дамой из министерства, воскликнул: "Витя! А мы в Союзе писателей держали наших чиновников за головорезов! Да они же ангелы в сравнении с этими!"
На одной из сдач Андрей Вознесенский, допущенный как член худсовета, вдруг не выдержал тона почтительного просительства и крикнул: "Да как вы смеете судить поэзию и художников-мастеров! Поэт - певчая птица, а вы… Ведь соловей не может петь на морозе!" Здесь побагровело начальство. "Что вы такое сказали?!" Поэт кротко пояснил: "Это не я, это Маркс…"
Где-то на шестом году жизни театра произошел такой эпизод. Мы с другом навестили зимой Аркадия Райкина, еле отошедшего после инфаркта, - в санатории имени Герцена. Посреди мрачного рассказа (удар хватил артиста после жестокого окрика в столичном горкоме) - впрочем, мрачность вполне ладила с блеском юморесок - он внезапно хватает меня за руку: "Знаете что? Я, как только стал оживать, вдруг подумал: "Если я от одного крика так сломался, то кем же надо быть Любимову, чтобы по три раза в год такое выдерживать?"
Из спектакля "Пугачев" вырезали половину блестящих интермедий, написанных Николаем Эрдманом. Для запрещения спектакля "Товарищ, верь!.." пошли на подтасовку. Желая нашим "умникам" противопоставить своего, в темноту зрительного зала, на третью сдачу, ввели "яко татя в нощи" завезенного из Ленинграда театрального критика Марка Любомудрова с его заготовленным описанием грехов еще неувиденного зрелища.
Из "Гамлета" вымарали остро звучавшую сцену могильщиков - цитату из пьесы Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" (перевод И.Бродского). Вымарали отнюдь не из соображений охраны памятника английской старины.
Второе пятилетие театра. Вокруг нас закрыли лучшие работы театров: "Теркина на том свете" в Театре сатиры, "Случай в Виши" - в "Современнике"; бульдозеры смяли выставку молодых художников; без работы в кино Тарковский, Иоселиани, Шепитько, Асанова, Климов, Герман, на полках - фильмы; добили Твардовского - оголили "Новый мир"; в Ленинграде запрещена "Мистерия-буфф", поставленная Петром Фоменко, в Москве ему запрещают "Смерть Тарелкина"; у Эфроса - серия запретов: руками стариков мхатовцев убили хороший спектакль "Три сестры", сняли "Колобашкина" (это стоило художнику инфаркта) - всюду надсмотр и угрозы…
А на "Таганке" - запрещение можаевского "Живого", обращение в Политбюро, пересмотр и снова запрет. Подписана бумага об увольнении Любимова, и уже подыскивали замену… Почти все отказались, почти все… Театр по ночной тревоге - как один! Обращение комсомола. Телеграмма в ЦК от труппы. Собрание… Заявления об уходе. Наказание главному режиссеру снизили. Ограничились выговором в райкоме. Выговоры всем нам, членам бюро комсомола. Строгий выговор Н.Губенко - секретарю бюро… Позорное обсуждение в помещении "Ленкома" - итогов года. Весь актив Москвы - и жалкая игра в регламент - лишь бы на сцену не вышел кто-то с "Таганки"… А зал гудит, а неизвестных лиц - много, и они смотрят по-хозяйски сурово… За "Таганку" выступать записались Ефремов и другие. Регламент сокращен, антракт отменен, вот-вот будут наспех подводить итоги… Губенко встал у стены - чтобы все видели поднятую руку… А в президиуме - суетливое: "Подведем черту, и всем надо на работу". Николай громко объявляет, что черту подводить нельзя, ибо много заявок на выступления не востребовано. Шум в зале, и вдруг раздается бас артиста Петра Глебова: "Губенко, сядьте!" Вскочил Сабинин (он же Биненбойм), с места крикнул в президиум: "Вы что, не видите, какая пропасть между вами и залом?!" Это ему потом дорого стоило: из педагогов уволили, в театре еле удержался… А в "Ленкоме", под занавес, на вопрос: "Не будет ли каких предложений по соцсоревнованию", вдруг отозвался Любимов: "Будет!" И оказался на сцене, как ни велика была растерянность у почти "победителей". Его переспросили: "Вы о соцобязательствах?" - "Да-да, я о моих обязательствах как раз и собираюсь…" И разложил бумаги, надел очки… Мертвая тишина. Внятная, очень вежливая речь: перечень положительных откликов в "Правде", в "Известиях", в "Труде" - о "Таганке"… Цитаты из Маркса и Ленина - о художнике, о необходимости беречь таланты… Ни одного упрека, ни разу не повысил голоса. Это была копия его письма Л.Брежневу, в обход много дней его вызывавшего В.Гришина.
В следующем году - вторая попытка увольнения. И снова - вмешательство Брежнева (то есть, разумеется, его референтов - тех, кто сумел вовремя и с комментариями положить на стол "прошение на Имя").
Второе пятилетие театра - это еще и сильные атаки газет и трех журналов: "Огонька", "Театральной жизни" и "Октября".
В 1971 году поэтическое зрелище по А.Вознесенскому "Берегите ваши лица" (в котором В.Высоцкий исполнил свою песню "Охота на волков") стало третьим поводом для закрытия театра. Спектакль сняли, корабль пошатнулся, но остался на плаву.
В 1971 году В.В.Гришин почтил слезой "А зори здесь тихие…". Сообщил Любимову: "Надо же, мне говорили - антисоветский театр, а я плакал…" И сразу лично выдал квартиры, звания, решение о новом здании… Потом в 1975-м, на спектакле "Пристегните ремни!" рассвирепел на театр и - забрал милость назад. Проклятый феодализм. Барин дал, барин взял.
Любимов защищался в одиночку с друзьями и именитыми соотечественниками. Неправда, что у него был "диссидентский театр" - театр был советский. Вернее, какой-то еще, особенный и даже свободолюбивый, но все-таки лояльный театр. Феномен "Таганки" нельзя поместить в логические рамки, как и все неординарное в искусстве, науке, технике, спорте - во всем, куда прорывались таланты режимного государства. Я когда-то услышал от Ю.П. чудесный глагол "швейковать". Любимов хорошо знал, в каких границах он неизменен, неподкупен, а где он может "швейковать". Кажется, никто так не умел защищать свое дело, как он. В то же время в коридорах власти не было единодушия - закрывать или не закрывать, - пока знатные защитники имели при себе доказательства лояльности. Конечно, здесь важно помнить, что критиков-хулителей могло быть гораздо больше. Уверен, многих звали пополнить сии ряды. Более того, многие были даже готовы порицать таганковский эксперимент. Но когда в прессе царит "гласность в одни ворота", когда все, что "за", - нежелательно, тогда соображения вкуса отступают перед голосом совести. Вот пример. В 1967 году критика Марлена Кораллова, что называется, поймали на слове в некоем "толстом" журнале. "Вам не понравилась "Жизнь Галилея" на "Таганке"? Будьте добры, напишите! Статью в размерах не ограничиваем…" Соблазняемого давно не печатали, и, главное, "Галилей" ему не понравился, впервые с ним такое на "Таганке"… Стоп. В этом все и дело. То, что в афише театра казалось сильным и оригинальным, не находило места в печати. Значит, не в порядке живой полемики "нравится - не нравится", а рука об руку с запретителями?
По словам Ю.Любимова, весь секрет таганковской удачи - в "хорошей компании". Это и спасало. Ни в какое сравнение не входили ругательные писания Управления культуры с теми протоколами расширенных худсоветов, где ярко и аргументированно звучали голоса… Какие голоса! Шостаковича и Трифонова. Самойлова и Тендрякова. Эйдельмана и Капицы. Флерова и Чухрая… А если речь шла об анализе на уровне науки о театре, то, пожалуйста, извольте поспорить с такими именами, как А.Аникст, Г.Бояджиев, Б.Зингерман, К.Рудницкий, М.Туровская, И.Соловьева, Р.Кречетова, Н.Крымова, Н.Велехова, Р.Беньяш… Хорошая компания.
Однако уверяю скептиков: на собственных, закрытых от начальства обсуждениях далеко не всегда бывало сладко и режиссуре, и актерам от вышеупомянутой плеяды. Расти, соизмерять свой опыт с мировой практикой театра, учиться на своих ошибках - вот куда направлялись заботы "хорошей компании".
Нам корежили премьеры - а мы их так играли, чтоб азартом зарубцевать все швы от хирургии начальства. Наши сверстники из "заслуженных" переходили в "народные" - а мы им улыбались ласково: это, мол, вам компенсация за унылые спектакли. Нам запрещали гастроли за рубеж (два года длился запрет даже на выезд из Москвы) - а мы прекрасно себя чувствовали дома, и на наши капустники-юбилеи отовсюду стекались коллеги, яблоку негде упасть.
Негласный приказ председателя Гостелерадио Лапина запрещал занимать артистов "Таганки" на радио и телевидении - зато в "неофициальном порядке" мы объездили все институты Академии наук, потешили славное студенчество, гордились своей желанностью в самых престижных аудиториях…
В середине 70-х после долгих лет атаки судьбе было угодно временно отогнать черные тучи с любимовского небосклона. Года два улыбалось солнышко - ослабло давление, появились хорошие статьи, участились гастроли. "Таганку" выпустили за рубеж. Владимиру Высоцкому разрешили сделать запись на "Мелодии". Правда, из четырех часов записи остался только диск-малютка… Перестали чинить препятствия к его выездам во Францию, к жене. Правда, всякий раз с нервотрепкой по поводу визы… Сняли запрет с его имени на радио и на съемки. Правда, неутомимо отговаривали режиссеров от данного выбора…
Театр на Таганке вслед за своим создателем на четыре года стал "выездным". Любимовская (и Боровского) постановка оперы Луиджи Ноно "Под жарким солнцем любви" в Италии, а затем - наши гастроли по соцстранам и по Франции.
Гастроли
В сентябре 1975 года, перевалив через рубеж первого своего десятилетия, Театр на Таганке впервые выехал за рубеж страны, в Болгарию.
Цитирую записную книжку 75-го года:
5 сентября 1975 г. Ту-154. Балкан-Турист. София. Не отходя от разгрузки - цветы, пресса, теплота и сувениры. Вечером с друзьями Маргаритой Мартыновой (их "Комсомольская правда") и Костей Андреевым ("Труд") - в их же Доме журналистов. Театр ждут очень-очень. Удивляются: огромная часть билетов не продавалась, а… распределялась (боссами). Еще больше удивляются: в ЦК собрали актив прессы и рекомендовали не очень хвалить "Таганку"…
6 сентября. Сумбурную репетицию наладили… болгары. Русские психуют. Любимов всех задирает, цепляется, нервирует. Мол, билетов на вас достать не могут приличные люди, а вы хотите кое-как тут сыграть? Мол, ожирели, мол, премьерство и прочее. "Сатиричный театр". Улица оцеплена. Их милиция нас бережет. Так бережет, что своего кумира, председателя Союза артистов Любомира Кабакчиева, и то не пропустила. Я, простой смертный, помог коллеге. Красавец Любомир, игравший у нас в фильме "Накануне" лет пятнадцать назад главную роль, очень обрадовался, что я хорошо знаю его друзей - Олега Табакова и Люсю Крылову.
"А зори здесь тихие…" - премьера гастролей. Перед началом - речи Любимова и Кабакчиева. Прием - на ура. Корзины цветов, овации. В гримерных - виноград и кока-кола. Загранка! Заботятся, молодцы. Ночью - клуб Союза артистов. Тосты и песни с обеих сторон. Нет заграницы, есть интернационал актеров и - некоторая Грузия, судя по смуглости волос и страстным повадкам.
7 сентября. "10 дней". Репетиция. Десять человек - в Оперу. Репетируем свое выступление на празднике. Армейский ансамбль подпевает нам "Землянку", Любимов срежиссировал, все довольны. Вечером спектакль "10 дней", принимают отлично. После сцены с Высоцким - Керенским - "Последнее заседание Временного правительства" - спектакль встал как вкопанный. Овации не давали играть дальше. Народный Володя.
8 сентября. 17 часов - Опера. Правительственный концерт. Тодор Живков, Рашидов, масса гостей, ложи, кино, фото, блики. Телевидение - прямой показ. Мы на сцене. Эпизод из "Павших и живых". Армейский хор - молодцы. Плащ-палатка и каска - в память о наших воинах. Гудзенко - Высоцкий. Все нормально. До ночи - репетиция "Доброго". Ю.П., кажется, чересчур уж сугубо покрикивает. Опять присутствие зрителей, болгарских коллег сбивает его с рабочего тона. Его всегда подогревает злополучная "публичность".
11 сентября. Репетируем до конца "Гамлета". Читаем прессу. "Всичко хубаво" - "все хорошо". Вечером - "10 дней". В зале - Тодор Живков. Почему-то больше всего это встревожило монтировщиков и электриков. Как назло - накладки со светом, с трехцветным флагом и т.д. Всичко хорошо, что хубаво кончается. Ужин в клубе театра. Живков и Любимов - речи об искусстве, тосты за дружбу.
12 сентября. Театр. Улицы. Магазины. "Утилитарюсь" в честь детей и семьи. Радио. Читаем из "Антимиров" и "Павших и живых", поем, работаем. Ну и обстановка в Болгарии - как дома… у мамы-папы. 17 часов - "Добрый человек". Репетиция и сразу - спектакль. Ну, не так, как когда-то, но тоже неплохо. Красавица Сильвия. Думал: мой успех. Оказалось: Высоцкого.
13 сентября. Утренний "Гамлет". Пожалуй, самый неистовый прием. Просто грохот, а не аплодисменты. Знаменитый режиссер Гриша Островский со своими студентами и восторгами по моему адресу. Он наказан за авангардизм и сослан в Варну. Гм. Улица запружена народом. Поздравляют, берут автографы. Прогулка в горы. Красиво ранней осенью при солнце и в горах. Вечер в Обществе болгаро-советской дружбы. Речь директора Н.Л.Дупака. Ю.П. прячется за моей спиной: хохочет, рыдает. Дупак, не слыша себя, с пафосом хвастается своими победами над болгарскими… фашистами. Ура. Снова песни, дружба и прием.
В 1977 году жизнь Театра на Таганке была заключена меж двух чудес: в апреле разрешен спектакль "Мастер и Маргарита", в ноябре полуторамесячные гастроли по Франции. Явное смягчение климата: в день Веры, Надежды, Любви и Юрия Петровича Любимова опубликован Указ, и шестидесятилетний юбиляр получил орден Трудового Красного Знамени. Бывают счастливые совпадения настроений и погоды, когда всех "несет" и всем везет, и все молоды и талантливы, и при этом участливы и деликатны - как в большой хорошей семье. Так было с утра до вечера 30 сентября того года. И кто только не блистал! И вахтанговцы - первая семья актера Любимова, и "современниковцы", и Эфрос, и Гиацинтова, и Сличенко, и военные, и штатские, и в прозе, и в песнях, и в стихах, и академики, и министры (чего раньше не бывало), и студенты, и рабочие, и все, все, все. А именинник - так простодушен, так красив и предупредителен, словно никогда не был знаком с тем тираном и деспотом, кого таганковцы называли "Петрович", или "шеф", или просто "Он"…
После юбилея Ю.П. - поездка во Францию. Прилетев из Италии, где выходила их с Боровским очередная постановка, сразу в Париж - навстречу своей "Таганке", Ю.П. не успел поблагодушествовать. 3 ноября из моих рук он получил свежую московскую "Литературку", в которой орган А.Чаковского передернул фразы и смысл любимовского интервью для итальянской прессы. Выходило, по советской газете, что Ю.П. осуждал диссидентов и их фестиваль "Биеннале" в Венеции. Корреспонденту "Юманите" Ю.П. жестко объяснил, как он понимает культурную ситуацию в стране, кто у нас творцы, а кто - хозяева. Статью напечатали, поэтому после Франции власти отберут "пряник" и поменяют на более привычный кнут.
Последняя декада гастролей прошла в Марселе. Накануне финального "Гамлета" - ЧП! Сорвался принц - поэт Владимир. В лучших традициях вестернов испытали худшие минуты жизни участники детективной погони. Упрямо и находчиво убегают от преследования Высоцкий с приятелем. Любимов и Боровский отчаялись догонять: от кабачка к кабачку, от улицы к улице… Бешеная езда на такси. Вдруг вдалеке мелькнули знакомые силуэты - туда! Встреча состоялась. Смирился буйный дух, и "Гамлет" состоялся. Но что это был за спектакль!
…За кулисами - французские врачи в цветных халатах. Безмерные страдания больного Высоцкого. Уколы. Контроль. Мука в глазах. Мы трясемся, шепчем молитвы - за его здоровье, чтобы выжил, чтобы выдержал эту перегрузку. Врачи поражены: человека надо госпитализировать, а не на сцену выпускать… За полчаса до начала, когда и зал в театре "Жимназ" был полон и Высоцкий с гитарой уже устроился у стены, Ю.П. позвал всех нас за кулисы. Очень хорошо зная, какие разные люди перед ним и кто из них как именно его осуждает за "мягкотелость" к Володе, он говорил жестко, внятно и даже как-то враждебно: "Вот что, господа. Вы все взрослые люди, и я ничего не буду объяснять. Сейчас вам идти на сцену. Врачи очень боятся: Володя ужасно ослаблен. Надо быть готовыми и надо быть людьми. Советую вам забыть свое личное и видеть ситуацию с расстояния. Высоцкий - не просто артист. Если бы он был просто артист - я бы не стал тратить столько нервов и сил… Это особые люди - поэты. Мы сделали все, чтобы риск уменьшить. И врачи здесь, и Марина прилетела… Вот наш Стас Брытков, он могучий мужик, я его одел в такой же свитер, он как бы из стражи короля… и если что, не дай Бог… Стас появляется, берет принца на руки и быстро уносит со сцены, а король должен скомандовать, и ты, Вениамин, выйдешь и в гневе сымпровизируешь… в размере Шекспира: "Опять ты, принц, валяешь дурака? А ну-ка, стража! Забрать его!" и так далее… ну ты сам по ходу сообразишь… И всех прошу быть как никогда внимательными… Надо, братцы, уметь беречь друг друга… Ну, идите на сцену… С Богом, дорогие мои…"
Начал сурово, закончил мягко. Кстати, ни один не усмехнулся фантастическому заказу Юрия Петровича: чтобы я "сымпровизировал" за Шекспира… Когда все было позади, Любимов сообщил "господам артистам": "Такого "Гамлета" я ни разу не видел! Это была прекрасная работа! Так точно, так глубоко Володя никогда… да близко рядом я не поставлю ни один спектакль!"
…Пятнадцатилетним юбилеем в 1979 году Любимов интересовался больше, чем всеми предыдущими праздниками: "Вениамин, ты собираешься в апреле устраивать капустник?" - несколько раз торопил меня вопросами. Предлагал свою помощь, готов был оказать давление на любого из звезд, кто понадобится мне для шуточного спектакля. И когда я спросил: "Юрий Петрович, откуда такое внимание к этой некруглой дате?" - он ответил: "Кто знает, возможно, круглее не будет". Судьбе было угодно подарить нам и двадцатипятилетие, и тридцатилетие - и все же пятнадцатилетие надо признать особой чертой в биографии любимовской школы.
"Дом на набережной" и "Борис Годунов" - последние в списке спектаклей-событий. Дальше надо говорить об эстафете влияний и о том, как вдохновила эстетика Театра на Таганке режиссеров последующих поколений: П.Фоменко, М.Захарова, Р.Стуруа, А.Васильева, Л.Додина.
Последний аргумент, объясняющий любимовское "упрямство" видеть свое дело в черном свете, - вечер памяти Высоцкого. Сегодня уже невозможно поверить в мучения, выпавшие на долю этого спектакля. Те самые стихи и песни, что теперь звучат по радио и телевидению, изданы и переизданы в книгах, газетах, журналах, - собрание лучших сочинений поэта и актера составляли плоть нашего вечера 1981 го-да. Его показали расширенному художественному совету. В его защиту собирались подписи знаменитых современников. Казалось, сочувствием к певцу и его творчеству охвачены все люди страны, у которых есть память и душа. Спектакль запретили. Для того чтобы показывать его в дни рождения и памяти поэта - в январе и в июле узкому кругу родных и близких, требовались величайшие усилия Любимова. В виде особой милости за три года четырежды нам позволили сыграть "Владимира Высоцкого". После третьего показа (и очередного отказа), собравшись на обсуждение спектакля, мы занесли в протокол следующее коллективное признание: все сотрудники театра, прежде всего актеры, полагая для себя делом чести сохранить в репертуаре спектакль "Владимир Высоцкий", не видят возможным дальнейшую жизнь "Таганки", если спектакль не будет разрешен к исполнению.
Спектакль был снова запрещен. Вопрос нашей чести повис в воздухе. Перед отъездом на постановку в Англию, в 1983 году, Любимов заручился в инстанциях обещанием исправить беспрецедентное положение. Находясь за границей, он несколько раз напоминал о необходимости включения в репертуар и "Годунова", и "Владимира Высоцкого" как выполнение обещания и свидетельство реальной заботы о жизни театра. Особые (и особо наивные) надежды Любимов возлагал на милость генсека Ю.Андропова: когда-то наш режиссер отговорил юного Игоря Андропова идти в актеры, за что папаша был благодарен своему тезке…
В декабре 1983 года соединилось в одной точке множество исключительных обстоятельств. Тяжелая болезнь Любимова. Лечение в клинике Лондона. Ухудшение отношения Запада к Советскому Союзу после инцидента с корейским самолетом. Конфликты по ходу постановки в Лондоне. Оскорбительная выходка в адрес Любимова со стороны сотрудника посольства Филатова, впоследствии наказанного. На критическую массу тягостных совпадений Любимов реагировал по-своему. Было бы в Москве расположение, было бы желание предотвратить то, что грозило совершиться - одного слова "сверху" хватило бы. Но что гадать - если бы да кабы. Идеологи ЦК и КГБ оказались крупными драматургами: "Одним ударом - две судьбы".
Юрий Любимов и Анатолий Эфрос - два безусловных Мастера. У обоих за спиной международная слава новаторов. Две разные школы, две разные ветки одного ствола - российского театра. Когда-то Любимов посчитал полезным, чтобы таганковские актеры поработали с его другом. Не для вавилонского смешения театральных пристрастий, а с целью приобщиться к тому сильному, чем обладает чужая школа. В 1975 году А.В.Эфрос поставил на "Таганке" "Вишневый сад". Мнения резко разделились. Подавляющее большинство труппы приветствовало спектакль, но Любимов и Эфрос разорвали между собой отношения.
Из дневника 1975 года (скоропись, спешка в работе).
Впервые - большая роль в кино, по Джеку Лондону, "Смок и Малыш". Живу между небом и Вильнюсом, небом и Москвой, небом и Кольским полуостровом. Вожу с собой Чехова - готовлюсь к роли Гаева, но, увы, на расстоянии…
24 февраля. Утро. 11 ч. - Эфрос. Вишневый дым. Ведомственный ряд ассоциаций - о Москвине, о МХАТе, о Чехове… Гаев мой - тю-тю. "Анатолий Васильч, извините". - "Нет, что ты, я знаю, ты уезжаешь, но я жду. Неизвестно, когда я выпущу". Мерси. Я буду мечтать.
8 мая. Вечер - Малая Бронная… "Женитьба". Эфрос дал Гоголя вне Островских ассоциаций - блаженным абсурдом общества воинствующих обормотов. Занозисто пронзителен Жевакин - Лева Дуров, маслянисто страшноват и безоблачно хорош Яичница - Броневой, постепенно хорош и Подколесин - туготрудный Коля Волков, однако весь массив вспышки к Агафье и твердая вера, что теперь уже никак нельзя спешить со свадьбой, что надо - любить, узнать… и это хорошо отыграно и Ольгой Яковлевой (перекресток абсурда, идиотизма, страсти - и острой печальной нежности)… А тут циник с Калининского проспекта, Бог весть как залетевший в гоголи - Кочкарев - Козаков Миша - тянет под венцы да за банкет… Слезы у Агафьи… стол у Иван Кузьмича… Потом уголок секса рукикосновенчества… словом, палитра Эфроса… задумчивый отбор в пользу одиночества на земле… Уехали с Козаковым домой к Регине. Там - ночь за вкусным столом, где Орли-судак и Олег Даль, Игорь Эйхенбаум - герой "Normandii Neman" и орехи, его племяшка - жена Даля, ее мама, ананас и общие беседы. За евреев, за арабов, за русских, за Булата, за Бродского… И я одинешенек пью вторую водку. Вышли, усадили Далей с Эйхами… Все взаимно - милы, но Миша… штучка с ручкой, конечно. Кваша в сравнении - голова, хотя они оба - не Высоцкий, да и тот не Тендряков, как и сей последний - не Некрасов, о котором кратко скажу - голова, хоть и не Булат.
24 мая. Прилетел. Прогон "Кузькина". В зале - Лелик Табаков, Белла и Мессерер, Максакова, Броневой, Эфрос, кинорежиссеры Назаров, Наумов. Элита - и я с ней - хвалит "Женитьбу". Эфрос: "Ну, Веня, хорошо снимашься?" - "Плохо, А.В., не нравится кино". - "Да, литовцы злые и коварные, очень! Лучше прилетай репетировать".
11 июня. Утро - "Вишневый сад" на "Таганке". Эфрос в зале. Демидова молодец, но в 1-м акте забегалась и недоиграла, Шопен* - Лопахин не вполне нашелся, играет, впрочем, неплохо, Сидоренко - Дуняша отлично, Епихо - Рамзес** - молодцом, Гаев - Штернберг мил, Яша - Шуляковский натурален и пошл. Шарлотта - Полицеймако сгущена поначалу, но заиграет безусловно, Фирс - Ронинсон уж слишком… ну фиг с ним. Погода сплетена, декораций нет, теперь пора всем заполнить нутрями. Люблю Эфроса. Вчуже? Не знаю. Марьяна Строева - гуторит, агитирует. Эфрос - 10 мин. подарил. "Нет, не надо характерности, а Смехов - как есть, такой добрый и беззащитный, всем хочет лучше! "Меня мужик любит" - и никчемный… Вот и я такой же… Ну… нет, не Завадский, а - Пастернак. Смоктуновскому ничего не стоит сыграть. Я тебя повожу по роли, нужно не много… учи текст".
18 июня. Театр. Прогоны Вишневого Эфросада. Мается добрый Витя Штернберг. Не деликатесы эти Демидовы, не греют парня душевностью, а у него (и у меня?) нет ответного самовлюбия. Отсель - тоска: "Вень, когда ты в Гаева войдешь?"
28 июня. "Вишневый сад". Худсовет. Славина крыла Демидову. Корили скуку. Я - за Высоцкого и Шаповалова в Лопахине, за расшифровку чеховского письма. За 2-й акт и желанную напряженку. Золотухин, Сидоренко, Джабрик - отлично. Эфрос трижды рвал страсти - на Любимова ("молчи, Юра, не веди себя как начальник!") и рыкнул на Глаголина (тот что-то пузыри пускал, что не любит слова "гениальный художник"…). Эфрос: "Я делаю не классиков и не исторический материал, а про жизнь вообще. Долго не мог найти среду понимания. Мне все равно, поняли или нет… Демидова мне нравится. У меня в театре за 18 лет совместной работы только двое могут все…" Ю.П. реверансно учил Анатолия четким акцентам. Но, в общем, все же молодец и - два близких таланта. А.Эфрос очень красив и блестящ, но… рододендрон для меня, любит быть непонятным. Однако Гаева поиграть чешется…
5 июля. С Таней Жуковой - информация - вчера шло дикое собрание, и какой талантливый, но чужой Эфрос (только хвалит, мы все в невесомости, и четко граничит главных от "сошек") и как вообще все нехорошо. Любимов - сухой со мной. Высоцкий обижен, что я не еду на концерты в Донецк 15-20 июля… Все - как посторонние. Странно.
5 ноября. "Вишневый сад". Премьера. Публика без бублика: Арбузов, Аксенов, Гаевский, Рыбаков, Влади, Максакова, Сперантова… Мои мам-папы. То-се. Беньяш, Наташа Крымова, Паперный с хором: "Веня, вы должны играть Гаева". Однако участь "Сада" incognito: Эфрос в обиде. Успех. Сыграно - ах! Высоцкий (серьезно занят Лопахиным, не собой) и - очень здорово! - Эфрос топчется за кулисой, слушая свое дитя. "Кто смотрит?" Я называю. Он: "Арбузов?! Он же считает, что я не понимаю Чехова".
1 февраля 1976 года. Иду на "Послушайте!" Истошничаем. И звучит Плехановка, и все, как надо, как было. Эх, Любимов, Любимов - ничаво ты не придумаешь нового, кроме хорошо и честно сохраняемого старого.
От Демидовой, по "секрету": "Веня, репетируй Гаева! Эфрос говорит - я его люблю, только удивила его речь на худсовете… Я ему тоже сказала - Анатоль Васильч, он же, Веня, не знал про отношения, он приезжал со съемок… А теперь Володя в марте едет в Париж, и будут репетиции с Гафтом, только этого никто не должен знать, чтобы не поранить Володю…" Я не понял, что за раны для актера, но за такие перспекты порадовался: что Вова - в Париже, что Валя - на Таганке.
Категорическое отрицание Любимовым антипатичного ему создания не помешало "Вишневому саду" занять свое место в репертуаре до 1980 года, до смерти Высоцкого, единственного исполнителя роли Лопахина. (Позднее Эфрос, новый главный режиссер "Таганки", возобновит свой спектакль с другим актером.)
В мире или в ссоре, Эфрос и Любимов - оба в списке лучших режиссеров России. По счету искусства автору "Таганки" музыка, исполненная на его инструменте, резала ухо. Но оставил Ю.П. "Вишневый сад" в репертуаре. Что касается истины в вопросах вкуса - вот вам две точки зрения:
Первая: режиссура Эфроса - чудо сценической полифонии, где под тканью словесного покрова необъяснимо пробивается потаенная драма героев, берет дрожь за этих людей… Хотя в чем, собственно, дело? Текст пьесы говорит об известном - но откуда тревога? Какие воздушные нити, волшебное поле магнетизма человеческого общения!.. Работы Эфроса полны той одухотворенности, которая в спектаклях "Таганки" если изредка и присутствует, то не по желанию постановщика.
Вторая: режиссура Ю.Любимова раскрывает через пьесу не только людей и их проблемы, она дает всякий раз картину мира. В его театральных симфониях темы, сплетенные воедино: проблемы человека, проблемы страны и история человечества. В этой объемной картине есть место и для сухого репортажа, и для мощного хора страстей, и для детальной обрисовки эпизода, и для элегантных кружевных сценических изделий…
Уверенные в первом тезисе не приемлют второго, и наоборот. Итак, отец таганковского семейства убедился в том, что соединение двух театральных школ - неприемлемо. Это было в 1975 году.
Но разве история искусства могла интересовать начальников 1983 года, в приказном порядке лишивших театр одного хозяина и назначивших другого?
В данном случае судьба припасла беду, к которой мы не были готовы… Любимов остается за границей, Эфрос соглашается взять его театр… Это как если бы Таиров перешел на место изгнанного Мейерхольда в 1938 году… Предложить (повелеть?) Мастеру войти отчимом в теплый дом, не поговорив с детьми и при живом отце… Вот что такое приказ о новом главном режиссере в марте 1984 года.
Нас вызывали, требовали забыть того, кто нас сделал актерами "Таганки", угрожали политикой, если мы плохо примем нового хозяина. В доме, где двадцать лет жили в атмосфере гласности и демократии, в каком-то судорожном раже наводился новый порядок. Нам внушали, что мы "сами по себе большие артисты", что Любимов - враг, что он нас и страну предал, что Эфрос - спаситель, что с ним "Таганка" обретет новую жизнь… и будет много званий, заграничных гастролей, квартир, заодно и ролей, и прочих атрибутов славы…
Вернемся на два месяца назад.
Январь 1984 года. Театр обратился в Политбюро с просьбами разрешить "Годунова", сыграть 25-го, в день рождения поэта, спектакль "Владимир Высоцкий", вернуть Любимова. По телефону сообщили в ответ: "Работайте спокойно. Прекратите волнения".
Февраль. Множество попыток добиться правды об Эфросе - Москва гудела слухами о его тайном назначении и тайном же согласии. Коллеги Эфроса - Товстоногов, Ефремов, Ульянов - настойчиво отговаривали от этого ошибочного шага. Артистам своего Театра на Бронной Анатолий Васильевич ответил - ничего не знаю, чепуха. Алле Демидовой, Сергею Юрскому - всем, кто пробовал напрямую узнать, - тот же ответ. После этого театр пишет письмо министру: просим назначить нашего товарища, кинорежиссера Н.Губенко, временным руководителем художественного совета и всей "Таганки". Устно отвечено: кандидатура хорошая, работайте спокойно.
Начало марта. Приказ об увольнении Любимова. Затем - исключение из партии. Срочный вызов ведущей группы артистов в Управление: обеспечьте спокойствие для дальнейшей жизни театра.
19 марта на спектакле "Товарищ, верь!.." (накануне ввода нового главрежа) - сама собой произошла церемония прощания с прошлым. После грандиозного успеха пушкинского вечера - объятия и рыдания за кулисами…
20 марта, в 11 часов - собрание труппы. Для обеспечения спокойствия, для пресечения поступков, которые могут испортить жизнь театру и Юрию Петровичу (в соответствии с намеками начальства), мы собрались на час раньше. Логикой и авторитетом ведущая группа убедила взбудораженное семейство: никаких реакций, никаких истерик, мы обязаны сберечь самое дорогое - наш репертуар. Только дисциплиной можно достичь доверие властей, и тогда нам помогут вернуть Ю.П…
12 часов дня. Все в сборе. Начальство зачитывает приказ. Директор театра предоставляет слово Эфросу. Умно и обаятельно последний сообщил, что его цель - сохранить все, что он более всего любит и ценит: дух и творения Юрия Петровича. Но вот, мол, так все случилось, уверен, что мы будем хорошо вместе работать. Будут новые спектакли - другие, чем были у вас, и другие, чем были у меня. Директор спросил: нет ли вопросов, тогда собрание считаю… Не успел. Один за другим выступили несколько человек. Говорили, что сегодня - похороны театра. Спрашивали у Эфроса, как он мог прийти, ни с кем из нас не посоветовавшись. Напоминали ему, что в час его испытаний, пятнадцать лет назад, за него пошли бороться товарищи, а первым среди них был Любимов… (Это когда Эфроса снимали с главрежей Театра имени Ленинского комсомола.) Эфрос на все вопросы отвечал мягко, печально и одинаково: я вас понимаю, ничего не поделаешь, но поверьте мне, пройдет время, и вы увидите, что все сделано правильно… Я тоже выступил и тоже получил ответ: "Ты прав, Веня, я должен был, наверное, поговорить с теми, кого хорошо знаю - с Боровским, с Демидовой, с тобой… Я должен был, но… я другой человек. Я люблю работать…"
…В апреле 1984 года Театру на Таганке исполнялось двадцать лет. Способы отметить день рождения в родном доме сменялись по следующей схеме:
Способ первый. Днем 23-го - прием гостей, речи, встречи, юмор и серьез. Вечером - "Добрый человек из Сезуана", публика - друзья театра. Ночью - праздничное представление и чаепитие в кругу близких.
Второй. Убранство - поскромнее. Прием отменить. Спектакль оставить. Публику фильтровать. По окончании - разойтись.
Третий. Только спектакль - и с обычной публикой, гостей не надо.
И последний. 23 апреля в Театре на Таганке объявлен "выходной день". Охрану усилить, в театр никого не пускать…
Приехавшие с разных концов страны театралы-почитатели без конца фотографировали унылый служебный вход, объявление о выходном дне и… могилу Высоцкого на Ваганькове.
А что артисты? Каждый отметил по-своему, но все - под страхом наблюдения со стороны.
Тринадцать человек были приглашены на вечер в ресторан Дома литераторов, где мы объяснились в любви к хозяину стола Б.Окуджаве, он - к нам, все вместе - к "Таганке", обменялись сувенирами и уехали в дом к Жанне Болотовой и Николаю Губенко. И снова звучали здравицы в честь нашего двадцатилетия и шестидесятилетия Булата Окуджавы. С нами еще и Б.Ахмадулина, и Б.Мессерер - свои. Чужие тоже сопровождали нас весь день - за соседним столиком ресторана ЦДЛ, и во дворе дома Н.Губенко, и по всему пути нашего "преследования".
В 9 утра мы с женой выехали из дома. За нами - "Жигули" с антеннами. Галя ведет наблюдение: куда мы - туда они. На Шаболовке после телесъемки вышли с актерами из проходной. "Хотите, машину с кэгэбэшниками покажу? Номер такой-то?" И только я выехал со стоянки телестудии, из-за угла - они! Актеры глянули на номер и убедились: они самые. И так - весь день, до 5 утра. Приехали домой, Галя выглянула в окно, и, как в дешевом сериале, "разведчики" подъехали к нашей машине, скользнули лучом фонаря и исчезли. Никому не пожелаю этого чувства - любить свой дом под неприкрытым надзором агентов КГБ.
…Родина - не абстрактное понятие. Для нас родина - наше дело. Актеров не смогли заставить отречься от Любимова: у нас на памяти были отречения учеников от Мейерхольда. А через тридцать лет эти ученики писали мемуары, выступали со словами любви к Мастеру. Мы хотели спать с чистой совестью - кто упрекнет нас в этом? Но мы люди искусства, и политическая игра постепенно запутала многих из нас. До сих пор введенные в обман коллеги считают, что Эфроса прислали "спасать "Таганку". В этой дьявольской игре было три акта: первое - "новое назначение", второе - "На дне", третье - трагический финал…
Второй акт начался мрачно. Но его продолжительность была рассчитана не на один день. С апреля по июнь 1984 года мы играли "прощальные спектакли". Как только театр был распущен на двухмесячный отдых, руководству доложили: волнений нет, идет работа над пьесой Горького "На дне". В июле Ю.П.Любимова Указом Верховного Совета лишили гражданства СССР. В скобках заметим, что в стране мало кто был об этом осведомлен. Разве только подписчики "Ведомостей Верховного Совета СССР".
К важным удачам второго акта надо отнести сумятицу в общественном мнении. Вот версия, распущенная сверху и поддержанная снизу: "Любимов, избалованный славой, устав от старой "Таганки" и поддержанный молодой женой, спровоцировал скандал с властью, чтобы остаться в эмиграции. Теперь его с радостью забросают контрактами. О себе подумал, а своих учеников предал. Его друг, тоже кумир шестидесятых и жертва семидесятых, тоже "левый", тоже гонимый начальством, загнан в угол: его заставили принять театр. Теперь ситуация уравновесилась, ибо лучшего спасителя и придумать нельзя. Эфрос ставил на "Таганке" Чехова, он работал с Высоцким, он любит их спектакли - как повезло актерам. Правда, два-три человека бунтуют, но это они зря. Люди в ЦК поступили мудро".
В основном подобные речи подхватывали те, кому была безразлична любимовская школа. Назавтра после первой встречи с "новым Эфросом" нас ставят в известность об увольнении всех выступавших. Первым был уволен Юрий Медведев, один из ветеранов театра, актер пантомимы и драмы. Со слов А.В., остальных оставили в театре, только пойдя навстречу его уговорам.
Руководители всех театров Москвы получили строгое указание - не брать к себе ни одного таганковского артиста… То есть ни одного артиста, который нужен А.В. Из недолгих бесед с Эфросом актеры и режиссеры сразу выясняли степень своей пригодности. И многие исчезли без препятствий (личные драмы - не в счет).
Задержаны документы на присвоение званий, в том числе Жуковой, Полицеймако, Губенко, Джабраилову, мне.
Отменены выступления, назначения на роли в кино, загранкомандировки - в том числе Демидовой, Золотухину, Филатову, Ярмольнику и другим.
Все городские и союзные организации, имевшие регулярные контакты с артистами "Таганки", - общества "Знание" и книголюбов, Росконцерт и Бюро пропаганды киноискусства - получили соответствующие инструкции…
Я в это время поступал в одну из секций Союза писателей - позвонили, мое дело прекратилось.
В театрах и домах творческой интеллигенции нас стали обходить с опаской. Приумолкли и наши телефоны. В этих условиях было вывешено распределение ролей в "На дне". Сказались больными, ушли от репетиций А.Демидова и Л.Филатов. В главных ролях Эфрос занял всех, кого занимал Любимов: Антипова, Бортника, Джабраилова, Золотухина, Жукову, Полицеймако, Смирнова, меня, Соболева, Трофимова, Ульянову… Для общественности и для западных корреспондентов: ничего не изменилось! Театр в порядке! Лидеры "Таганки" на своих местах! Инцидентов нет.
В мае отпечатаны и разосланы пригласительные билеты на вечер в Музее А.С.Пушкина, где я должен был читать композицию ко дню рождения поэта. За неделю начались звонки перепуганной администрации музея. Они пытались выручить вечер, рискуя своим положением. Но за два дня было повешено объявление о том, что никаких вечеров в ближайшие два дня не состоится в связи… с ремонтом водопровода.
В Центральный детский театр позвонили: "Вы ставите пьесу Смехова? Не рекомендуем". Завлит и худрук попросили официальный документ на этот счет. "А нашего звонка вам недостаточно?" Театр выпустил премьеру о Маяковском, где я - автор композиции, и никто никого не наказал. Примечательный случай.
К удивлению Эфроса мы, один за другим, предъявили ему требования отменить "блокаду". Реакция режиссера: я тут ни при чем, они сами. Вторая реакция - как в сказке: по звонку А.В. отменялись запреты, возвращались права…
Уже на первых прогонах "На дне" появлялись журналисты, магнитофоны, кинокамеры. Триумф был обеспечен…
Премьера "На дне". За первые две недели вышли хвалебные статьи во всех центральных газетах, то есть гораздо больше, чем за десятки лет постановок Анатолия Эфроса! Я имею в виду похвальные рецензии.
Мое поколение, как и поколение Любимова и Эфроса, воспитано страхом. Дети лагерного режима, мы не удивлялись, что вахтеры на служебном входе театров - чаще всего отставные чекисты. Мы привыкли к их манере ощупывать глазами входящих. В последние мои дни на "Таганке", находясь в состоянии ежедневных стрессов, я сорвался на наших "пожарников" (почему-то их не называли вахтерами). Заступился за журналиста: его обхамили, я хамил в ответ и опоздал на сцену в спектакле "На дне"… В антракте опять сорвался, когда объяснялся при всех с Эфросом: "Вахтеры десятки раз оскорбляли своим "непущанием" наших гостей! Ольгу Берггольц! Артура Миллера! Актеров! А тут журналист - тихий, скромный! Они его руками - и за дверь! Нельзя, чтобы в театре главную роль играли сексоты и вохры!.." Тут побледнел А.В. и крикнул: "Я не знаю этих слов! Я не знаю, кто такие вохры…" Меня затрясло: "Это ложь! Вы не могли не знать, кто такие вохры, живя в сталинские времена!!!" Мне стыдно, что я не сдержался. Тогда же попросил освободить меня от работы по собственному желанию. Мне отказали - с прозрачными намеками. Аналогичное произошло с рядом других артистов. Лишь через год, с обновлением политического климата в стране, положение изменилось: уйти разрешили.
До конца второго акта - до снятия В.В.Гришина с работы - совсем немного. А "успеваемость" - грандиозная. Оформлены поездки на престижные гастроли, фестивали, турне. Готовятся новые премьеры, множатся одические рецензии.
1985 год. С 15 апреля я в штате театра "Современник". Мы там вчетвером, в "эмиграции": Д.Боровский, Л.Филатов, В.Шаповалов и я. Так совпало, что 18-го числа объявлен мой большой вечер в Политехническом музее. Меня спросили: как писать в афише? Как есть, так и пишите. На большом щите появилась моя фамилия с "новым адресом". И вдруг - буря. Бдительные люди дали знать в горком. Горком пробил тревогу в райком, райком - в правление общества "Знание". Отменять поздно: все билеты проданы. Утром вызваны в "агитпроп" Бауманского райкома я и директор "Современника". Улыбаюсь холодной даме: я читаю хороших поэтов, я пропагандирую разумное, доброе, вечное, у меня - школа "Таганки". Дама-начальник изъясняется суровым штилем. Вы, мол, к "Таганке" не имеете отношения - попрошу молчать об этом театре. Вы назвались актером "Современника". Извольте молчать и о нем. Читать свои рассказы? Нельзя. Программу изложите вот этому товарищу, и не надо улыбаться. Я должна о вас доложить в секретариат горкома. Что? Отменить по болезни? Нет, мы вас просим спокойно работать, читать Пушкина и Маяковского, на вопросы отвечать откажитесь…
Я начинаю сердиться: я беспартийный, мне терять, уважаемая, нечего, и пугать меня не следует. Мне отвечают: мы вас не пугаем, мы вас оберегаем. Если позволите себе политическую ошибку, первыми будут наказаны руководство "Современника" и дирекция Политехнического. Я прерываю: понял вас, спасибо. Но ответьте - тревогу возбудил сам Эфрос или вы за него?.. Дама-идеолог позволила себе даже поморщиться - мол, последняя премьера "Таганки" мне, лично, не очень, но вы сами поймите: а) я обязана информировать "город"; б) завтра, если все пройдет хорошо, я вам пожелаю счастливого пути в новом театре, которым мы, кстати, недовольны; а поэтому приток свежих сил в лице Шаповалова, Филатова и вас - радуют район; в) но завтра же в этом ящике стола будет кассета с записью вашего вечера, учтите…
Вечер прошел хорошо, мы со зрителями выдержали экзамен. Были напрасно напряжены: со стороны "жениха" - два врача из числа моих друзей, со стороны "невесты" - целый отряд крепышей-чекистов. В эти же три часа они могли с успехом ловить настоящих вредителей, а не скучать над подтекстами артиста, читающего пушкинское:
Как эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари, Так ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма!Примечание: стихи Вл. Высоцкого, которые мне запретили читать, я все равно решил прочесть. Но перед самым концертом ко мне домой приехал и униженно клялся в вечной благодарности директор Политехнического. И его семью, и детей парторга, их внуков, жен, кумовьев - всех сотрудников городского "Знания" ждут назавтра котомки и дальняя дорога, если я хотя бы назову имя Высоцкого! И я не читал. Назавтра мне позвонила только одна из "спасенных" мною. В ее словах было меньше общих мест, а больше стыда - за глупое раболепие вчерашнего абсурда. Директор же, несмотря на гордое имя Тимур, смело забыл и свое унижение, и мое имя, и все, что не входило в новое расписание чиновничьего дня…
Одна за другой выходили заметки А.В.Эфроса - в основном в "Литературной газете". Главная их линия: на "Таганке" сегодня очень хорошо. Авторы пишут. Зрители в восторге. Актеры едины как никогда. Правда, есть три-четыре отщепенца, но это или алкоголик, или бездельник, или кинобаловень - словом те, кто убоялся "кропотливой работы". Был намек и на меня: один ушел из принципа.
Охота чиновников унизить двух больших художников была столь велика, что начальство пошло на риск аполитичности. Сохранили в афише театра Эфроса спектакли Любимова! Снять имя постановщика, но "простить" ему - его душу, его дело (анонимно - его самого)! Сперва разрешили три, потом пять, дальше - больше… Наконец в 1986 году объявили о восстановлении "Мастера и Маргариты" и "Дома на набережной"… То есть двух самых легендарных любимовских спектаклей! Комментируйте сей парадокс как угодно: или скрытое сочувствие школе Любимова, или скрытое презрение к своему ставленнику. Если помнить историю - бывало всякое у нас. И "Веселых ребят" показывали без имени авторов сценария Н.Эрдмана и В.Масса, и "Песню о Встречном" пели всей страной, скрывая фамилию поэта Б.Корнилова, и "Я верю, друзья, караваны ракет" на слова запрещенного В.Войновича оставались гимном космонавтов.
Я думаю, что А.В. было хорошо на "Таганке". Он никак не ожидал встретить в чужом коллективе столько гибких, послушных и благодарных актеров. Печально, что ошибка первого шага давала себя знать повседневно. Он переступил порог "Таганки" в сговоре с хозяевами, а не с артистами. Эфрос помог властям избавиться от Любимова, но дальше он работал как свободный мастер, он не умел никому льстить выбором репертуара. Парторг и директор театра были свидетелями грубо небрежного обращения к А.В. в последние дни его жизни, когда их двоих вызвал к себе первый замминистра Зайцев. В воздухе пахло новой "оттепелью", и Эфроса ставили в известность о возможных переменах: Любимов, если вернется, будет работать на старой сцене; Анатолий Васильев - в малом зале; Эфросу останется новая, большая сцена. "Таганка" направила М.Горбачеву письмо с просьбой о приглашении Ю.П.Любимова в "обновленный" СССР. Эфрос поставил свою подпись - по настоянию актеров.
Если позволить себе упрек в адрес Эфроса (и Любимова) - только единственный: то, что звучит в афоризме Бертольта Брехта: "Несчастье проистекает из неправильных расчетов". Святая мизансцена в истории искусства: художник с художником против властителей. Режиссура Эфроса дарила наслаждение, рассказывала "еще и еще раз про любовь", его перебрасывали из театра в театр, но мизансцена оставалась прежней: режиссер с актерами против чиновников.
Финал. 13 января 1987 года от сердечного приступа скончался великий режиссер Анатолий Эфрос.
Повторная - через три года - просьба Театра на Таганке была немедленно удовлетворена: Николай Губенко принял руководство коллективом. Волевые напоры "сверху" уступили место демократическим решениям. Рецидивом прошлого прозвучала статья В.Розова о "виновниках" смерти А.В.Эфроса: дескать, его убила "чернь" - то есть актеры двух театров. По одной-две грязных анонимки благодаря "Литгазете" получили представители "черни"… И всё. Я был свидетелем попыток опровергнуть клевету В.Розова А.Ваксбергом, И.Виноградовым, А.Свободиным, Р.Быковым. Множество писем в редакцию от критиков, актеров и писателей - просим напечатать! Ответ органа Чаковского - молчание.
…Трагическую новость я узнал в Тбилиси. Старый Новый год. Празднование столетия Сандро Ахметели, новатора грузинского театра. Сегодня Сандро Ахметели, уничтоженный в 1937 году и полвека замалчиваемый благодарным потомством, - герой на празднике возрождения. Ночью после прекрасных речей хозяев и ответных - гостей из Москвы вдруг прервано течение бесед… Страшная новость, мистика, нет сил поверить… Мудрое и горькое слово сказал однокурсник Эфроса Григорий Лордкипанидзе: "То, что случилось, - это самоубийство, самоубийство великого режиссера, которое длилось три года!.."
На пороге возрождения "Таганки" я написал статью "Скрипка Мастера", фрагменты из которой входят в эту книгу. Когда мою статью, со многими купюрами, все же напечатали в журнале "Театр", я попал в водоворот восторгов и кривотолков. Вышли в двух центральных газетах разгромные письма против меня. Знающие и отсидевшие успокаивали: "Появись в прежние времена такие "письма гнева", не сносить бы тебе головы, радуйся и не страдай". А я все равно почему-то страдал. Мне казалось очевидным: в марте 1984 года партийные идеологи победили в своей игре с театром. "Таганку" как будто не закрыли, но Любимова вычеркнули из истории культуры. А.Эфроса ввели на роль "вычеркнутого". Актеров припугнули политикой… Зная примеры подобных экзекуций в СССР, можно представить дальнейший путь победителей. "Таганку" Эфроса опекает партия. Спектакли выходят и получают премии. Непослушных актеров наказывают (варианты: дискредитируют, судят, расстреливают). Любимова лишают гражданства (вариант: находят за рубежом и случайно толкают под колеса авто)… Конечно, сегодня это кажется глупой страшилкой. Дай Бог, чтобы нашу беспечную забывчивость поддерживали факты реальной жизни…
На деле было так. Началась перестройка. Медленно, но верно в наши паруса попадал "ветер перемен". Хотя имя Любимова было по-прежнему запрещено. Моя статья "Скрипка Мастера" вышла в журнале "Театр" в № 1 за 1988 год. Через месяц в "Советской культуре" на видном месте появилась грозная заметка "В защиту художника" с подписями знаменитых людей.
Писатель Борис Можаев позвонил через день после "Советской культуры": "Слушай, Вениамин, какая-то чепуха получается! Я знаю этого типа, Альберта Беляева, бывший куратор писателей в ЦК партии. Я ему вчера звоню: "Альберт, ты главный редактор газеты, у меня есть заметка о статье Смехова, напечатай, пожалуйста". А он мне: нет, мол, мы вообще об этой статье ничего не даем - ни плохого, ни хорошего. И вдруг назавтра - этот пасквиль! Ты не знаешь, откуда ветер дует? Я думаю, это оттого, что ты Юрку Любимова публично великим назвал. А как же иначе? Враг, эмигрант - и вдруг "великий"!"
Из Ленинграда позвонил Александр Володин: "Веня, тут приехали две девочки, не буду называть имен, они прямо с поезда вошли ко мне с письмом - подпишите, это о статье Смехова. Я говорю: с удовольствием, такая правильная, хорошая статья. Давайте сюда. А они не возражают, дают мне… И тут я пробежал их письмо глазами. Какая-то глупость, как это возможно? А кто еще, кроме меня, отказался? Они назвали одного, другого… И Святослава Рихтера назвали…"
Я стал записывать и собирать хорошие отзывы. Оказалось многие, кого А.В.Эфрос ценил, поддержали "Скрипку Мастера". В "Московских новостях" вышла статья А.Смелянского, одобряющая мою публикацию. Среди записанных мною: Натан Эйдельман, писатель-историк и друг А.Эфроса, критик Игорь Виноградов, выдающийся лингвист Вячеслав В.Иванов, актеры М.Козаков, В.Гафт, О.Табаков, М.Ульянов, театроведы Борис Зингерман, Алексей Бартошевич, Видас Силюнас, Майя Туровская, Инна Соловьева, Михаил Швыдкой…
Вскоре те из подписавшихся в "Советской культуре", с кем я был лично знаком, объяснились со мной: и Г.А.Товстоногов, и О.Н.Ефремов, и А.А.Аникст. Но самую большую боль своею подписью мне причинил Сергей Юрский - любимый актер, мой друг и ближайший свидетель горьких лет Эфроса на Таганке.
В эти же месяцы 1988 года Н.Губенко ведет хитроумную работу по возвращению в СССР Ю.П.Любимова. Ниже, в главе "Таганка" в Мадриде" я описываю первую встречу с "отцом семейства" в марте, все наши страсти и надежды. В мае Юрий Любимов прилетел в Москву, и эти 10 дней действительно потрясли мир. Он прилетел (так того требовали органы госбезопасности) как "частное лицо", гость Н.Губенко. Сегодня кажется глупостью вся возня вокруг такой простой проблемы. Но я был свидетелем нервных, сложных шагов Губенко, срывов и успехов - на пути к возвращению Любимова. Помню множество звонков и визитов в ЦК и в МИД. Помню, что помогали мидовцы А.Ковалев и А.Адамишин, а также референты М.Горбачева и А.Яковлева. Помню, что почти все члены Политбюро были против. Помню, что "за" были трое, но их авторитет тогда перевесил и М.Горбачев, А.Яковлев, Э.Шеварднадзе. Помню, тогдашний министр культуры СССР, сочувствуя усилиям Губенко и рассматривая подписи ведущих деятелей искусства и науки под обращением в ЦК, сообщил по секрету о другом письме - других ведущих деятелей культуры. Они сигнализировали, что приезд Ю.Любимова повредит "перестройке" в СССР.
Прошло много лет, и нет нужды ворошить старые печали. "Где-нибудь на остановке конечной" кто-нибудь поумнее меня разберется в этой театрально-политической интриге. Много ответов, конечно, хранится в архивах ЦК и КГБ. Кое-что уже известно о тех властных махинациях, которые лишили театр нормального развития, Любимова - гражданства, а Эфроса - жизни. Что же касается статьи "Скрипка Мастера"… Правы были те, кто услышал в ней голос взывающего о помощи. Но голос этот мне сегодня кажется петушиным, а тон статьи - излишне патетическим. Для этой книги я оставил ту часть, что меньше грешила пафосом.
Маленькое отступление. До событий 1984 года я был оптимистом и миротворцем. Мне доставалось - и от Любимова тоже - за "маниловщину" и добролюбие. От школы до 20-летия "Таганки", за три десятка лет, я составил свой список любимых режиссеров. Беда на "Таганке" сломала мне жизнь. Сегодня я перечитываю дневники, пересматриваю кино моей жизни. И Фоменко, и Эфрос остались на своих местах. Постсоветское искусство началось с фильма "Покаяние". И по сравнению с моим личным судом над собой всякий суд людей из близкого Эфросу круга оставляет меня равнодушным.
"ТАГАНКА" В МАДРИДЕ
Из дневника 1988 года.
13 марта. Семьдесят человек - актеры, постановочная часть, администрация - в самолете ТУ-154 вылетают в Испанию. Восьмой Мадридский фестиваль искусств почтил своим приглашением спектакль "Мать" по М.Горькому, поставленный в 1968 году Юрием Любимовым. Час ночи по Москве. Минус два часа и "плюс 15" по Мадриду. Еще час - и мы распаковались в номерах отеля "Плаза". Площадь Испании, центр города, памятник Сервантесу с примкнувшими к нему Дон Кихотом и Санчо Пансой. Четыре миллиона жителей и три - автомашин. Кажется, все эти миллионы шуршат всю ночь под нашими окнами.
14 марта. Завтрак общий. Информация руководства о монтировке декораций, о репетициях для восемнадцати испанских статистов (в роли роты царских солдат) и общих прогонах. Встреча с музыкантами из оркестра Евгения Светланова. Обмен новостями и советы опытных коллег, где и как расправляться с местной валютой в тех символических величинах, что получены каждым на недельное проживание. Знакомство с городом, солнце, возбуждение, изобилие черных тонов в костюмах испанцев, хорошие лица, нет суеты, достоинство и снова - потоки машин. За день отдохнули от московской зимы, устали от мадридской ходьбы, смонтировали декорации (художник Давид Боровский) и отрепетировали с "солдатами" (режиссер Борис Глаголин).
15 марта. Доброе настроение за завтраком разрушено новостью из газет: один из молодых актеров "Таганки" - Алексей Маслов - исчез в "чужом направлении". Небывалое для нашего театра событие омрачено тремя опасениями: кем его заменить в роли Рыбина, как защитить дирекцию от разносов в Москве и как скажется побег юноши на наших попытках вернуть "Таганке" Любимова.
16 марта. Две огромные репетиции. Губенко вместе с Глаголиным и Боровским соединяют воедино актеров, испанцев-"солдат", световую партитуру, музыку и оформление "Матери". Между двумя репетициями - пресс-конференция. Губенко рассказывает биографию "Таганки". Вопросы журналистов, как мы и ожидали, о Юрии Любимове, о романе Горького и о… Маслове. Утолить их любопытство мы могли лишь по двум первым пунктам. О разнообразии в советском театре известно на Западе примерно следующее: есть один на всех Театр Станиславского, а все остальное - незаконнорожденная самодеятельность. На словах развеять версию не очень удалось, признания и изумления появились в газетах позже, когда испанцы увидели спектакль.
Ночью после нервного прогона спектакля в номере у главного режиссера собрался актив театра. Сообщение: по приглашению фестиваля завтра в Мадрид прилетает создатель Театра на Таганке Юрий Любимов. Естественно его присутствие на представлении своего детища. Естественно, мы были единодушны, когда Губенко опросил наши мнения. Естественно, нормального сна ни у кого в ту ночь не было.
17 марта. День премьеры. Утро - репетиция с "солдатами", с Желдиным-Рыбиным, со светом и т. д. У меня в номере появился знакомый дипломат, он в Мадриде замещал посла. Два дня назад матерился и угрожал директору театра - за сбежавшего актера. Сегодня улыбается и смело машет рукой на "пустяковую историю": Москва подумала и дала инструкцию в духе "нового мышления" - "пусть его плывет". С 14 до 15.30 - ожидание вестей из аэропорта. Встреча состоялась, и ее описать невозможно.
За месяц до Мадрида я передал журнал "Театр" с моей статьей "Скрипка Мастера" немецкой студентке Биргит Боймерс. Она работала над книгой о нашем театре и несколько раз была "связной" между нами и изгнанником. Д.Боровский и Н.Губенко встречали Любимова прямо в аэропорту. Боровский позвонил в гостиницу: "Все в порядке. Едем к вам. Веня, между прочим, Петрович в руках держит твой номер "Театра", представляешь?" Когда такси остановилось у дверей "Плазы", мы с Машей Полицеймако первыми бросились обниматься: Маша - с "самим", я - с Катей Любимовой. И Катя мне немедленно сообщила: "Дорогой, ваша статья - это бомба, Юрий Петрович не мог поверить!" Уже позже, говоря о новостях в России, Любимов сказал мне о своей реакции: за 70 лет советской власти не было случая, чтобы о художнике, лишенном гражданства, в СССР вышла такая публикация.
Пять лет без двух месяцев длилась разлука. Юрий Любимов подробно общался с каждым актером, электриком, костюмером, радистом… Номер нашего директора Николая Дупака за два часа оказался сценой удивительного спектакля. Об эмоциях умолчу. Главное - вечером. Спектакль в 20.30. Перед этим распевка. И никто не ноет, как обычно: зачем так рано собираться, можно отдохнуть, походить по городу… Явка в срок. Театр жил как одна семья.
Композитор Юрий Буцко, один из очень известных в стране и в мире, впервые в жизни выехал за рубеж. Возле него, возле рояля - вся труппа. Распевка. Затем "Дубинушка" - песня, театральное воплощение которой давно описано советскими критиками и сотни раз отзывалось овациями и у нас, и на гастролях в Париже и Берлине… Итак, все внимание пятидесяти актеров на Юрии Буцко, звучат куплеты русской песни… Среди актеров - Юрий Любимов. Его дирижерская пластика, седая голова и молодое лицо, совместное пение и замечания Буцко - все это стирает испанскую реальность. Никаких пяти лет не было, никакого фестиваля нет и в помине, ибо мы - на Таганке, на дворе - московское лето, и ни разлук, ни холодов судьба нам не обещает…
Однако с 20 часов - активный прибой испанских зрителей к нашему милому берегу. Афиши, буклеты, билетеры, привратники с галунами, приветливая речь, корреспонденты и… зуд ожидания.
…Прошел час, и реакция на сцену "Дубинушки" была знаком для любого знающего наше дело: успех обеспечен. Конечно, нюансов предвидеть мы не могли. Например, того, как дружно взрываются над волной аплодисментов "чисто испанские" выкрики "браво". Например, того, что в антракте актеры будут переодеваться и перекуривать под несмолкаемый аккомпанемент оваций. Или того еще, например, что публика так славно никуда не спешит по окончании спектакля. Вроде бы отхлопали, вроде бы вышли из дверей и пора бы в поздний час - по домам? Однако мы выскочили на пустую сцену, чтобы сделать фотоснимок на память… и даже вздрогнули: зрители вернулись и снова хлопают…
Мы ездили на полдня в Толедо, гуляли по древним мостовым, поклонились следам Эль Греко, загорали под щедрым мартовским солнцем, фотографировались на фоне улочек и храмов, в обнимку с муляжами-рыцарями и на фоне витрин с толедским оружием… Мы обошли за три часа (это совсем немного) основные залы музея Прадо… Но точно так же, как возле рояля в театре, - в Прадо ли, на улицах Мадрида или Толедо - картина была одна и та же: актеры "Таганки", их глаза и жесты, их речи и ритмы общения были посвящены далеко не Сервантесу и совсем не Эль Греко…
Николай Губенко объявил о сборе труппы на замечания по спектаклю. Кажется, это было после второго представления. В 15.30 все как один сидели в зрительном зале, а Любимов, прислонясь к сцене, делился впечатлениями, редактировал увиденное через пять лет… Какие были лица у актеров… Вернее, какое было лицо у всех, кто сидел в зале и к кому обращался автор театра и спектакля…
В таверну ХVII века и ночную "дискотеку андалузского танца" зашли на минутку, а захвачены навсегда - музыкой, культурой танца, красотой и изобретательностью движений, страстью гордых кабальеро, не снимающих улыбок со своих лиц… В пять утра явились исполнители фламенко, и семидесятилетний Любимов выразил свои чувства ко всем событиям: включился в танец вместе с профессионалами…
Я запомню весь калейдоскоп работы и встреч на фестивале. Я не забуду ночных прогулок по Мадриду - и автоклаксонов в честь победы испанцев-футболистов над немцами, и голых пяток живописно укрытых бездомных у подъездов спящих офисов. Я не забуду жестокой красоты яркоглазых молодых испанок и добросердечия хозяев фестиваля, щедрых восторгов всей прессы Испании и наших симпатий к временным таганковцам, испанцам-"солдатам"… Все запомню, за добро благодарен и даже не обиделся на резкие скачки погоды, отчего у многих сели голоса. Слава богу, выдержала нелегкое испытание главная героиня, Зинаида Славина - Ниловна. Я не забуду и того, как все дни и ночи трудился, переживал и помогал своему дому тогдашний главный режиссер театра тогдашний Николай Губенко. Временный герой нашего времени… Но, всё запомнив в точности, как было, я дружно запутаюсь только в одном: сколько дней длились наши гастроли?
Директор утверждал, что восемь.
ЮРИЙ ЛЮБИМОВ
Портрет с натуры
Сегодня Юрию Любимову все льстят (в глаза). Красивый, гениальный, молодой, артистичный. Иногда не хочется льстить совсем, но встретишься взглядом, но попадешь в зону бог знает какого напряжения, и сам не заметишь, как заговоришь, а выйдя из зоны, припомнишь, чего наговорил, - и руками разведешь. Сплошная лесть. Оправдываемся друг перед другом - ученики и околотаганцы: возраст! Пережитое! Сколько добра сотворил! Пусть ему хоть с опозданием воздается благодарностью…
Кто не имел дела с такими величинами, тому трудно понять, что это за зона. Впрочем, российский человек сызмальства ее предчувствует. И хочет сказать независимое слово - учителю, директору, отцу, председателю, президенту - и не может, все мимо, силы сеются в песок. Попал в зону и готов: "чего изволите-с?", "ха-ха-ха, как вы верно заметили…", "я бы сам ни за что не догадался…"
В случае с такими величинами, как Ю.Любимов, эта зона - совсем другого происхождения. Любимов ведь - не "чин", и зона его - не источник страха. Это магия духовной власти. Поле притяжения таланта. Нет, в портретисты я, конечно, не гожусь. То есть в реалисты, в передвижники, что ли. А вот в импрессионизме себя попробую. Итак, вот вам блики, эскизы, кадры впечатлений, а вы хорошенько прищурьтесь, отойдите на шаг - глядь, и портрет сложится.
1990 год. Сегодня я веду репетицию "Самоубийцы" Н.Эрдмана - по просьбе Юрия Любимова. Репетиционный зал Театра на Таганке. Гулко звучат голоса. Актеры за столом: проходим текст второго акта. Мне показалось, что для этапа читки совершилась полезная работа. Сегодня никто не разыгрывал комедию, актеры держали ритм и лад эрдмановского слова, почти былинного белого стиха. И сочетание серьезной озабоченности персонажей с бредовой мещанской чепухой дает надежду на будущее трагикомического спектакля. Любимов завтра примет данный "нулевой цикл" и на три месяца займется самым главным делом нашей жизни - строительством дома, которого никогда не было. В конце репетиции, вдохновясь приличной работой моих товарищей, я встаю и заявляю следующее: "Господа, кажется, мы все-таки что-то полезное заложили, и совесть наша перед Петровичем чиста. Завтра он нас увидит и скажет: "Ну что, в 11 часов собирались и до двух трепались? Отдохнули, и будя. Работать с десяти и до трех - времени нам отпущено мало…" Это он скажет, но я скажу вам так. Мне кажется, изменилась мизансцена наших взаимоотношений. Раньше он тащил нас за собой. И вкалывал за себя и за нас, так? Ситуация совершенно новая. Сегодня мы его должны увлекать работой. Что толку, если я обижусь и начну тяжбу с Любимовым на репетиции? Неужели события вокруг имени Высоцкого нас ничему не научили? Забыть хочется, кто и как его честил… И какой честный склероз охватил все головы потом. Какими все стали умницами и друзьями… Как у страны последний шанс, так и у нас, мне кажется. Будем благодарными к отцу семейства, будем достойными своих будущих благородных мемуаров…"
Назавтра в 11 часов Ю.П. начал репетицию. Народу в репетиционном зале набилось вдвое больше, чем вчера. Плюс магнитофоны, плюс вспышки магния. Юрий Петрович в хорошем настроении. Несколько теплых слов о Японии - "с их знаменитой сакурой" и с тамошним успехом любимовского "Гамлета" (гастроли английской труппы). Много слов о нашей расхлябанности, о пьянстве некоторых и безответственности всех. И через каждые три фразы: "Ну, давайте работать, не будем отвлекаться на болтовню…" И снова - то про Кашпировского, то про пленум российских писателей - "расистов", то про экономику, а то про нашу разболтанность. За два часа читки прошли две странички пьесы. Но мы знаем - это разминка, через неделю он заведется. К концу первой репетиции говорит: "Ну что, вы без меня тут с одиннадцати репетировали? Отдохнули, и хватит. Теперь засучим рукава и - с десяти до трех, господа артисты". Дружный смех. Узнав, что мы эту фразу уже "отрепетировали" без него, Любимов посмеялся с нами, и жизнь продолжилась…
Во время репетиций спектакля "Самоубийца" изредка записываю за Юрием Петровичем:
"…Надо житейски наполнять пьесу, важна здесь уверенность всех персонажей - "так жить нельзя", вот это и есть актуальность…"
"Не попадают этой пьесой, потому что не чувствуют своего времени…"
"…Аппаратчики надеялись: народ испугается, привычка всего бояться всех удержит дома, а вышло на митинг 25-го около миллиона, и вот Травкин, умный человек, сказал: народ преодолел ступень страха…"
"Мы никогда не идем бытовым путем, надо чувствовать шире, играть шире, но на сцене должны быть конкретные, натуралистические детали - как петух и могила в "Гамлете", как яичница в "Часе пик", как еда в "Деревянных конях"…"
"Сейчас все ищут виновных, и это совпадает с пьесой: вот почему Эрдман - настоящий драматург. Пьеса ложится на любое время… Природа человека всегда одна… человек в обществе… сейчас все хватают, все норовят схватить и смыться… и все ищут виновных… да нечего искать - все виноваты, надо искать только выход!"
1958 год. В курилке между этажами Театрального училища им. Щукина студенты терзают вопросами мастеров… Красивый, крепко сбитый Ю.П.Любимов, хоть и торопится от театра к уроку, но откликается на наши призывы. К своему и нашему удовольствию изобразил Бориса Щукина - на сцене и за кулисами. Ничего, мол, ему в жизни не было интересно, кроме ролей, и этим самым он без конца заражал молодых.
Репетируем Эрдмана:
"Ночная сцена, сон - и все доведенные: ах, ты спишь, ах ты сволочь, а я тут как лошадь или муравей целые дни… Вот они, советские отношения: ах ты сволочь! У нас неповторимый свой стиль за 70 лет… "Там" все шарахаются от нашего стиля - откуда же мы грубые такие, что нас могло довести до такого стиля…"
"Запретите себе бытовой тон - под себя… Говорить надо, как Николаша покойный, - чтобы каждый звук был ясен - это же стихи!"
1964 год, зима, дом отдыха ВТО. Обожаемый вахтанговец Николай Гриценко отдыхает в Рузе вместе со своей женой, она же - моя однокурсница Ира Бунина. И, гуляючи дорожками зимнего парка, я зову его посетить наш младенческий театр, сулю ему удовольствие, вопрошаю об их совместных трудах с Юрием Любимовым. На спектакли, хоть и собирался, Гриценко так и не сходил, а на вопрос ответил так: "Я Юру не видел год, как он ушел от нас, а тут застукал его возле машины и кричу: "Юрка! Я такого о тебе наслушался, понять не пойму! Чтобы Юра Любимов, дотошный станиславщик, самый прожженный правдист - и вдруг сделался ярым формалистом! Говорят, Брехта поставил так, что Станиславский во гробе перевернулся! Говорят, песни поют, пантомиму играют - и никакой психологии! И я не пойму - это тот Юрка Любимов или другой?" А он мне: "Тот, тот", - и укатил на Таганку!"
1966 год. Московские "физтехи", поселок Долгопрудный. В битком набитом зале МФТИ - студенты и профессура. Объявлена публичная дуэль между тремя лучшими театрами Москвы. Олег Ефремов ("Современник") сказался больным, хотя никто в это почему-то не поверил. Вечер вышел - то, что надо. Интеллектуальный уровень зала - высочайший. Сражались двое - Ю.Любимов и А.Эфрос, лидеры "Таганки" и "Ленкома". Особо восхищал студентов театровед А.А.Аникст, он блистал в "третейской" роли. Мой друг, физик Саша Найвельт, был организатором встречи. Какой был диспут! Правда, выводы студентов мне не понравились. Оказывается, Эфрос описал свою будущую постановку "Чайки" так роскошно, что студенты были потрясены. Любимов же всех разочаровал. "Жизнь Галилея" Брехта, пьеса о великом физике (казалось бы - в лицее российских физиков!) - и вдруг такая приблизительная лексика, столько актерской жестикуляции и общих слов… Публика единодушно "приговорила" следующую премьеру "Таганки" к первому, увы, провалу, а чеховскую "Чайку" - к безумному успеху. Через пару месяцев физики сверили результаты. Оказалось, что те, кто прорвался на "Чайку", остались при своих воспоминаниях о давнем рассказе Эфроса: ни постановка, ни актеры до рассказа недотягивали. Зато свидетели нашего "Галилея" тут же решили прорываться еще и еще раз.
Репетируем Эрдмана:
"Как мы все спешим живое угробить! Кооператоры, говорят, всего каких-то четыре процента занимают от общего хозяйства, а крику на них! Нашли обманщиков, нашли виновников! Посадили что-то новое - ну дайте ему вырасти. Нет! Оно еще не выросло, а они уже на росток - фу! Не растет, гад, тьфу! Не растет (лупит по воображаемому саженцу, очень рассмешил всех вокруг), не растет, сволочь! Бить его! Теперь давайте выберем президента! Во, идея!.."
"Почему Чехова нашего на Западе играют лучше, чем у нас, вы не задумывались? За семьдесят лет в России уничтожили это духовное устройство, у нас играют самоуверенно и упоенно персонажей из чужой, неизвестной жизни. Вот неизвестно что и получается…"
Два полюса в театре - сцена и зал. Прошло лет двадцать со дня премьеры спектакля "Час пик". Мой приятель вспоминает репетиции, на которых он сидел как стажер-театровед и которые запечатлелись в его мозгу как сплошной праздник. Я же, сыгравший главного героя, возражаю сегодня ему от всей души: "Ты все путаешь! Любимов издевался надо мной, я был прибит и бездарен, я еле ворочал языком! Блеял текст, а он меня только пугал, как и остальных актеров!" Но приятель твердит то, что помнит: "Ничего похожего. Вы работали чудесно! Дым коромыслом! Все ходуном ходило от ваших фантазий! А Юрий Петрович вас так заводил, а вы его в ответ так заражали, что глаза разбегались на репетициях - за кем следить? За ним или за вами. Ах, какая дружная семья - вот что каждый думал, сидя в зале…"
1966 год. После "Галилея" - работа над "Послушайте!". Юрий Петрович зовет меня в свой кабинет, и я читаю ему - "заказчику" - и еще двум или трем актерам, в том числе и Вл. Высоцкому, первый вариант композиции. Все громко ахают и хвалят. Режиссер кивает энергично: "Да, молодец, хорошо помог будущему спектаклю, завтра почитаешь Эрдману, Вольпину и Марьямову, они сделают кое-какие замечания, ну и - вперед, на сцену". Выражение лица у Ю.П. уверенное и сомнений не допускает.
Назавтра я читаю упомянутой "тройке" тот же текст, меня прервали, раскритиковали, чуть утешили малюсенькой похвалой, я с надеждой обернулся на Любимова… О ужас! Юрий Петрович качает головой с укором. Выражение лица угрожающее и обжалованию не подлежит.
Репетируем Эрдмана:
"Почему Подсекальников так заговорил… по-другому, с многоточиями?.. Растерялся… Потому что страшно оставаться одному - и это уже никакая не комедия, это - человек, и ему страшно оставаться одному…"
1968 год. "Пражская весна" и сразу - стужа… Прогрохотало эхо взрывов "нашей идеологии". Любимова обвиняли, оскорбляли, валили, как валят медведей. Удержался. Действовал он в те самые тяжкие для театра годы так же, как и в работе: внимательно слушал советы, складывал и множил мнения по законам собственной арифметики, а потом совершал поступок - спектакль или выход "на ковер" - решительно по-своему.
Я помню наши страхи и растерянность, когда за час до спектакля "Послушайте!" была оцеплена Таганская площадь, по театру заходили чужие "в штатском", и нам стало ясно, что сегодня - последний вечер, ибо ожидался приезд во второй ряд партера не кого-нибудь там, а члена Политбюро Петра Шелеста, одного из главных вдохновителей бронетанковой стужи "пражской весны". Спустя сутки мы узнали, что этот случай - абсурдное совпадение, и соратник генсека Брежнева просто решил отдохнуть с семьей, а не убедиться в тлетворности антисоветского Театра на Таганке. Но это узнается завтра, а пока мы все в отчаянии: как быть, как играть и что, по совпривычке, вырезать, удалить? Мы-то хорошо знали, какие места в спектаклях возмущали власти и в Москве, и в ЦК, и лично тов. Фурцеву - министра культуры… На наше смятение ответил отец "Таганки". Он собрал своих трепещущих детей за кулисами, выслушал наши предложения о сокращениях и решительно постановил: "Не будем давать им карты в руки. Если они чего решили - какая разница, что резать, а что не резать. Мы же уверены в том, что играем? Вот и давайте играть без сомнений. Я считаю, надо наоборот: не скрывать и не темнить перед ними. Если это последний раз - пускай хоть себе и нормальным зрителям в радость. Ничего не надо сокращать, ничего не надо скрывать - играем в полную силу, вы меня поняли?" Так и играли.
Репетируем Эрдмана!
"Играют "Самоубийцу", как легкую комедию - про "те времена" - а время у нас сегодня очень страшное. Что изменилось? Разрешили трепаться, а система осталась - и создается более страшное положение… Урвать и убежать - психология временщиков…"
В те годы бывало не раз: очередной разгром "Павших и живых" либо "Послушайте!" - и сразу вакуум вокруг Юрия Петровича. Когда назревала драма, в доме Любимова замирал телефон, никто не терзал просьбами о билетах. Это говорило о самом худшем. Но крепка поддержка дома и его своенравной хозяйки (тогдашней жены Любимова Л.В.Целиковской), на эти времена принимавшей образ декабристки. И дом становился крепостью.
Я помню, из кого состоял самый близкий круг друзей театра, друзей Юрия Петровича. На защиту "Товарищ, верь!" или "Живого" на расширенных художественных советах подымались и говорили (под запись стенографисток!) Петр Капица, Владимир Тендряков, Натан Эйдельман, Сергей Параджанов, Петр Якир, Мария Мейерхольд, Альфред Шнитке, Булат Окуджава… Рядом с Ю.П. часто видели В.Войновича, В.Аксенова, Г.Владимова, Л.Копелева, В.Максимова, М.Ростроповича, А.Галича. Р. и Ж.Медведевых, Е.С.Гинзбург… К пятидесятилетию Александра Солженицына Любимов с Карякиным сочинили телеграмму и отправили ее в Рязань - от всего театра. Когда потекли на газетные полосы дрожащие подписи послушно разгневанных деятелей культуры и науки, некоторые, как известно, уклонились от греха. В науке - такие, как П.Л.Капица. В искусстве - такие, как О.Ефремов и Ю.Любимов. Юрий Петрович вежливо объяснял настойчивым предлагателям: "Напечатайте его романы, дайте почитать то, что нам предлагаете обвинять! Как я могу возмущаться тем, что мне неизвестно? Кто не верит? Кому? Вам? Партии? Конечно, верю, если вы искренне против Солженицына. Но вы требуете, чтобы я от себя подписал, правда? Вот и дайте мне почитать…" Ю.П. сообщал гостям своих спектаклей: "Вы слыхали? Говорят, Фурцева вызвала Рихтера и зашумела о Ростроповиче - как, мол, вы терпите такое, вы гордость советской музыки, а этот ваш коллега, который месяц греет у себя на груди Солженицына! На что Рихтер невозмутимо изрекает: понял, Екатерина Алексеевна, я, мол, исправлюсь, а то и вправду засиделся писатель у Славы в гостях, завтра я его к себе приглашу на дачу, пусть живет!.. Ну и видок, говорят, был у мадам министерши!" А Олег Ефремов встретил писателя на улице Горького, обнял и зазвал к себе во МХАТ на премьеру.
С одним из самых своих близких друзей-академиков Любимов порвал сразу и навсегда, узнав, что тот подписался под анафемой Андрею Дмитриевичу Сахарову. Но своим отношением к Сахарову, к Солженицыну или к арестованному Сергею Параджанову Юрий Петрович, конечно, не бравировал. Чувства не скрывал, но и не афишировал. Время было такое, что надо было беречь собеседника, если тот боится, хотя втайне и разделяет твои чувства.
В конце мрачного шестьдесят восьмого года мы ехали вместе поездом в город Дубну к академику Г.Н.Флерову на какой-то юбилей. В поезде Ю.П. без конца отвлекается от насущного разговора по поводу "Часа пик" (о замысле, о распределении ролей) - то есть от всего, что меня близко касалось по работе. Отвлекается постоянно - угнетавшим его мотивом: Прага, танки, Александр Дубчек. Никогда не забуду выражения лица Юрия Петровича и его слов: "Ах, какой мужик! В самый разгар событий Дубчек говорит на весь мир - "не забудьте о нас тогда, когда мы сойдем с первых полос ваших газет".
И второе. Мы сдаем паспорта в гостинице города Дубны. Нас ищут в списке брони. И администратор произносит: "Есть! Любимов с супругой. Пожалуйста, ваши документы…" Его прервал гневный голос Людмилы Васильевны Целиковской: "Что-о-о-о?! Перепишите у себя в бумажке - не Любимов с супругой, а Целиковская с супругом!"
Репетируем Эрдмана:
"Это все разговоры: старые спектакли, новые спектакли… новые часто уже рождаются старыми, а то, что давно, но крепко сделано, - оно держится. Искусство не измеряется временем, оно временем проверяется. И я восстановил "Живого" и "Преступление", потому что зачем терять хорошие вещи?.."
"Там на Западе - все наоборот. Театры доходов не приносят. Там артисты специально на стороне зарабатывают, чтобы иметь право поиграть в театре…"
"Ему стыдно, Шопен!* Это - стыд! Советский человек чаще всего бесстыден и лжив… извините меня, я сам советский человек, это и меня касается… Идешь по Японии, сакура цветет ихняя, и видишь сразу советских людей, ото всех отличаешь моментально: наш идет, "главный", а вокруг холуи наши…"
"Николай Робертович жизнь свою в грош не ставил, и его рассуждения о самоубийстве были очень особенные…"
"Что? Берию? Конечно, видел, да я сто раз вам рассказывал. Да бросьте, не слыхали, вы хотите, чтобы я байки трепал, а не работал… И Сталина видел - как он раков ел… а Мао - нет, не видел, я в тот день не был в "Метрополе", что? Чего вы ржете, я часто в "Метрополе" бывал…"
"У них у всех поднабобело!" (Все смеются, а Ю.П. удивлен: разве нет такого слова?)
"Здесь ты правильно выдал, но это мастерство, а мне не надо мастерства, надо по-настоящему слезы почувствовать, а изображать и дурак может…"
Вопреки всеобщему правилу, Любимов в плохие минуты никогда не был растерян, вел себя прямо и твердо. А если где вызывал досаду или раздражение - так только в дни благополучия, в эпоху культа своей личности. Впрочем, он сам это себе напророчил, когда поучал таганковских звезд: "Пройти огонь, воду и медные трубы - никому не дано. Огонь и воду настоящие мужчины могут еще как-то преодолеть, но медные трубы - никто пережить не в силах…"
Парадокс времени в том, что власти, испытав Любимова огнями и водами, на последний свой шанс тогда не решились! А решились бы - и не пожалели бы. Отсутствие медных труб весьма продуктивно для отечественной культуры: продлевает активную творческую жизнь, высветляет портрет художника. Вот таков парадокс. И самые яркие примеры - Эрдман и Высоцкий.
Репетируем Эрдмана:
"Я могу сейчас поставить "Собачье сердце" - и его запретят! Булгакова неправильно ставят! Там такое написано про них - они же по глупости напечатали. И "Венецианского купца" могу поставить так, что его закроют…"
"Эрдман - это ритм, а за этим - точнейший подтекст, и конструкция тщательнейше выписана, он любую халтуру писал так же, как делал свои шедевры - это кропотливейшая нюансировка, как у гениального Шнитке… но этой кропотливости не видно, вот в чем эффект…"
1970 год. Международный фестиваль польской драматургии выявил единственность Любимова на фоне сотен его коллег. Премьера "Часа пик" по повести Ежи Ставинского превзошла все ожидания начальства. В то же время спектакли придворных театров, которым заранее приготовили первые места, тоже превзошли - но худшие ожидания. Словом, и полякам, и нашим, и театроведам, и политикам было очевидно: если кому-то давать, то Любимову, а если кому не давать, то… Никому и не дали, это решили в ЦК. Конкурс обернулся посмешищем. Правда, не смешно стало, когда председатель жюри Леонид Варпаховский хлопнул дверью и расстался с почетным титулом. Поляки требовали дать Ю.П. "первую польскую" премию. Поляков вообще лишили права на премии. Однако комедию доиграли. В конференц-зале Дома актера большие чиновники раздавали пятые и шестые премии взамен отмененных первых…
Репетируем Эрдмана:
"Николай Робертович, как никто, умел быть независимым. Это и есть, наверное, аристократизм духа, поэтому он был почти неуязвим. Все играли с режимом. И Мейерхольд играл с режимом, "комиссарил", и Маяковский, но Эрдман никогда не играл. Он жил в стороне от режима, и у него - другая трагедия…"
70-е годы. Большие поездки по столицам Союза. Почет и богатые приемы у партийной знати. Отличная пресса. И при этом - успех у зрителей. Заграница. Юрий Петрович привыкает давать интервью, отвечать на пресс-конференциях. Гастроли по стране сокращаются. За рубежом - увеличиваются. Огромные портреты Любимова в лучших изданиях Запада. В Японии кричащий заголовок над портретом Ю.П.: "Маг света"… Постановки в Италии, Австрии, Венгрии, гастроли и премии в Югославии, Германии, Франции, Финляндии… Приемы и речи. Юрий Петрович все больше срывается на актеров. Усложняются отношения с лицами, на которых явно падают тени "медных труб". Киноуспехи и сольные концерты, журнальные статьи, рассказы, песни и стихи любимовских актеров радуют кого угодно, кроме самого Ю.П. Чем более придирчиво Любимов обижает нашего брата, тем быстрее растет ответный счет: мы столько лет на него пашем, мы для него… он бы без нас… и т. д. У меня из капустника в капустник переходила одна и та же тема в пародиях на Любимова: "Наш театр признают и ценят самые умные люди планеты! Столько лет театр держит такой уровень! А кто ему мешает? Только артисты! Артисты всё готовы развалить, разбазарить - я хорошо это знаю, я сам был артистом…"
Совершенно другой, теплый, мягкий добряк - Любимов дома, вне всяких бед и забот. Счастливые минуты для актера, когда тебя и понимают, и слушают, и высоко ценят… В 1967 году весной мы втроем летим на такси в Кунцево, в "кремлевку", где лежит Ю.П. Дурное подозрение врачи отбросили, лечат "боткинскую болезнь". Л.Целиковская применила свои связи, и нас допустили на территорию "заповедника". Высоцкий, Золотухин и я угощаем на свежем воздухе осунувшегося Любимова фруктами с рынка. Он заставляет нас самих съесть привезенное ("вы что, такие деньги на рынке оставлять, меня же здесь кормят, сами знаете, как здесь кормят, а у вас денег кот наплакал - ешьте витамины, быстро, быстро"). Вопросы о театре, нетерпение мастера и наше хоровое пение: "Не спешите, в театре все хорошо, все в полном порядке, как никогда, лечитесь, и от всех горячий привет!"
В день его пятидесятилетия, отыграв спектакль, мы втроем оказались на квартире у Любимова-юбиляра. Столы "ломились" и перетекали из комнаты в комнату. Народу тьма, и, как обычно в актерской жизни, прийти поздно с работы - это означает стать "гвоздем" программы. На нас накинулись любимовские друзья, но хлебосольная хозяйка отвоевала нас для кормежки. Тосты, комплименты, и опять - "сам не свой", теплый, внимательный добряк Юрий Петрович…
…Я пришел к нему домой, читаю свою пьесу по сказкам Андерсена… Людмила Васильевна прерывает чтение: ну-ка, перетащите вдвоем книжные полки для ремонта! Мы перетаскиваем, а Любимов смущенно ворчит: "Заставляет человека чужими делами заниматься… Ты извини, я бы и сам перетащил… Спасибо огромное…"
А вот иные краски на портрете. Жестокое, грубое выражение неприязни… Высоцкому приехать бы вовремя на репетицию "Гамлета", да скромно предстать пред очи режиссера, да напялить на себя что похуже - тренировочный костюм родного производства - так нет же, нет! Явился на неделю позже, привез из-за кордона новый "Мерседес", опоздал на час к репетиции…
- Ну и где этот господин? Ага, спасибо, что посетили нас, почтили своим вниманием…
- Юрий Петрович, я вам все потом…
- Не надо мне ваших объяснений, Владимир Семенович! Знаю я вас всех насквозь! Ролью надо болеть, такие роли на дороге не валяются… Что вы там себе под нос бурчите?.. Это Шекспир, здесь дыхание должно быть широкое, а вы… что вы там бормочете? И в каком вы виде сюда пожаловали? Что за кокетка! Разве Гамлета можно в таком виде? Прилетел… опоздал… подкатил на "Мерседесе"… и в бархатных штанах… о чем вы думаете? В облаках всемирной славы купаетесь? А ну, снимите к чертовой матери эти брюки, репетируйте в нормальной рабочей форме, или вообще не надо ничего!
…И никогда не знаешь, как лучше ему ответить. Огрызнешься - получишь горячую порцию "правды жизни", промолчишь - разозлишь его не меньше, и разольется кипяток густой унижающей брани - аж пар гуляет над прибитыми актерами…
Я однажды не выдержал, в 1975-м. Терпел, терпел грубую речь в адрес своего товарища и вдруг психанул: "Зачем вы унижаете актера? Он уже все понял, а вы его совсем хотите уничтожить? Мы же играем самый гуманный репертуар…" И почернело небо над моей головой. Не было специальных речей, правда, но "отдельные реплики" в мою сторону, но ледяной тон обращения ко мне (сразу же - по имени-отчеству), и такие красноречивые взгляды по ходу репетиций… Мороз по коже…
Вообще-то где-то с "Гамлета", с начала семидесятых, я перешел у Юрия Петровича в третью категорию обращений. Всего категорий было, скажем, пять. Когда он благоволил к актеру, то называл уменьшительным именем и на "ты", когда чуть хмурился - полным именем, когда сердит бывал не на шутку - на "вы" и по имени с отчеством. Звучало в нашей демократической атмосфере неестественно, но с явным упреком. Ну, в ходе репетиций мне предстояло хлебнуть и худшего: по четвертой категории Ю.П. называл меня "Смехов" или даже "господин Смехов", а однажды, по пятой, обратился ко мне - не на "ты", не на "вы", а на… "он".
Из дневника 1975 года.
5 января. "Пристегните ремни". Прогон. Мама, папа и человек 100 "умных" людей. Эльдар Рязанов: мало эмоций, о которых речь, спектакль будет все-таки хорош, смотрится с вниманием, но драматургия слабовата. Аникст только пожал руку. Эскин сказал, что здорово, что всегда и теперь очень рад за театр. Ю.П. мрачно проходит мимо без слов. Если я начал бы миловаться, принял бы и растер. Эпоха заглазных плевков. Требуется тотальное послушание, minimum humor и maxi трепет, всех подозревает и забывает, что не он - для нас, а мы - для него… Вечером "Гамлет" с хромым занавесом - болен Стас, зав. монтировочным цехом. Вчера Толя Дроздов, рабочий с усугубленной (подградусной) активностью, упал с крестовины кареты при установке "Товарищ, верь!". Все хмурятся. В театре перестают любить или хотя бы хотеть понимать друг друга, словно лебедь, рак и щука. Любимов, поднимаясь сумрачно по лестнице перед сценой с Розен Гильдами*: "Вы, Веня, начали чересчур легко, чуть развязно, но потом сцену играли… верно играли". И устало взошел на причитающийся пьедестал. Или: "И взошел устало/на положенное пьедестало".
15 февраля. Утро. "Ремни", совсем другие, люто приемные. Песня моя - на аплодис, и все такое. 14.30 - собрание. Ю.П. - в Италию, прощается, неорганично ругает дисциплину, напоминает советские законы: выгонять и не пущать… Когда я вернусь - если самолет не разобьется - я посмотрю… Перспективы богатые - приглашения в Югославию, Францию, Италию плюс: Гоголь, Булгаков, "Кузькин", затем "Вишневосадый" Эфрос, Чехов Паперного, Василь Быков и т. д. Многие ведущие артисты ведут себя… не все, но многие… Взвилась Гал. Ник.** - эпидемия опозданий! Нарушений! Горевал и сетовал Дупак - отменять ли пятидневку… Потом отъезжающий с размаху заорал на всех, скопом, огулом (имея в виду тех, кого здесь нет, - на Хмеля, Высоцкого, Валерку, Зину, Аллу…). Встал Иванов и шикарно все перевел в шутку - с пожеланием не омрачать шефа. С пожеланием счастливого лета и т. д. Хохотнув, разошлись.
Да, вчера Ю.П. спросил о кино, как снимаюсь, затем стал советовать хитрить, работать только с учетом крупности плана, на крупном искать внутреннее разнообразие, живость глаза, не дрыгаться, не переигрывать…
4 мая. Театр, телефоны. Вскользные беседы с Юр. Петровичем. "Всем ни черта не надо, разваливают роли, поверхностно…" - "А как моя сцена?" - "Твоя ничего… правильно шла… да дело не в этом…"
Ваще-то - крызис. Это да-с. Треба новых иницитив от шефа. Или взрыв, буча, выгон 15-20 человек или не знаю что. Все спектакли обросли клопами и прыщами отсебятин, непониматин, чужеродинок и антитагановок…
12 декабря. На "Галилее" Алик Марьямов, Наташа, Янек - польский журналист. Любимов их усадил. Любимов в коридоре, один на один, почтительно сварганил поклон and рукопожатие каменной своей десницей. Эхма. Был Любимов боевой со девизы "Выстоять", "Противостоять", "Состояться!", и была вкруг него компания: Эрдман, Вольпин, Марьямов, Денисов, Шостакович и др. Однако что же ныне? В здоровом теле нездоровый защитный дух легкого стяжания, авторского взимания, самообольщения и отторжения любви и добра, заключенных в подчиненных. За 12 лет, кроме Шаповалова и Филатова, - ни од-но-го новогения, ни одного достойного прихода (а ушли Губенко, Любшин, Эйбоженко, Калягин, Демина…). И понять бы старику за 2 года до шестидесятилетия, что дом его не на глупых словах, не на страхе и не на культе держится - на совести. Да, на совестливости Высоцкого, Золотухина, Славиной, Соболева, Джабраилова, Додиной, Семенова, Жуковой, Полицеймаки, Смехова, Смирнова, Шопена, Филатова, Демидовой, Ульяновой, Корниловой, Погорельцева, Кузнецовой - старых горе-льефов на железном постаменте его сурьезного памятника.
Замечу попутно: в суровости и грубости режиссеров ничего нет оригинального - в нашей стране в особенности. Но для портрета Ю.П.Любимова характерна одна светотень, весьма редкая для его собратьев по "тиранству". Как бы ни ожесточились отношения с актером - на новые работы зло не распространялось. В январе 1979 года, когда Володя Высоцкий продлил свое пребывание в США с концертами, а на Таганке без него спектакль "Преступление и наказание" уже шел на выпуск, меня вызвал Любимов.
- Я прошу тебя, Вениамин (это была эпоха, когда на время я снова стал "ты" и без отчества), сегодня же возьми роль Свидригайлова и давай активно в нее входи…
- Как это? Володя приедет и…
- Не надо мне про Володю! Надоели его штучки и заграничные вояжи! Бери роль и работай!
…Я еле отговорился: сказал, что смогу глядеть в текст роли только тогда, когда смогу глядеть ему, Высоцкому, в глаза. При нем - это одно дело, а за его спиной - другое. На это было резко отвечено: мол, он же просил у меня твоего Воланда! Типичное театральное интриганство. Назначить меня на Володину любимую роль - не только вопрос уровня игры, но и укол самолюбию.То же было, когда на мою роль Ю.П. назначил Золотухина (Глебов в "Доме на набережной"). То же было, когда Любимов просил Золотухина репетировать Гамлета, ибо Володя все чаще отсутствовал в Москве и спектакли отменялись. Валерий стал репетировать. Демидова и я (Гертруда и Клавдий) почли за лучшее не участвовать в репетициях. Высоцкий обиделся навсегда на Золотухина. Некого винить. Понятны мотивы каждого: Валерий - всегда верен службе, послушен режиссеру как профессионал. Алла и я предчувствовали реакцию Володи. Володя не хотел знать "нюансов", если в итоге кто-то за него выйдет в роли принца. Удивительно здесь то, что играл роли, мечтал о ролях один Высоцкий, а создавал песни и умел так жить и дружить - совсем другой. У каждого из нас - своя двойственность. У Высоцкого - такая. И к своему нежно любимому другу Ване Дыховичному Владимир обернулся неожиданной, темной стороной в период репетиций "Преступления и наказания": Иван так и не сыграл Свидригайлова, на роль которого был назначен Любимовым. И наоборот: ко мне Володя тогда же вдруг смягчился, стал по-старинному добр и дружествен, хотя несколько лет наши отношения были "ниже нуля". Видимо, Любимов передал ему историю с моим отказом сыграть Свидригайлова.
Перебирая в памяти разные проявления Ю.П. за тридцать лет общения, чуствуешь себя так, будто тебя катают на "чертовом колесе": вверх - вниз, вниз - вверх…
…У физиков под Алма-Атой: поели, попили, на вопросы ответили. Теперь Любимов просит - ответить хозяевам "по-нашему". Читаем любимые стихи, Славина и я. Поют песни Васильев, Хмельницкий, Золотухин, Высоцкий. Любимов выглядит счастливее всех слушателей, светится гордостью за своих ребят.
…В "Юности" вышла моя статья "Самое лучшее занятие в мире". Близкие друзья Любимова звонят, поздравляют: мол, понравилось, но главное - столько цензура пропустила похвал театру, актерам, Любимову и его стилю! Вы Ю.П. подарили статью или нет? Да, подарил. И он, отстранив подарок от себя, сухо объяснился: "Я уже ознакомился. Я не поклонник такой прозы"…
Спустя много лет, в 1991 году я поставил в Германии, в Ахене, "Любовь к трем апельсинам" С.Прокофьева. Вскоре Любимов, работая в Хельсинки с Д.Боровским, спрашивает художника: ты, дескать, что - с Вениамином оперу делал в Германии? Боровский, заранее просивший меня молчать об этом, вынужден ответить. Да, мол, было дело. "И как прошла премьера?" Давид сознается: "Премьера прошла с большим успехом". Никакой радости учитель не выражает. Через несколько лет я ставлю в Мюнхене другую оперу, а мой переводчик Юра Перуанский на пару дней уезжает в Бонн - на переговоры дирекции театра с Ю.П.Любимовым. Я прошу передать ему привет. Переводчик мягко отказывается выполнить просьбу. Он уже работал с маэстро и объясняет: "Если вы для себя шлете ему привет - одно дело. А если для него - лучше не надо…"
Несправедливый, резкий, неблагодарный… Ревнивый, когда кто-то из нас имеет успех на стороне… Но это каждый переживал в одиночку, а вот отношение к Давиду Боровскому угнетало всех свидетелей. Художник, отдающий душу и дар свой прежде всего - Любимову и только ему (и на Таганке, и за рубежом), но все равно - независимый творец, Давид не привязан цепью, все куда-то ускользает. То у Ефремова оформит спектакль, то у Эфроса, то к Додину в Питер смотается, а то в свой Киев укатит - в кино, видите ли, ему надо поработать. Все это Любимов не любит: сделанное на стороне называет халтурой, а мы слушаем и киваем. Изредка замолвишь слово, получишь по мозгам, замолчишь. Впрочем, ревность к Николаю Губенко, ставшему кинорежиссером, сразу исчезла, как только тот вернулся к своим двум ролям в год смерти Высоцкого…То вверх, то вниз - тот же Любимов или "другой"?
Отношение Ю.П. к труппе всегда колеблется между двумя крайними точками. В виде монологов их можно озвучить примерно так:
№ 1 (или точка крайней снисходительности). "Вот вчера вы собрались, взяли головки в руки и сыграли "Доброго человека" очень хорошо. Молодцы. Вот и прием был прекрасный. Хотя дело не в приеме, плевать… Важно, что вы не бубнили текст по-готовому, а были абсолютно живыми, заинтересованными и освежили обстоятельства, и цеплялись за партнеров, и вели зрителя и спектакль в должном ритме, темпе и так далее… И мне на вас приятно смотреть. Ну-ну, не шалите… Вам только палец в рот положи… Да я знаю, все я знаю - и как вам трудно живется, и что многие недовольны ролями и моим характером; ничего не поделаешь - я вам в отцы гожусь, терпите, какой есть… Вот снимут меня с работы, уйду на пенсию, как многие "товарищи" мечтают, - тогда пришлют вам другого, с хорошим характером… будете играть другие пьесы. А пока давайте работать по совести, чтобы быть достойными… и своей истории, и своего народа (с его нескончаемыми страданиями), который дал человечеству и Чехова, и Достоевского, и Пушкина, и Булгакова, и Станиславского с Мейерхольдом… Давайте, господа артисты, давайте, дорогие мои…"
№ 2 (или точка крайнего осточертения). "Артист - это главный вредитель в театре!.. С таким адским трудом удается сказать хоть что-то свое в искусстве, а артисты в два счета готовы разбазарить… И вечно гримаса превосходства… вечное недовольство… "стилизуйте меня"… кусочники… "это мой кусок", "это моя сцена", а до общего, до сверхзадачи - как до лампочки! Все, что от мамы с папой, весь талант, какой был, в два-три счета пропьет, прогуляет… и вот ходят толпами бывшие гении… всех критикуют, все ниспровергают… А что за душой-то?! Книжек не читают, за событиями не следят, беды собственной страны не знают! Лишь бы зубы поскалить, себя в грудь побить - я гений, а режиссеры - дерьмо! Знаю я вас… сам был актером… у меня в кабинете один на один вы шелковые, а тут по гримерным только шу-шу-шу… секты, группировки… "я больше вложил", "он меньше вложил"… Тьфу! Плюну на вас и уйду к чертовой матери! Наберу молодежь и буду с ними работать…"
В 1986 году эмигрант Любимов выступает в Бостоне, в русском клубе. На все вопросы об актерах "Таганки" отвечает рассказами: о Брежневе, Андропове, Демичеве и о своей борьбе с монстрами СССР…
2000 год… Из интервью Ю.П.: "Когда мои комедианты видят меня в зале, они лучше играют. Нечто вроде собак и хозяина… Мой театр нуждается в диктатуре…"
Из интервью П.Н.Фоменко: "Актеры помогают мне познать мир".
Из моего интервью на телевидении: "В споре Любимова и Губенко победу одержал Петр Фоменко".
Специфическая "сверхзадача" любимовской режиссуры: "раздражаясь самому - раздражать других".
Сверхзадача фоменковской режиссуры: "наслаждаясь самому - наслаждать других".
И вот на репетициях "Самоубийцы" Юрий Петрович ответил кому-то из актеров: "Филатова? Как я его мог назначить на роль - вы что, сами не знаете? Он теперь высоко, он секретарь этих союзов, он уже кино снимает…"
Новое время - новые права. И я их почтительно качаю:
- Юрий Петрович! Вы несправедливы! Все вокруг вам завидуют: таких счастливых отцов в театрах нету больше. Чтобы дети-ученики - такого качества! Киноартисты, писатели, музыканты! Главные режиссеры, кинопостановщики, депутаты, секретари, министры! Да любой отец счастлив был бы, а вы недовольны!
Ответ Юрия Петровича, после паузы:
- А где ты видел отцов, которые все время довольны своими детьми? (И примирительно улыбнулся.)
Любимов умел быть небрежным к собственному успеху. Боровский вспоминал, как А.В.Эфрос удивлялся назавтра после какой-то сильной премьеры: мол, Юра стоял весь спектакль в зале, моргал фонариком, нервировал актеров и зрителей своими фокусами "тренера команды", а когда грохнули аплодисменты - он вышел к публике на поклон… и ушел куда-то вон из театра. И когда к нему в кабинет повалили коллеги с поздравлениями, его там не оказалось! А ведь это самый приятный момент для режиссера!
А я помню, Любимов звал своего друга из Ленинграда и по телефону перечислял спектакли… В разгар удачи, когда "Таганка" стала новостью номер один в театрах страны, триумфатор советовал: "Ну "Доброго человека" ты видел пару раз, больше не надо, ну из нового… "Галилей" вроде… что-то есть неплохое, ну "Послушайте!" - занятно будет посмотреть… "Пугачева" ты не видел? Посмотри, кажется, интересно - музыка Буцко, Колька Губенко, Высоцкий Хлопушу лихо играет"… И тут же с азартом, подробно пересказывает замысел и сюжет будущей постановки.
Находясь в гостях у Любимова в 1969 году, А.В.Эфрос спросил о "Гамлете": как, мол, ты, Юра, собираешься решать спектакль, отношения принца с матерью, с Офелией, с королем… Позже Эфрос не без лукавства передавал ответы режиссера: Ю.П. на любой вопрос А.В. будто бы сверкал глазами и, сделав широкий жест, смахивающий все, что было на столе, на пол, восторженно выпаливал: "Вот такой занавес, как крыло судьбы, - рраз! И все к черту!" Ну, а как монолог "Быть или не быть" будет сде… Прервал опять Любимов: "Вот здесь, у могилы, стоит Гамлет - Володька, начинает монолог, а занавес, такая зверская махина, - рраз его! И он свалился!"
Еще одна черта характера: Любимов всегда подвержен последним влияниям. Актеры на репетициях безошибочно угадывали с самого утра - кто "накачал" шефа, кто отвлек, кто "напел ему в уши" и т. д. Вчера Ю.П. общался с Е.Шифферсом - значит, с утра он будет цитировать Святое Писание и бороться с нашим атеизмом.
Вчера Ю.П. наслушался Н.Ю.Любимова (сына) - значит, нынче будет крут и подозрителен ко всем нам - грешным тварям… "Актеры - самая отсталая часть населения… Чехов говорил, что актеры отстали на семьдесят пять лет в своем развитии! Это он тем актерам говорил, которые не чета вам! А вам стыдиться бы. Да где вам стыда занять… Ладно, Бог с вами, идите на сцену, убогие…"
Вчера Ю.П. встречался с Ю.Карякиным, или с П.Капицей, или с Л.Делюсиным - все звучит намного мягче: "Братцы, дорогие мои, конечно, жизнь тяжела, но искусство - это спасительная вещь, смотрите кругом, нам еще с вами повезло… Конечно, все мы грешники, и я с вами вместе (я себя не отделяю), но надо стараться, надо что-то делать для людей, для страны нашей многострадальной… Ну давайте, дорогие, поработаем… Вот ведь как слушаете хорошо - и лица просветленные, вот так и работать надо…"
Восстановленный в правах гражданина страны и руководителя театра, Юрий Петрович чаще всего пребывал в отчаянии: состояние театра, количество и тяжесть проблем, а главное - беда в стране. Актеры ленивы и не хотят перемен. А Любимов, прямо скажем, находится в состоянии постоянной распятости. Жена, комфорт, контракты - на Западе. Духовный долг, друзья, свой театр - в России. Младший сын Петя, сердце отцовское, - на Западе, в гостях. Ум, душа, язык, интересы художника - дома. Там - чужой язык, чужие нравы, но ореол великого маэстро, изгнанника коммунистического режима. А на родине - родные стены, но страшная распутица - и внешняя, и внутренняя. Там - бизнес и жестокий темп. Здесь - лохмотья нищеты и бескорыстная любовь к каждому слову экс-диссидента, никто никуда не спешит, все сидят и ждут, что он скажет нового. А нового уже не говорится. Двойственное восприятие портрета. Иногда думаешь: зачем он тратит время на эти интервью, зачем по десять раз повторяет одни и те же байки о Сталине, Хрущеве и о Брежневе? Зачем к своему и без того прекрасному образу добавляет чужие достижения? Вот уже и декорации, оказывается, сам придумал, без художника. Вот уже и музыку композиторам подсказал, и пьесы все сам сочинил…
А в другие минуты - иная мысль: а может быть, наше раздражение диктуется иждивенчеством? Он совершил почти невозможное, и он имеет право НА ВСЕ. А мы можем только одно: желать ему здоровья. И пусть говорит, что хочет, пусть ездит, когда, куда и сколько ему заблагорассудится…
Кстати, о двойственности. Много лет назад мы ехали от "Таганки" в Театр им. Вахтангова, на похороны Рубена Симонова. И, ведя свою машину, Юрий Петрович грустно размышляет:
- Удивительное существо - человек… Я иду по улице, и на углу меня обрызгали грязью. Я с гневом на шофера - ах ты подлец, развалился на сидении, хам, судить таких надо!.. И я же, сидя за рулем, заворачиваю за угол, обдаю прохожего грязью и думаю: ах ты ротозей, под колеса суется, идиот безглазый!
Репетируем Эрдмана:
"…Вам здесь надо играть трагедию, а уж там пусть смеются - текст гениальный, текст вынесет… У них внутри все бушует, а дикция аккуратная… От себя, через себя все пропускайте! Сейчас у всех истрепаны нервы и все собачатся… А ритмичность прозы, стихотворный размер приходит от глубины их чувства, от переизбытка - накипело! У каждого одно и то же: так жить нельзя. Эта пьеса - смех сквозь слезы!.."
Накануне фестиваля в Югославии я впервые попал в больницу. Десять дней на койке, десять дома, потом еле приполз в театр… Любимов сурово шлифует "Гамлета", к фестивалю. Все вокруг меня жалеют: человек двенадцать лет пашет без передыху, никакие температуры ни разу его не удержали дома, а тут свалился… Любимов мрачно оглядел актеров (меня, кажется, не заметил), дает указания к репетиции: "Вчера была опять работа кое-как. Не пойму, где у вас совесть - являетесь несобранные, неготовые… Какой Шекспир, какой фестиваль - черт-те что у вас в головах! А вы, Смехов, долго отсутствовали, потрудитесь узнать, что я говорил о вашей роли, пока вас не было, мне повторяться времени нету… И нечего рассиживаться, ступайте все на сцену! И не ходите с утра как коровы недоеные!"
А что такое похвала Любимова? Проходит триста представлений и десять лет игры в данного персонажа. И вдруг слышишь: "Вениамин! А зачем ты вдруг изменил рисунок в первой сцене, какие-то странные интонации пошли… Раньше у тебя здесь прекрасно получалось, очень остро и сильно…" Как-то я привел ему подобный пример: вот как вы умеете поощрять актеров - только задним числом! Любимов серьезно ответил: "А чего вас хвалить? Вы и так разваливаете свои роли в два счета, что же, вам нужно, чтобы режиссер комплиментами вас расслаблял?"
Репетируем Эрдмана:
"…Кого сегодня нет? Так… Болеет… А этот? Так. Ну, все понятно - театр на последнем месте… Знаете, я честно скажу - это последняя моя попытка… в этом театре… Зачем мне тратить нервную систему? Я ее лучше на сына потрачу, ему десять лет, да и мне самому это интересней, а здесь… все разваливается… я трачу время на окна, на стены, на чужую бесхозяйственность… От болотного патриотизма гибнет страна… Мне корреспондент какой-то говорит: "Ну вот, теперь все разрешено, теперь, значит, вам хана?" - Хана-то мне хана, да совсем по другим причинам…"
Любимов часто возвращался к примерам "мужского поведения": "Какой мужик Борис Андреевич Бабочкин! Я немногих могу назвать, чтобы на такое были способны! Вел свою машину, вдруг почувствовал, что с сердцем плохо - не погнал к врачу или домой, нет! Выключил мотор, остановил машину у бордюра и умер. Настоящий человек, не о себе - о людях подумал: чтоб его машина беды не наделала… Какой мужик замечательный, царствие ему небесное…"
…Дважды в жизни помню черное лицо у Любимова. В первый раз - в день смерти его матери, что совпало с праздником 500-го представления "Антимиров". Праздник отменили. И все полтора часа, пока шел спектакль, в правой кулисе, у столика помрежа, стоял непривычный Ю.Любимов. В черном костюме, и с глубокой тоской немигающих глаз. Если бы он не пришел, было бы правильно - по нашей логике. Но он жил театром и не умел пропускать ни одного дня, даже когда заболевал или вот сегодня, в день такой потери…
Второй раз - на похоронах Высоцкого. Когда в течение всего бесконечного дня 28 июля 1980 года Любимов оказывался в поле зрения, глядеть было больно.
Репетируем Эрдмана:
"Самое дорогое в искусстве - неожиданность, чтобы и так поворачивалось, и эдак - не предвидишь заранее, а хорошо!"
"Идеальная исполнительница для роли Марии Лукьяновны - Доронина, но она, к счастью, в этой труппе не состоит".
"Давыдыч*, а ты пришел запятую узнать, где ставить, и это главное! "На женщину с марксистской точки поглядел - такая гадость получается"… Надо весело на них глядеть, вот как коммунисты эти, Гидаспов или Лигачев - они весело говорят, у них все ясно, они все рецепты постигли - с этой марксистской точки. Во какая точка - архимедов рычаг. Одна шестая часть света - и во что превратили… Я же все пытаюсь вашу фантазию разбудить, чтобы энергия пошла. Давыдыч! Ты же в теннис играешь, и я даже тебе проиграл - помнишь?.. Вот я и уехал на Запад. Все ищут причину, а я вот почему уехал: я проигрывать не люблю… Смотри, какая у него сила внутри: я знаю то, чего вы все не знаете - марксистский метод! Для всех народов - это самое милое дело: "грабь награбленное"! Вот твоего типа все и боятся, как нас…"
Встреча в аэропорту зимой 1989 года, приезд иностранного режиссера в "театр Николая Губенко", на пять месяцев бурного труда. Выпуск премьер, восстановление репертуара, двадцатипятилетний юбилей театра и 23 мая - известие о возвращении Ю.П. гражданства СССР. Старинный приятель Любимова Егор Яковлев - главный редактор лучшей газеты того времени "Московские новости" - является вечером с гигантским караваем черного хлеба, в центре которого красуется солонка. Плюс - рушник и минус - объективность чувств…
В еще не западном, но уже и не советском кафе "Пиросмани", по соседству с Новодевичьим монастырем, нового гражданина "обмывали" в тесной дружественной обстановке… Я впервые видел нетрезвого, "хорошо загулявшего" Юрия Петровича. И таких же, временно сентиментальных, супругов Яковлевых и семью Губенко… Про себя не говорю: я сентиментален навсегда.
Репетируем Эрдмана:
Вчера Любимов прилетел из Будапешта, куда срочно был вызван болезнью жены. Актеры не спешат радовать успехами. В 12 часов Юрий Петрович, по традиции последнего времени, объявляет всем не перерыв, а "ланч". В 12.15 мы подъезжаем к церкви на Шаболовке. Там батюшка завершает отпевание усопшего страдальца России, писателя Венедикта Ерофеева. Протеснившись с цветами ко гробу, Юрий Любимов прощается с покойником, крестит себя и его, шепчет, целует лоб Ерофеева. Вокруг скорбящие лица и свечи. Рядом - Белла Ахмадулина. Веничка Ерофеев - высокое чело и строгое выражение лица - не праведника, но проповедника.
Едем обратно к театру. Очень обидно, что церковные чиновники тоже заражены "советским образом жизни": бездумно и в спешке соединили три отпевания. Три гроба рядом. И толпа скорбящих по В.Ерофееву - это, конечно, большое огорчение для других двух семей. Таня Жукова, наша актриса, поделила букет цветов натрое, чтобы как-то для себя примирить грустную троицу… Как всегда, Юрий Петрович не может не сблизить любую тему с театром… "Беда, беда! И здесь неурядица, и у нас в театре. Ну что это была за репетиция! Уже два месяца читают - и все по складам! Лица вялые, голоса вялые, души вялые - кому он нужен, этот спектакль? Нет, Веня, здесь надо жестко работать. Нечего жалеть, если люди пребывают в такой идиотской прострации. Вот и страну прозевали - все в прострации да в безделье… Просто руки опускаются… где же у них то, что было наработано?"
Переходим на сцену. Заработал свет, и Ю.П. начал искать облик пролога, на авансцене. Первая интермедия покатилась. Написанное и начитанное оживает в пластике, в звуке, в свете, в темпе. Пробуем, меняем. Сделали переход от интермедии к сцене, и занавес - простыня с портретом Маркса - взвился вверх, а там, на сцене, на месте бороды рисованной - борода настоящая, в которой путаются и ищут новое поведение герои "Самоубийцы". Первые же слова:
- Маша, а, Маша! Маша, ты спишь? Маша!
- А-а-а!
- Что ты, что ты, это я! - так вдруг оживлены бредом косматой бороды, что актеры заиграли по-новому, а в зале раздался хохот.
Смотрю на Любимова - не улыбается. Но все-таки начало есть, и мне, грешному, до вечера жизнь кажется прекрасной…
К сожалению, премьера "Самоубийцы" не стала событием театральной Москвы. Наверное, слишком затянулось ожидание встречи с пьесой, завещанной "Таганке" автором.
Репетируем Эрдмана:
"…Хватит политики! Столько лет играли репертуар об этом… Кровь - великое дело, сказано у Булгакова… и вот она теперь взрывается в национальных и других проблемах… Ленинская библиотека в позорном состоянии, а рядом новый Пентагон сияет… и "Детский мир"* на Дзержинской площади утроился… Это неправда, что сейчас не время для театра - время искусства никогда не проходит".
"…Сейчас театры полны актеров, которые разучились слушать… все только демонстрируют свое мастерство - это заболевание… Как Довженко кричал актерам: "Надо ушки прочистить!" Никто не слушает партнера, вот и выходит унылость и глупость… Таких театров сейчас - как собак без хозяев… Вон за городом банды терзают бездомных собак… И собаки уходят к волкам. Я думаю, они напишут в Верховный Совет жалобу на людей…"
Последние штрихи к портрету.
…Закончен огромный день. После ужина у старых друзей Любимова мы с женой везем его домой. Машина подскакивает на ямах в асфальте. Я нервничаю: хочется везти ровно - "как на Западе". Подъехали к дому на улице Качалова. Во дворе неубранные баки мусора, в узком проходе между домами - разбитые бутылки, рванье и пищевые отходы. Скорей к подъезду. Юрий Петрович не обращает ни на что внимания, он занят разговором о сцене. Я подруливаю, останавливаю. Он очень благодарит, что мы не пожалели времени и довезли до дверей. В Москве много преступлений, поэтому надо быть осторожней - так я ему объясняю нашу озабоченность. Расстаемся в парадном. Под ногами - окурки и пакеты из-под молока. Едкий коктейль из запахов гастрономии, кошек, мышей и бесприютных пьяниц… На стенах старого дома - живопись бесхозного образа жизни. Юрий Петрович показывает на стенку и говорит: "Я сюда японцев привел - они обалдели, что так можно жить. Но я им объяснил, что это настенная живопись. Видишь - копия "Квадрата" Малевича? Даже еще лучше!"
Лифт старого московского дома со стоном и скрежетом рванулся на четвертый этаж. Любимов доехал.
Гулко стучит у меня в ушах этот лифт, мрачно лезет в глаза отвратительный подъезд. Но в переводе на язык Любимова это, во-первых, "Квадрат" Малевича, даже "лучше"; а во-вторых: "Чего вы все удивляетесь? Вы посмотрите на актеров - и удивляйтесь. Сытые, беспечные, из формы вылезают, работать разучились, что вы не там удивляетесь? Зрители приходят квелые, разморенные, полчаса глядят на сцену, ничего не понимают, потом только оживают и включаются… Я давно уже не удивляюсь - чудес на свете не бывает: за что боролись, то и расхлебываем".
В марте 1990 года мы ехали вдвоем с Ю.П. в купе поезда Москва-Хельсинки. Я увидел, что Любимов, не обнаружив наволочки, хотел улечься, подложив кулак под голову. И очень был признателен мне за открытие сервиса. А когда я спросил, почему же он сам не сказал проводнику, ответом было: "А я как-то привык с войны… по-солдатски…"
Как там спрашивал Н.Гриценко: это тот Любимов или другой?
Репетируем Эрдмана:
"…Надо вытягивать внутренний смысл, и оценки должны быть шекспировские… Лирика ушла из страны, вот беда… вы облегчаете на сцене, облегчили "Мастера", Булгакова играете как водевиль, а "Мастер" становится все глубже - как пророчество - и страшное: в стране перелом, и неизвестно, куда что двинется…"
"Я разберусь здесь во всех звеньях, я и там, на Западе, вправлял мозги, невзирая на адвокатов, я разобрался, как видите…"
"Никакого Эрдмана так не получится! Надо искать стилевое решение и внезапные интонации… А то вы постигли две системы - советскую и Станиславского - а толку нет, вот и финал…"
"Надо больше от себя идти. Ты упивался когда-нибудь, Виталий? (Актер, подумав: "Ну, когда литра полтора-два приму…") Ну вот, и надо идти от себя… он упился, Подсекальников, и стал просветленный весь, поверил, что он на том свете… Хотите расскажу? Вот я прилетел в Испанию, лег спать, просыпаюсь, понять не могу: Тирсо де Молина, портик белый, римские цифры и голуби, голуби! Но не сизари, а белые. О, вот это да: я на том свете…"
"Машину, и ту ставят на профилактику! Чем я сейчас занимаюсь? Я привожу в нормальное состояние актеров на сцене. Потому что когда встретился с вами после пяти лет в Мадриде, где вы играли "Мадрид нашу Мать…", все было прекрасно, встречи и так далее, но я потом посмотрел репертуар и увидел: вы теряете квалификацию… Мне это не нужно, а у вас - профессия. И странно: вроде всё разрешили, а толку чуть…"
"Подтекст всей пьесы - "так жить нельзя". Этот театр на крови строился, зачем вы забываете? Кругом лизоблюдством занимались, а мы что-то приличное делали. А сейчас это стало малоприличное заведение…"
"Интеллигент - это не слова, это - поведение. Можно вспомнить Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Когда к нему пришли, чтобы он подписал письмо против Мейерхольда, он погладил бороду и сказал: "Простите, но в России как-то не принято бить лежачего. Потрудитесь покинуть мою квартиру".
"Как никогда современная пьеса! Человек говорит: оставьте меня со всей вашей идеологией, со своей политикой, не мешайте жить человеку!.."
…5 октября 1989 года, перед началом спектакля "Мастер и Маргарита":
"Мне сон приснился потрясающий! Сперва страшно было, а потом все хорошо. Смотрю: вроде бы я прилетаю "оттуда" и сразу привозят меня в театр, к себе. И вхожу я в зал и ни черта понять не могу… Что такое? Как будто новый какой-то спектакль, а я не знаю, какой. Странное что-то на сцене - какой-то гиперреализм… вот такие глыбы, плиты, и все это как-то ходит… и придумано, как на Западе, но ходит плохо, как все у нас… Я у всех спрашиваю: а где Губенко? Не отвечает никто, отворачиваются, уклоняются. Что за черт? А спектакль вроде уже идет… Где Губенко? Отводят глаза. Странно. Вдруг вижу: а ведь актер, который в главной роли - он, Колька! Загримировали его - не узнать. А он глазами хитрит, как он умеет хитрить глазами, зараза. Я ему: ты что играешь? Что за спектакль тут у вас без меня? А он мне отвечает: а это Васильев Анатолий поставил… А-а! И вот чувствую: не только мне, но всем вокруг тоже противно. И ему противно, Кольке. И тогда я ему говорю: ну все, братцы! Хватит. Давайте работать. И проснулся…"
…Мы - плохие пророки, и где нам знать, как именно обернется в будущем вся сумма светотеней на портрете Юрия Любимова. И кому вообще известно: в каких не видимых миру слезах остаются наедине с собой наши поседевшие кумиры?
ТЕАТР МОЕЙ ПАМЯТИ
А я все слышу, слышу, слышу,
Их голоса припоминая…
Д.СамойловНИКОЛАЙ ЭРДМАН
…Он не умел говорить банальности. Чаще всего молчал. Слушал очень заинтересованно и слегка кивал головой - в помощь собеседнику. Ходил очень подтянуто, с примкнутыми к бедрам руками. Легко было, зажмурясь, представить его во фраке. Никогда не допускал фамильярности. Я не припоминаю в его речи ни одного иностранного слова. Невероятное дело, он создал жемчужины словесности, обходясь без таких привычных, "необходимых" выражений, как "трюизм", "спонтанность", "эксперимент", "экзерсис"…
После смерти Н.Р. три года я не мог продолжить записки о нем живом. Все глаголы возле его имени потеряли право звучать в настоящем времени. За два листочка до его смерти я писал в своем дневнике: "Говорю ему, что слышал суждение о нашей драматургии. Что мне назвали два имени на вершине всех имен - Булгаков и Эрдман. А Эрдман добавляет: "И Бабель!.."
Речь Эрдмана - это особое заикание, приводящее слушателя в смущение и в восторг одновременно. Заиканию подвергались не какие-то определенные, мучительно дающиеся, а просто все буквы, но они не прятались, не выскакивали болезненно, как бывает; они все до единой удлинялись в своем звучании с каким-то пневматическим придыханием. При этом лицо сохраняло мимический покой, и только глаза округлялись и подымали над собой брови. Очень похоже говорил Эраст Гарин - без заикания, но с той же музыкой речи.
…Эрдман добавляет: "И Б'абель!.." Это Булгаков с Бабелем, это Маяковский с Есениным сегодня добавили бы: "И Эрдман!" А у нас убавилось на целую эпоху.
Фрачная осанка. Галантная скромность. Чувство собственного достоинства. И собственного - и каждого, кто его окружал. Моей шестилетней дочери, обомлевшей от встречи с двумя собаками на дачном участке Николая Робертовича, хозяин пошел на помощь, вежливо разъяснив возможности общения человека с животными, успокоив и развеселив ребенка ровно-уважительным тоном обращения: и к дочери, и к собакам - на "вы".
…Вспоминаю его непрестанную озабоченность делами театра.
…Вспоминаю разговор о Гоголе и Сухово-Кобылине: "Бывают писатели - списыватели, а бывают - выдумыватели. Я люблю выдумывателей. И вы тоже? Вот, значит, и я - как вы". И рассмеялся - одними глазами.
Каждое посещение Эрдманом театра - особое событие. До сегодняшнего дня мысли, речи и образ Эрдмана удивительно помогают в ежедневной работе. Я храню в памяти какое-то деловое собрание, которое "выпало из рук" нашего Юрия Петровича, ибо в горячке "выяснения отношений" случилась перебранка, далекая от темы вечера. Еле-еле угомонив своих "таганцев", Любимов от души посожалел о потраченном времени и, махнув рукой на нас, предоставил слово Эрдману. Николай Робертович поднялся и, преодолевая неловкость от публичного выступления, кратко заявил:
- Акть-оры как дь-эти: пь-ать минут игр-ают, а ссорок пь-ать - ссутяжничают.
После этого нам осталось благодарно рассмеяться, устыдиться и разойтись по домам.
…На премьеру спектакля "Послушайте!" в 1967 году я пригласил самых близких. Кроме родителей и сестры, это были Мишка (Вильгельмина) и Наум Славуцкие. Мишку загнали на Лубянку и дальше в 1935 году, а в Москву оба вернулись в 50-х. Известно: те, кто выжили в лагерях, крепко удивили тех, кто на свободе, своей жизненной силой. Такие адовы муки - и так молоды их глаза, чувства, память! Рассказы о лагерях и о "мирной" жизни до посадок - ничего более мощного не впечатляло наши мозги.
- А что ты удивляешься! - весело открывала Мишка тайну консерванта. - У нас на Севере было так холодно и такая хорошая голодная диета… и такая физкультура на свежем воздухе, что… спасибо "великому Сталину", ни о какой старости не может быть и речи! Какими ушли в 30-е, такими и вернулись.
Особенно горячо откликались наши чудо-"отсиденты" на любые отзвуки прежних времен. Поэтому в разговоре об Эрдмане произошла памятная заминка.
- Постой, это какой Эрдман? Сын того Эрдмана? Мейерхольдовского? Или внук?
- Нет, он сам, Николай Робертович.
- Минуточку! Это полная чепуха! - уверенно накинулись на меня прямо из 30-х годов. - Во-первых, его расстреляли до войны, а во-вторых, ты сошел с ума! Какой Эрдман! Ему же сто лет! Он же был с Есениным, с Маяковским, Луначарским…
- Все правильно! Вы его завтра увидите с Любимовым на премьере!
…Все правильно. Его законсервировали тридцатилетним и таковым он остался навсегда. Молодым человеком он успел занять высокое место на московском Олимпе 20-х годов, и талантом поэта-драматурга восхищались его великие соседи по искусству - Булгаков, Зощенко, Мандельштам, не говоря уже о корифеях МХАТа, ГОСТИМа, Вахтанговского театра… А нам, любимовцам 60-х, "достался" сухощавый, подтянутый аристократ, молчаливый и отечески опекающий шалую команду своего друга Юрия.
Его участия в становлении "Таганки" можно и не заметить, ибо оно мало отразилось в небрежных стенограммах нашего худсовета, а также в архиве радиоцеха. Авторское чтение "Самоубийцы" не удосужились записать; спасибо, сохранили фонограмму читки "Пугачева" с интермедиями Николая Робертовича и с частушками Владимира Высоцкого… Тогда же, после наших благодарных оваций, прямо на сцене между авторами произошел исторический и шутливый диалог.
Э р д м а н: Володя, а как вы пишете ваши песни?
В ы с о ц к и й: Я? На магнитофон (смех в зале). А вы, Н.Р.?
Э р д м а н: А я -…На века! (долго не смолкающий хохот актеров в зале, Высоцкого на сцене, да и самого автора репризы).
Смех Николая Робертовича - это движение плеч вверх-вниз и краткое искажение рисунка губ.
…"А йй-аа - нна век-хха!"
Такое выражение имеют глаза детей в прекрасном возрасте "почемучек". Теперь мне кажется, что его заикание предохраняло от многословия, избавляло от суетного быта, служило защитой его автономии - быть самим собой.
Влияние Эрдмана на самые трудные, колыбельные времена "Таганки" было значительным. Мало кто поверил в преображение личности актера Любимова, лучезарного героя экрана и баловня вахтанговских стен, трудно было за нечаянной удачей дипломной работы разглядеть нешуточную перспективу режиссера-новатора… Эрдман сразу поверил в "нового Любимова", вопреки данным многолетнего общения и вопреки собственному скепсису. Великолепному, мефистофельскому скепсису. Он ходил на "Доброго человека из Сезуана" неоднократно, звал знакомых, рекомендовал коллегам и - что говорить? - самим фактом посещений повышал цену дебютанту в глазах столичной элиты 1963 года.
Юрий Петрович впоследствии много раз отвечал на вопрос, как ему удалось создать "такую Таганку", именно словами Эрдмана: "Все зависело от компании. У кого какая компания - таковы и результаты. У меня была хорррошая компания…" И, перечисляя славные имена, неизменно открывал список Эрдманом и Вольпиным. Михаил Давидович Вольпин - поэт и киносценарист, работал с Маяковским в "Окнах РОСТА", а с Эрдманом и работал, и сидел в лагерях, и попал в авторы эстрадного ансамбля НКВД, и дружил до конца его дней.
…Влияние Николая Робертовича чувствовалось и на худсоветах, и на банкетах, и на важных собраниях, куда Любимов считал необходимым его приглашать. Видимо, стратегия и тактика воспитания актера "нового типа" часто обсуждалась вне стен "Таганки" главными лицами "хорошей компании", поэтому в памяти держатся случаи обращения Юрия Петровича к Эрдману как к… устыжающей инстанции. А на банкете "Героя" Николай Робертович и словом кратким порадовал, и еще запомнился… танцующим. Вдруг подошел к одной из дам, красавице Раечке, и очень ладно провальсировал, и к месту ее привел, и ручку поцеловал. А затем уже танцевал с Инной, женой своей, очень эффектной балериной Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко.
Где-то через полгода круглосуточные труды наши по выпуску "Павших и живых" сложили вчерне спектакль в двух актах, часа на два с половиной. На самый первый прогон, противу обычных правил осторожности (вещь-то совсем сырая), Любимов позвал Эрдмана и Вольпина. Назавтра режиссер меняет рисунок представления, режет и кроит, при этом не тоскует, а бодр, энергичен, словно обрел благословение на победу. А ведь мог бы и потосковать: благодаря критике Эрдмана, спектакль сократился до одного отделения, до полутора часов. Но способ суждений и "осуждений" не наносил урона самолюбию, а вызывал прилив энергии творца. На Эрдмана и Вольпина никогда не мог обидеться Любимов, хотя именно здесь ему пришлось услышать больше всего критических текстов.
Надо теперь разъединить обоих друзей. Вольпин был чрезвычайно близок Эрдману. Но я отчетливо помню такую разницу в их взаимных обращениях, которая никак не принижала достоинство Михаила Давыдовича, но при прочих равных условиях говорила о… разнице в возрасте. Явно было, что Эрдман старше. А когда не стало Николая Робертовича и я узнал, что они - ровесники, Михаил Давыдович прокомментировал так: "Когда Николай написал "Мандат" и прочие вещи, было ясно, что он очень одарен как поэт и драматург, но когда я услышал "Самоубийцу", мне стало ясно, что это шедевр, что это гениально и что я такого никогда не смогу сочинить, да и никто, наверное, не сможет; вот вам и правильно казалось, потому что я по совести чувствовал его старшим…"
Еще через два года, когда успех театра стал устойчивым и новая премьера собрала участников в ресторане Дома актера, по просьбе Любимова поднялся с бокалом Эрдман (сам бы никогда не решился) и произнес краткое слово: "У вас опять успех, и в прошлый раз был успех. И я хочу пожелать вам… одного хорошего провала. А потом - опять пускай будут успехи". Как-то так прозвучало это непривычное напутствие, что его вдруг все поняли и среагировали вполне благодарно. Вообще, мне кажется, что Н.Р. так умел говорить, что его всегда правильно понимали. Даже когда в словах было больше спрятано, чем звучало - все равно его интонация, его затягивание согласных, его глаза и музыка речи внушали мысль точно и безошибочно - пускай и не очень умному или просто суетному обывателю.
К несчастью, летом 1988 года в автокатастрофе погиб Михаил Давыдович Вольпин, и я уже не смогу поделиться с ним таким возражением… Вольпин всегда уверенно отрицал всякое подобие несчастности Николая Робертовича - и в ссылке, и после того. Да, у него больше пьесы не писались. То есть не написалась ни одна. Да, его сильно задело волной репрессий. Но он никогда не был слабым, страдающим, прибитым и т. д. "Николай, - говорил Вольпин, - великолепно справлялся во все времена и на всех поселениях со своими привычками. И с коньячком, и с дамочками, и с картами, и с бегами".
Разумеется, это интереснейшее свидетельство. Но сегодня, мне кажется, я бы нашел понимание у М.Д.Вольпина и в пункте моего несогласия… И стиль поведения, и привычки, и какое-то, по мнению друзей, легкомыслие поэта вполне уживалось с особой интонацией его глаз. Глаза Николая Робертовича сообщали то, что он, может быть, никому ни разу не сказал. А сказал его товарищ и по цеху, и по печали - Михаил Булгаков, словами своего Мастера: "Меня сломали. Мне скучно, и я хочу в подвал…" Об этом молчали его плотно сжатые губы, об этом говорил взгляд, устремленный на собеседника - и дома в Москве, на улице Чайковского, и в Пахре, на даче номер 21 (объясняя, как добраться к нему в писательский поселок, цифру дачи он называл термином игрока - "д-дом н-номер очк-хо!").
Особенно явственно цитата из "Мастера и Маргариты" совпадала с выражением его глаз в последний год. Так что из сегодняшнего дня видится четко: этого человека ничто не удерживало на земле, ибо жизнь для него была лишь соединением мучений - и болезни, и памяти, и запретности любезных плодов, и сознания безысходности в будущем… Только то, что происходило с другими, интерес к чужим (близким) судьбам - удерживало, а к себе - нет…
В 1966 году Ю.П. буднично сообщает Высоцкому и мне: в такой-то вечер вас ждет к себе на ужин Николай Робертович, хочет послушать, что вы сочиняете… Это было более чем ответственно, это было праздником для нас. В тот вечер на улице Чайковского, кроме Володи с гитарой и меня с тетрадками, на квартире Эрдмана были М.Д.Вольпин и друг "Таганки" доктор Левон Бадалян. Любимов не смог прийти, хоть и жил в соседнем подъезде: захворал. Я читал рассказы, Эрдман и Вольпин их комментировали, взвешивали на весах своего опыта. Высоцкий очень помогал моему чтению своей смешливой реактивностью. Эрдман и Вольпин так разговаривали, как будто в моих рассказах не было недостатков; то есть они, конечно, есть, но им интереснее говорить о хороших признаках. Говорили так, как будто я уже выходил десятками книжек. Так что в короткие миги их речей во мне счастливо мурлыкал котенок честолюбия. Один раз оба друга поспорили, и Эрдман защитил прочитанное мною от предложения сократить.
- Он с-сам вс-се зна-ает, к-хак л-лучше сдь-элать: в-возьмь-йот и удлинь-нит - и увидишь, что ст-ало вс-се к-хак н-надо…
А из цикла "Матеморфозы" особенно одобрил рассказ "Извлечение корня". По тогдашнему счету, я решил, что одобренное - значит наиболее запрещенное к печати. Но Николай Робертович рассудил по-своему:
- Мн-не к-хажется, вас начнут печ-атать с этого вот расск-хазика…
Кстати, через одиннадцать лет на 16 полосу "Литгазеты" приняли два рассказа из этого цикла, в том числе этот, "обещанный" Эрдманом.
…Высоцкого слушали долго, с нарастанием радости. Песни первого периода - знаменитую стилизацию лагерного и дворового фольклора - принимали с особым удовольствием. Помню, Володя "бисировал" по просьбе хозяина дома: "Открою кодекс на любой странице - и не могу, читаю до конца…" Видимо, Николай Эрдман был первым из поэтов, кто принял Высоцкого безоговорочно - как равного себе.
За ужином состоялся совместный рассказ друзей о 20-х годах, о Маяковском и Мейерхольде, о ссылке в Калинине и Вышнем Волочке, о Саратове и МХАТе, об отправке их "оттуда", из небытия ГУЛАГа, без паспартов и гражданских прав в царство эстрады, друзей, столичной службы. В нашей "стране чудес" умирающего Эрдмана в разгар войны вернули к жизни его известные коллеги из военного ансамбля НКВД: С.Юткевич, Д.Шостакович, З.Дунаевский, М.Тарханов, А.Дикий, Ю.Любимов… И его, и Михаила Вольпина. Тогда же за ужином мы впервые услыхали пересказ эрдмановской репризы. Они заходят впервые в общежитие ансамбля, на них - только что выданные шинели, и изможденный, высохший Эрдман, увидев себя в огромном зеркале, сообщает другу:
- М-миша, к-хажется, за мн-ной опять пришли…
На этой же квартире я читал первый вариант композиции по Маяковскому для спектакля "Послушайте!". Эрдман, Вольпин и Александр Моисеевич Марьямов (писатель, "новомирец", друг театра) слушали недолго. Прервали меня. Может быть, это был единственный случай на моей памяти, когда Эрдман казался выведенным из равновесия. Он не только поддержал критику своих соседей, он очень разгорячился, испугавшись, видимо, ложного направления моего пути: нельзя, мол, так соединять стихи со стихами, нельзя однородное по стилю слиговывать, ведь тем самым разрушаются границы поэм, весь порядок частей: начало, движение, финал - какой за этим труд! Это авторская воля, а вы ее так гладко нарушили, что я и не заметил, где оборвалось "Облако", где пошло из "Флейты", а где другие стихи… и получилось "чем гл-аже, тем г-аже"… надо по-другому как-то, вот там, где мы вас прервали - что-то из диспутов, его прямая речь… здесь похоже на пьесу…
Суровость речи Эрдмана объясняется его волнением: за театр, за Маяковского и вообще за поэзию, за авторские права. И опять повторю: оттого, что он умел быть ясным в своей запальчивости, обидное в его словах не обижало, не задевало самолюбия, оно разжигало охоту переделать, пробовать, искать.
Через несколько месяцев, пройдя сложный путь к новому варианту, родился сценарий к спектаклю "Послушайте!". И был вечер, вернее, ночь на "Таганке", в кабинете главного режиссера, когда я читал этот вариант. Справа от меня - Юрий Петрович с кипой чистых листов бумаги и тревогой ожидания на лице. Напротив - Эрдман, а вокруг, по периметру стен кабинета - боевой штаб, друзья, худсовет или, как нас всегда пугал их присутствием Любимов: "умнейшие люди страны". Вначале всех взбодрил философ Валентин Толстых. Он раскрыл объемистый портфель, доверху набитый вяленой воблой:
- Только что из Астрахани, вкусноты необыкновенной! И пусть Николай Робертович, как старший, каждому, кто сотворит удачную мысль, вручает воблу как приз.
Любители Маяковского сразу поняли, что это реализация метафоры поэта - "вобла воображения"…
Много потом было сказано, много сделано и переделано для будущего спектакля - самим постановщиком и каждым из его друзей, но первый плод с "древа признания" незабываем. Я увлеченно читаю композицию, через два часа ставлю точку, и… томительная пауза нарушается демонстративным жестом Эрдмана. На страницы моей рукописи летит первая вобла. Инициатива Н.Р. как бы пришпорила энергию обсуждения.
Когда сценарий был готов, отец "Таганки" позвонил Б.Е.Родионову, начальнику Главного управления культуры Моссовета. Так и так, мол, вот какие приятные новости для вас, дорогой Борис Евгеньевич: хотим сыграть спектакль о Маяковском, и вот, мол, большой любитель поэта, мой артист, придумал композицию, мечтает вам почитать. И начальство просияло: как же! Как же! Лучший, талантливейший поэт нашей, как кто-то удачно выразился, советской эпохи! И назначил свидание. Мы с Любимовым явились, загодя настроясь воевать. Еще лучше здесь подходит специальный глагол "швейковать". Хитрить, лукавить, идти в обход, пользоваться терминологией противника - вот обычный набор приемов. Цель была благая - притупить бдительность, заручиться добродушием, расслабить хозяина. К слову сказать, хозяин-то был совсем не так уж и плох в сравнении с другими. И вот назавтра после приема в управлении я еду на дачу к Н.Р.Эрдману, бурно жестикулирую, в подробностях разыгрываю встречу. Как меня настроил Любимов. Как я старательно скрывал трагические моменты, небрежно интонируя темы гнева, сарказма, смерти. Как под столом, за которым я сидел и читал, над моей ступней висел башмак Юрия Любимова, и, чуть я забудусь и прочитаю строчку с грустью - он жмет на ступню, как на педаль, и я громко-звонко выдаю оптимизм. Как встал со стула Родионов после моего чтения, как заходил по большому кабинету, как гордо глядел в большое окно на Неглинку-улицу и как обратился к Любимову… "Какой поэт! Какой беспартийный большевик! Жалко, не вошли хорошие строчки - "все сто томов моих партийных книжек". Но мне лично больше всего жалко другое… Что же вы мое любимое "о советском паспорте" не вставили?" Тут, не давая мне открыть рта, Любимов махнул на меня: мол, вставит! Не беспокойтесь! Мы обдумаем и вставим! Тут и я попробовал себя в "швейковании": мол, знаете, как интересно выходит - оно ведь фактически вставлено. Ну, не буквально, но ритмами, мыслями, эмоцией - оно все разбросано по пьесе. Все об этом, мол… о паспорте… А Николай Робертович, одобрительно кивая рассказу, вдруг сообщил мне:
- Какое недоразумение - эти стихи. Все думают, что Маяковский хвалит советский паспорт. А ведь это неправда. Никаких паспортов ни у кого тогда не было. А если тебе давали "краснокожую паспортину", то только для поездки за границу. Значит, если поэт кричит, что ему очень приятно ходить с этим документом - его можно понять: читайте и завидуйте, а я за границу уехал от вас…
Николай Робертович любил спектакль "Послушайте!". Помню, после генеральной репетиции он вышел к столу Любимова и четко, кратко, необыкновенно грустно сообщил сотням заинтересованных глаз: "Этот спектакль - самый лучший венок на могилу Маяковского".
Потом были труды по спектаклю "Пугачев". Блестяще остроумные интермедии Эрдмана. Прожорливое начальство норовило, как всегда, скушать добро полностью. Половину сочинения Н.Р. удалось спасти, и вот стихи Есенина звучат рядом с текстами его друга Эрдмана в пьесе, которую очень хотел, да так и не решился поставить их общий товарищ Всеволод Мейерхольд. И звучали в этом представлении частушки Высоцкого, и много лет аплодировали зрители такому созвездию, такой "хорошей компании": Есенин-Эрдман-Любимов-Высоцкий (он же - замечательный исполнитель роли Хлопуши).
Время постановки "Пугачева" притягивает воспоминание о забавном комплименте Любимова в мой адрес. Спектакль, как ни один другой, делался очень быстро, напористо и единодушно. Настроение у всех, можно сказать, было победительным. Однажды Ю.П. делал после репетиции свои замечания и благодушно отвлекался на разные темы.
- Юрий Петрович, - спросил кто-то. - А что такое, по-вашему, интеллигентный человек?
Любимов с удовольствием задумался над подходящими примерами и медленно стал перечислять (потом мне спародировал этот приятный казус Высоцкий): "Ну, например, Дмитрий Дмитрич Шостакович… Николай Робертыч, конечно… Капица Петр Леонидыч… Михал Давыдыч… Марьямов… Венька…" Последовал дружный хохот трудящихся, и несколько дней актеры дразнили меня: "Ну, например, Александр Сергеич, Лев Николаич, Антон Палыч и Венька…"
Годом позже я вошел в авторскую группу по соединению шекспировских хроник в одну пьесу. Аникст и Любимов трудились над "Ричардами", а Н.Р. со мной - над "Генрихами". Короче, я отвечал за Фальстафа, за его, так сказать, уплотнение и за то, в каком виде и в каком месте быть его сценам в новой пьесе.
Я получал отдельное наслаждение от эрдмановской фразеологии. Не забыть мне, как он ловко обошел английские имена, всяческие "шекспиризмы", адресуясь к длинной сцене старого Генриха с сыном-принцем: "Ну, это там, где папаша вызывает к себе сына и кричит, мол, ах ты такой-сякой, а сын говорит, мол, неправда, я уже никакой не сякой, а совсем другой - пусти меня на войну, я тебе это докажу…"
И вот месяца два (пока начальство не запретило композицию в утробе) я регулярно являлся к Эрдману с предложениями. Поднимался на лифте, звонил в дверь. Слышал шаги, потом рычание его огромного пса. Цепочка снимается со щеколды, и сразу вместе с открыванием двери - срочное указание хозяина: "Не подавайте мне рук-хи!" Ревнивая собака обладала реакцией телохранителя… Не подавая руки, прохожу вправо, в кабинет. Там, возле бюро с его бумагами, располагаюсь к беседе. Однажды имел неосторожность задержаться взглядом на исписанном листе, посреди которого лежала только-только оставленная авторучка. Внезапно на листок легла рука Н.Р., она нервно перевернула, скрыла сочиняемое от невоспитанного гостя. Я смешался, извинился, а Николай Робертович, сменив гнев на юмор, что-то сказал о писательском суеверии - мол, на какой строчке сочинение впервые застанут посторонние глаза, там и точка. Дальше не напишется…
Почти всякое посещение дома или дачи Эрдмана начиналось с расспросов хозяина о Любимове и театре. О кознях и препонах чиновников он судил с печалью и досадой, я бы сказал, личного врача Юрия Петровича. Как эти благополучные и далекие от театра люди не поймут, что "Таганку" им уже не искоренить, а здоровье Любимова они погубят, но ведь им платят большое жалованье не за его здоровье, в самом деле! Очень радовался, когда Любимов ему пересказал "идею" одного из начальников в министерстве:
- Слушайте, а что мы его без толку уговариваем, уговариваем… Сколько он получает? Да? Так мало? Так давайте, товарищи, накинем ему сто рублей, вот он и присмиреет.
…Веселился Эрдман, передавая этот любимовский рассказ. И кажется, больше всего тому, что начальники ищут контактов с Ю.П. и, значит, не так агресивны, не так опасны его здоровью…
…Запали в голову его рассуждения о Мандельштаме, которого Эрдман близко знал, но никакое личное пристрастие не могло повлиять на его художественную оценку.
Мои восторги о воспоминаниях Н.Я.Мандельштам и о той части, где Эрдману уделено особо теплое внимание вдовы поэта, Николай Робертович остудил задумчивым рассуждением:
- Видите, когда один живет, другого убили, а третий сам себя убил, а потом одного печатают сто раз, а других прячут - разве так можно узнать правду?.. Кто из них лучше, а кто не лучше… Если бы все они были в равенстве перед читателем - и Маяковский, и Пастернак, и Есенин, и все другие, - никто бы не сомневался. Я вот беру их всех по справедливости: вот они все живы-здоровы, и вот их всех одинаково издают, ну и что выходит?.. И выходит тогда так: один первым выдумал свое, а другой идет после кого-то первого… И вот, как говорится, дело вкуса (тут характерный жест плечами вверх - мол, это уж само собой разумеется), но все-таки Маяковский был один, такого раньше не было, и Есенин был один, такого не было, а Мандельштам очень хороший, очень большой талант и так далее, но он стоит за другими, которые были первыми…
Как-то зашел разговор о хамстве в общественном транспорте. Николай Робертович отозвался охотно:
- Говорят, пьяному море по колено и ничего не страшно, и вообще народная удаль… Конечно, удаль - когда старики и женщины… Знаете, я не слышал, чтобы даже самый пьяный человек громко обругал в трамвае ГПУ или ВКП(б) - у него удаль, конечно, и он ничего от водки не соображает, но в этом месте он в море не пойдет - знает, что потонет!
…Поразительный почерк был у Эрдмана: идеально прописанные буквы ложатся бисером под его рукой - как будто нарисованные каллиграфом. И каждая буковка сама по себе. Совсем нет соединений между буквами, а есть разные расстояния между ними и между словами. Наверное, психологи, извлекающие данные о характере из почерка человека, сказали бы, что Н.Р. являет наивысшую преданность языку, слову русскому, а также душевную сосредоточенность писателя. Этот почерк говорит о высокой цене, которую назначал мастер сам себе за каждый штрих на бумаге. Так же можно рассматривать и его устную речь, где, точно по народному присловью, всегда было "словам тесно, а мыслям просторно". Отобранность, мудрая и ироническая игра ума, простота и сжатость текста - это тоже каллиграфия поэта-драматурга… Михаил Давыдович Вольпин обращал мое внимание, скажем, на такой пример из "Самоубийцы"…
- Другому хорошему писателю хватило бы после смешного вопроса о ливерной колбасе просто сказать: "Целые дни я как лошадь работаю, а ты мне" и т. д. А у Коли обязательно и просто, и неожиданно: "Целые дни я как лошадь какая-нибудь или муравей работаю…" И уже я не могу не засмеяться, я ему говорил про это место… Да у него этих мест - сотни. И еще удивительно, что он часто рисковал, у него фразы доходили до черты, где вот-вот… еще шаг - и выйдет пошлость… А он ни разу не переступил, это великая точность… Помните: "А когда я с тобой на супружеском ложе голодаю всю ночь безо всяких свидетелей, тет-а-тет под одним одеялом, ты на мне колбасу начинаешь выгадывать?" А все ведь дело в том, что это написано как стихи, таким ритмом и в таком порядке - его пьесы и невозможно играть как бытовые: получается плоско и даже пошло. Если когда-нибудь у кого-то выйдет удачно "Самоубийца", то обязательно будет звучать не бытовая речь, а как будто стихами написанная. Правильно сравнивают с "Ревизором". Я думаю, что по концентрации стихотворной энергии, да и по юмору… это даже выше, чем "Ревизор"…
М.Д.Вольпин был очень добр ко мне и не сердился, когда я в очередной раз привозил к нему кого-то, кто хочет услышать от него об Эрдмане. Его рассказы записаны и у французской журналистки Мартин Нерон, и у Анатолия Смелянского. После книги Смелянского "Булгаков в Художественном театре" я мечтал, чтобы он написал так же сильно об Эрдмане. Один эпизод Вольпин припомнил, кажется, в гостях у соседа и коллеги Валерия Фрида. Разговор вращался вокруг лагерной темы, одинаково "близкой" и Фриду, и Вольпину. Одна из возлюбленных Н.Р., актриса А.О.Степанова, едет за тридевять земель, в Енисейск - навестить лагерника. В комендатуре - встреча. Эрдман благодарит, проходит короткое время, и он просит извинения: у него назначено важное свидание. И удаляется к другой даме, никак не обидев Ангелину. Боже упаси, чтобы кого-то обидеть. В другой раз в Енисейск добрался Э.П.Гарин. Ехал три ночи на поезде, потом на пароходе, потом на попутных машинах. Встретились, обменялись новостями, Эрдман принял передачку с благодарностью, и Гарин счел неловким напрашиваться на ночлег, попрощался и повторил тот же путь - до Москвы. Из Енисейска Эрдман присылал маме в Москву письма, иногда подписывая их: "Твой мамин-сибиряк".
Однажды Вольпин и Эрдман у метро "Аэропорт" увидели Валентина Катаева, выходящего из своей черной "Волги". Поздоровались вежливо. Вдруг Катаев нарушает все правила общения советского босса с бывшими лагерниками, кидается к ним: мол, ребята, дорогие, любимые писатели мои, как фигова моя жизнь и как, мол, не хватает мне вас - таких настоящих… Признавшись в своем глубоком одиночестве, Катаев еще больше удивляет друзей: умоляет приехать к нему на дачу, в Переделкино, завтра - в день своего семидесятилетия! Очень искренне и очень матерно он посылает весь остальной Союз писателей к черту - ради старой дружбы с Эрдманом и Вольпиным. На даче действительно состоялся обед в узком кругу, все трое изрядно напились. Тут входит Расул Гамзатов, поэт, депутат и тоже, как и Катаев, руководитель. Валентин Петрович, не предложив ему присесть, начинает унижать Расула - в третьем лице: "Вот, братцы, глядите на него! Входит без спросу, строит из себя большого поэта и представить не может себе, кто мне доставил честь отобедать в мою честь! Вольпин! Эрдман! А он кто такой?.." Оба друга тихо вышли на воздух, Катаев за их спиной продолжал наставлять классика дагестанской литературы. У калитки стояла "Волга" Гамзатова. Они попросили довезти их до станции. Шофер довез их до самой Москвы. Назавтра в Доме литераторов Катаев распространил новость: мол, они мирно справляли с Расулом Гамзатовым день рождения, но тут вошли непрошеные Вольпин и Эрдман, нарушили праздник, напились чертовски, забрали машину несчастного Расула! Пришлось ему заночевать у Катаева, а шофера выгнать с работы.
…Однажды я приехал к Николаю Робертовичу с рассказом о вечере в ЦДРИ. Прекрасная Любовь Орлова и ее муж Григорий Александров. Воспоминания, кадры из "Веселых ребят", ответы на вопросы, цветы и восторги. Однако меня удивило, что Александров, говоря о киношедевре, не упомянул ни Эрдмана, ни В.З.Масса - авторов сценария. Почему это? Что за странная забывчивость, когда уже в титрах обновленного фильма восстановлены имена репрессированных писателей? Н.Р. отвечал так:
- Когда фильм был готов и его показали Сталину (еще без титров), то Гриша поехал ко мне, где я сидел - в Калинин. И он говорит: "Послушай, Коля, наш с тобой фильм становится любимой комедией вождя, будет гораздо лучше для тебя, если там не будет твоей фамилии. Понимаешь?.." Я сказал, что понимаю.
Эрдману было интересно знать, как Любимов строит свой репертуар и как ему удается формировать такую труппу, в которой многие актеры становятся соавторами режиссера. Композиторы, поэты, музыканты, драматурги. Спросил меня после "Часа пик", не пишу ли я оригинальной пьесы (как и "Послушайте!", то было композицией, инсценировкой чужого произведения). И я привез к нему на дачу начало своей пьесы о трех китах. Дело происходит в мировом океане. Три кита держат глобус, иногда по команде "смена рук - смена вех" они перестраиваются. Все киты океана полны забот о трех главных китах. Все, что происходит на Земле, - отражение поступков и бесед китов в океане. Большого одобрения пьеса не вызвала, и я с ней простился. Но одну фразу оттуда Н.Р. похвалил. Между тремя китами носится поэтесса-китиха, она готовит поэму о героях, надоедает им своей громкой и глупой патетикой, исчезает, успев "положить глаз" на самого мудрого из троих. После паузы этот кит сопит, сопит, а потом обращается к соседям: "Братья, а вы не помните - во время поцелуя губы идут внутрь или куда?"
Кстати о женском вопросе. М.Д.Вольпин, подводя итог романам и бракам Н.Р.Эрдмана и Ю.Любимова, однажды заметил с удивлением: "А ведь у Юры и у Николаши было сходство в выборе дам сердца! Оба попадались в сети к актрисулькам, как говорилось раньше!"
…Стояла снежная зима, и за большим столом на огромной веранде сидел Николай Робертович, в своей клетчатой чешской курточке на молнии. Курточка мягкая, фланелевая, в клеточку серовато-черных тонов. В поселке на Пахре царил деревенский покой невоскресного дня. Гигантское окно веранды за ночь значительно занесено снегом. Мы с Инной Эрдман и с ее приятелем, частым гостем дома, разгребали снег. Понижался уровень ночного покрова, все больше открывалось стекло и за ним - Николай Робертович. Он глядел на нашу веселую работу, глаза его были широко раскрыты, и он изредка кивал своим мыслям. А со стороны казалось, что он рад освобождению от этой горы, рад видеть нас, так весело кидающих большими лопатами снег. И мы еще сказали друг другу, что он похож на одинокую птицу, когда так долго глядит в одну точку. И что поэтому надо будет вечером разжечь камин и хорошо развеселить Николая Робертовича. А я был уверен, что уже начал его веселить - тем, как удачно изображал строителя первой пятилетки. Я могучими жестами отшвыривал снег то влево, то вправо и с идиотской бодростью исполнял "Марш энтузиастов". В ритме бросков успевал выкрикнуть, кому именно кидаю снежный пирог (за забором - дача М.Мироновой и А.Менакера). Громко ору: "Мироновой!" - и дальше пою про "нам нет преград ни в море, ни на суше…", опять бросок и опять ору: "Ми-и-накеру!" - и снова пою про "пламя души своей мы пронесем…" - "Мироновой!" - "через миры-ы" - "Ми-и-накеру!" - "и века!"…
Снег разбросан, греемся в гостиной. Звонок в калитку. Николай Робертович, как всегда, спешит спасти гостя от собачьей ярости. Лай, визг, овчарки нейтрализованы, на участок вошла Мария Владимировна Миронова. После недолгой беседы у забора она ушла к себе. И я спросил в легкой тревоге - не с обидой ли на мой дурацкий крик являлась гостья?
Нет, безо всяких обид. Оказалось, М.В.Миронова - из круга друзей прежнего, "допосадочного" Эрдмана. А я опять спутал времена. Ведь был совершенно уверен, что мама и папа Андрюши Миронова - из нашей, послевоенной жизни, тогда как Эрдман, вместе со Станиславским и Маяковским, принадлежит началу века… Казалось: до войны - это сто лет назад. А прошло всего двадцать пять - двадцать шесть лет… Вот теперь кажется: "Таганка" началась буквально позавчера, ну совсем недавно! А это было "так давно, что грустить уже смешно…" В 1964 году. Даже считать лень…
В тот же вечер (а может быть, в другой) мы веселили Эрдмана. Я, по заказу, копировал Андрея Вознесенского, Рубена Симонова, актеров "Таганки", кающихся перед Любимовым после "загулов"… Потом Инна пела, а Николай Робертович как-то по-молодому призывал меня восхищаться ее исполнением цыганских романсов…
А Марья Алексеевна - мать Инны, глядя на расчищенный участок, занимала нас докладом о том, что собирается вырастить в саду этим летом. Она называла Эрдмана Колей, а он ее величал Марьей Алексеевной, хотя по возрасту она была его младше. "И вообще, - замечал Николай Робертович, - зачем нужно сажать? Совсем никогда и никого не нужно сажать".
- Как же так, - безо всякого юмора отзывалась теща, - разве можно без посадок, когда такая территория?
- Вот как раз для такой территории и хорошо бы без посадок.
Мы смеялись, а Эрдман, чтобы теща не обиделась, перевел разговор на рисунок их скатерти - огромный и яркий, заграничного производства, где нелегко бывало за трапезой отличить свой прибор от нарисованного. Чего только не было на той шикарной скатерти! И Эрдман объяснил свою антисадовую пропаганду: зачем еще возиться, когда все фрукты-овощи уже на столе?..
…В последний год, в дни редких посещений Николая Робертовича на даче, я узнал, что он очень сблизился с Твардовским. Хоть и соседи по поселку, но никогда так не тянулись друг к другу. Вернее, Александр Трифонович - к Николаю Робертовичу.
Не было случая, чтобы присутствие в доме у Эрдмана так или иначе не окрасилось в тона "старого, доброго" ритуала. И закусить - "чем Бог послал", и выпить - "пропустить рюмочку". А в последний год, помню, за столом Инна пыталась то недолить мужу, то уговорить его "выпить символически" - Николай Робертович сердился. Всю жизнь, при любой погоде и при любой хворобе - верность своим пристрастиям: дружество, песни, юмор, рюмочка, милые дамы, бега и карты, театр и острое словцо…
Ранней весной 1970 года, приехавши с малыми дочками на Пахру, заглянул на полчасика к Николаю Робертовичу. Он расспросил о театре, передал приветы, назвал себя "уже более-менее здоровым", а провожая нас, у порога, внезапно попросил: "Если увидите Твардовского, скажите, что меня нет дома…" У них было одно на двоих роковое заболевание, но Эрдману оставались считанные месяцы, а Твардовскому выпало пережить Н.Р. на один год…
…Цитирую дневник 1970 года.
10 августа, позавчера, когда мне принесли телеграмму от мамы-папы, от сестренки Гали, когда все твердили, чтобы я был весел и здоров, мне было и весело, и здорово, потому что мне исполнилось 30 лет. Я позвонил Николаю Робертовичу утром. Хотел узнать, как он поправляется. Рассказать, что прилетел из Риги. Передать привет от Арбузова, с которым прогуливались вдоль побережья, а Алексей Николаевич тогда знал от Ахмадулиной по телефону, что Эрдману стало лучше, что дело идет на поправку в больнице Академии наук… Может быть, напроситься снова в гости и, конечно, вынудить его пожелать мне счастья и удачи: "Мол, поздравляю, молодой человек, вот ведь, небось, не застонете, как Пушкин: "Ужель мне минет тридцать лет?!" А телефонная трубка мне сообщила, что два часа назад Николай Робертович Эрдман умер…
…Сегодня 31 августа. 13-го числа были похороны. Самые краткие и самые тихие. Узкий круг провожающих. Читателям "Вечерней Москвы" было сообщено, что умер какой-то киносценарист. Почетный караул в Доме кино, почернелые, впавшие скулы Инны и ее матери, неторопливая скорбная суета, вполовину, кажется, похудевший Михаил Вольпин, рядом Владимир Масс - замечательные друзья писателя, двое его соавторов, разделившие лагерное прошлое покойного. Глубокая, сокрушенная речь Алексея Каплера, и вслед за тем - его рыдания за портьерой, где находились другие ораторы. Формально скорбные слова секретаря Союза кино, неверно ставящего ударение в отчестве Эрдмана. Большая и добрая речь Александра Штейна, говорившего об авторе великой пьесы "Самоубийца", за которой - огромная будущность на русской сцене. Великой пьесы, о которой понятия не имели читатели как вечерней, так и дневной Москвы.
Не смог из-за болезни приехать Юрий Любимов, находившийся в Щелыкове. От "Таганки" были мы с Борисом Хмельницким, директор театра и Андрей Вознесенский с Зоей Богуславской. Я видел чету Мироновой и Менакера и слышал звуки того счастливого снежного дня. Смотрел на постаревшего Твардовского и слышал голос Эрдмана: "Если увидите Твардовского, скажите, что меня нет…"
Такой это был человек, что, когда он в первый и последний раз оказался на возвышении, на "троне", его окружили только близкие люди. Любая формальная официальщина исключена его жизнью и смертью. Глухо звучат репродукторы, драматурга оплакивает музыка Чайковского. И музыка, и венки за венками, и дождь за окном, и черное с красным - все это было только для него.
Чудесный человек театра Александр Гладков сказал мне после панихиды теплые слова - о моей надгробной речи. В тридцать лет от роду я получил высокую честь обратиться к Николаю Робертовичу в минуту прощания. От любимовских артистов объяснился в любви к "самому тридцатилетнему" человеку, без которого наверняка не стала бы "Таганка" таким театром. С мрачной самоуверенностью я заявил, что прочитаю стихи, которые Александр Сергеевич посвятил Николаю Эрдману прямо из XIX века:
Зависеть от царя, зависеть от народа -
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи…
…Вот счастье! вот права…
"ЛИЛЯ - ЛЮБИ МЕНЯ…"
Владимир Маяковский застрелился в апреле 1930 года. Прошли годы, прежде чем Сталин назначил его Главным Поэтом СССР (посмертно). В течение паузы - от пули до знаменитой записки Ежову - судьба имени и сочинений поэта висела на волоске. Что это значит? Это значит, что совершенно реальным было запрещение Маяковского наподобие запрещения Бунина или Ходасевича. Маяковский-сатирик, Маяковский-"попутчик", Маяковский-футурист - все эти данные хорошо годились для скульптурного портрета "злейшего врага социализма". Но минуло пять лет, и от Бреста до Камчатки живо расплодились директивные статуи Великого Пролетарского Глашатая. Лучшие стихи и поэмы задвинули в тень, худшие ввели в хрестоматии, и никого больше не удивляли факты и личные признания, из которых ясно, что наступлению "новой эпохи" поэт посвятил… наступление "на горло собственной песни". Но загадок и чудес не счесть в России. Одна из многих: жизнь и судьба Лили Юрьевны Брик.
На фотографии - миниатюрная, хрупкая, худенькая, узкие губы, большие глаза. Не красавица и не "вамп". Грубо выражаясь - интеллектуалка, и что еще хуже - из московского еврейства. Ее внутренние и внешние качества предоставили широкие возможности для любви, клеветы, восхищения и возмущения - как при жизни, так и после смерти.
Конечно, это чудо, как бы его ни пытались объяснить: оставшись в доме поэта-самоубийцы посреди его драгоценнейшего архива, холодея от приближения "карающего меча", маленькая женщина пишет отчаянное письмо Сталину. Оно попадает в "белокаменные пещеры" Кремля, а оттуда возвращается с резолюцией вождя… В сейфе Лили Юрьевны, на квартире в доме у Москвы-реки, можно было среди личных реликвий увидеть копию сталинского вердикта: "Товарищ Ежов, очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик… Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям - преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Привет! Сталин".
Самообладанию, наверное, нельзя научиться. В 60-е годы эта маленькая, почти высохшая женщина - чем она была так защищена, что не погибла от новых и новых атак бесчеловечного государства? И слева, и справа - сплетни, неопрятная ложь и, наконец, крайняя беда. Референт всесильного Суслова, Воронцов, его соавтор Колосков и директор мраморного музея Маяковского на Лубянке Макаров организовали в 1968 году атаку на Лилю Брик. Софроновский "Огонек" печатает липовые сенсации - статьи "Любовь поэта" и "Смерть поэта", из которых следует, что именно Лиля убила Маяковского. Она и ее (сионистский, разумеется) круг. Семью лишили всех видов заработка. Запрещали восстанавливать выставку "20 лет работы". Объявили приказ о снесении дома в Гендриковом переулке (переулке Маяковского!).
Как восьмидесятилетняя женщина вынесла все это? Не умеем объяснять ни чудес, ни сказок, ни даже древнего дива - чувства собственного достоинства. Вспомните предсмертную записку поэта: "Всем. В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите - это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.
Лиля - люби меня…"
1930 год.
А в 1915 году Маяковский писал (в стихотворении "Лиличка!"):
И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа…
Почему я так близко к сердцу принимаю эту тему? Среди самых ярких даров моей судьбы - семь лет постоянного общения с домом и миром Лили Юрьевны Брик и Василия Абгаровича Катаняна. (Я буду называть Лили Юрьевну Брик так, как было в жизни: "Л.Ю.", "Лиля", "Лили".) В этом доме не было границы между жизнью и искусством. Любой эпизод быта превращался в художественный акт, а имена творцов оживали в веселых подробностях их быта. Малевич, Тышлер, Пиросмани, Пикассо, Хлебников, Луначарский, Мейерхольд, Каменский, Бурлюк, Асеев, Арагон и Триоле - мне кажется, я их не только лицезрел на стенах квартиры или узнавал в устных портретах. Мне кажется, я встречался с ними так же запросто и лично, как с частыми гостями дома "Лили и Васи". Как с К.Симоновым и З.Паперным, с итальянцем Луиджи Ноно и французом Антуаном Витезом, с Б.Слуцким и М.Плисецкой. Весь мир был встревожен судьбой несправедливо осужденного Сергея Параджанова. В доме Лили Брик произошли важные переговоры, затем были приняты решительные меры, и Сергей был освобожден. Сюда приходили из тюрьмы сотни причудливых открыток-коллажей Параджанова. Человек, не способный жить вне искусства, творящий чудеса изо всего, что под руками, - он и соседей по камере незаметно превращал в художников. Какие это были картины! Как бережно держала их в руках Лили Юрьевна, как гордилась ими! И каким пропагандистом талантов была всю жизнь эта мудрая муза поэта, не умевшая носить внешние признаки своих невероятных скорбей. До восьмидесяти шести лет она легко сохраняла безусловное первенство в любой компании - по уму, по глубине познаний, по обширности эстетического опыта, по пленительному дару влюбляться в жизнь, любопытствовать бесконечности ее новостей… "Вы из Москвы? А я на даче уже три дня! Ну расскажите, что в Москве, я совершенно отстала от жизни!" Это говорится и звонко, и наивно, и в шутку, и всерьез. Но в ответ невозможно отбурчаться стереотипом фраз. Излучение творческого тепла было таково, что вы через полчаса ловили себя на странности: оказывается, вы в ответ на вопрос Л.Ю.Б. сочинили совсем недурственный очерк о трехдневных событиях столицы. В очерке были и факты, и вымысел, и едкая ирония, и романтика ваших будней. Говорят: есть люди, возле которых любой чувствует себя интересным, одаренным собеседником…
Однажды со съемок, с Кольского полуострова, я описал Лили Юрьевне свои кинострасти и признался: мол, так соскучился по вечерам в ее доме, что выразить это могу только "высоким штилем":
Мы на гостелюбивейший брег сложим парус, причаливши бриг, остановим обыденный бег, выпьем чару под чарами Брик.
Благосклонной токатою Бах в наших душах воздушно возник.
Тили-тили! Опять на устах тот же звук. Тот же Бог. Та же Брик.
Тили-тили! Митиль и метель,
Фейерверк, Фейер-Бах, Метер-линк.
Жили-были, а жизнь, как мартель, лили-лили к ногам Лили Брик…
Здравствуй, гостелюбивейший брег!
Прочь печали, причаливши бриг.
Мы продолжим счастливейший бег, выпив чару под чарами Брик.
Я потребовал признать: мой стих слабее Хлебникова, но сильнее Крученыха. Л.Ю. согласилась с удовольствием…
По слухам - своевольная, деспотичная. Данные личного общения со слухами не совпадают. Имея друзей и приятелей, избалованный вниманием "таганофилов", я тянулся к дому "Лили и Васи". У Лили Юрьевны всегда было интересно, принимали там запросто, без церемоний, кормили отменно, а уж как расспрашивали… Слаб человек, любит, когда умные люди задают ему вопросы и запоминают ответы - про него, о нем. Нет, я неточно бросил "без церемоний". Церемонии бывали, но они обязательно объяснялись. Когда по Москве бродила эпидемия гриппа, Лиля от порога взывала: "Срочно - в ванную, мойте руки, не жалейте мыла!" И не подойдет ближе трех-четырех метров, пока не очистишься от уличной скверны, пока не отчитаешься - мол, здоров и в эпидемиях не замешан.
А какая славная "церемония" глядела на вас в коридорчике, пока вы освобождались от верхней одежды: особым манером набранные объемные буквы приветливо угрожали: "Если хозяева дома после 11 вечера будут уверять Вас, что они не устали, не верьте им". Надпись была еще более едкой, я припомнил только смысл.
Конечно, с Л.Ю. держаться можно было запросто, но сам собой начинал действовать внутренний контроль. Нельзя говорить избитые банальности, нельзя говорить заумно, усложненно - словом, неестественно для тебя самого. Лиля была "сама естественность". Теперь подсчитываешь подарки семи лет дружбы - и нет им числа. Л.Ю., например, открыла мне интонацию Маяковского, поскольку фантастически владела памятью слова, звука, стиха.
В предисловии к итальянскому изданию своих мемуаров она помянула нашу с ней работу над ранними поэмами Маяковского. Лили Юрьевна читала по моей просьбе стихи и поэмы из первого тома тринадцатитомника Маяковского. Официально этого нельзя было делать: на имя Л.Брик был наложен запрет. Но смелый редактор радио, Грачев, как-то исхитрился вызвать машину звукозаписи к дому Л.Ю. Через всю квартиру пролегли провода. Включили микрофоны Всесоюзного радио, и состоялась запись в так называемый "золотой фонд радио". Через двадцать пять лет можно и послушать.
Актерское ухо трудно обмануть, тем более что в повседневной жизни Л.Ю., так сказать, художественным чтением не увлекалась. Так, как слабым, слегка дрожащим голосом уверенно выводила она музыку труднейших строчек футуриста, мог до нее лишь один человек - сам автор "Облака" и "Флейты". Мы хорошо помучили в тот день бедную Лилю. Назавтра, вместо обычных 12 часов дня, она поднялась, наверно, в 17… Но я знал - не захоти она продолжить чтение, прервала бы. Без церемоний. Но она читала! Массу вещей из обширного тома и часть собственных воспоминаний. Читая "по-маяковски" его знаменитое "Лиличка! Вместо письма", она прервалась на строчке: "…вспомни: за этим окном впервые./Руки твои, исступленный, гладил…" и совершенно по-детски похвасталась (через шестьдесят лет!): "А Володя мне читал тогда - "ноги твои, исступленный, гладил"…" - и продолжала читать. В.А.Катанян, параллельно "фондовой", делал свою, домашнюю запись. По ней я и готовился к чтению на радио двух поэм - "Война и мир" и "Человек".
В 1998-м, читая книгу "Прикосновение к идолам" Василия Васильевича Катаняна, где о Л.Ю. - огромная, богатая глава, я диву давался: сколько попутных деталей высекают из моей памяти эти мемуары ближайшего родственника - "маленького Васьки", как любовно называла Лиля солидного мастера кино.
Итак, детали и ассоциации - извольте мне простить отсутствие всякой связи между ними. Некоторое время мне казалось, что Л.Ю. избегает людей, которые ее воспринимают "в связи с Маяковским". Потом понял, что она лишь в близком кругу могла заявить, например: "Если еще услышу вопрос о Володе от гостя, выгоню! Как мне надоела трепотня о Маяковском". На самом деле ей было комфортно только среди таких собеседников, с кем не надо было спорить о поэте. Из уст таких людей, из уст друзей Маяковского мне повезло услышать истории о поэте. С близким другом Маяковского и Бриков, Львом Гринкругом, мы возвращались из Переделкина, где жила на даче Лили Юрьевна, электричкою в Москву. Я пытал его расспросами о Маяковском. Он рассказал, например, об их совместной поездке в Берлин: "Вот какое большое дитя был Маяковский - обожал игру. Любую игру, хоть на "кто первый появится из-за угла - мужчина или женщина". О бильярде и говорить нечего, как он забывался и пропадал за зеленым сукном. Как-то мы с ним доехали до Берлина, поселились в отеле, спустились из номера вниз перекусить… Мы знали: у нас есть два часа на отдых, дальше нас заберут на литературную беседу, дальше - еще встречи с людьми из газет, с издателем Маликом… А кончилось тем, с чего и началось: спустились перекусить, увидели бильярдную, Маяковский разыгрался, за ним являлись посыльные, он курил и играл, играл и курил… Словом, прямо из бильярдной мы уехали в Москву. А Лилечке, которая в Москве встречала нас, Володя объяснил со смущением: мол, как я мог иначе, партнеры попались такие сильные!.."
…Кстати, Москва и Берлин многократно пересекались в жизни Л.Ю. и В.В. Даже самый печальный документ из архива Лили - из Берлина. 14 апреля 1930 года шли по почте навстречу друг другу - письмо из Амстердама и телеграмма из Москвы в Берлин.
…По дороге к дому пишет весело Маяковскому Л.Ю.: "Амстердам-Москва… Волосик! До чего здорово тут цветы растут! Настоящие коврики - тюльпаны, гиацинты и нарциссы… За что ни возьмешься, все голландское - ужасно неприлично! Сейчас едем в Берлин. Купим Володе трость и коробку сигар".
А в Берлине, в Курфюрстенотеле, еще не распаковав чемоданы, Лили Юрьевна и Осип Максимович Брики получают из рук швейцара телеграмму от Льва Гринкруга: "Segodnia utrom Volodia pokontchil soboi"…
…На обсуждении таганковского спектакля "Послушайте!" Л.Ю. поразила всех. Больше сотни пунктов предъявили Любимову: меняйте, вставляйте новые номера, чтоб наш пролетарский поэт не остался вашим нытиком-интеллигентиком, а одна дама из Министерства культуры (как вспоминал З.Паперный) так разгневалась, что завизжала поросенком: "Вы нам испортили Маяковского… и вообще, у вас выходит, что Маяковский… застрелился!"…
На публичном обсуждении полагалось для начальников и стукачей в зале говорить особые "маскировочные" речи: неприятный для чиновников восторг обряжать в сладкие советские фантики. В.Б.Шкловский обратился к Л.Ю. и припомнил пацифизм поэта 1914 года. Михаил Анчаров, наговорив дивных комплиментов, завершил речь всем понятной метафорой: "Если б я был беспартийным, после такой постановки я бы записался в партию". А Лиля Юрьевна вышла, встала перед гостями и актерами, покачала головой, всхлипнула и махнула рукой: "Закроют! Закроют!" и села на место. Хотела помочь, но не сумела скрыть натуральных чувств.
Помню, мы вышли после прогона спектакля, стоим на улице: Виктор Шкловский и Александр Моисеевич Марьямов уверяют меня, что все кончится хорошо. Во всяком случае, лучше, чем у Маяковского. Весело. Тут Шкловский говорит: "Видите, я с палкой? Стараюсь не расставаться. Нет, не для боя с врагами, а в память о Маяковском. Я был с Володей на последнем его вечере, со студентами. Мы вышли на улицу, он - в отчаянном настроении. Гляжу на него - совсем скверно: лицо побелело. "Витя, - говорит, - я свою палку забыл". Я испугался и быстро принес его трость. Дело не в ней. Он никогда ничего не забывал. Значит, понял, что это - дурная примета…"
Тогда, в 1967 году, на премьере "Послушайте!" нам сказали, что и Кирсанов, и Шкловский впервые за три десятилетия так тесно, дружно и нежно общались с Лилей… Что были причины для глубокой размолвки, что перед гибелью поэта оба его друга неверно себя вели, не разгадали, не предчувствовали, не помогли… Виктор Шкловский, плотный, коренастый, зоркий и всегда при улыбке то ли сарказма, то ли язвительной иронии, - он был явно рад такому спектаклю и такому духу Маяковского. В "Известиях" вышла его хвалебная статья о премьере. Интересная подробность: ни он, ни другие поклонники спектакля не знали имени того, кто придумал блестящую версию "Юбилейного": разбить монолог ("Александр Сергеевич, разрешите представиться - Маяковский…") на пятерых актеров, превратить стихи в мини-пьесу, где сразу появились и юмор, и лирика, и патетика, и что хотите… Восторги в зале, азарт на сцене и громкая хвала Виктора Шкловского в газете… Так вот: придумал это и разбил монолог на "пятилог" Петр Фоменко, в те времена еще работавший на "Таганке".
…Лиля услышала (в 1972 году), что самый сильный, влиятельный для меня режиссер - не Эфрос и не Любимов, которых я обожал "во вторую очередь", - а Петр Фоменко, и воскликнула: "Да он был у меня! Он такой умный, такой талантливый - каждым своим словом, жестом! Знаете, что он натворил в Ленинграде? Он придумал такую "Мистерию-буфф" в Театре Ленсовета, что в скучнейший театр повалил зритель: моментально были счастливы все зрители, а дураки испугались, спектакль запретили, а Фоменко получил совсем уж редкий подарок… Тамошний партийный вождь Толстиков запретил ему въезд в город… Еще бы шаг, и режиссера за настоящего Маяковского сослали бы, как бедного Бродского…"
В 1971 году я снял свою фантазию о поэте Н.Некрасове на Центральном телевидении. Раздался звонок в моем доме, назавтра после показа передачи: говорила Лили Юрьевна, обращалась почтительно, объявила о своем удовольствии увидеть в моей работе такое отношение и к стихам, и к личности Николая Алексеевича… Очень понравились ей Леня Филатов в роли поэта и Наташа Сайко в роли Панаевой… Л.Ю. сослалась на особую склонность В.В. к Некрасову… Теперь мне кажется, что важное здесь заключалось еще и в сходстве "по шкале сплетен": и о Панаевых-Некрасове болтали в свое время, как о Бриках-Маяковском. Никогда уже нам не понять житейских, а не книжных правил благородства и товарищества Панаевых-Некрасова, не понять и бессрочной, всежизненной триады Бриков и Маяковского.
Из дневника 1973 года.
На любой вопрос охотно и звонко отвечает Лили Юрьевна, а о жизни втроем - сперва улыбнется и кивнет, а потом скажет: "…да просто не могли, не хотели жить врозь! У Осипа Максимовича была своя дама, у Володи - своя, наша совместная жизнь прошла раньше, но мы решили не расставаться и не расставались, и очень интересно шла жизнь… Володя приносил мне свои стихи, чтобы я знаки препинания ему расставила (он их не уважал); Осип Максимович был его первый и любимый редактор… В Гендриковом переулке сходились вниз завтракать, каждый из своей комнаты… Володя - раньше всех… Он очень любил слушать Осип-Максимыча, как тот говорит об искусстве, об истории… Сидит внизу и так жалобно просит: "Ну Ося, ну идите ко мне, ну расскажите еще о сороковатых годах!"
…Из памятных признаний Лили о "любовном треугольнике": "Знаете, дуракам завидно, вот они и лезут в чужую жизнь, а я всегда любила одного! (Пауза.) Одного… Осю, одного… Володю, одного… Примакова и одного… Ваську!.." Смеются все - и она, и гости, и сам "Васька" - Василий Абгарович Катанян, писатель, литературовед и интеллигентнейший хозяин дома…
Тогда, после звонка Л.Ю., я передал привет от нее молодому актеру Филатову. Леня обрадовался и забросал меня кучей информации - о Лиле, об Арагоне, о смерти Эльзы Триоле, об издевательствах властей. По его словам выходило, что Лиля должна была остаться в Париже после похорон сестры. Я немедленно переслал его поклон по адресу, заодно озадачил Л.Ю.: зачем, мол, вы вернулись в Москву? Лиля ответила очень серьезно: "Правда, жить там легче и спокойней, но… Знаете, что я вам скажу? Когда я представила, что теперь до конца жизни не услышу под окнами утром безобразных криков грузчиков (во двор выходили двери склада знаменитого магазина "Сантехника") и что зимой и летом буду просыпаться под звуки французской вежливости - мне стало страшно…" Это объяснение Л.Ю. снабдила хорошей дозой "московского сленга", чем окончательно убедила окружающих, что жить и умереть необходимо на "земле по имени Москва".
- Расскажите, пожалуйста, новый анекдот. Не знаете? Ах, вы стесняетесь. Ну тогда, для разгона… (с улыбкой произносятся основные термины "низкой речи", и ты с легкостью докладываешь пряный анекдот).
Из дневника 1973 года.
1 мая. После "Антимиров" - к Лили Юр. Брик. Очаровательно, просто и, как говорится, содержательно. Желаю всем блистательным критикам Лили к трем четвертям ее возраста иметь хотя бы половину ее заразительности, юмора и озорства, бабьего таланта и мужской самоутвержденности. Выпили, не умолкая. Затем Л.Ю. и В.А. наперебой упропагандировали французским поэтом, создателем цветного фото, граммофона и т. д. - Шарлем Кро. В ейном переводе и в ёном исполнении - очень потешно и небесперспективно. И Абгарыча рассказы удивили хохмацкой разнузданностью.
5 июня. У Л.Ю. с Зархи и с Плучеками. Я один/пью джин./А затем, как подонок,/доливаю к джину тоник./Там, Европою обучен,/расхвалился Валя Плучек./Из эпохи керосина и аверченских подлюг,/за "Вечеркой" его Зина,/лучше всех его подруг./И над ветхою бумажкой - где партсъездовский архив/ - накренился старикашка,/зам. Толстого - А.Зархи.
Зина, кажется, мучительно ерзая от нашего присутствия, сбегла к соседке - Т.В.Ивановой, а мы все пили-ели, а В.А. записал на новый кассетный "маг" всехние голоса и хохота. Полумило, полупрохладно ушли, как были, на станцию Москва. С Лилею и Васею было бы моложе…
28 сентября. Алма-Ата. После спектакля - смотрю телевизор. Малый театр, кусок архаического "Пигмалиона". Милая Костуся Роек. Глупый, старомодный Царев. Абсолютный Владиславский. И превосходная Турчанинова. Искал след, хоть звук неправды… У всех пестро, а у нее - всюду жизнь! Артистка. Чего там Станиславскому делать, если всё - правда, каждый миг. Между прочим, великий ее московский говор, дивная речь, это - если закрыть глаза - абсолютно законченная Лили Юрьевна Брик.
16 октября. Вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские. Лиля Юрьевна 40 минут сказывала, как в 1912-м, бо 13-м годах с Осип-Максимычем ездили по Узбекистану и - в восторгах от чадров и экзоса. "Жаль, что вы глухой, есть о чем поговорить…" Любимая байка Лили о беседе мальчика с лошадью.
13 ноября. Прекрасный с Сашкой Найвельтом вылазок в Литмузей на "20 лет работы Маяковского". Беседа с Лили Юрьевной. Она: "А я получила итальянскую Антологию Маяковского. Предисловие - интервью со мной, где написано: поэму "Человек" готовил артист с "Таганки" Вениамин Смехов, с которым мы дома уточняли ударения и проч. Вы не обижаетесь на меня?" Я сказал, что, мол, дескать, отнюдь наоборот.
14 декабря. Лили Юрьевна на "Бенефисе". Потом милый вечер у нее. Я пью водку и пиво, едим всячину-сертификатчину. Л.Ю., как всегда: "Я жутко хочу жрать". Спектакль понравился, все отлично. Славина - хороша, Глумов - хорош, Бальзаминов - тоже. "И эти два еврея, которые Глумова облизывают, - хороши" (Мамаев-Городулин).
1974 год.
1 февраля. Звонок: "Веня, это Лили Юрьевна. Здрасте. Как Аллочка, как дети? У нас терпимо. Руки болят - но об этом нечего и говорить. Это уже до конца. Веня, милый, нельзя ли внука приемной дочери Владим Владимыча на "Час пик" или "Послушайте!" или что у вас в ближайшие…"
20 февраля. Бездарно записавши на радио стихи Недогонова, еду на трассу Генсека Брежнева. То есть мы с женою были у Лили./Ели-пили. С Гринкругом говорили./Себя обогатили./Потом читал Василий. Качал давленье Лили./Диэту обсудили. Дитям моим кадили./Друг дружку посмешили. Нам книжку подарили/(про "20 лет работы")./И вовсе без охоты/и даже вне зевоты/в 2 ночи уходили/от этой славной Лили.
11 марта. У Лили - шестьдесят минут В.В.Катанян с женой Инной, шоколад горячий со сливками, сбитыми с толку. Сосиски из "Березки" (спасибо Арагону), беседы за жизнь…
18 марта. "Фредерик Моро" вышел, телелюбители поздравляют… Свободин, Юрский, Паперный! Богуславский!! Сидур, Денисов, Л.Брик ("Даже встала в 9 утра! Кофе напилась, а Вася так и спал, болен был. Гюстав Флобер скучен, но вы молодец, поставили очень интересно, Семенов хорош, Филатов не так, как в вашем "Некрасове", - зубов много, мешает глядеть. Не люблю Флобера. Скучный, как и Лев Николаич…").
31 марта. У Л.Ю.Брик и В.А.Катаняна плюс гости Богуславские: читаю россказни. Чудесный настрой. "Зям-полит" Паперный псевдосмущенным вариантом эрудиции, вооруженной великолепным юмором, - держит всех на уровне. Лили - царица. Только я, нахалюга, поползновею ей перечить или перебивать - с обязательной при том же лейттемой пиетета и любви. Л.Ю.: неподражаемая женская стихия, органическое эгоцентрическое миропонимание, уникальные качества доброты, резкости, отбора и проч. Кристальная ясность ума в восемьдесят два года, голова - библиотека поэзии и истории… И "прощальное" московское просторечие, речь - что речка…
10 фот от Лили плюс 5 книг с надписями (в числе - "20 лет работы"!!! и "Флейта" из Франкфурта!!!!!!!).
14 апреля. "Послушайте!" с нервом за билеты Лиле и Васе. Второй ряд - четыре места - со шведом Бенгтом и американкой. Тут же Ф.Абрамов. Нервы всех. Мигальщик-шеф. Напряженка обернулась отличным спектаклем. И Славина очень хорошо прочла в конце - Пастернака. Вот и Христос воскрес, и Маяковский ожил в день гибели, и его неоднозначная Муза пила холодную воду, отходя от потрясений. Потом В.Плотников снял нас на память: Лилю, Васю, шведа, американку, Золотухина и меня.
12 мая. Едем к Лили Юрьевне в Переделкино от гостиницы "Украина" с Гринкругом и Васей с Инной. До этого - стихи П.Антокольского на радио. Переделкино - шквал ароматов, уют, лоскутные занавески, новая книжка в коже - Арагон, клубника, водка на смород-листе и беседы на душистой веранде. Милая, неизменная, независимая вождь-человек Лиля. Очень хорошо. Домой с Л.А.Гринкругом, восемьдесят четыре года и бездна памяти.
25 августа. В Переделкино - опаздываем, молим прощения у Лили-Васи. Вечер на прохладной веранде с Васями, Инной, Лилей и милой Луэллой - приемной дочерью Л.Ю. и В.В. из Ленинграда. Наслаждались взбитыми Васей маленьким - муссом с желтком и "моголем" с белком.
Лиля подарила остроумную книгу художника Ковенчука "Клоп".
16 сентября. Вечером, покормив детей, - к Лили Юрьевне Брик. Василий Абгарович у двери, деликатная манера, хитро-добрая усмешка. Обнимки: с Зямой Паперным и вечным Львом Гринкругом. Лили не в самочувствии. Все же мы ея развеселили (раз, веси-Лили). Потом - о детях (наши фоты), кого больше любят, и Лиля - о маме, которая любила ее явно больше, но Эльзу - тоже, конечно… Потом Зяма: о разгрузке капусты Институтом мировой литературы… и сколько стоит эта халтура народному хозяйству…
Потом читали "День поэзии". Я зачел Глазкова (Лиля очень радовалась), Слуцкого (переживали), Левитанского (одобрили), Грибачева (все ясно), ну и агитпроп-дуэт с Паперным за Дэзика Самойлова. И то, что нам так мило в нем - верность пушкинскому следу, неизменность слога и души, - она с другого боку выразила словом "старье"… Паперный подарил нам две книжки. Составляется "Паперниада". Шутили, пили, Зяма мягко рубанул по К.Симонову, Лиля непреклонно отстаивает отстаивателя выставки "20 лет работы". 1 час ночи. Недоловив такси - в метро, на Ногина разошлись.
…Мы гуляем в Переделкине по улице Павленко, где по левую руку - поле с кладбищем и патриаршей церковью, а по правую - дачи И.Штока, Л.Ю.Брик, Т.В.Ивановой, Б.Л.Пастернака, К.А.Федина… С дальней террасы, со второго этажа Лилю приветствует сам председатель Союза писателей: рука козырьком помогает взору стремиться в светлую даль, поклон головы не поколебал "козырька", Федин продолжает гордо глядеть в будущее подчиненной ему литературы.
Л.Ю.: "Когда Федин занял эту дачу, он уже был таким, как теперь, а не таким, как раньше. Словом, никаким "Серапионам" не брат… И вот в первое или второе утро новой жизни вышел он на этот же балкон, руку поднял так же, как сегодня, для обзора, вдруг видит ужасную вещь. Оказывается, прямо у его забора, на тропинке кто-то вывел слово из трех букв. Конечно, слово сровняли с землей. Назавтра он смотрит: опять это слово торчит перед ним. Началось расследование. Виновника не нашли. Выгнали, кажется, безвинного завхоза Дома творчества. А новый сразу делом занялся: залил нашу дорожку асфальтом, так что Костя Федин хорошо стал по утрам себя чувствовать. Но поклонники все-таки удивили его подарком. Знаете каким? На том же месте, глубоко в асфальте художественно нарисовали уже из пяти букв нецензурное слово… (подумала, подумала, но все же решила уточнить для меня)… Знаете: начинается на "пэ", а кончается на "зда"?"
Проходим дачу Пастернака. Лили Юрьевна заговаривает на тему любимовского "Гамлета". Не в первый раз огорчается, что я ей в роли Клавдия не понравился. Я не обижаюсь, объясняю, что хотелось в этой роли сыграть. Показываю: вот такой замотанный, зачуханный король, все надо успеть, за всеми уследить, не упустить того-то и того-то… И сопровождаю показ одним нервным жестом: заголяю рукав, гляжу на часы. Л.Ю. останавливается: "Ну что же вы, Веня! Так бы и сыграли, как показали с часами! Нельзя было? Ну да, не реально… А знаете, я думаю, никто из вас не виноват: очень тяжелый текст! Когда Борис Леонидович дал мне прочесть свой перевод Шекспира (а он блестяще владел немецким, он вообще был великий знаток Германии), то я ему сказала: "Боря, я прочла по-русски, но мне все казалось, что ты перевел с английского на немецкий"… И не скажу, что это его обидело… Да, трудный текст!"
Помню, она позвонила и позвала в Дом кино на просмотр отреставрированного фильма "Барышня и хулиган". Над восстановлением работал С.Юткевич, музыку писал композитор "Таганки" Юрий Буцко. Я пойти не смог, но вечером, после спектакля, позвонил Л.Ю. и спросил о фильме. Лиля кого-то отругала за глупые слова, кого-то еще за что-то, а потом пошла хвалить музыку ("Правда? Буцко к "Гамлету" писал музыку? Надо будет еще пойти"). А о главном актере фильма - Маяковском - высказалась коротко: "Это Володя! Это он! Немыслимо он!"
Л.Ю. помогла так сделать, чтобы фильм был показан в школе им. Маяковского у директора Семена Богуславского. И опять пришла, и поднялась пешком на высокий пятый этаж, куда ей никак нельзя было - с больным сердцем и восьмидесяти пяти лет от роду. А я сидел между Лилей и Юрой Буцко, ужасно гордясь, как будто был свахой: еще один блестящий сочинитель влюбился в Лилю ответной любовью. Любовь была обязательной частью программы - к искусству, к Маяковскому и, разумеется, к Лиличке.
Когда мы ехали в Переделкино с Зямой Паперным, литературоведом и выдумщиком, он удивил меня двумя вещами. Во-первых, формулой образа Лили: "Лили Брик - женщина, которая посвятила всю жизнь своей личной жизни". А во-вторых, как будто вопреки формуле, застенчивостью и "кавалерством": он привез хозяйке дома… гигантский узбекский помидор. Объяснил: к Лиле надо являться "не просто так".
Всегда была проблема и всегда успешно решалась - кому везти Л.Ю. - в театр, в Переделкино, на вернисаж. Недалеко от дома Лили и Васи, на Кутузовском - таксопарк. И оттуда, по аккуратной договоренности, прибывали двое водителей: "четного" звали не помню как, а "нечетного" - Федор Евгеньевич. Завезя супругов домой, он и меня пару раз доставлял в театр. Мне было любопытно - понимает ли он, кому помогает? Конечно, понимал. Без затей, без пафоса: "Лиля Юрьевна была женой Маяковского, кто же не знает? Бывают пассажиры - важные, едут молчком. А с ними ехать хорошо: они меня расспросят, я - их. Очень хорошая пара!" Понимал ли, что служит "врагам советской власти"? По-своему, но чувствовал: "Там такая кутерьма поднималась, все из "ЦК" на Лилю Юрьевну как звери сорвались…"
Кстати о "школе Маяковского". Вот времена! Семен Богуславский доблестно трудился, чтобы детям учиться было интересно, старался избегать советских стереотипов в методике. Дети много лет творили школьный музей - там были стихи и документы поэтов войны (к сверстникам которых относился и их директор - фронтовик и стихотворец), ну, а главное: создали богатейшую коллекцию книг, автографов, реликвий, связанных с именем В.В.Маяковского. Городские чиновники насмерть держали оборону: не хотели присвоить школе № 79 имени поэта. Годами текли письма от детей и родителей: "Ну, уважьте героизм юного поколения, ну, присвойте имя, пожалуйста!" - "Нельзя, - отвечали в министерствах и райкомах, - нельзя!" - "Ну как же, - взывали к ним новые просители, - на вечерах и выставках школы бывают такие люди, как Л.Брик, Луи Арагон, Л.Кассиль, поэты, певцы, барды, друзья Маяковского!" - "Нельзя, - строго хмурились боссы, - Маяковский ведь не бывал у вас сам - хотите, назовите школу именем Кассиля, разрешим".
…В 1975 году в Париже проходила выставка, посвященная Маяковскому и его времени. Я получил от Лили роскошный сюрприз: красивый конверт, красивые марки, а внутри и вовсе праздник - памятная сувенирная открытка с приглашением посетить выставку. Фотомонтаж А.Родченко - портрет Маяковского с земным шаром вместо шляпы. Красота. А среди латинского шрифта так и прыгают русские буквы: "Да!! Приходите! Обязательно!! Мы вас ждем!! Ваша Лили. Ваш Вася".
Первое следствие парижского визита Лили и Васи: в Москву прилетели какие-то совершенно мифологические "ив-сен-лораны". Я их, правда, так и не увидел, но помню свое изумление.
- Какие такие ив-сен-лораны? Это же фирма! Известная!
- Ну да, и эта фирма влюбилась в Лиличку! - объяснил Василий Абгарович.
- Что влюбилась, я понимаю. Все нормальные люди обязаны влюбляться в Лиличку.
- Скорее, ненормальные, - поправила уверенно Лили.
- Но это же фирма!
- Веня, вы чудак. Ив Сен-Лоран - это фирма, которую делают художники. И они влюбились. И прилетели к нам, наведались.
- А сколько их?
- Двое.
- И оба Ив Сен-Лораны?
- Оба два!
- Теперь понял.
Второе следствие поездки Л.Ю. я обнаружил в самом Париже, куда чудом занесло Театр на Таганке на гастроли в 1977 году. Месяц в Париже - карусель лиц, домов, гульбы, счастья. И незабываемый вечер у слависта, артиста, коммуниста - словом, ученого-авантюриста Клода Фриу. Смотрю телефильм "Маяковский". В Париже. По парижскому телевизору. Вместе с Аллой Демидовой. Смотрим: снято о "нашем" Маяковском и красиво, и умно. Контекст времени в увлекательном монтаже - живопись, политика, музыка, графика первой четверти XX века. Лица и творения друзей Маяковского и Бриков: Пикассо, Тышлер, Шостакович, Татлин, Прокофьев, Мейерхольд… Сухо и чеканно произносит стихи Маяковского режиссер Антуан Витез. Горячо разъясняет оригинальность поэта Клод Фриу. И вдруг - Лили Брик. В Париже, на телевидении - и говорит на чистом французском, рассказывает о первом потрясении ее и Осипа Брика, когда Маяковский прочел "Облако в штанах". Она говорит, а я перевожу. "Ты что, французский знаешь?" - спрашивает меня Клод Фриу. "Нет, я эту историю знаю", - гордо отвечаю, по-русски, разумеется.
Помню ужин у "Лили и Васи". Звонит телефон, Лиля надолго уходит в звонкую французскую речь. Оказалось - Луи Арагон на проводе, у него сегодня день рождения. И ужин в Москве посвящен ему в Париже. Лиля в конце беседы призывает всех, кто за столом, чокнуться с трубкой, чтобы Луи услыхал…
О Шкловском. Где-то в 1976 году мой папа прочитал в газете, что Виктор Шкловский пишет сценарий для фильма "Дон Кихот". Срочно звонит мне: "Веня, нельзя ждать с неба даров. Ты всю жизнь мечтаешь сыграть Дон Кихота. Позвони сам Шкловскому, предложи ему…" Папа хотел мне самого лучшего, поэтому я поступил против правил: позвонил. Но не Шкловскому, а Лили Юрьевне Брик. С извинениями. Но для Л.Ю. это было желанным делом - творить помощь. Особенно - в искусстве. Срочно позвонила Шкловскому, срочно отзвонила мне: "Витя сожалеет, но это советско-испанский проект, Витя не смеет ничего решать, тем более выбор актера на Дон Кихота уже сделан. Я ему твердо сказала - попробуй. Он обещал, но очень не уверен. Жалко! Мне жалко". А мне было стыдно, но весело.
Среди подарков от Л.Ю. - знакомства с теми, кто был близок ее дому: с Ю.Добровольской, с ярким, веселым великаном Бенгтом Янгфельдом (славист из Стокгольма, создал уникальный сборник о Л.Ю. и В.В., где были и любовная переписка обоих, и обширные комментарии), с Ритой Райт, с Сергеем Параджановым, с Майей Плисецкой и Родионом Щедриным… Совсем не балетоман, я услыхал от Лили, что ее обожаемая балерина гениально танцует Кармен "на совершенно сказочную музыку Робика и Бизе". Л.Ю. заказала у Майи билеты. Спектакль действительно поразил. И музыка, и Майя, и декорации Б.Мессерера - все было незабываемо в "Кармен-сюите" Большого театра. До сих пор храню подарок Лили Юрьевны - конверт театра с билетами и надписью балерины.
Надолго продлилась дружба с Лили Дени, знаменитой переводчицей из Парижа. Весной 1977 года в доме Л.Ю.Брик мы встретились для работы над переводом текста "Послушайте!" - к гастролям "Таганки" во Франции. И через 23 года, в декабре 2000-го, Лили Дени сделала перевод моей пьесы "Две сестры", которую я поставил в Марселе. Но теперь Л.Ю. из хозяйки своего дома превратилась в главную героиню спектакля - о ней с Маяковским и об Эльзе Триоле с Арагоном.
У Лили я познакомился и подружился с семьей Варшавских. Вдову известного писателя Ильи Варшавского - Луэллу Александровну, которая в 1995 году стала героиней одной из телепередач "Театр моей памяти", Л.Брик представила мне когда-то как женщину необычайной биографии. Боже, чего только не переплелось в рассказе Лили о ее любимой "Лушеньке"…
Луша - неземной красоты девочка - у окошка на Лубянке. Папу, А.М.Краснощекова, Сталин посадил, в порядке личной ненависти - к бывшему "президенту Дальневосточной республики". Лили Юрьевна, вследствие своего романа с папой, начинает помогать дочке. В результате красавица Луша становится приемной дочерью "всех троих": Лили, Осипа Брика и Маяковского. И все трое переселяются в Сокольники, о чем хорошо известно миллионам любителей литературы, но почему Брики и Маяковский выбрали этот адрес? А потому, что девочка Луша хотела заниматься биологией, но в Москве только в Сокольниках была подходящая биостанция.
Луша с В.В. в Крыму. Луша фотографирует всех троих (знаменитый снимок Лили, Оси, Володи - 1929 года).
Луша-красавица едет в Питер. В нее влюблен "Кассильчик", как звали писателя и В.В., и Л.Ю… Он делает ей предложение, оставляет Лушу в доме у своих друзей, сам несется на вокзал - взять билеты в Москву, в двойное купе, поскольку "уже решено жениться". Луша в доме друзей получает немедленное предложение руки и сердца от писателя Ильи Варшавского. Друзья голосуют "за". Луша дает согласие. Прибывает Кассиль, выбрасывает "прокисшие билеты" и тоже пьет шампанское - в честь молодых.
У Луши - гениальный сын Витя: математик, ученый, говорит на всех языках и профессор - прямо с пеленок… Впоследствии в моей передаче сама Луша скорректировала детали своей легенды, а я все равно помню веселое вдохновение Лили - в пользу необычайности "приемной дочки - неземной красоты".
К книге В.В.Катаняна "Прикосновение к идолам" у меня только одно персональное замечание, одна поправка. В главе, где водопадом льются имена и дружбы Лили: Шагал, Неруда, Пикассо, Ив Сен-Лоран, Леже, Пастернак, Слуцкий, Симонов, Симона Синьоре, Ив Монтан, - сказано, что Лиля и Вася были на каждом представлении спектакля "Гарольд и Мод", где играли Мадлен Рено и Жан-Луи Барро. Москва ломилась в здание на Тверской, когда во МХАТе гастролировала парижская труппа "Рено-Барро". Поправка такая: на один вечер Лиля свои билеты отдала мне. И я видел потрясающий спектакль, и явился за кулисы после оваций - поздравить несравненную артистку, и вручил ей гигантский букет роз - от Лили Юрьевны.
Год спустя Жан-Луи Барро посетил "Таганку", и после нашего "Тартюфа" мы беседовали с ним - уже "как старые знакомые". Имя Лили было таким паролем, с которым можно было смело дерзить даже великому маэстро. И я надерзил. На восторги Барро наложил свое "не верю". Мол, как вам мог понравиться любимовский Мольер, вы же, мол, оттуда, с его родины! А Барро мне ("как старому другу"): "Мол, простите меня, но я не соврал! я действительно счастлив и очень даже хохотал! потому что на родине Мольера его комедии играются так архаично и так скучно, просто ужас! а у вас столько огня, юмора, фантазии! и если русская публика хохочет на Мольере - значит, какая разница, где он родился, если у вас в Москве он живет! так что, извините, но я, мол, не соврал…" И мы вместе провели вечер у французского атташе по культуре (с которым нас, правда, связывала хорошая дружба) - у Степана Татищева, и исполнитель роли Тартюфа, актер Сева Соболев, между выпивкой и закуской, помогал соединять наши языки - "французский с нижегородским".
…Иногда я бывал в Переделкине у Л.Ю. со своими детьми. Мою старшую дочь Лену Лиля и Вася очень любили, говорили с ней как-то особенно, будто вне связи с папой и мамой. Тем более что Лена училась в той самой школе Богуславского и, конечно, активно работала в музее Маяковского. Алику, младшую, Л.Ю. называла с четырех лет на "вы", и склонять ее имя на женский лад отказывалась: "Веня, мои приветы вашим всем! И Аллочке, и Леночке, и Алику!.." Алика была Лили Юрьевне непонятна: отдельный человек в 6-7-8 лет - глядит остро, говорит редко, не скрывает, что ей скучно со взрослыми. Посидела за столом, все, что ей надо, съела, всех, кого надо, разглядела, просит Василия Абгаровича: "Можно я у вас погуляю?". Милый хозяин дома успокоил мой отцовский нерв, ушел "гулять" вдвоем с Аликой - в свой кабинет. Картины, книги по искусству, масса захватывающих вещей из разных стран и времен. Возвращаются. Вася дал Алике блокнот и фломастеры (из Франции!). Алика усаживается в стороне от взрослых и создает шедевры детских фантазий. Лиля оценила художественный дар девочки, спросила (на "вы"!) разрешения и оставила себе на память рисунки-экспромты.
Алика же, когда впервые разглядела Л.Ю. вблизи (восемьдесят два года, сухонькая, некрасивая, вся загримированная), дома воскликнула: "Папа! Она очень интересная женщина! Красавица!" Я удивился. Она подумала и уточнила: "Какие глаза!" Это - правда. Теперь же моя младшая (и вполне тридцатилетняя) припомнила: приехали мы с ней в Переделкино. Все за стол. Какие-то прибыли вместе с Васей маленьким и Инной неслыханные расстегаи. Едим, похваливаем. Тут Лили Юрьевна обращается к нам: давайте свои тарелки суповые, я вам налью бульон… этот бульон я делала вот этими руками. У Алики в детской памяти - как она увидела "эти руки", как ей стало не по себе… А у меня в памяти - как Лиля учит нас бульон приправлять лимоном, выжимая из него живой сок… У Лили я познакомился и с разными сортами сыра, с рокфором в старинной вазе под стеклянным колпаком ("откроешь - вонища на весь дом, но ведь вкусен, мерзавец"), и со спагетти, и с бельгийским белым шоколадом. А еще - с чаем фирмы "Помпадур". Теперь-то он - на каждом углу и у нас. А тогда был в новинку. Фруктовый чай, пакетик растворяешь и вдыхаешь аромат полуживого шиповника. Не чай, а рай. Л.Ю. смеялась: "Все с ума там сошли, кричат, что он лечит от всех болезней. Пропьешь 200 пакетов - и здоров до самой смерти. Людям нужен новый пенициллин! Маяковского тоже сделали пенициллином…"
Там же, на даче Лили и Васи, состоялась печальная нелепость. Моя первая жена, Алла, читает гороскоп. Лиля Юрьевна прерывает чтение: не надо, я не люблю гаданий, я не верю этой чепухе. Алла все равно читает, доходит до Скорпиона (знака Лили)… И вдруг - откуда в этой газете взяли такое? - читает… что под этим знаком родившаяся женщина имеет особые таланты в искусстве, а также в умении овладевать сердцем творческой личности… И что со Скорпионами-женщинами надо быть настороже, ибо их влияние иногда заканчивается самоубийством избранника… Кое-как я перебил последующую тягостную паузу, перевел разговор на веселую тему.
В кругу личных знакомых я числился… миротворцем. Например, не любил, когда говорили: "мне Высоцкий нравится больше, чем Окуджава", "люблю Галича гораздо больше, чем Визбора", "Вознесенский лучше Евтушенко" и т. д. Как будто речь идет о футбольных командах. Любишь свое "Динамо", ну и люби, а я - за "Спартак", допустим. И когда Лили Юрьевна, дружившая с Вознесенским, мимоходом назвала Е.Евтушенко "балаболкой", я отозвался с уважением и к тому, и к другому. Оба играли важные роли в компании друзей нашего театра. Кроме того, в 1971 году я режиссировал несколько эпизодов в евтушенковском спектакле "Под кожей статуи Свободы". Конечно, в кругу коллег-любимовцев мы острили по адресу обоих поэтов. Они столь ярко выделялись стихами, стилем поведения, поступками, политичностью и, главное, фасонами своих одежд, что грех было не поиронизировать. Даже название спектакля приглашало к юмору: кой черт понес его под кожу к чужой Свободе? Высоцкий, например, на таганских вечерах дурацким голосом восклицал: "Посвящаю Евту-шутку - Евту-Женьке!" А я острил так: "Чем больше Евту-шенщину мы любим, тем больше нравимся мы ей!" Но Лили Юрьевне я возражал без юмора… Как хороши его такие-то стихи. Как в несчастной Праге, после наших танков 68-го года, бережно хранят память о стихах поэта - "танки идут по Праге, танки идут по правде"…
Послушала меня Л.Ю. и вдруг говорит: "А у меня был с ним, между прочим, хороший диалог. Шел в Доме литераторов кому-то посвященный вечер. Я присела в последнем ряду, возле двери, чтобы проще было уйти, если что, а тут, с опозданием, тихо входит Евтушенко. Мест нет, он так и остался стоять у двери. Пока там, на сцене, какая-то пауза, он наклонился, вежливо поздоровался и шепнул мне: "Я знаю, что вы меня не любите". Я ему на это: "Это неправда. Мне кажется, вы похожи на провинциального трагика". И он мне сразу ответил: "Вы правы, Лили Юрьевна. Россия - большая провинция с трагической судьбой, поэтому я - провинциальный трагик". Вы знаете, он мне очень понравился таким ответом!.."
Давид Черкасский (ныне знаменитый режиссер кино) снял мультфильм "Мистерия-буфф". Фильм был здорово сделан, богато по жанру, музыке, живописи, остроумно и "клоунадно". Его надо было озвучить. Михаил Давыдович Вольпин посоветовал неопытному тогда Давиду обратиться ко мне. И Эрдман, и Вольпин после моих трудов к спектаклю Ю.Любимова о Маяковском поверили в мое "маякознание". Я завербовал наших актеров, и состоялась веселая запись голосов для мультфильма. О чем я и сообщил Лиле и Васе, добавив, что не знаю, почему "Мистерию" запретили в Москве. "А я знаю, - ответила Лили. - Она в Киеве произвела фурор, в Москве ее дали посмотреть Юткевичу, и Юткевич резко отозвался. А Юткевич, вы знаете, Веня, очень влиятельная фигура". Меня тогда серьезно разозлил такой произвол: огромная работа, оригинальное прочтение, успех среди коллег "по месту прописки" режиссера в Киеве, и вдруг так его прихлопнуть, как муху… Я поделился с Л.Ю. сомнениями. Может быть, не стоило мастеру Юткевичу единолично решать вкусовые проблемы на тему Маяковского, если его собственная киноверсия "Бани" была, скажем, не самым большим вкладом в искусство? По стечению обстоятельств, кстати, именно об этом скучном (для меня) фильме я написал первую в жизни газетную заметку - в 1962 году, в Куйбышеве. Первая в жизни публикация - в "Волжском комсомольце" под кокетливым псевдонимом "С.Абакин"…
С грустью вспоминаю последнюю встречу с С.Юткевичем. Лето 1983 года. За кулисами кинотеатра "Горизонт" мы оба готовимся выйти на сцену. Девяностолетие Маяковского. О чем мы говорим? О Любимове (он в Лондоне ставит Достоевского). О надписи Юткевича на стене кабинета Ю.П.: "Юра! Не зря мы с тобой восемь лет плясали в органах!" Но более всего - о Лили Юрьевне, которой нет на свете пять лет. Я радую мэтра рассказом о реакции Л.Ю. на возрожденный им фильм "Барышня и хулиган" (после нашего выступления его будут показывать залу). Он мне - о встречах с Лилей и Маяковским, о Якобсоне и Бурлюке, о Пастернаке и Асееве. И Лиля присутствует всюду, и все ее любят и ценят… "А что вы собираетесь читать сейчас со сцены?" - спрашивает Сергей Иосифович. Отвечаю: "Я расскажу о Лиле, о нашей с вами беседе и почитаю "Скрипку", "Лиличка!"…" - "Да вы что? - перебил меня Юткевич. - Ни в коем случае!!!" Поразительная метаморфоза. Со мной - так, а перед публикой - нельзя. Ему-то чего бояться? Я все-таки прочитал то, что хотел. О нашем закулисном разговоре "в честь Л.Ю.Б." - ни слова. Но от себя - сказал, что одним из самых драгоценных подарков судьбы считаю знакомство и дружбу с Лилей Юрьевной Брик и ее кругом друзей. Глянул за кулисы: никакой реакции, холодное лицо Сергея Юткевича. "Вы же знаете, Веня, он очень влиятельная фигура", - звучал у меня в ушах Лилин голос…
Надо сказать удивительную правду: с Лилей Юрьевной лучше не шутить недобро, ее ангелы умеют наказывать и после ее смерти. Она принесла много счастья и вдохновения людям ее выбора, но когда кто-то из этих людей "ради красного словца" обижает память Л.Ю.Б., бывают неприятности. Так было и с теми, кого она близко к сердцу держала и кто "слегка поклеветал" на нее… В том числе уважаемый Андрей Вознесенский или поэт Виктор Соснора…
В последний год Лили, на даче в Переделкине, была встреча с другим ветераном советской режиссуры - с Валентином Плучеком. Они с женой зашли к Лиле и Васе на чаек. Василий Абгарович включил магнитофон, и, в милейшем расположении духа, Плучек срежиссировал, а мы исполнили первую строфу из "Мелкой философии на глубоких местах":
П л у ч е к: Превращусь не в Толстого, так в толстого…
К а т а н я н: Ем и пью, от жары - балда.
С м е х о в: Кто над морем не философствовал?
Л и л и Ю р ь е в н а (звонко, после маленькой паузы):…Вода!
Хорошо посмеялись и разошлись. Через несколько дней я позвонил в Переделкино. "Веня, вчера у нас с Васей были Юрий Петрович Любимов и его Катя. Она прелестна! Она нам очень понравилась! И он был очень мил, в прекрасном настроении! Красивые оба! Между прочим, эта Катя у себя в Будапеште писала в университете работу о Маяковском! А вы когда приедете? Ну, ждем. Приезжайте - хотите с Аллой, хотите - с кем хотите, будем очень рады…"
В 1978 году, уезжая на съемки веселого фильма о мушкетерах, я зашел домой к Лили Юрьевне и Василию Абгаровичу. Была весна. На дворе стояла православная Пасха. Все шли с куличами. Я был, как всегда, изумительно вкусно накормлен. Ответил на все вопросы Лили о театре, о кино, о детях и друзьях. Попрощался и в дверях услышал от хозяйки: "Вашего Дюма я перечитаю, подготовлюсь. А вот вы неправильно ответили на наше "Христос воскрес". И Ося, и Володя, и я очень любили ответ одного знакомого мальчика… Ну, спросите у меня…"
Я: "Христос воскрес, Лили Юрьевна!"
А она, очень серьезно: "Таинственно воскрес!.."
Больше мы не встретились. Она ушла из жизни в августе, в разгар съемок фильма.
Книга Юрия Карабчиевского "Воскресение Маяковского" наделала много шума. Я помню собственное смущение, пока читал: и сильно, и талантливо, но… во-первых, много неправды, а во-вторых - не о том поэте написано. Вернее сказать, Карабчиевский "ловит" поэта там, где поэт и не скрывается. Суровую отповедь Маяковскому невозможно принять, поскольку "отповедник" стучится к поэту-реалисту… Именно в кругу Лили Брик становилось ясно, что переводить стихи футуриста или правила жизни авангардной среды на язык "прозы жизни" - это все равно что использовать личный позвоночник в качестве музыкального инструмента (например, флейты). Если я хотел рассмешить Л.Ю. кратчайшим способом, я "прозаизировал" известные стихи. Например: "Я помню один чудесный момент, когда ты появилась передо мной, как будто галлюцинация, как будто ты - абсолютная красавица"… Это из Пушкина. Или: "Закат был в сто сорок раз ярче, чем всегда. Лето шло к июлю месяцу. Было жарко и душно. Это случилось на даче". Это - из Маяковского.
…Вся жизнь Лили была зарифмована с поэзией, и смерть свою она зарифмовала с поэтом. В 1978 году, на восемьдесят седьмом году жизни, после перелома шейки бедра, когда поняла, что впереди ее ждет физическая беспомощность, она приняла дозу нембутала… Прах развеян. Нет могилы. Нет памятника - только память, архив и вещи. Например: массивное кольцо Маяковского, с которым она никогда не расставалась и на котором были просто и гениально выбиты ее инициалы: Л.Ю.Б. Попробуйте прочесть по кругу кольца:
Л Ю Б Л Ю Б Л Ю Б Л Ю Б… "ЭТО - СЕРЕЖА…"
Теперь говорят: "Сергей Параджанов не должен измеряться обычными мерками. Законы общества, страны, морали к нему не имели отношения. Он был выходцем из тех картин, которые сам снимал".
Наверное, Сергею Иосифовичу было приятно, что о нем так говорят (всегда говорили) - с восклицаниями, изумлением и возмущением. Но он вел себя по-своему совсем не из охоты поддержать репутацию "возмутителя", "чудака" или "чудотворца". После его смерти связались в одно целое и шалости, и дикости, и болтовня, и творения, и волшебство изделий (фильмов, коллажей, шляпок, занавесок и проч.), его письма и предсмертные обращения к родным и друзьям… Вспомнил испытанные лично - в течение двух часов! - и кошмарный стыд, и восторг до слез…
1987 год, Тбилиси, мы возвращаемся по ул. Котэ Месхи от Сергея, и меня осеняет: Параджанов не человек "из жизни", он - случайно уцелевший персонаж из мифов Древней Греции! Только там найдутся странные похождения - превращения Зевса, невероятные истории Ариона, Ганимеда… Там денежная единица (между прочим) называется "талант", а нехорошее слово "оргия" - всего лишь мера длины, примерно в рост Параджанова.
До знакомства с ним я не мог сложить единый образ из рассказов о десяти Параджановых: от тех, кто был рядом на съемках фильма "Тени забытых предков", от соседей и друзей по Киеву и от Лили Юрьевны Брик. Перед самой своей смертью он пишет из больницы письмо в редакцию журнала "Театр", возмущенный публикацией книги Ю.Карабчиевского о Маяковском: "Лиля Юрьевна - самая замечательная из женщин, с которыми меня сталкивала судьба… и объяснять ее смерть "неразделенной любовью" - значит безнравственно сплетничать и унижать ее посмертно… Наши отношения были чисто дружеские. Так же она дружила с Щедриным, Вознесенским, Плисецкой, Смеховым, Глазковым, Самойловой и другими моими сверстниками. 26 октября 1989 года". Стиль и строй фраз последнего письма Параджанова никак "не монтируются" с тем шоком, который я испытал от нашего разговора на тему Л.Ю.Брик в Тбилиси, в октябре 1979 года… Но об этом ниже.
Он сочинял коллажи, он художественно сводил несовместимости из мира вещей, у него была своя сговоренность с богами его родной мифологии. А теперь - на сцену. Полный свет. Праздник искусства, человек не из жизни - Сергей Параджанов. Что я слышал до знакомства…
В Киеве, у площади Победы, в пятиэтажке - маленькая квартирка Сережи и Светланы. Круглая дата, день рождения. Кого он видел на этих днях - на киностудии, на улицах - всех звал на ужин. То ли не верил, что кто-то придет, то ли просто шутил, но пришли все… По легенде - человек сто! В квартирке поместилось, от силы, двадцать гостей. Ни секунды не горевал Сергей. Быстро раскатал ковры, дорожки, что были в доме - со своего пятого до первого этажа. Гости расположились вдоль всей лестницы, снизу доверху. Похлопотал виновник, и у каждого гостя в руках - бокал, тарелка, салфетка. У всех - вино и закуска. А виновник подробно объезжает на лифте пролеты, и сам тостирует, и тосты принимает…
Почему его арестовали? Ведь он плевал на политику, он мог жить только в игре, то есть - на сцене. А у властей на сцене - трибуна, почетный президиум и портрет с флагом. С трибуны внушают - в зале кивают. А этот чернявый, в бороде и в экзотике, не умеет кивать и никак не усидит в зале. Он гуляет по сцене, и ему никакие трибуны не помеха. И власть его игру на свой счет приняла: не наш! что-то задумал! не хочет сидеть в зале - посадим в барак. И посадили. А он и там, в бараке, мог быть только художником. Творил из любой скорлупы, травки, кефирной фольги, творил лики Мадонны, иконки, дивные миниатюры; он в блатных соседях разбудил художников… И это уже не миф - реальность тюрьмы под Винницей.
Чуть ли не ежедневно шла переписка Лили Брик и Сергея Параджанова. Восьмидесятилетняя "муза поэзии русского авангарда" билась, добивалась… и добилась! Освободили. Легенда помогла мифу. Лиля - Сереже. И это - быль. Хоть и чудо, но - быль. Я - один из свидетелей. Лиля Юрьевна (заметим, бесправная, отринутая, оболганная властными журналистами) помогала Рузанне, сестре Сергея, Гарику - племяннику - находить новые и новые ходы-выходы.
В 1976 году ситуация казалась безнадежной. В 1977-м, в Париже на гастролях, я услыхал от друзей Л.Ю., что Луи Арагон и ряд видных деятелей Франции возглавили Комитет спасения Параджанова. Рузанна приезжала в театр, сидела в кабинете Любимова, ездила к С.Герасимову, С.Бондарчуку. На дне рождения доктора Л.Бадаляна я увидел председателя Госкино Л.Кулиджанова. Спросил его: как, мол, вы себя чувствуете, когда Параджанов в тюрьме, в ужасных условиях, когда он плачет от унижений и безысходности? Кулиджанов твердо ответил: "Мы сделали все, что могли. Мы втроем, с Бондарчуком и Герасимовым, обратились "наверх". И генеральный прокурор Союза Руденко ответил: "Не могу. Это украинская прерогатива". У зубров, облаченных титулами и властью, - не вышло. У Лили Брик - вышло. Помню, она показывает очередной (122-й? 213-й?) роскошный и трагический коллаж Сережи и дважды громко перечитывает место из его письма: "Делайте что-нибудь! Не уставайте! Каждый день - хоть что-нибудь!" Лиля рассказывала: "Не эти, мол, начальники кино, а клоун Юрий Никулин - не походами наверх, а пешком, ну, не пешком, на поезде, но сам! - приехал в лагерь… Сережа пишет, что, желая хоть чуть облегчить себе жизнь, он сказал начальнику: дайте полегче работу, я задыхаюсь… вам мои друзья могут сказать, что я болен, - знаете артиста Никулина? И тут начальник, мол, вдарил ему - ах ты, трепач, кто - ты и кто - Никулин?! Он - народный артист, а ты - зэк. И вдруг является сам Ю.Никулин и - к начальнику: "Помогите моему другу!" И сразу дали работу терпимую, облегчили муки". Еще время прошло, и Л.Ю. вызвала "тяжелую артиллерию" из Парижа. Советская власть искала случая помириться с Луи Арагоном. Он проклял ее после советских танков в Праге. Лили Брик умолила Арагона приехать. Поводом было вручение Международной премии Мира греческому поэту. Арагон прилетел, вручил премию и встретился с членами Политбюро - все по сценарию Л.Ю.! И Сергей Параджанов вышел на свободу…
Через год умерла Л.Ю.Брик. Еще через год театр Любимова приехал в Тбилиси с гастролями. Параджанов не стал соревноваться в гостеприимстве с театральным обществом, с правительством или с коллективом Театра им. Руставели - он просто всех победил. Правительство и общество театр обласкали, москвичей задарили, закормили и задобрили комплиментами. Актеры с благодарностью принимали то, что заслужили игрой на сцене. А Сергей Параджанов позвал всех нас к себе домой. Человек сорок вполне избалованных актеров полезли круто в горку, на ул. Котэ Месхи. Тбилисский дворик, а посередине - могучее дерево. Старые скрипучие лестницы.
Балконы второго этажа нависают буквой "П" над деревом… Может, только киевский друг Сергея, Давид Боровский, знал полную правду: никакого дома нет, есть у него кровать, есть стол, есть коридор, ну, и, конечно, родственники, соседи, друзья… Актеры активно погуляли в "доме Параджанова"… Вино лилось, песни струились, балконы ломились от фруктов, глаза слезились от восторгов, тосты ошеломляли артистов, забавные творения украшали чудо-дерево… Актеры получили незаслуженный подарок: мне кажется, Параджанов и на сцене-то нас не видел, и театр ему не очень нравился, но ему "просто захотелось позвать "Таганку" к себе домой". С Высоцким у него была отдельная встреча - там же, на ул. Котэ Месхи. С Аллой Демидовой, с Давидом Боровским, с Ю.П.Любимовым. Но встречи "именные" - это нормальное дело, а весь театр во дворе… Это - только Сережа…
Мы оказались в компании с ним еще в одном семейном доме. Я спросил, что он собирается снимать. Сергей разразился фигурной бранью на всех - на прошлых, нынешних, будущих чиновников и коллег. Ничего снимать, мол, я не буду, а буду делать шляпы, занавеси, ковры и куклы… В Киеве не было жизни, здесь ее тоже нет. О "Таганке" произнес возвышенный тост, Любимова и нас назвал гениальными. Отвечая добром за добро, я предложил тост памяти Лили Брик, которая разбиралась в настоящих гениях, один из которых - за этим столом… Сергей прервал меня грубовато, все выпили, а после этого он сострил на счет Л.Ю. так глупо, что всем стало не по себе. Хозяин дома переключил внимание гостей на что-то веселое, и застолье продолжалось. (Через десять лет в предсмертном письме будет написано - "самая замечательная из женщин".) Вернувшись в Москву, я пытался в кругу его ближайших друзей, в доме Инны и Васи Катанян, найти объяснение выходке Сергея; в ответ только разведение рук и: "Это - Сережа…" А вот другая сцена, через восемь лет, когда я и сам должен был объяснять ужасное и прекрасное в одном лице разведением рук - "Это - Сережа…".
1987-й, январь, мы с Галей гостим в Тбилиси. Репетиция "Короля Лира" у Р.Стуруа, встречи с актерами, премьера моей пьесы "Али-баба" в ТЮЗе, концерты, застолье, поездка в Кахетию на праздник столетия Сандро Ахметели, Театр марионеток Резо Габриадзе… Водоворот счастья. И две встречи с Сергеем Параджановым, которые опять перевешивают на весах впечатлений: все остальное было счастьем, а это - театром и только театром. Повторяю: уходя от Сергея по ул. Котэ Месхи, я прозрел на его счет, сообразив, что Параджанов никакого отношения к нашей жизни не имеет, ибо сам - не из жизни, а - из искусства. Захочет - удивит, захочет - возмутит, захочет - обольстит, захочет - оскорбит и т. д.
Сцена в трех частях
Первая часть: мы с Галей взошли на горку, обошли чудо-дерево, поднялись на этаж. Гарик Параджанов радушно встретил, но попросил извинить дядю Серго: он в постели и неважно себя чувствует. Дверь открывается. Мы входим. Сразу видим Сергея и сразу слышим громкие приветствия - прямо из-под одеяла: "Кто это неважно себя чувствует? Я себя важно чувствую! Это Смехов неважно чувствует, потому что "Таганка" - поганка! Где твой любимый Любимов, Смехов? Он на хорошем пайке, в солнечной Италии? Он опять играет в диссидента? А бедные артисты опять кушают дерьмо?.." Ни объяснить, ни остановить его было невозможно.
Конец первой части: неопрятное одеяло, косматая седая борода, тучный Фальстаф бранится, свидетели смущены, я - зол.
Решаюсь на прощальный контрмонолог: "Сережа! У меня был шанс показать любимой Галке Сережу в Тбилиси. Я использовал этот шанс. У тебя, Сережа, теперь осталось два шанса. Первый: показать моей прекрасной жене, что Параджанов - монстр, умеющий, не слезая с грязной постели, обливать малохудожественной грязью своих друзей. И второй: доказать, что я был прав, когда обещал ей встречу с художником, которого мы очень любим. Оба шанса - в твоих руках, а мы можем так же легко уйти, как и пришли". Пауза. Из-под одеяла раздается короткое: "Постойте в коридоре десять минут. Не уходите". Мы вышли, и друзья шепотом пробуют уговорить Галку не спешить с выводами, ибо, как им кажется, Сергей придумал что-то особенное. Поверить в хорошее трудно, но мы решаем подождать. За дверью слышатся звуки какой-то работы - движение мебели, звон посуды. Нас снова приглашают войти.
Вторая часть - ослепительный театр. Как мы смели не разглядеть этого богатства: дом сверкает тысячью красот. Стулья, стол, абажуры, этажерки, куклы на стенах, портреты и скатерти - это же все из сказок, все ручное, штучное, невиданное. Как две Алисы, мы попадаем в параджановское Зазеркалье. Сережа теплой рукой ведет Галю - и меня следом - от чуда к чуду… Разве это посуда? Разве это утварь? Каждая вещь в его руках - экспонат Ренессанса. Или барокко. Или - модерна. Склеил днищами два фужера - пожалуйте, средневековый бокал. Как лица на портретах Арчимбольдо слеплены из фруктов и овощей, так обычные предметы быта, когда их подносишь к глазам, оборачиваются гирляндами из плодов воображения художника. Сергей подробно и остроумно демонстрирует галерею фотографий: это - я в детстве, это - я постарше, но советская власть не дремлет, это - моя красавица Светлана, рядом с которой я стою копейку, поэтому ее нет рядом, а я стою так дорого нашему государству, это - Киев со мной, но пусть он теперь будет без меня, это - мой другая жена (фото юного красавца), это - мои родные, без которых я бы… и т. д. Обед прошел "в теплой дружественной атмосфере". Такого вина и такого торта мы с Галей больше не пробовали.
Часть третья. Назавтра, как было назначено Сергеем, мы вдвоем и он с Гариком - в пустом зале тбилисского Дома кино. Фильм-фантазия Параджанова "Пиросмани", в двух частях. Через полчаса - молчим, слова сказать не можем. Сочинитель фильма посидел, посидел и прервал молчание: "Значит, ничего себе фильм?" - "Сережа, потрясающе! Спасибо огромное!" - "Ну вот, а другие говорят: приехал в Грузию, чтобы испараджанить нам нашего Нико! Правда понравилось?" В этот момент кинооператор возвращает Сергею две бобины с пленкой фильма. Мы подымаемся, выходим на проспект Руставели. "Если так понравилось - на, возьми на память". И мы получаем незаслуженный дар - авторский экземпляр фильма "Пиросмани". Я пробую отказаться… "Нет, Веня, ты бери, я знаю, что я делаю. Если в Москве покажете друзьям - хорошо. Если увидите Шеварднадзе - покажите ему, пусть министр увидит, мне тоже пригодится…"
В Москве мы действительно несколько раз показали, где могли, фильм Сергея. В том числе - "по большому блату" - в конференц-зале МИДа, после моего концерта. Но в зале, конечно, министров не было, были ценители искусства, которые режиссеру "пригодиться" не могли. Однако перестройка совершила доброе дело, и в 1988 году двух "бывших негодяев" - С.Параджанова и О.Иоселиани - приглашают в Роттердам на триумфальный слет лучших мастеров кино под девизом "режиссеры XXI века" или что-то в этом же почтительном роде. Сережа звонит из дома Катанянов (из квартиры Лили Брик!) и просит меня срочно одолжить ему две бобины с фильмом "Пиросмани", поскольку больше нечего показать в Роттердаме, а других копий не имеется. Он, разумеется, клянется, что вернет мне свой подарок. Я, разумеется, моментально лечу на Кутузовский и "сдаю валюту", то есть фильм. И он, разумеется, ничего мне не вернул, зато по приезде из Роттердама похитил из дома друзей фамильные реликвии и еще много чего "нашалил" в своем роде… "Это - Сережа…"
Перед смертью он вымолил прощение у оскорбленных друзей, написал трогательно о Л.Ю.Брик, смущал до слез "несережиной" интонацией прощального покаяния… Не стало Сергея Параджанова, и его душа вернулась туда, куда рвалась из каждой клеточки его творений - в облака мифологического обитания. И на сцене театра памяти торжествует только художник Параджанов - без земных расчетов, без моральных претензий…
В 1981 году в Театре на Таганке запрещали спектакль памяти Владимира Высоцкого. Юрий Любимов собрал в зале крепкую компанию людей искусства, науки, политики. Выступавшие в защиту нашего спектакля были горячи и прекрасны: Б.Ахмадулина, Я.Зельдович, П.Капица, Ю.Карякин, И.Смоктуновский, Г.Гречко… Составляли письмо, собирали подписи. Среди защитников один выделялся и словом, и телом. Седобородый, взъерошенный, распахнутый Сергей Параджанов обнадежил возбужденную общественность: спектакль - святой, никто его закрыть не посмеет, ибо глава католической церкви, Папа Римский, ему, Сереже, обещал вмешаться. И еще больше возбудились друзья театра, и не могли расстаться, и в тесном кругу собрались, и до ночи толковали, горячились, пили и ели - под крышей дома на ул. Воровского, в мастерской Бориса Мессерера, в гостях у него и у Беллы Ахмадулиной. Параджанов к ночи Папу Римского больше не поминал, зато советскую власть иначе, как "по матушке", обласкать не мог. Мы сидели с Галей и Юрой Визбором, итожили все, что случилось и произносилось в театре, и Юра сказал: мол, пожалуй, спектакль все-таки закроют, хотя какие-то выводы сделают быстро. Так оно и вышло: спектакль запретили, а вывод сделали… в адрес Сергея Параджанова. Его снова арестовали. Объясняли по-разному: 1) за спекуляцию драгоценностями; 2) за совращение невинных юношей; 3) за то, что поминал Римского Папу; 4) за то, что материл советскую маму.
Не было на свете Лили Брик, но все-таки спасла Сергея и на этот раз прекрасная женщина. Белла Ахмадулина "дошла до самого верха", до тогдашнего главы Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Сергей был освобожден - вернее, его тело: духом он и так был подобен Зевсу. Теперь я думаю, что, даря мне "ненадолго" своего "Пиросмани", он просил (через шесть лет) показать фильм министру иностранных дел Шеварднадзе - в знак благодарности…
Накануне второго ареста и назавтра после ужина в мастерской Мессерера - обед в доме Инны и Васи Катанян, на Кутузовском. Любимов с Катей, Боровский с Мариной, мы с Галей. Параджанов весел и щедр. Он обещает Кате бриллиантовое кольцо, а Гале - персидский ковер. Все осталось на словах, а на деле - тюрьма и ссылка. Впрочем, обещатель исполнил по-своему сказанное о ковре…
…Тогда, в Тбилиси, после просмотра в Доме кино мы выходим на улицу, Сергей дарит мне "Пиросмани" и обращает внимание на мою кепку: "Где ты купил? В Париже? Хорошая кепка". - "Нет, - ответил я. - Вчера в Тбилиси, у частного мастера". - "Не верю, такие делают только в Париже. Мне для Гарика нужна такая, здесь не нашел". Разумеется, я содрал кепку с головы и тут же нахлобучил на Гарика. Сергей сказал "спасибо", тут же обругал мой хилый шарфик, снял с шеи свой, ручной работы, плотный и темно-коричневый: "Носи на здоровье, он принесет тебе счастье". - "Сережа, так нельзя, щедрость должна иметь границы". Разумеется, упоминание границ не прошло бесследно: к вечеру моя Галя была награждена занавесом с аппликациями работы С.Параджанова. Кажется, он назвал этот занавес "Памяти персидского ковра". Во всяком случае, посреди тканной росписи, пониже летающих аистов, художник поместил квадрат из черной вязаной чадры. Если приоткрыть чадру, то за ней оказывается маленький фрагмент старинного ковра…
…А в комнате на ул. Котэ Месхи, над обеденным столом, крутился вентилятор. Это по-нашему - "вентилятор", а по Сергею - ангел. Под этой вертушкой как-то примостился пупсик, детский голыш, в прелестной юбочке. Крутятся лопасти, вздымается юбка, ангел летает, жары не чувствуется, чувствуется восторг.
…А в комнате на ул. К.Месхи, среди пестрого карнавала параджановских игр висит картина. Возможно, нынче ее бы назвали "инсталляция": в красивой рамке красивым цветком красуются осколки синей чашки… Автор назвал картину "Памяти разбитой чашки".
…А в комнате на улице Месхи дядя похвастался успехом племянника: дескать, умный парень, поступил в Тбилисский университет. Но не удержался и прибавил: это, дескать, я его устроил. Еще подумал и открыл, совсем некстати, секрет "устройства": они его, дескать, не хотели принимать ни за какие отметки, но я подарил проректору кольцо с бриллиантом, Гарика приняли, а когда приняли, я позвонил в органы и сказал, что у них в университете - злостный взяточник, проректора посадили, а кольцо мне вернули - зачем, мол, ему кольцо в тюрьме?..
"Это - Сережа…"
То ли от Боровского, то ли от Марка Смехова - соседей по Киеву - я услыхал чудную историю ранних "шалостей" Параджанова. Накануне своей круглой даты (сорок лет? или сорок девять?) Сергей слепил из гипса большую голову - личный автопортрет.
Ночью, с друзьями из киностудии, он установил "свою голову" на крыше важного здания - то ли милиции, то ли еще покруче. Напротив, через дорогу, друзья поставили и включили мощный прожектор, взятый "напрокат" из электроцеха киностудии им. А.Довженко. И много дней киевляне любовались на круглую голову художника, и никто не схватился в панике: во-первых, все думали - раз освещено, значит, разрешено; во-вторых, думали - раз круглый и большелобый, значит, Ленин.
…А в Роттердаме в 1988 году режиссеру в ответ на чествования ответить было нечего, ибо все вокруг чествовались и отвечали на английском, а Сергей Иосифович из языков владел (по местам прописок): грузинским, русским, украинским и, конечно, родным армянским. Но два слова по-английски роттердамцы и гости праздника от Параджанова дождались. Пусть не устных, только письменных… На торжественный раут необходимо было явиться в черном смокинге. Все, конечно, явились. А у Сергея перед вылетом, как известно, не только смокинга - фильма своего не было. Ну, с фильмом, как известно, ему помогли, а с одеждой - извините, маэстро, выкручивайтесь сами. И маэстро выкрутился. Представьте себе торжественную реку белых сорочек и черных смокингов. Посреди этого черно-белого большинства красуется в чем приехал Параджанов - в единственном числе. Но, соблюдая приличия, он нацепил на шею дощечку, где красиво вывел два английских слова - "No smoking!". (Дескать, я без смокинга, уж извините.)
Занавес.
"Это - Сережа…"
В ЭПОХУ ДВУХ ЮР
Как выгодно быть актером! Совершенно безопасное, но всеми уважаемое занятие. За все трудности и неудачи отвечают другие - режиссер, начальство, цензура. А калачи и пышки - всегда актеру, извечному любимцу публики. Даже самые мудрые и пасмурные люди - писатели - и те отличают скорее актера, чем собрата по перу, или критика, или технократа. Потому что актерское невежество не раздражает. Его с успехом заглушают эмоции экспромтов и пестрая лоскутная занавеска слов, цитат, причуд, шалостей… Хорошо быть актером. Михаил Булгаков устами Максудова сказал о братьях-писателях: "Это чужой мир. Отвратительный мир". Зато об актерах выразился: "Это мир - мой!"
Другой не читал прозу Трифонова, Фолкнера, Тендрякова - и это стыдно, нехорошо, глупо. А я? Тридцати пяти лет от роду, на Таганке, услышал чтение "Обмена". Вот он, сам автор, Юрий Трифонов. Постановщик будущего спектакля - Юрий Любимов, сидит рядом. Как обычно, глядит на своих питомцев стыдящим, удрученным взглядом. Небось впервые такую прозу слышите. И я назавтра, не столько от стыда, сколько от восторга перед услышанным, погружаюсь в книги писателя. Еще через неделю - готов новый яркий лоскут в моей словесной занавеске. Могу включиться в любой спор о Трифонове. И если какой филолог будет уводить меня вглубь, в дебри истинного знания, то я быстро привычно отпарирую аргументом эмоции: что вы мне голову морочите, я лично знаком с Ю.В., он у нас в театре днюет и ночует, мы с ним не далее как вчера - вот как я с вами - такой чудный разговор вели!.. И карта филолога бита, он глядит на актера как на победителя. А цена победы - зоологическая, извините, конечно, за выражение. Просто я изобразил манеру речи Юрия Валентиновича, прошагал по комнате, "как он", поправил воображаемые очки… словом, передразнил натуру - и развеселились спорщики. А я глянул на часы: черт, на спектакль опоздаю, у меня сегодня "Гамлет"; кстати, могу вам пару билетов (не сегодня, через месяц) удружить… и умчался, а умницы потрясенно застыли, окончательно добитые моим интеллектом.
…Я так сильно хотел играть роль Дмитриева в "Обмене", что даже попросил об этом Любимова. Мне отказали, назначили на другую роль, которая мне не нравилась, и я сделал все, чтобы вообще не участвовать в спектакле. Премьера была очень хорошей, оригинальной, богатой и зрелищем, и мыслью, и игрой. А я? Разделил радость моих товарищей. И был счастлив, что мы приобрели в лице Трифонова постоянного гостя, члена худсовета, автора - друга нашего театра. Теперь уж я не мог пропустить ни одной публикации Ю.В., и на всех, кто пропускает, глядел с искренним недоумением: как не стыдно быть невеждой в наше время.
Да, хорошо быть актером.
Соседи по дачному поселку писателей - Тендряков и Трифонов. Повезло близко общаться с семьей Тендряковых. Важное сходство у двух разных писателей: профессионалы. И профессиональная замкнутость кабинетного одиночки. И хмурая отчужденность, антипатия к публичности, к эстрадной показухе. И горы читаемой литературы. И неумение "вырасти" в общественного деятеля - покровителя себе подобных. И горячее любопытство к событиям планеты. И поиски ответов на сегодняшние проклятые вопросы - во вчерашней истории. А для меня очевидно вот еще какое сходство: по внешнему поведению необщительные, вроде прохладные люди, но по тому, что в книгах - и, значит, по душе! - сострадательные, отзывчивые собеседники.
Хорошо приезжать на чужую дачу, когда ты - актер… Зашел к Тендрякову, с удовольствием помешал работать, поиграл в шахматы.
- Ты куда? Еще посиди.
- Я хочу зайти к Трифонову. Хватит, уж и так оторвал вас от работы.
- Да ты правильно оторвал, чего ты пойдешь, скоро Наташа приедет, вместе поговорим.
Помешал Тендрякову - хорошо. Теперь пойду помешаю Трифонову. На даче Юрия Валентиновича - другая жизнь. В центре сегодня - не стол писателя, а кроватка маленького Валечки. И, наградив младенца справедливыми восторгами, мы переходим на веранду, где писатель просит помешать своей работе беседой о репетициях, о спектаклях, о настроении его тезки… Помню радостный рассказ Ю.В. о Швеции, об издании "Дома на набережной", об их реакции на нашу "Таганку". И все это запивается ароматным чаем "оттуда". Каков чай, правда? А какова коробка! И я патетически резюмирую: "Да, вряд ли скоро отсель мы будем грозить шведам!"
"Дом на набережной". Когда повесть вышла в "Дружбе народов", я снимался в Свердловске. И студенты университета, участники массовки, показали мне единственный неизъятый из библиотеки номер журнала. Гомеру не снилась такая исчитанность, такая жадная истрепанность "фолианта"! Студенты терзали расспросами о писателе, и я гордился, как близкий родственник. "Дом" - это вторая роль в моей жизни, которую я выпрашивал у Любимова. Они с Трифоновым прочили мне образ Неизвестного, "положительную" роль, как бы "от Автора". И здесь я выиграл, упросил. Вадим Глебов, "Батон", стал моей каторгой и счастьем одновременно. Когда-то, на премьере "Обмена", почти не веря в то, что "Дом" цензура разрешит к постановке, я развешивал свои плакаты-шутки по театру, в том числе и такие:
Нам выпало два фанта! Да здравствуют два Юры! У нас "Обмен" - де факто! Мы счастливы - де юре! Где ж злобный запах? Ах, исчез? Произошел "Обмен" веществ… Тебе, Таганка, "Обмена" мать, До "Дома на набережной" - рукой подать…Из дневника 1976 года.
16 февраля. "Дом на набережной". Читка Трифонова - оччень. Странно - КГБ, посадки, страхи, стуки, шпана в смутные времена и перерождение за тридцать лет нынешних пятидесятилеток. Отлично для тех, кто понимает. Профессор Ганчук - жертвенник, прямоспинник, рубака, наивняк, маяковец, борец с "беспаловщиной", рапповщиной - на, получай, - 1948 год, не вступайся за евреев, не люби науку выше себя, а истину выше правительства. Герой Глебов - "никакой", самотечный выродок системы, идеал, опора и надежа, всем мил и локтями левых-правых всплывает посередке пельменем режима. Он жил жизнью, которой не было. Память не держит детства, дома на набережной, испытаний воли, полустука на мальчишек и - Сони. Изумительный образ, озерной чистоты и мелодичности. Она сходит с ума, как советская Офелия, ничего другого не имея выставить против моря лжи. Весело-жутковатый "Шулепа" - сын трех чекистов и мамы-дворянки - веселый цинизм пожирателей чужого добра за ширмой званий и страха и бесстыднейшая слякоть души, воровской, гнидной, дотла развратной - до дна дошедшей… От пугача, хванчкаров и первых телевизоров, загран-ездок и кучи баб с детства - до алкаша в преисподней, в мебельном и ниже - привратник крематория, где лежит расквитавшаяся за это ваше все Соня. Финал - пустейший Глебов - доктор наук - пиявка Ганчука, и сам восьмидесятичетырехлетний одинокий борец и рубака-профессор, жевавший в час расправы "наполеон" на ул. Горького, а ныне - всерьез спешащий от крематория - в комнатенку-одиночку, где книги, книги, бюстики Спиноз-Гомеров и - телемногосерийка! Конец.
Нас всех пожирает одна на всех многосерийка-великосерийка.
Накануне репетиций Юрий Валентинович позвал меня к себе домой. Выход книги "Избранное" с московскими повестями и с "Домом" - чудо эпохи застоя. Впрочем, вся проза Трифонова той поры - чудо того же значения. Надписав и подарив книгу, Ю.В. сказал:
- Чтобы никто на меня не обижался, я вас прошу, не говорите в театре, что я вам дал книжку. Это неприятно, но их у меня гораздо меньше, чем ваших актеров. Конечно, кое-кому я дам, но каждого прошу не говорить, чтоб не обижались…
Ю.В. объяснял сомнения в мой адрес, хотя всячески уменьшал свое значение рядом с идеями Любимова, потому, дескать, что его сомнения - зрительские, значит - дилетантские, а Любимов всегда удивляет неожиданностями. Он привык видеть меня в таких-то ролях, а Глебов - другой. Я защищал "своего Батона", говоря о том, что актер должен всякий раз играть "другого", приводил примеры, изображал, и Трифонов смеялся. Значит, я был убедителен. Но это все - первый период работы, когда еще "Дом" был уравнением со многими, так сказать, неизвестными. Помню важную задачу в той встрече на Песчаной: переагитировать Трифонова за последний макет художника Боровского. Дело в том, что и автор, и постановщик успели увлечься первой версией Давида: действие должно происходить в подвале мебельного магазина, и вся декорация - это запакованные, обшитые досками шкафы. Блестит полиэтилен, громоздятся кубы, сложны проходы - очень выразительно. Какой-то мир холодных, чужих и узнаваемых предметов… или домов - то ли бывших, то ли будущих.
Метафорическое мышление Любимова уже заработало в данном направлении, как вдруг Боровский предлагает новую идею: сцена перекрыта стеной дома. Пыльные стекла до самого потолка и от самого пола. Серая обшивка деревянных рам - картина "Дома правительства" на знаменитой набережной (где теперь - Театр эстрады), и вместе с тем - глухой аквариум прежних жизней. Один лишь герой мечется между стеной дома-аквариума и зрительным залом - ни сбежать, ни спрятаться. Оттуда - свидетели и обвинители, отсюда глядят бесстрастные судьи. Надо было перезажечь Трифонова в пользу нового решения Боровского. Удивительно, какую власть имели Любимов и "Таганка" над театральным вкусом столь опытного и самостоятельного мыслителя! Ю.В. доверял "Петровичу" настолько, насколько беззащитно-восторженно звучит его же фраза из статьи о театре: "Любимов может гениально поставить любое произведение, даже телефонную книгу!"
В случае с оформлением "Дома" главный довод, кажется, произнес сам Ю.В.: мол, у каждого участка работы - свой хозяин. Писателю - писательское, режиссеру - спектакль, Боровскому - "боровское".
Вообще, авторов до премьеры в театре боятся. Автор на репетиции? Ужас! Что они смыслят в театре?! Всегда такого наговорят… И довольны бывают - наивно. И ругают - невпопад. Юрий Трифонов на Таганке - счастливое исключение. Хотя репетируется (читай: корежится, ломается вдоль и поперек) его родное детище, Трифонов сидит возле Любимова тихо-спокойно. Он не автор пьесы, он - друг Юрия Петровича. Значит - доверие к таланту. И постоянное предчувствие подарка, праздника, чуда. Пред-ЧУДствие на Таганке. А что будни бывают тусклы, и режиссер сердится, и актеры "не попадают" - это не беда. Писательского и жизненного опыта хватает, чтобы не "придавать значения злословью". Какие могут быть доказательства в театре? "Мне нравится" - и все доказано. "Я в восторге" - и тоже доказано, даже более солидно. Трифонов был в восторге от "Ревизской сказки", спектакля-фантазии по мотивам Н.Гоголя. Многие фырчали, рычали на спектакль, но скажешь: "А Трифонов - в восторге", и вроде бы одолел противника… Ибо не просто восхищение, а - авторитетное.
Генеральные репетиции "Дома на набережной". Юрий Валентинович озабочен, совсем как Любимов: этот актер не тянет; здесь нет перехода между картинами; ужасно, что запретили фонограмму песни "Эх, хорошо в стране советской жить…", но разрешили заменить на… "Легко на сердце от песни веселой…"; плохо, что велели из стихов Джамбула в исполнении пионеров изъять имена Сталина и Ежова, а также смягчить лозунги борьбы с "космополитами"…
После первого обсуждения (осуждения, конечно) - мрачная растерянность писателя. "О чем они говорили? На каком языке? Это же не разбор - это разбой, бандитизм!" А Любимов делал привычное дело: тут заплатка, здесь перешить, там заглушить, и - вперед, к следующему унижению закрытого просмотра… Чистая правда звучала лишь в наших стенах, когда расширенный худсовет обсуждал "Дом на набережной". Не только комплименты и восклицательные знаки - серьезный анализ, важные размышления литераторов, ученых, поэтов, композиторов… Вдруг чей-то нервный выкрик: как, мол, страшно после этого спектакля жить! Зачем так сгущает автор черные краски! Неужели нельзя показать хоть одного героя - сплошные трусы! И вдруг Трифонов громко крикнул: "Назовите мне хоть одного героя этого времени! Хоть одно имя!" Дальше была пауза. Худсовет продолжался, но вряд ли кто забудет эту реплику Трифонова. Резкую, парирующую. Горьчайшую и прямодушную. Выстраданную и парадоксальную. Кажется, выкрикнул он ее не своим голосом - звонче, выше по тембру и гораздо грубее, чем всегда говорил.
На последнем или предпоследнем "разборе" в Управлении культуры замечательно выступил Александр Аникст. Назавтра на репетиции Юрий Валентинович пересказал нам его речь примерно так: "Аникст махнул на них рукой - что, мол, вы знаете об этой истории! Потом на меня - да, мол, детский лепет - то, что у вас в повести! Я помню и этот дом, и этих ребят, и я сам учился у вашего Ганчука. И тут он такую красивую фразу завернул! Мол, я глядел на эти окна в спектакле и видел настоящие окна и мемориальные доски на самом деле. И что если отметить по-честному всех и каждого, кто отсюда был выброшен в лагерное пекло, кто здесь жил и погиб в сталинское время, - все окна закроют эти доски с именами, дома не видно будет - одни только доски!"
В театре моей памяти мало таких дат, как 15 апреля 1980 года - перелом в роли Глебова. Я плохо репетировал, и мне крайне мешала личная ситуация.
…Шла тягостная драма двух разводов и одной любви. Накануне решающего "боя" на сцене - самый пик переживаний в жизни. И за час до выхода в генеральную репетицию я остро почувствовал себя одиноким, несчастным, никому на свете не нужным и т. д. Как стиснут Глебов на сцене между прошлым и настоящим, так стиснут и я - в личной жизни. Решение пришло вдруг и сразу закипело в крови - скорей бы на сцену. Решение простое и скромное: сыграть… насмерть. Кинуться в роль, как в пропасть. Забыть все заветы и поучения Любимова - с головой и в омут. Но именно так сыграть, чтоб разорвалась грудь. Сыграть и исчезнуть. Вот такое истерическое решение. Так что дата 15 апреля для меня историческая. Дома после прогона я свалился и лежал. Вскоре позвонил Юрий Петрович, который никогда своих актеров не хвалит, а тем более не звонит им… Оказалось, что я выполнил все его заветы и указания, и вообще мой Глебов на правильном пути. В переводе с любимовского языка на нормальный - высшая из похвал. После Любимова позвонил Юрий Валентинович. Еще более поразительный случай. Он сказал, что ошибался, когда отговаривал меня играть Глебова. И что сегодня произошло что-то такое, чего он от меня не ожидал. И что он еще не уверен, хорошо это или плохо, но сегодня ему стало жалко этого типа, Батона.
…Юрий Валентинович посещал "Дом на набережной" с пропусками, но регулярно. Они с женой приводили наших и зарубежных гостей. Поражались, что даже иностранцы, не говорящие по-русски, довольны спектаклем. Юрий Валентинович относил это на счет все той же любимовской магии. Он спрашивал, кто и как отзывается о спектакле. Помню, я рассказал о двух визитах - Булата Окуджавы и Станислава Рассадина. Семья Окуджавы в тот вечер приехала издалека. Добираясь до "Таганки", проделала двести километров в машине. Посмотрели. Поблагодарили. Или очень устали, или хвалили из вежливости. А вот Рассадин, не самый близкий, скажем, для "Таганки" человек, высказался горячо и круто: постановка Любимова его потрясла, ибо Любимов пошел дальше Трифонова и невероятным образом доказал правомерность в искусстве "категории безнадежности". Художественно доказана безнадежность человеческого бытия перед лицом машины страха…
Несколько раз я донимал Юрия Валентиновича своим раздражением в адрес литовского фильма "Обмен". Даже присутствуя у него на семинаре среди юных литераторов, как-то съязвил насчет авторской всеядности. И сидя у него на даче с моей старшей дочерью Леной, между милыми речами и угощением - не преминул опять же съязвить:
- Ну как же так, Юрий Валентинович! Отдать повесть, такую хорошую, такую индивидуальную - в чужие руки. Не разузнать, что эти руки - не вполне крепки и добротворны. И кроме всего: согласиться переделать в своей прозе имена, названия и географию - на другой лад! Да как это можно! Это же заведомый провал!
(Ответу предшествует глубокий вздох и разведение рук.) - Ну что поделаешь? Он, режиссер, очень просил, очень уговаривал, очень хвалил - это же приятно писателю. Ну и гонорар все-таки на дороге не валяется. За одно мое слово согласия - две тысячи. А у меня, вот видите, только что сын родился. (За ответом следует обезоруживающая улыбка, в которой растворяются и житейские дребезги, и некоторое чувство досады за неудачный фильм…)
А вот противоположный пример - на Таганке. Когда не стало Юрия Трифонова и когда был изгнан из СССР Юрий Любимов, тогдашние начальники хотели оставить на афише нашего театра спектакли без любимовского авторства. В агентстве авторских прав дали справку: и "Обмен", и "Дом" (по воле Трифонова!) числятся за Любимовым, драматургом. Вот что такое глубокое понимание специфики перевода прозы на сцену.
…Тринадцать лет Театру на Таганке, 1977 год. 23 апреля в нашем фойе - столы и суета, праздник - своими руками. Мы с Боровским придумали елку: население театра и дорогие гости, просим всех к новогоднему столу. Нам тринадцать лет, в полночь поднимем бокалы за наступающий новый год "Таганки". Конфетти и серпантин, всюду по стенам цифры "13", а на елке приметы команды Воланда: голова Берлиоза, голова Бенгальского, груди Геллы и прочие забавы Сатаны. Забавы соответствуют и понятию "чертова дюжина", и главной победе уходящего года - премьере "Мастера и Маргариты". Очень грустно вспоминать такой счастливый апрельский "новый год"… Почему-то хорошее нам кажется вечным. Да и как было представить себе этот круг разорванным, если так крепко связаны все звенья: актеры-зрители-любовь-литература-Любимов-Трифонов-Высоцкий-Окуджава-Шнитке-В избор и все, все, все… Звучат заздравные тосты, льются горячие речи, звенит и звенит гитара… Кто это придумал, что Юрий Трифонов сумрачен и нелюдим? Крутится лента памяти, весело разговорчивы, милы друг другу и ни за что не хотят расставаться гости таганковского праздника. Можаев слагает тосты - ему что застолье, что Колонный зал, что новгородское вече - это проповедник на амвоне. Абрамов творит здравицу - и это уже другой Федор Александрович: другая мелодия, другая зычность голоса, щедрый экспромт из комплиментов и восторга. А вот я вызываю к микрофону Трифонова и вижу: ничего в нем не меняется на публике. Не меняются замедленность речи, мимика и пластика. Юрий Трифонов дома или в аудитории, наедине с собеседником или в кругу бурного застолья - единый образ, единый процесс. Размышляя у вас на глазах, никак не приосаниваясь "на зрителе" - писатель погружен в свое личное дело, единое и неделимое.
В тот вечер только один из друзей нашего театра не отозвался веселым настроением, и когда по традиции я позвал его к микрофону - спеть свое новое, - отказался, потом его очень попросили, и тогда он, сердясь на себя ли, на погоду ли, взял гитару и, поглядев на Трифонова, пропел ему посвященное… Булат Окуджава - Юрию Трифонову:
Давайте восклицать, друг другом восхищаться…
А к последнему куплету совсем растопилась печаль и осталась только светлая грусть, которая теперь, видно уж, никогда не прекратится. Грусть - потому что потери. Светлая - потому что нашему веку несказанно повезло с такими современниками, какими были и остаются Булат Окуджава и Юрий Валентинович Трифонов…
ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ
Он вычеркнул из своей конституции право на отдых. Множество эпизодов, любые на выбор - ну, нельзя вспомнить Тендрякова расслабленным, благодушным, "каникулярным". Утренние бега по холмам и перелескам вокруг писательского поселка - работа на износ. Встречи с друзьями. Вот математик, вот виднейший психолог, вот поэт и художник - ожесточенная полемика, хоккейный темп схватки. Я не преувеличиваю, я один из многих свидетелей. Как все похоже у крупных личностей! Судите сами. Вблизи, то есть лицом к лицу, все его качества - жадная пытливость, широта интересов, яркая речевая самобытность, беспощадность в работе, раблезианский аппетит к новым знаниям - все оборачивается для очередного собеседника атакой на его интеллектуальные рубежи. Любая беседа через пять минут грозит превратиться в корриду. Он говорит:
- А дело в том! Вы, мои миленькие, заелись и на свою сцену вылезаете, набив животики! А угадать в искусстве, где правда, где неправда, так у вас не выйдет!..
Я, допустим, возражаю:
- Ну, мы с вами можем договориться до того, Владимир Федорович, что писать книги или симфонии можно только с голодухи!
- Ерунду говоришь, извини, миленький мой! А дело в том! Святое правило, как его, и для Александра Македонского, и для Льва Толстого, и перед боем, и перед писательством - настроить дух и тело! Гитару ненастроенную никто не признает, а этих, как его, актеров на экране, какие бы ни вышли, какую бы чепуху ни строили из себя - это вам сходит с рук!
Голос Тендрякова высок и звонок. Когда он нашел слабину в твоих рядах, противник - берегись! Не только мысль и слово заиграют в раскаленном воздухе - у него будто какой мячик клокочет в гортани и победно взрывает интонации - вверх! еще выше! - и ты уже тревожно дышишь, ища паузу, а паузы нет, фанфары речи не знают отдыха… То с левого, то с правого фланга являются веселые помощники - цитаты из Достоевского, из Леонтьева, из Моэма, из Библии. Каскады статистики - то нашей, то западной, то нынешней, а то и дохристианской… Батюшки-светы, жмурится собеседник! Отступать пора, да некуда… Коррида в разгаре. Взмывают полотнища новых аргументов… Ты ловишь воздух ртом, ты разбит, ты загнан… и вот-вот завоешь, замычишь: "Товарищ тореадор, беру тайм-аут…" Когда проводишь рядом с ним свои часы "отдыха", все его качества оборачиваются излишеством азарта, колкостью, резкостью, критической агрессией.
…Теперь, когда он так далеко, для всех, кто при жизни им восхищался или кто избегал встреч, образ Тендрякова, можно сказать, смягчился, исчезли углы, а колкость и агрессия обернулись тем, чем и были, чем питались искони: широтой познаний, активным присутствием духа… И уже не досадно, а весьма обаятельно выглядит "активное отсутствие" в его характере - отсутствие умения отдыхать.
…Мы играем в шахматы. Я приехал в поселок на Пахре в свой выходной, явился, пренебрег запретами мешать Владимиру Федоровичу трудиться, поднялся к нему в кабинет и - мешаю. Он оставил нехотя труды, полурассеянно спросил, как дела в театре и в семье, вдруг обрел новый импульс - сыграем в шахматы! Играем. Я почти равнодушен к результату, мне бы, по моему невежеству, так сфокусничать, чтобы противник не заметил, кто у меня в кустах, увлекся бы пешечной жертвой, затем - моим якобы зевком коня, а вот тут-то я и рванусь ферзем из-за кустов! Шах!
- Ай-яй-яй! Ничего не поделаешь! Подожди, миленький мой… Так, ты так, я так… нет! А дело в том: зря я, как его, коня твоего, брал…
Мне бы - фокусы, а Владимир Федорович, конечно, желает проникнуть в глубину процесса. И хотя судьба, мягко скажем, обошла гроссмейстерством, зато у дилетанта и открытий, и удовольствий гораздо больше. Но от гроссмейстера в Тендрякове явно есть главное - желание непременно поставить мат. Этого у него не меньше, чем у Таля или Смыслова. Отсюда картина: играем в шахматы. Я прочно уселся на тахте. Мой противник избрал позу наездника, подложив под себя ногу. Делает ход, меняет ногу. Беспокоен, вертит в руке трубку, набивает ее табаком, непрестанно комментирует, бормоча и перекладывая ноги… Словом, отдыхает по-тендряковски. Если я выиграл, немедленно предлагается новая игра. Если он выиграл (что бывало, увы, чаще) - сбрасывает ногу, на секунду успокаивается и участливо глядит мне в глаза:
- Ты не расстроился? Еще сыграешь? Ага, тебе пора? Ну что же. Приходи вечером. - И добавит, провожая к лестнице: - А дело в том: не надо, миленький мой, было тебе жадничать и хватать, не подумав, как его, мои пешки.
Однажды от нашего общего товарища, археолога и литератора Георгия Борисовича Федорова узнаю… Тендряков обрисовал нашу с ним игру как встречу спокойного мастера (это он) с юным неврастеником (это я), смертельно переживающим свое поражение! Шутки шутками, но я призвал "обидчика" к ответу. Владимир Федорович счастливо расхохотался. Описал очень реалистично, образно, смешно - но не меня же! Не меня! А он хохочет, и мячик в гортани перекатывает высокие звуки все выше, все моложе:
- Ну ты же себя не видишь со стороны, миленький мой! Я когда замахнулся ставить мат, у меня еще опасение было: ты ведь сидишь бледный, а тебе вечером спектакль играть, вот что! Твои дела на доске плохие, тебе бы сдаться в самый раз, а ты все в бой идешь! Ты извини меня, миленький мой, но такого бледного лица я у тебя никогда не видел!
Хохочет. Я ему в ответ про его румяное что-то бурчу. И что это - поклеп, что я безразличен к результату. Это он, мол, страдает от проигрыша. Хохочет еще пуще, вдруг сбрасывает смех… и очень серьезно:
- А дело в том! Когда ты занят своей комбинацией, очевидно, надо заставлять себя как бы перевернуть доску, чтобы понять мою комбинацию…
Бесконечно велись у нас споры о театре. Тут уж мы оба выходили из границ дипломатии. Если кто и смеялся, то только Наташа, жена Владимира Федоровича ("самая красивая женщина Москвы", по авторитетному заявлению Булата Окуджавы) - до чего мы могли распетушиться.
Споры, как чаще всего и бывает, имели под собой не почву, а беспочвенность. Он говорил, что настоящему актеру режиссер не нужен, то есть нужен помощник, а не диктатор. Я шумел, что актерское ремесло в нынешней структуре синтетического театра немыслимо без дирижерской руки. Он кричал, что в "Современнике", где есть и рука, и дирижеры, за актера радуешься, он тебя заражает и уводит куда надо. Я бушевал, что лучшие работы и МХАТа, и вахтанговцев, и "Современника", и "Таганки", и кого хотите - это соединение в одних руках тайны создания и умелого распределения ролей, что без диктата, без единства целей, без формы - нет искусства театра. Он опрокидывал горы и шкафы на имена моих соратников, щадил двух-трех и опять поминал добрым словом Ефремова, Волчек, Квашу, Евстигнеева, Табакова - ну, полный список мастеров "противоположного" театра (там, кстати, с успехом шел спектакль по его повести "Чудотворная").
К пятидесятилетию Тендрякова издавалось долгожданное "Избранное". Любимые повести - "Поденка - век короткий", "Тройка, семерка, туз", "Кончина", "Перевертыши"… Кажется, писатели не любят разнообразить автографы на своих книгах. На этот раз под горячую руку случился спор о театре, что и отразилось в авторской надписи: "Моему вечному оппоненту (такому-то с тем-то и с тем-то) и с неизбежными возражениями по поводу и без повода…" И дата: "3 апреля 1974 года".
Поселок на Пахре, позднее таянье снега. Стройные ряды берез, уставших ждать тепла. Местные жители, оснащенные обувью на резиновом ходу, гости из Москвы - в полуботинках… Из долгой прогулки запомнил промозглость, зябкость, удвоенную рассказом Тендрякова…
Оказалось, что эта книжка вышла чудом. Но не потому, что ее могли "зарубить", а потому… Здесь надо набрать воздуху. Оказалось, что один из собратьев по нелегкой судьбе "советского писателя", прозаик-сверстник совершил заспинное предательство. Уверенный, что его "внутренняя рецензия" до Тендрякова не дойдет (а его и просили написать в расчете на братскую поддержку), не постыдился подставить "братскую" подножку. Рецензия прозрачно-враждебная, подрывная, выдающая сальеризм пишущего сквозь бодрое правдолюбие строк, например, об избытке публицистичности в прозе Владимира Тендрякова…
Я в ужасе, а писатель улыбается: такова, мол, жизнь.
- Чем же он оправдался? - спрашиваю я.
- Убедительностью своего довода. "Я, дескать, полагаю истину превыше дружбы". А дело в том, миленький мой: он будет поспешно убеждать других, но никогда не убедит самого себя, ибо сам он - хороший писатель.
Стало быть, моего ужаса "пострадавший" не разделил по причине знания, а знание вызвало не презрение, а только жалость. Ибо "жалок тот, в ком совесть нечиста…"
Была еще, помню, у него и особая досада на того же "рецензента". Дескать, я же выступал на худсовете по его пьесе. Худсовет был необходим стратегически, а голоса Тендрякова, Абрамова и Залыгина - всего важнее. Конечно, доброе дело было поддержано, но вот в чем досада: "рецензент" знал, что Владимир Федорович поддержал спектакль, несмотря на то что работа театра ему казалась несравненно выше литературной основы. Однако никакое "правдолюбие" не заставило бы Тендрякова поступиться главными ценностями искусства и дружбы.
Кажется, летом того же года заблудились в лесу наши дети. Мы оторвались от шахмат, испугались внезапной темноты ночи, бросились из дому. Бродить по лесу, искать детей, конечно, было мукой: я ковылял, спотыкаясь, по долинам и по взгорьям, но был неоднократно приведен в состояние восторга. Ну и писатель, ну и кабинетный мыслитель… Я диву давался: какая точность движений, какое знание тропинок и опушек! Какая чуткость к спутнику (один фонарик на двоих, и он им чаще светил мне из-за спины, без ошибок двигаясь впотьмах). Как ни сильна была его отцовская боязнь (а его великая любовь к жене и дочери - это особая поэма), но шел весело, не давая мне раскиснуть, бодрил уверенной походкой, мычанием невнятных песенок, помогал городскому паникеру верить в победный исход дела, несмотря на дремучую непролазность ночного леса…
Я спросил его: почему у него нет книги о войне. Владимир Федорович ответил, что никак не может собраться написать о своих фронтовых годах. Во-первых, мешает количество написанного и раздражают штампы "военной прозы". Во-вторых, сперва надо рассчитаться с довоенным временем. А я слышал трижды его рассказы "Охота", "Хлеб для собаки", "Параня" (увидевшие свет лишь через пять лет после смерти писателя) и понимал важность "расчета".
- Война обязательно войдет в мои вещи, - обещает писатель.
- Как жутко детям… глядите - небо без звезд!
Он отвлекает, волнуясь не меньше моего…
- Да Машка и без звезд не собьется, лес невелик, небось набрели на прощальный лагерный костер… (Так оно и было на самом деле.) Да ты иди за мной и не трепещи. Хочешь, я тебе про войну расскажу? Вот я трепетал тогда - это да. В строю по многу дней и без счету километров - все уж слыхали, как солдаты спали на марше. С открытыми глазами, да? Слыхал? А я вышел как-то из такой дремоты - да не в строю, а сам по себе шел в часть. И ночь без одной звезды. И я вышел из дремы, смотрю - впереди две звездочки. Я смутно соображаю, что вот, мол, две звезды, пойду на них. Подошел - а это волк… Спасибо, чудом ушел от него…
В этот момент дети обнаружены, страхи растворились в громких рассказах о Машенькином "папином" характере, о твердости ее курса, о ее ободряющих фразах и прочее.
1984 год. В здании Президиума Академии наук на Ленинском проспекте проходила панихида по П.Л.Капице. Великий ученый и двое его знаменитых сыновей были дружны с семьей В.Ф. После траурного собрания мы уехали вдвоем и у его дома на Сетуньском проезде долго не расставались. Весна 1984 года, на Таганке - беда, и я лишился своего обычного бодрого тона. Тендряков не успокаивает, размышляет и хорошего будущего у затеи с Эфросом на месте Любимова не видит. Веселее разговоры - о семейных успехах. Четыре года назад я нуждался в поддержке, и Тендряков ее оказал лучше других. Теперь он рад, что моя новая жизнь столь счастливо развивается - именно так, как он мне напророчил: "Веня, а вот ты выбирай самое главное, нельзя тебе метаться, и туда, и туда. Сейчас не думай о детях, сейчас - любовь главное. Встанешь на ноги - дети к тебе вернутся, они - твои". Ни он, ни Наташа ни разу не ошиблись в столь тонком деле: понимая и поддерживая меня, сохраняли добрые отношения с моей бывшей женой, и их сочувствие к ней я уважал. Причиной тому был, как говорят в театре, "верный тон". Затем обсудили любимицу Машеньку: ну идеальная девчонка! И внешне хороша, и умна, и пытлива, и смолоду талантлива! Нет, возражает странный папаша. "А меня, как его, не устраивает, что у Машеньки сплошные пятерки. Это неправильная ситуация. Она должна заработать тройку". - "Эка размечтались!.." - "Ну хотя бы парочку четверок - это бы ей пошло на пользу".
…Незабываемо для моего актерского опыта было обращение к Тендрякову по поводу роли Воланда в "Мастере и Маргарите". Владимир Федорович фантазировал по-своему. Он то отказывался писать "вилами по воде", то вдруг хотел видеть его наподобие сказочной феи из "Синей птицы" во МХАТе, то дурачился на счет "таганской куролесицы" - как Любимов и любимовцы станут "улучшать", оглушать, разукрашивать Булгакова… Говорил о месте Воланда в романе, о его предшественниках, конечно, о Мефистофеле… Надо сказать, любые тендряковские погружения в книжные волны параллелей были очень полезны для театральной работы. Реальная помощь в работе над ролью - книга Э.Ренана "Жизнь Иисуса Христа", взятая по рекомендации Тендрякова с его книжной полки.
Владимир Федорович, из полемических соображений, нарочно принижал свою "квалификацию". Он держал себя в спорах старомодным ценителем актеров-солистов, отрицал "режиссерский диктат", но на самом деле был настоящим человеком театра. Его театр оживал на страницах книг, где герои говорят каждый по-своему. Его сюжеты захватывают, как в театре. Его барометр предпочитает бурю - его театр выбирает трудные, рискованные состояния персонажей. Самое высокое в театре и на сегодняшний день наиболее дефицитное - трагическая тема - ближе всего перу Владимира Тендрякова. Диапазон драматургии, которой пропитана его проза, колоссален. Быт и поэзия, деревня и столица, юность и старость, графика и живопись, лирика и публицистика - все, что населяет его книги, можно легко услышать, как настоящий театр жизни. Я уже не говорю о тех пьесах, которые были собственно адресованы сцене. Известно, с каким успехом прошли все тендряковские фильмы и спектакли. А я вспоминаю, как носился - увы, безрезультатно - с его пьесой "Молилась ли ты на ночь, Дездемона?.." - о самодеятельности в деревне, как увлек ею друзей из чешского театра, как фантазировал перед автором ее сценические возможности и как он искренне отмахивался:
- Это временное озорство, миленький мой, это не литература, а в театре я плохо понимаю…
Помню разговор на тему "хороших и плохих народов". В.Ф. упрекал меня в невежестве по поводу еврейской истории, показал книжки, коротко и ясно обрисовал уникальную судьбу моих соплеменников в Испании, Германии, Польше, Украине. А я ему: все так, но вот у меня, такого миролюбивого парня, если есть враги-недоброжелатели, то почти все - из еврейства, как быть? Тендряков: "А ты, как его, напрасно думаешь, что богатая история дает гарантию качества всем людям…" И далее об ошибках обобщений. О том, что каждый народ можно огульно вознести на пьедестал и его же - низвергнуть в ад. Больше всего его досадовали писатели, кичливые величием русского народа. "Какой к черту великий народ!" - и дальше следует серия постыдных примеров. "Какая к черту широкая русская душа! Борька Можаев - хороший писатель, но поди его, трезвого, попытай на корысть - за копейку удавится!.." Очень любил А.Вампилова и В.Распутина, и оба отвечали крепкой взаимностью. Однако удержать Распутина ему не удалось - от зигзагов "комплекса национальной неполноценности"… "Так кто же, - приставал я, - самый качественный из народов - нету таких?" Неожиданно мудрец становится похож на ребенка… поморгает, поморгает и изрекает: "Алтайцы - очень хорошие! Совсем не испорченный народ".
Помню тяжкие времена запретов на публикации писателя В.Тендрякова. Конец 60-х - начало 70-х годов. Один за другим пишутся замечательные рассказы и эссе. Дважды - у него дома и в доме близких друзей Верейских - я слушал чтение этих рассказов, напечатанных уже после смерти Владимира Федоровича. Наташа предлагала: "Володенька, пусть Веня прочитает, он же актер". Писатель трогательно нахохлится, покачает головой и твердо откажет жене: "Веня, как его, хороший на сцене актер, особенно в "Жизни Галилея", но это, миленький мой, я сам, а ты послушаешь". И слушать было невероятно интересно - и "Параню", и "Хлеб для собаки", и все рассказы тендряковского "самиздата". В эти же времена помню приезд Роя Медведева на Пахру. Они с Тендряковым из дачи № 7 переходят напротив, к даче № 6. Выходит А.Т.Твардовский, они садятся в автомобиль Владимира Федоровича и едут в Калугу, в психиатрическую клинику, где был заключен диссидент Жорес Медведев…
Помню акцию борьбы Тендрякова против варварских лесоповалов в Московской области. В один из моих приездов на Пахру Юрий Нагибин зашел к соседу, прервал наш шахматный матч, мы сели в "газик" местного лесничества и уехали километров за сорок, в какой-то райцентр, к какому-то "шишке" района, подписавшему документы на вырубку леса под дачи партийным деятелям. Тогда акция имела временно положительные результаты…
Помню Тендрякова в его кабинете склонившимся к мудреному аппарату: как в химической лаборатории изучают диковинки биологии - писатель изучал новые произведения А.Солженицына, в виде микрофильмов. Может быть, это было сразу после визита к Александру Исаевичу в Рязань. Из рассказов об этом самое яркое: у Солженицына потрясающий порядок в кабинете и сделана своя картотека имен и произведений, интересующих ссыльного классика. Он подводит Тендрякова к картотеке, и тот обнаруживает свое имя и свою прозу и, не скрывая гордости, сообщает мне об этом. Для меня самого повести "Поденка - век короткий", "Кончина", "Тройка, семерка, туз", рассказы "самиздатовского" Тендрякова и "Три мешка сорной пшеницы" до сих пор - незабываемо прекрасная проза.
…Если остановиться в рассказах о Владимире Федоровиче - то лучше всего на такой для меня неожиданности.
Недалеко от поселка писателей, в пансионате, проходил зимний семинар молодых работников культуры. Во всех углах, на всей территории пансионата - бурные дебаты, обмен опытом. Кино, изо, литература, театр, все флаги в гости - там. Я провел занятия с театралами и посетил еще два семинара - Ю.Трифонова и В.Тендрякова. За этими радостями можно было специально издалека приехать. Так вот - о встрече молодых прозаиков с Владимиром Федоровичем. Он им прочел только что написанную главу из повести "Шестьдесят свечей", ему задавали вопросы, он как-то тихо и сосредоточенно отвечал, без обычного увлечения предметом… Я, кажется, впервые видел его таким…
Впрочем, молодежь была довольна очень, даже несколько человек задержали меня в конце и попросили походатайствовать перед писателем за них - прийти еще раз, вне программы. Назавтра мы играем в шахматы, и я, как обещал, ходатайствую. Писатель удивляется. Потом расспросил, что именно мне понравилось. Повторить беседу с молодыми литераторами отказался. Я уговариваю. Он - ни в какую. Я: "Владимир Федорович! Вы же не как классик, а как их современник, как радующий читателя прозаик - ну выступите, ну что вам мешает? Вам что, не понравилась встреча с ними?" Он: "Понравилась. Но дело в том: о чем они просили, я ведь, как это, все рассказал и ответил. Нет причины опять встречаться". Я: "Не понимаю! Я бы пошел! Ведь там было все, что нужно писателю: внимание, интерес, понимание. Правильно я говорю?" Он ответил непредсказуемо: "Восторга не было…"
Я запомнил крепко и доныне считаю, что восторгом называется одна из важнейших категорий живой эстетики. И если "поверить алгеброй гармонию", а наукой - эмоцию восприятия искусства, то надо сказать, что эту проверку счастливо проходят книги и роли, дела и поступки, слова и фразы людей из театра моей памяти… Категория восторга. С этим кланяюсь имени и памяти Владимира Тендрякова.
ТУРИСТ С ТРОСТОЧКОЙ
В 1971 году я снял на телестудии в Останкино фильм-спектакль "Первые песни - последние песни", композицию по стихам, письмам, песням и дневникам поэта Н.А.Некрасова. Один раз показали, назавтра запретили. Передачу мою видел Владимир Тендряков и утешил, узнав о ее судьбе: "Знаешь, что напугало в твоей работе? Ты, миленький мой, неправильную фамилию выбрал. Они теперь как услышат "Некрасов" - себя забывают. Думают: ах, какая страшная фамилия!"
Идея писателя была такова: пока жив Виктор Платонович Некрасов, нельзя, не время добром поминать любого однофамильца. А вдруг ухо советского человека пропустит имя-отчество классика русской поэзии? Смешно, а все-таки правда: говоря кому-то о своей передаче, я и сам в то время не мог бегло произнести "передача о Некрасове" или "я сделал композицию по Некрасову", а непременно акцентировал: "о Николае - Алексеевиче - Некра…"
Вот какое время было: расскажешь - не поверят. Например, пугало начальников в те годы название книги А.И.Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ". А у меня в одно и то же время были съемки в фильме из "французской жизни" у режиссера А.Орлова и встреча с композитором по поводу моей пьесы по мотивам туркменских сказок. И в течение одной недели я узнаю о срочных переменах в названиях обеих работ… Фильм назывался "Архипелаг Ленуар" (по-новому: "Господин Ленуар, который…"). Пьеса называлась "Ярты Гулак" (в переводе - "Верблюжье ушко"), а стала называться "Сказки каракумского ветра". Друзья острили, что специалисты из КГБ сложили два заголовка и испугались: "Архипелаг - Ленуар - Ярты - Гулак"!
Облик и речь Виктора Некрасова - знаменитого "Вики", - как только вызовешь их на сцену театра памяти, немедленно влияют на твой собственный ритм, слово, тонус, пульс. Образ его собирается из двух контрастных половинок: элегантный, старой выучки интеллигент, художник, прозаик, франкофил, боевой офицер, автор лучшей книги о войне 1941-1945 годов, человек редкой гражданской отваги, в 60-х годах бросивший вызов всесильной компартии, испытавший преследования и обыски диссидент - это один портрет. Но веселый смутьян, матерщинник, выпивоха, нарушитель спокойствия, легкомысленный гуляка и "зевака" - совсем другой? Нет, тот же самый. Экзотическая птица в советском писательском парке: человек такой "опасной" независимости в речах и в манере поведения.
Включаю свет, на моей сцене милые сердцу эпизоды встреч с прекрасным Викой.
Июль 1971 года, подмосковный поселок на Пахре. Дача Владимира Тендрякова. Празднуется день рожденья Машеньки, дочери Наташи и Володи. Ей шесть лет. За вкусным столом сидят три ближайших друга Тендрякова: Камил Икрамов, Владимир Войнович и Виктор Некрасов. Обильная еда не помешала хорошо напиться хорошим писателям. Я не понял толком, отчего разгорячились в споре друзья, но Икрамов остался тверд и непреклонен, Войнович вне срока сел в "Запорожец" и уехал в город, а Некрасов с хозяином дома продолжали на повышенных тонах обсуждать свои материи. Я был только зрителем, поскольку был усердным читателем спорщиков. Что касается Войновича, то он в тот день был храним Богом, ибо его "Запорожец" сгоряча проехал по старому мостику через речку, не заметив запрета. Следовало совершить объезд, но водитель промахнул и запрет, и сам разобранный мостик, состоявший всего из двух бревен… По ним он и пересек речку, без тренировки став рекордсменом Книги Гиннесса, каскадером Голливуда - словом, чудом остался жив. Событие это было отмечено по другую сторону моста - на даче в Пахре. Икрамов произнес тост за Войновича, Тендряков - за Некрасова, которому в июне стукнуло 60 лет, а я - за виновницу торжества: "Машеньке 6 лет, значит, она есть Некрасов - на старые деньги!" В то время все цены еще делили на десять, имея в виду денежную реформу 1961 года.
Еще через час я снова изумился очередной стычке "трех мушкетеров". Тендряков и Некрасов, как мальчишки, наскакивали друг на друга, Икрамов их мудро разнимал, потом все дружно перешли к чаю. Вдруг опять вспыхнула распря: Вика мимикой, голосом и жестами передразнивал патетику тендряковского заголовка повести: "А ты чего? Как у тебя? "Свидание с Нефертитью"… "Свидание с Нефертитью"…" Тендряков, без паузы, с намеком на высокопарность некрасовской новеллы: "Ну а ты? Ах, "Кира Георгиевна, Кира Георгиевна"!.." Икрамов засмеялся, и все расхохотались над таким петушиным забиячеством.
Через месяц, в августе, я оказался в Переделкине, в доме у Евгения Евтушенко. В это время на Таганке готовился спектакль по его стихам, а я вместе с Леней Филатовым и Толей Васильевым назначен был Любимовым режиссировать отдельные эпизоды. Во время разговора появилась Юля Хрущева - "удочеренная внучка" Никиты Сергеевича - с каким-то сообщением о назначенной встрече Хрущева с поэтом. Еще через пару месяцев я вспомнил свое знакомство (ставшее впоследствии дружбой) с Юлей по грустному поводу.
"Таганка" прибыла в город Киев, и начались бурные гастроли в столице УССР. В самые первые дни мы собрались в доме друзей Виктора Некрасова: Ю.Любимов, В.Высоцкий, И.Дыховичный, Б.Хмельницкий… - "узкий круг революционеров". Виктор Платонович "правил бал", делал шутливые напутствия гастролям - кого любить, кого опасаться, ярко обматерил местных шефов "Союза письмэнников", припомнил свою речь над Бабьим Яром, но начал вечер очень серьезно: давайте помянем Никиту Сергеевича Хрущева (накануне почившего в Москве). Виктору Некрасову крепко досталось от "Никиты", много судеб сломала неуемная, немудрая "культурная политика" героя XX съезда. Прозвище "туриста с тросточкой" на слух безобидно, а в жизни писателя накликало больше беды, чем шуток. Хрущевская метла начисто выметала - от Б.Л.Пастернака до В.П.Некрасова. Но своим тостом Вика обратил нас к несчастной истории России, а на этом фоне имя Хрущева звучало добром. Реабилитация сталинских жертв, безуспешная репетиция свободы в рабской стране, приоткрытый "железный занавес" и такие перемены в кремлевских теремах, что впервые вождю-изгнаннику дали умереть своей смертью, - по мнению писателя, будущая Россия, если не сгинет в пропасть, а чудом обретет цивилизованный вид, будет благодарна Никите Хрущеву за великий риск первого шага.
Виктор Платонович не согласился с кем-то из нас, кто сказал: мол, нашему народу только дай царя, свобода ему не по плечу и т. д. "А я вам расскажу, - начал писатель, - как сильно народ привязан к царю. Вот представьте себе 56-й год. Прошел съезд. Сталина вынесли из мавзолея, и наш брат писатель-прогрессист затаил дыхание… В какой, мол, бунт, "бессмысленный и беспощадный", заведет этот царелюбивый народ разоблачение культа личности? Не разобьет ли мужик рожи наши интеллигентные - за покушение на идолов? И вот представьте себе меня, грешного. И иду я себе поутру знакомой тропой к пивному заведению, по известной нужде благородного похмелья. Тому здрасте, тому здоровеньки булы, короче - взял свою добрую кружку лохматого пенного зелья, отошел в сторонку. Присел рядом с другими мужиками, ибо что-то лежало новенькое и продолговатое у ларька, на чем было удобно присесть. Кто-то болтает о погоде, кто-то молча восстанавливает утраченные силы. Гляжу, один из нас водки себе налил и собрался яйцом закусить. Гляжу, постучал человек об угол того непонятного, на чем мы уселись, выпил и закусил. А я вгляделся в этот угол: а там под крошками скорлупы лежит знакомое лицо работы знакомого скульптора. Дальше гляжу - и все мы сидим на шинели, и значит, на "завалинке", по имени - "вождь и учитель всех народов". Мне-то удивление, а они-то спокойно себе сидят и, как говорится, в ус не дуют! Вчера им сказали - бякой оказался царь, злодей он последний, долой памятники. Мы-то затаились, а они как вчера скинули, так сегодня об его нос скорлупу чистят. Вот вам и народ. Он, наверное, поздоровее будет наших догадок о нем…"
Примерно в этом роде, былинно и язвительно, рассуждал Виктор Некрасов в доме своего приятеля Толи. Кстати, любопытно, что Толя был не только выручателем Некрасова (дал ему заработать, придумавши совместно сценарий многосерийного научно-популярного фильма), но и сыном зам. директора Театра оперетты, где мы гастролировали. Любопытно, что Толя помогал Некрасову, чью фамилию выставлять было нельзя уже в то время, а фамилию Толи - очень даже можно, ибо Толя был Анатолием Брежневым. И, конечно, Вика не прошел мимо данного факта, а, отметив с печалью уход Хрущева, предложил выпить за Брежнева - но за Толю. То есть за дружбу и за друзей.
Дважды после тех гастролей я приезжал в Киев - на киностудию и с концертами. В первый раз в одиночку посетил квартиру Галины и Виктора Некрасовых. В кабинете писателя - много фотографий и большая карта Парижа. Карта висела - "из бескорыстной любви". Она, конечно, не знала своего будущего. Через пять лет мне привелось ее увидеть… в парижской квартире Гали и Вики. Среди фотографий я выделил две - Жана Габена и Иннокентия Смоктуновского. Последний начал свою кинокарьеру в роли Фарбера в фильме "Солдаты" по некрасовской книге. Прощаясь, Вика передал привет "мушкетерам", то есть Тендрякову, Войновичу, Икрамову… Порадовал тем, что вроде бы пошло в печать его "Избранное"…
Прошло недолгое время, и Некрасова стали изгонять из СССР. Так случилось, что я прилетел в Киев, ничего не зная о недавних обысках на квартире Некрасовых. Имея до вечера время, позвонил Вике, не обратил внимания на удивление в его тоне, напросился "по традиции" на борщ, да еще вдвоем с приятелем, получил "добро" и явился. Оказалось, что в доме гостей уже не бывает, кроме тех чекистов, что оставили неопрятный след на книжных полках. Оказалось, Вика решил, что я "напрашиваюсь на комплимент" властей, ибо сам хочу эмигрировать… Объяснив ситуацию, обеспокоился и за меня, и особенно за "невинную жертву" моей неосведомленности - за моего спутника. Однако не уходить же без борща? И милая Галочка, медсестра с войны и подруга "мирного времени" Вики Некрасова, с успехом отвлекла гостей от переживаний. "Ты, Веня, скажешь, что ничего не знал о моем антисоветском облике, что пришел почитать книжку "В окопах Сталинграда" и похлебать борща…" Потом мы посидели под картой Парижа. "Привет трем Володям, - сказал Вика, - Тендрякову, Войновичу и Высоцкому". Подарил свою грустнейшую фотографию и надписал на обороте: "…и да хранит Ваш театр бог". И вздохнул: "И знаю, что надо писать Его с большой буквы, а не могу теперь…" То было откликом Виктора Некрасова на патетику А.И.Солженицына: после стольких могучих произведений, после стольких примеров неслыханного персонального богатырства - один против смертоносного врага-государства! - вдруг появились строчки рассказов, где пафос религиозности смутил даже самых стойких почитателей… Эти проповеди, а в них - отповедь каждому, кто пишет Его Имя с малой буквы, эта новая интонация - очень напоминают великого пианиста, который вдруг не заметил, что играет на расстроенном рояле… Прощаясь, я поймал Вику на слове: мол, если я буду сваливать на вашу книжку, я ж книжку должен иметь! И тут вышла заминка. Вика обошел шкаф, где стояли его книги, указал на следы разорения после обысков, искал, искал да так и не нашел "Окопов" на русском языке. Предложил:
- Хочешь на венгерском? На немецком? Могу на узбекском пару экземпляров? Ага, вот есть на хохляцком. Это, ты прав, лучше всего. Украинцы, как и русские, не очень-то виноваты, что от их имени меня хлебосольно выпирают из Киева и страны бандиты из нашего "Союза письмэнников"… - И сделал мне надпись - конечно, на украинском языке.
В 1977 году Театр на Таганке прилетел в Париж. Сказка сказкою, а бдительность - бдительностью. Нас собирали оптом и в розницу, увещевали, готовили к худшему… В том смысле, что ты, мол, советский артист, а в Париже много антинашего народа. А директор театра прямо в лоб мне заявил: если у вас в Париже появится идея встретиться с нашими "бывшими" - не советую, это плохо скажется на жизни коллектива, не говоря уже о вас лично. Я был настроен антидиректорски: "Если вы намекаете на знакомство с Виктором Платоновичем…" - "Да, намекаю", - вставил ответственный за нашу бдительность. - "…то в этом случае, пардон, но я в тридцать семь лет обойдусь без советов…" Ну и обошелся, что аукнулось через полтора месяца в Шереметьево: там хорошо "прошмонала" актеров родина поголовной бдительности.
В Париже было сказочно. И спектакли, и бульвары, и ночные прогулки, и зрители, и всё, всё, всё. Об этом я и доложил… Вике Некрасову. Нет, я не был смельчаком, я бы сам не стал, наверное, разыскивать его, тем более что и не был уверен в его интересе к моей персоне. Но вот в день первой репетиции, на ступенях Дворца Шайо, на площади Трокадеро стою среди множества людей российского и французского происхождения и вдруг слышу голос: "Веня, не кидайся целоваться, а спокойно повернись ко мне…" Это была Галина Некрасова, и мы очень славно сговорились о встрече… В назначенный день доехали вдвоем, с художником Давидом Боровским, до Монмартра на метро, на выходе из туннеля заметили Бычкова - нашего "сопровождающего от Министерства культуры", который смотрел в другую сторону… Мы вздохнули и поднялись к Некрасовым. И был стол, и была водка, и был борщ Галины, и высокохудожественно звучала речь писателя - как молочная речка в матерных берегах…
Мы ему - о Москве, о гастролях театра, о чекисте в метро, о Киеве. Виктор Платонович - о своем:
…Что, разумеется, тошно без читателей России… Что сближение друзей в эмиграции обернулось сварой на коммунальной кухне… "И даже я, ангельского характера хлопец, ушел из "Континента", не вынесла душа, ребята…" Что последний, кто нас всех понимает и выдерживает, остался Степа Татищев - да и тот русский только по фамилии… Что подарит нам свою книжку "Взгляд и нечто", и вообще - вот вам целый стеллаж, берите сколько угодно - и Авторханова, и Солженицына. Если сможете протащить в ящиках реквизита - благо вам: писатели без читателей - это (далее следует "береговая канонада")… Что вернулся на днях от врачей в Швейцарии, что пить водку - вредно, за это мы ее и уважаем и давайте выпьем ее - за это… Что вот тебе, впечатлительный артист, зарисовка с натуры - западной, ети ее мать, жизни Вики с киевского Крещатика: позавчера - Швейцария, затем в гостях у Левочки Копелева в Кельне, затем - такой режим дня… Фрюштюк - в Германии, вот тебе оттуда статуйка дурацкого бюргера. В 12 дня - ланч в Люксембурге, вот тебе ихняя стеклянная собачка с выводком в брюхе. А в восемь часов - ужин на Монмартре! (Проговорил все в пулеметном темпе, а в конце, вместо точки, высунул язык и захохотал.) Так что не верьте этим б…м пропагандистам из х…х письмэнников, что эмигранты помирают с голоду и с тоски. Есть факт, что нет читателя, а жизнь, конечно, прекрасна на свободе. Утром вышел - гляньте, хлопцы, на то угловое кафе - зашел и сел себе, с газетой "Фигаро". И с одной чашечкой кофе высидел свои полтора часа, за что ничего, кроме большого мерси, ни от кого не получил!..
Теперь неопасно сознаться: все подаренные Некрасовым книги доехали до Москвы… и стеклянная собачка со щенками в животе - доехала до дома… И приветы от Вики были переданы - не по телефону, конечно. И Смоктуновскому, и Игорю Кваше, и Севе Абдулову, и Тендрякову, и Войновичу, и Камилу Икрамову… А доблестный Степан Татищев - француз, профессор славистики и заодно красавец, любимец дам - хорошо покатал нас с Боровским по заповеднейшим местам Франции, по замкам вдоль реки Луары. Он был обучен горьким опытом дипломата с титулом "персона нон грата", назначал нам свидания подальше от советских лиц и не верил в телефоны парижского отеля, имеющего дело с Москвой. А я смеялся и утешал Степана: за тобой следили, так как ты был дипломатом и водил дружбу с "любимцами" органов - с Викой, с Копелевым, Окуджавой, Галичем, Сидуром, Биргером, Эткиндом, Аксеновым, Войновичем… А мы чудесно "прошли" в Париже. Газеты ахнули. Посол заявил, что "Таганка" за месяц сделала то, чего сто пропагандистов за десять лет не могли сделать… Да ты что? Нас в Москве зареванный ЦК будет цветами забрасывать… Татищев качал головой и советовал помнить "сопровождающего" в метро на Монмартре…Чушь, - смеялся я. - Байки про майора Пронина ("пришел домой, хочу спустить воду в унитазе, а оттуда - немигающие глаза майора Пронина")…" Но прав оказался Татищев, потомок великого графского рода. В Москве таки наш театр был встречен на таможне как группа преступников. Двенадцать фамилий громко объявили, и всех бдительно обыскали. Два с половиной часа наглядного урока любви и благодарности к театру-"пропагандисту". Не скрывая своей сопричастности, рядом со "шмоном" стояли Бычков и Коган-директор. Трофеи КГБ были богатейшими: у Зины Славиной лежали неистраченные франки (нельзя ввозить валюту в страну девственного рубля); у Б.Глаголина - общепопулярные журналы с неприкрытой любовью к женскому телу на обложке; у меня - авторучки, купленные… в киоске советского посольства в Париже (в протоколе обыска сказано: "изъяты две а/ручки с а/художественным оформлением"); у Рамзеса Джабраилова - книжки "а/советских" авторов… Чекист открывает чемодан Рамзеса и сразу глядь - книжки. Обалдел офицер: почему не спрятано, почему искать не надо, почему на видном месте ТАКОЕ? Рамзес честно признался: "В Париже времени не было, привез, чтоб дочитать, разве нельзя?" Впоследствии Ю.Любимов мощно отыгрался "на ковре" в ЦК, описав и гастроли, и "благодарный шмон" в Шереметьево, и крупный улов КГБ - в виде комичного "библиотекаря" Рамзеса Джабраилова.
Но я пережил тяжелые часы, глядя на "работу" лейтенанта с моими вещами… И пока он обшаривал сувениры - побрякушки да детские колготки, я молил Бога - чтобы пронесло. Причина моего страха: Виктор Некрасов вручил мне увесистую коробку с драгоценными лекарствами - другу в Питере, со страшной болезнью. Лекарства из Швейцарии, очень дорогие - все это должно быть, конечно, изъято, но главное: я поленился перепаковать коробку. Так и красовалась надпись, сделанная рукой Вики… Вика - не Татищев, он и в надписи не соблюдал конспирации… Мол, Веня, отвези другу милому в Питер, скажи ему то-то и то-то, что я живу хорошо вдали от Советов и дай вам Бог держаться… И слово "Бог" было с большой буквы. И почерк Некрасова, скорее всего, им известен. Да и "наводчики" стоят рядом… Однако пронесло…
В 1984 году - Новый год в Париже. Чудеса, почти не объяснимые. Показываю молодой жене Париж - в карусели встреч, улиц и огней… С близким другом художником Борисом Заборовым, с его женой Ирой - вчетвером нанесли визит Некрасовым. Галя, Вика и чудом вызволенные из СССР сын и невестка Гали живут на окраине Парижа. Нервный Заборов путает дома, обзывает район Черемушками, произносит в отчаянье: "Мы в западне". Находим. За столом, кроме нас, сидели Татищевы. Вика не пил водки, зато пил пиво и аккомпанировал актерскому моему показу киевского визита (после обыска), парижского визита (перед шмоном) и т. д. "Да, - согласился Вика, - меня так и не научила бдительности е… советская власть! И когда у вас в Москве разразилась эта показуха по имени Олимпиада-1980, у нас в Париже прорезалась свобода звонить напрямую к вам, без заказов, прямо как в свободном мире. И тут я разыгрался. Чуть выпью свои добрые 300 грамм - и к телефону. Кого только ни будил! Даже тех, у кого совсем бдительность дремала - и их заставлял вздрогнуть: "Алло, старик, это я, Вика Некрасов из Парижа!" Но недолго музыка играла, Олимпиада кончилась, закрыли линию… Видимо, я им нарушил олимпийское спокойствие".
…Через пятнадцать лет после той поездки и через одиннадцать - после смерти Вики, получаю подарок от Вити Кондырева, приемного сына В.Некрасова: два фото из их семейного альбома. Боже, как весело, как мы хохочем со Степаном и Виктором Платоновичем… В Париже в 1984-м это звучало буднично, теперь - как хвастовство: Вика пригласил нас с Галкой в "подшефное кафе", обучал уваженью к французской закуске под пиво, а после хорошего часа болтовни заявил: "Ребята, бегите в Париж. Мне пора на работу. Пойду поклевещу". Так и врезалось: серьезное занятие, приносившее толк и радость слушателям радио "Свобода", на шутливом языке писателя значило "пойти поклеветать"…
1987 год… Умер Виктор Некрасов. Недоперестроилась Россия: все органы печати получили запрет на публикацию некролога. Только газета Егора Яковлева "Московские новости" - отозвалась заметкой и фотографией. Кто сегодня оценит тогдашний парадокс: горе от некролога смешалось с гордостью за подвиг редактора. И разговоры о том, что случилось с Некрасовым в Париже, заканчивались вопросом - "Что теперь сделают с Яковлевым в Кремле?"… И кого сегодня взволнует полукаламбур тех дней: Егора Яковлева спас от Егора Лигачева Михаил Горбачев! Я сочинил частушку, и на сцене концертного зала "Россия" мы, четверо из "Таганки", грохнули ее под бурные овации:
По реке плывет Егор, Он гребет по совести, А за ним плывет топор… Вот такие "новости".И частушка уже не смешная, и четверо уже не вместе: Золотухин, Губенко, Филатов и я… Вот такие новости.
В 1996 году мы подружились с кларнетистом Юлием Милкисом. О его таланте Виктор Некрасов написал статью в "Новом русском слове". Едва ли не первая его статья о музыке и едва ли не последняя - в жизни писателя…
В Москве, в серии моих телерассказов (программа "Театр моей памяти"), сняли передачу о Вике. Мой собеседник Юлик Милкис вспоминал дружбу, шутки, дерзости, водку, проказы и поступки Некрасова… Угнаться за молодостью Виктора Платоновича было не просто его юным друзьям, свидетелям последних его лет - и Юлику, и рано погибшему Сергею Можарову…
"Что такое дружба? - требовал к ответу Некрасов. - Вот я могу для вас то-то и то-то. А вы? А ты?" - обращался он к Юлику и Сереже на мосту Александра Третьего. Горячий Юлик ответил немедленно: "Я для тебя могу все!" Вика пресек попытки "мушкетеров" доказать верность прыжками в Сену, но решительно велел Юлику принести прямо сюда и прямо сейчас его кларнет. Вообразить трудно, каково было серьезному солисту исполнить через час "фантазию на тему Вики Некрасова": вынуть драгоценный кларнет, встать на оживленном углу Латинского квартала и сыграть роль уличного музыканта - именно в те дни, когда на больших сценах начинала расти карьера "звезды"! А Вика с шапкой в руках призывал парижан послушать эти неземные звуки и не проходить мимо несчастной судьбы бездомного юноши… В "протянутую ладонь" черного футляра и в шапку Вики нападало такое количество франков, что… Ну и что? Парижский ресторан справился с ночной задачей, и до утра щедрый гонорар был достойно пропит и закусан, стыд кларнетиста осмеян и забыт, но главное, по Некрасову, было вот что. Во-первых, доказано на деле, что настоящая дружба познается не только в беде, но и в музыке. Во-вторых, доказано, что артисту бедность к лицу, ибо художнику быть небогатым, но свободным заповедал Господь Бог… и Виктор Некрасов. И все имена - с большой буквы.
В БЕЗБОЖНОМ ПЕРЕУЛКЕ, "В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ"…
Мою телефонную рецензию на прочитанный подарок - "Книгу о русской рифме" - Давид Самойлов обошел комментарием, среагировал только на предложенное мною улучшение названия: "Книга о вкусной и здоровой рифме".
- Вот когда ты серьезно рассуждаешь - тогда ты похож на других. А когда шутишь, тогда я слышу тебя самого. Не надо тебе быть слишком серьезным. Бери пример с меня!
…Какой это был редкий дар: ни на что несмотря, пройдя круги земного ада, не расставаться с улыбкой, сберечь в себе насмешливую легкость, удивлять нерасчетливым добродушием!
Поэт Давид Самойлов…Молодое время любимовского Театра на Таганке, 1964-1967 годы… Придумали игру в свой театр, которая недалеко ушла от студенческого забиячества - и по форме, и по идеям. Большинство наших друзей уважало любимовцев за дерзость, за искренность, за чистоту страстей. Ну и, конечно, за то, что мы ни черта не понимали своей исторической, как теперь выяснилось, миссии. И, конечно, за молодость и азарт.
Давид Самойлович Самойлов сразу же запретил величать себя на "вы" и по батюшке, запросто забегал до, в антракте и после спектаклей, находил своих друзей, леди и джентльменов, и никак не утруждался соответствовать "личному статусу".
А статус был высок! Специально "для дураков" (т. е. для всех нас - актеров, невежд и эгоистов) Юрий Любимов внушал: "Это не мы с вами, господа артисты. Это от таких корифеев, как Капица, Эрдман, Шостакович, Сахаров - вот от кого я слышал: ого! Давид Самойлов! Это большая поэзия! Это пушкинское дыхание в нашу эпоху засранцев и предателей! Вот кто с вами рядом, а вы все, как эти… алкаши у пивнушки: здорово, Дэзик! Хотя кому я говорю… А! Добрый день, Давид Самойлович! Милости просим! Спасибо, что посетили… А я как раз о вашей поэзии внушал моим обормотам…"
Это примерная "фонография" с одного из множества наших собраний в верхнем буфете. Самойлов отсаживался от любимовского стола - вежливо ("покурить, мол, отойду")… и растворялся в среде "обормотов": "Привет, Володя! Здорово, Танечка! Ой, Леночка, тебя не узнал… Привет, Валера!" А в ответ - шепотом, чтобы не разгневать дальнего, за своим столом, председателя собрания, с пожатиями да с поцелуйчиками: "Дэзик! Салют! Дэзик, как живешь? Дэзик, я тебе должен был за шампанское, помнишь?"
Ну, насчет шампанского зря парень заикнулся: таких долгов поэт не запоминал. Зато никогда не забывал внести пенистую лепту в нашу закулисную подпольно-застольную выпивку. А если он явится, чтобы "раствориться" с приятелем Юрой Карякиным… шампанским вряд ли дело ограничится.
Помню: Карякин мудро сравнивает борьбу Любимова (и нашу веселую житуху) - с притчей о двух лягушках, упавших в банку с молоком. Одна махнула лапой и - на дно. А вторая, вроде бы без видимого резона, как захлопает лапками, как забьется… Молоко от этого вдруг загустело, взбилось, и героиня притчи оказалась на поверхности… сметаны. Юра Карякин: "Так вот, даже если и не победите, так хотя бы сметану собьете. И то народу польза".
Вторит ему Дэзик Самойлов: "Юра! Вот отчего мы с тобой к ним ходим! Это единственный вид стада, где приличному человеку быть не зазорно: мы ведь и на войне сбивали сметану. И с "Таганкой": сбились в кучу и сбили сметану! Пошли выпьем за свободу в вашей буче!"
…Дружно сотворился спектакль "Павшие и живые". Д.Самойлов, Б.Грибанов и Ю.Любимов значатся на афише как авторы композиции по стихам и документам. Пафос представления - антисталинский. "Интеллигентики" - поэты, добровольцы на кровавой сцене. Авторство Д.С. - не только в выборе стихов и прозы, не только в способе монтажа, но и в контроле за тем, чтобы, не "сбиваясь в кучу", индивидуально светились личности, поэты, друзья по фронту: Кульчицкий, Гудзенко, Слуцкий, Коган, Багрицкий-сын…
Когда впервые, в большой гримерной старого здания, мы услыхали композицию от Ю.П.Любимова, свои стихи "Сороковые, роковые" и "Перебирая наши даты" исполнил сам поэт. И я другого такого случая не упомню, чтобы от авторского чтения так разволновались актеры. Красивый баритональный металл самойловского голоса впервые дарит нам эти строки:
Они шумели буйным лесом, В них были вера и доверье. А их повыбило железом, И леса нет - одни деревья…Я почувствовал, что реву, вытер слезы и увидел мокрые глаза моих товарищей. Необыкновенно читал Давид Самойлов. Воздушная прозрачность летящих строчек разрешала тебе, слушателю, не заметить глубины и печали, а просто относиться к стихам как к звукам. Но было в этом более важное разрешение: самому догадаться, лично соединить возвышенность стиля с ясностью подтекстов и красотою трагического замысла…
Папа молод. И мать молода. Конь горяч. И пролетка крылата. Хочется мирного мира и счастливого счастья, Чтобы ничто не томило, чтобы грустилось не часто… Хочется и успеха… но - на хорошем поприще. Аукаемся мы с Сережей, Но леса нет, и эха нету…Когда на Таганке сочинялся спектакль "Послушайте!", во втором акте мы с Любимовым как будто задохнулись "в собственном соку": перебор одних и тех же тем и интонаций, повторы, громыхания… По традиции того периода, Любимов вызывает "скорую помощь". Как он сам говорил: "Надо позвать умных людей, со стороны виднее, пусть посмотрят, потом вместе погалдим…" Галдели продуктивно, весь второй акт сильно переделали, и он стал ударным. Давид Самойлов с приятелем (и даже каким-то косвенным родственником) Витей Фогельсоном много толкового предложили - для композиции стихов и речей. В основном, как помню - в лирической, смягчающей части жесткого представления. А когда через много лет после того я читал "Книгу о русской рифме", мне отозвалось одно из его посещений 1967 года: отвечая на вопросы актеров, он восхитил открытием тайны маяковской рифмовки в "Облаке в штанах":
Вошла ты, резкая, как "нате!", муча перчатки замш, сказала: "Знаете - я выхожу замуж"…
И доказал нам Дэзик, что это не рифма, а физическая боль: что пересказывая страшную новость, поэт сжимает зубы, чтоб не зарыдать; что только сжатыми зубами можно протащить к рифмам "нате" и "замш" эти судорожные, усеченные "знаете" и "замуж"… И он показал - как звучит через эту рифмовку физическая боль обиды… У Самойлова выходило, что нет хороших и плохих, а есть только поэты и непоэты.
Даже автора одного четверостишия можно назвать поэтом, а большого, всесоюзно знаменитого он с той же простой мимикой, с легкой улыбкой, как очевидность, лишал "звания". "Но это не поэт, все ведь ясно, это что-то другое, тем более он и сам знает - какое…" Про известного словотворца и друга "Таганки" уклонился от суждения, зато, процитировав Маршака, исчерпал, что называется, тему разговора: "Такой-то поэт, мол, - цирковая лошадь, он работать не будет…" И этим самым опять же никого не обидел, не поранил, а показал, что есть разные места для обитания талантов: вот здесь находится то, что для меня - поэзия, а рядом - соседние двери, и я совсем не против, пусть их…
Когда в роли "Автора" в наших "Павших и живых" я искал правильный тон для стихов "Жди меня", Дэзик был мягко лаконичен: у Симонова ничего в стихе нет, только очень удачное слово: "жди", оно и должно помогать тону.
В те годы я был, конечно, довольно наивен на счет нашего театра и его поклонников. Казалось, что это армия едино мыслящих и едино обалдевших от счастья зрителей. А они, оказалось, совершенно по-разному судили-рядили о спектаклях. Как я понял по последним встречам с Дэзиком, он не разделял тотальных восторгов. Ни о Любимове, ни о репертуаре не скучал в разлуке. Были вещи на сцене театра, которые его радовали: особенно в первые годы - от "Доброго человека из Сезуана" до "Зорь" и "Галилея"… Если он и дальше проявлял постоянство к труппе и режиссеру, то это, видимо, больше имело отношение к самойловским понятиям чести, товарищества и доброй памятливости. Ясно, что бывать в театре в 70-х годах ему мешали обстоятельства здоровья и география проживания. А еще случались обиды. Горячо заваривался детский спектакль по его стихам с участием двух наших пантомимистов (А.Черновой и Ю.Медведева). Я помню у истоков будущей сказки и Владимира Высоцкого, помню обещания и предвкушения Юрия Петровича… Но никак не вспомню, как оно все распалось…
Какие-то следы обиды я услышал весной 75-го года. Следы, скрытые под всегдашним добродушием. Вот только, кажется, актеров "Таганки" он стал больше хвалить, выделять или… отделять. И от собратьев в других театрах, и от шефа своего театра. "Вы умеете верно стихи читать…"
А в 1975-м было шумное празднество в честь двадцатилетия журнала "Юность". В Центральном Доме литераторов гуляли до утра. Я выскочил с приятелем проводить Дэзика. Собственную нетрезвость пришлось срочно усмирить: Самойлов был наглядно небрежен к своему неважному здоровью. Но на улице Герцена как-то раздышались, и Дэзик разговорился. Было заказано такси, а мимо уходили, прощаясь, к своим автомобилям коллеги и знакомцы. Мило склонился к поцелую Женя Евтушенко: убегая, поздравил поэта с польским орденом - за его блестящие переводы. Пролетел Олег Табаков, удачно пошутивший цитатой из "Двенадцатой ночи". И тут вот Дэзик - о театрах: что "Современник" - очень хороший театр и там живут его друзья, и что перевод Шекспира ему больше удался, чем актерам - чтение перевода, что читать стихи просто так, как прозу, даже очень хорошему актеру вредно для здоровья и что только у Юры Любимова, только на Таганке умеют читать стихи, отчего поэты любят ходить, мол, к вам… и вообще, мол, я был в восторге от твоего Клавдия…
Я: "Дэзик! Ты бросаешься словами!"
О н: "Я отвечаю за свои слова, ты гениально сыграл Клавдия, а разве есть другие мнения, я не слыхал…"
Я: "Дэзик, пусть мы оба нетрезвы, но такси еще нет, ты должен мне сказать серьезно, ибо я актер, а актер - ранимая тварь!"
О н: "Я отвечаю за свои слова, ты не уронил моих надежд и своего таланта, а… а при чем тут твоя утварь?.."
Словом, в полухмельном-полукомплиментарном диспуте Дэзик отметил все, что ему было так дорого в молодой "Таганке": чуткость к авторскому слову, к стилю, к манере чтения поэтов. А я отважно поверил лести в свой адрес…
Дневник 1976 года.
22 марта. 21.30. Театр. Аншлаг в буфете. Давид Самойлов читает свои стихи. Год назад это было чудесно. Нынче Дэзик окреп, поздоровел, даже - сменив окуляр на окуляр - читает что-то по бумаге… однако сбивался, смешивался, и - очень ему и всем мешал (помогая) Рафик Клейнер. Час чтения: маркитант Фердинанд и Бонапарт!!…3-е тысячелетие… внеисторизм историч. стихов… не о сюжетах, а о категориях… Меня заботило чересчурное общее желанье пониманья, а зря. Музыка слова!! Конец. Уходя, я поднес Дэзику книжку его - на подпись. Он резко встал: "А тебе - не подпишу! Обещал ко мне приехать - приезжай. Когда приедешь - тогда подпишу!" Так я и остался без автографа, и Юра Карякин Дэзика поддержал… И оба правы.
Незабываемый период моей жизни: начитал на радио и на эстраде много стихов Самойлова, Слуцкого и особенно Межирова. И на квартире Александра Межирова Борис Слуцкий и Давид Самойлов, все вместе, составляли некий план для моего концерта. Конечно, сам по себе этот план удивителен: классики поэзии "лично" выбирали, обсуждали, смаковали строчки и строфы. Такая была задача - отобрать из океана военных стихов лучшие отрывки, скомпоновать их для полуторачасовой программы. Но всего удивительней было не это, а как они разговаривали - стихами и прозой. Тайна, которую ни понять, ни описать: волшебная свобода воспоминаний, ирония, печаль, сверкающие фразы… и их светлые лица, которые я видел и слышал "сквозь магический кристалл"…
Я не доехал до подмосковной Опалихи, куда много раз собирался с товарищем по театру Рафиком Клейнером, зато с ним же навестил поэта в захолустной новостройке Москвы, в Орехове-Борисове. Там познакомился с его Галей и поразился размерам фирменного рояля, который, кажется, был больше самой квартиры. Многие любимые строчки после этого сопровождались видениями фамильного рояля:
Папа молод. И мать молода. Конь горяч. И пролетка крылата. И мы едем, незнамо куда, - Все мы едем и едем куда-то…Я достал за ужином листок, на котором записал экспромт Дэзика ночью у ЦДЛ, в ожидании такси. Дэзик не поверил, смеялся и уверял, что это я сам сочинил:
Не дождалась тебя Опалиха, Но это все ж не так беда лиха, Зато теперь дождусь я Смехова К себе в Борисово-Орехово.…Такая обыденная была поездка на тряском древнем автобусе - нас везли к себе на встречу студенты МФТИ на Долгопрудную: троих актеров "Таганки" и двух поэтов, Д.Самойлова и Н.Коржавина. Легендарный вуз, полный зал, стихи погибших поэтов в актерском исполнении и стихи Дэзика и Наума - от первого лица: "Но леса нет, и эха нету…" Теперь кажется - и необыденная, и очень важная была забота у поэтов: чтобы эхо осталось с нами.
Наверное, в 1978 году, недалеко от метро "Аэропорт", у кого-то из друзей, Дэзик отходил от гриппа. Был Рафик Клейнер, были какие-то друзья-физики, и мы - с А.П.Межировым - навестили Д.С. Поэты постепенно отделились от общего разговора и ушли в свое. "А помнишь", "а ты был тогда", "а не с тобой ли мы тогда" и т. д. Опять я зачарованно слушаю, переглядываемся с Рафиком и физиками: вот это речь, вот это слово. А на уходе - конфуз Межирова… Дэзик: "О, Саша, я тебе свою книжку подарю. Это у меня уже четвертая! А у тебя?" И Межиров, заметно смутившись, отвечает: "Что ты, Дэзик, меня не спрашивай… Я своих сосчитать не берусь… У меня в год по две выходит…" - "А-а, да, я понял…" Я уточнил предмет конфуза: отдельно у А.П. и отдельно - у Д.С. Ничего такого стыдного, по сути, для Межирова не было. Были стихи: "Коммунисты, вперед!", которые паровозом тянули тиражи и переиздания, но рядом поэт упрямо ставил - сквозь все препоны цензоров - знаменитых "Десантников". И это было особенно сильно после 76-го, после изгнания Александра Галича, ибо текст давно слит с голосом "опального" барда:
Мы под Колпином скопом стоим, Артиллерия бьет по своим… Недолет. Перелет. Недолет. По своим артиллерия бьет…И Дэзик, презиравший политику, все же очень серьезно рассудил - в пользу Межирова: "Ради таких стихов не жалко рядом и "Коммунистов, вперед!"… Лишь бы печатали. Саша - поэт".
Не знаю и не хочу знать перипетий их личных отношений, знаю и видел воочию, какими бывали рядом и как ценили друг друга два любимых поэта и как выделяли особым почтением третьего из них - Бориса Слуцкого. И у него были свои "Коммунисты", и он жестоко расквитался сам с собой. Борис Абрамович Слуцкий эмигрировал в болезнь, в молчание, в безответность, в депрессию.
Давид Самойлов эмигрировал тоже, хотя не написал ни одного "Коммуниста" - ни вперед, ни назад - эмигрировал в свой Залив, в Эстонию.
…А Межиров, ничего никому не объявляя, переехал в Нью-Йорк и в новых стихах расквитался по-своему - и с ушедшими, и с "коммунистами", и с самим собой…
И леса нет - одни деревья…
А вот самая веселая встреча с Дэзиком: 1980 год. Я в Таллине, ставлю спектакль в Молодежном театре. Со мной моя любовь, мой роман, счастье - будущая жена Галя. Дэзик принимает новость близко к сердцу. Потом: "А красивая? А сколько лет? Не артистка?.. Ясно, Вень, срочно приезжай в Пярну, я должен вас благословить. Тем более моей Гали нету, она в Москве…" Это самое "тем более" означало право на выпивку.
Явились автобусом в Пярну. Вечер. Спешу, не терпится благословиться. Вдруг соображаем: спиртного не достать, магазины закрыты! По дороге - кафе. Наша внутрисоюзная Европа - эстонское кафе… Зашли, спросили, в ответ, без всяких европ и уважения: "Мы не знаем русски язык, нету никакой коньяк…" Ясно. Я, уже без надежды: "Простите, а, может быть, вы знаете, где улица Тооминга?" Вдруг перемена, эстонцы светлеют почти до европейского уровня: "А вы к Давид Самойлов русски поэт?" И радость забурлила. С коньяком и гидом нашли улицу и дом.
Дэзик расположил нас в комнате, посетовал на бардак с уважительной причиной: идет ремонт коммуникаций, завтра в субботу авось да закончат слесари-сантехники. Хаос. Поэт бодр, добродушен и весел. Детей уложил, а ужин сотворила моя Галка. Хмельные и очень громогласные, мы обсудили все, что могли: прошлое и настоящее, "Таганку" и Пярну, а потом до трех ночи Дэзик сидел у рабочего стола, а мы - напротив, и он читал новое, новое, новое, потом по заказу - "Пестеля", "Дон Жуана", о немецких маркитантах, музыкантах, о войне и о детстве…
Давай поедем в город, Где вместе мы бывали. Года, как чемоданы, Оставим на вокзале…А утром повел нас к заливу, удивляя подробностями эстонско-петровской старины. Его все узнают, как звезду экрана. Впрочем, и другие звезды частенько навещают улицу Тооминга: Лев Копелев, Юлий Ким, Зиновий Гердт, Михаил Козаков… Я показал Дэзику шестнадцать больших фотографий Валерия Нисанова, с которыми всюду ездил: 28 июля 1980 года, Москва, проводы Высоцкого… Дэзик подробно расспрашивал, мы оба прослезились, потом, к вечеру ближе, он стал читать незавершенную пьесу "Клопов", и сам смеялся, и мы смеялись, и опять возвращались к Высоцкому: эта пьеса была бы для него хороша… Разрешил моей Галке перепечатать сколько успеет, сделал надпись на этой "первой копии". Сокрушался, что "Таганка" отстает от эпохи, что все композиции надо забыть и лучше всего ставить "Клопова". И "Ревизора" - тоже. И что Юра на Западе, творя свои оперы, совсем разучится быть своим парнем, как раньше, что пусть приедет в Пярну и получит все необходимые рекомендации - что ставить, а чего не ставить, после чего блестяще справится с самой нужной нынче из русских пьес - с пьесой "Клопов". И вообще вы глупо делаете, что уходите от своего художественного счастья. А ты, кстати, Веня: зачем ты уходишь от счастья, почему не поставишь на телевидении или у Любимова моего "Клопова"? Ты думаешь, вот помахал игрушечной саблей графа де ля Фер, отвинтил понарошку голову миледи (кстати, очень интересная женщина - Рита Терехова. У тебя не было романа? Нет? Ну и зря…), думаешь, поиграл своего декоративного Атоса - и можешь почивать на лаврах? Разве такая популярность достойна такого артиста? А вот если возьмешься за моего "Клопова"… И шутил, и намекал, и чистосердечно агитировал поэт за свое любимое дитя…
Наутро я вышел по принятии душа из ванной, и то, что услышал, меня тронуло и насмешило одновременно… Дэзик уговаривал опоздавшего на день сантехника сделать ремонт побыстрее, получше, повеселее… и шептал слесарю, и был уверен, что его слышит один только с утра нетрезвый эстонский мастер. Но я подслушал: "…дорогой мой, ты уж постарайся, ты меня не подводи, вот сегодня же начни и все получше сделай. Мне нельзя затягивать этот процесс ремонта, ты понимаешь, ко мне в гости из Москвы приехали - видел телефильм о трех мушкетерах? Помнишь графа Атоса? Его все уважают - вся Эстония и Россия, а он у меня со своей миледи остановился - артист Смехов, понимаешь? Его везде принимают, его в Париже в любом доме принимают, а он - видишь, только в Пярну, только у меня, ну ты понимаешь, как должна работать сантехника? А ты мастер, я знаю, я ему скажу, он всем мушкетерам расскажет, что в Пярну такой мастер, сделай, пожалуйста, поскорее, ладно?"
Я впоследствии несколько раз у Дэзика в Безбожном переулке в Москве передразнивал, пародировал, перешептывал за него и за слесаря. Слесарь на смешанном языке разных народов обещал наладить канализацию в честь Атоса! За добавочную оплату труда…
Последние встречи - время последних надежд Театра на Таганке… Николай Губенко в качестве героя нового времени собирает под добрые знамена старых друзей, 1987-1988 годы… Мы обсуждаем планы - что ставить, чем удивлять публику. "Доктор Живаго" и судьба Пастернака - одно из главных упований нашего несостоявшегося Ренессанса. И пьесу заказывать мы поехали на квартиру Самойловых, в один из приездов Дэзика.
Затем - телефонные контакты, и наш худрук ни разу сам не позвонил, а я этого и не заметил. Но позже выслушивал недоуменные жалобы на странного Колю: "Веня! Я тебе из Пярну звоню. Отчего это никак Губенко не проявляется, не знаешь? Я ведь давно пьесу ему отдал…" А мне-то все было близко к сердцу, ибо первый вариант пьесы я услышал из уст автора, чтобы назавтра передать заказчику на Таганке. И все здесь необъяснимо. Губенко высоко чтил поэта, о чем была его публикация в "Литературке". Сам заказал пьесу. Самойлов явно предался сочинению с душевным жаром и очень ждал понимания заказчика. Но - не дождался. Мое положение было дурацким, ибо Д.С. желал именно меня иметь посредником: звонил, слал письма, взывал к справедливости… Как мне было объяснить ему, что охладило Губенко: в 1988 году сам роман казался "неглавным" для будущего спектакля, а главного ждали от документов травли, исключения Б.Л.Пастернака из Союза писателей, от материалов малоизвестных или даже закрытых в то время… Но поэт совершил акт искусства: оригинально и сильно собрал в пьесу огромный роман, а публицистике уделил несколько последних страниц…
Мне дважды стыдно вспоминать о "Живаго" в инсценировке Д.Самойлова. Во-первых, я уверен, не все средства использовал, чтобы смягчить обиду поэта и убедить худрука театра работать над пьесой. Во-вторых, виноваты сразу все свидетели происшествия - за то, что Давида Самойлова тогда принудили говорить без юмора. Не знаю, как другие, но мне ни разу больше не привелось слышать или видеть Самойлова в разлуке с его иронией, с его элегантным сарказмом… и довольно об этом. Лучше-ка припомню еще два более "типичных случая".
В 1987 году, с театром "Современник" я оказался в Таллине: играли концерт-представление "Дилетанты". Уже в гостинице, сразу по приезде, я получил записку от Д.С. В ней - шуточки и призывы бросить к черту бесплодные усилия по борьбе за популярность в среде эстонских гражданок и прямо перейти к столу совместных возлияний. Бесплодных усилий я, конечно, не бросил, но и к столу поспел и даже исполнил просьбу председателя жюри то ли конкурса, то ли фестиваля русской поэзии в Эстонской республике - Давида Самойлова.
Меня водрузили по правую руку от председателя, тот тут же громко объявил выступателем. Я изо всех сил постарался быть веселителем и по истечении заслуженных оваций был осчастливлен ролью совместного выпивателя и закусителя - прямо за кулисами Русского театра. Впоследствии Дэзик несправедливо и неоднократно хвалил меня за то, что я оказался выручателем… это не так. Я попал в скучный вечер, где Д.Самойлов принужден был вести поэтическую селекцию… Все ему было не по сердцу: ярких лиц и звуков недоставало, молодые стихотворцы читали смущенно и тихо, сидеть поэту долго было невмоготу, - и вдруг явился со стороны актер и очень громко прочел какие-то смешные штуки чужого и собственного изготовления. Зал оживился. Он бы еще более оживился, если б на сцену вышли все мои сотоварищи по "Дилетантам" в Таллине: и Евгений Евстигнеев, и Валентин Гафт, и Галина Волчек… Смешно было вечером, в компании молодых друзей Дэзика, когда в благодарность за "спасение" скучного вечера любимый поэт сгоряча принялся хвалить меня как писателя, но тут я отказался от щедрот, доказав ему, что он хвалит меня авансом: о книге моей он слышал, а сам не читал… "А зачем мне тебя читать, я тебя и так знаю, давай-ка лучше выпьем" - и вопрос моей писательской чести был решен полюбовно.
…Совершенно исторической надо признать мою скромную роль в деловом календаре Д.Самойлова. В год его шестидесятилетия ему надлежало исполнить противные формальности, чтобы советская власть официально признала его пенсионером. Вся процедура не вспоминается глупейшей или утомительной только по причине юморного сопровождения. Мне была поручена роль водителя. Я с жаром взялся за руль, и мы уехали с Д.С. из дома его мамы, что на углу Мясницкой, по Сретенке, 1-й Мещанской, с заездом к нему за документами - далее к Рижскому вокзалу, в СОБЕС тогдашнего Дзержинского района. Конечно, по пути досталось району - не только по дзержинской, но и по моей вине, ибо я именно здесь родился - через двадцать лет после поэта, и, конечно, впоследствии, через двадцать лет, именно ему придется отплатить мне за мою любезность: Дззик обещал и меня привести к пенсии.
Ролью шофера ограничиться не удалось, ибо дамочка-делопроизводительница не была исключением из советских правил… Хотя Давид Самойлов-Кауфман предъявил все искомые бумаги, у дамочки были свои виды на скорость исполнения и, очевидно, на особенности фамилии кандидата в пенсионеры. Она тянула канитель, задавала идиотские вопросы, придиралась и норовила хорошенько погонять его по инстанциям. И тут на сцену вышел актер. "Если, мол, вам меня тут мало, то я немедленно приведу сюда в свидетели кого хотите - от обожаемого совнародом Евг. Евтушенко до М.Козакова и З.Гердта - больших друзей соискателя сов. пенсии…" Я "тряхнул популярностью", как обозвал мою акцию Дэзик, обворожил бюрократку, пригласил ее в недоступный тогда Театр на Таганке и, наконец, отослав поэта покурить в коридор, рассказал наедине, кого она мучила. И дело упростилось, и Д.С.Самойлов немедленно превратился в пенсионера Кауфмана, что и было торжественно обмыто в Безбожном переулке, "в рабочем порядке"…
ПРЕДСТОЯЩИЙ ВАДИМ СИДУР
1967 год на Таганке - водоворот страстей и гостей. Над головой юного театра - грозы, угрозы, молнии и "сверх-сверхмолнии". Прокатились десятки лет, и стало ясно, что же там было на самом деле. То были не тревоги первой суеты, то было - счастье раз и навсегда. Вообще, все, что мнилось очевидным на бегу, сегодня оборачивается, превращается и видоизменяется - словом, всему называется своя цена.
В тот самый год я познакомился с Вадимом Сидуром и Юлей, его женой. Вадим - знаменитый скульптор, запрещенный художник. Чудом выжил в войну, прострелен и прожжен. Чудом живет и трудится: могут посадить, сгноить, изгнать в любой час, потому что нельзя было представить его пластические формы, его фигуры, композиции, головы на советской выставке, где красовались сплошные вожди и труженики из бронзы и чугуна, где зрители узнавали себя в хорошо застывшем виде, потому что народные скульпторы СССР умели отразить действительность один к одному. Пластические фантазии всяких там Джакометти или Генри Муров могла оправдать только загнивающая реальность ихнего империализма. Пабло Пикассо сам захотел "оправдаться" перед советским народом, и его голубь мира понравился, так как был похож на голубей с проспекта Мира, бывшая 1-я Мещанская улица.
Хотя Вадим отлично знал, что "искусство принадлежит народу" и что художник обязан отражать действительность (в ее революционном развитии), он упорствовал в искажении действительности, и свой сырой подвал, под домом № 5 на Комсомольском проспекте, что визави храма Николы в Хамовниках, он должен был бы считать пределом комфорта по сравнению с заслуженными кандалами в Магадане. Однако Вадим Сидур ваял и созидал искусство, которое хотело принадлежать не народу, а подвалу. А в его мастерской, за столом у Юли, всего в метре-полуметре от "антисоветских" изваяний, царило незамирающее чаепитие. Поэты передавали баранки физикам, актеры протягивали тарелки с пастилой студентам, Юля разливала чай. Чайник усердствовал на старенькой электроплитке. Какие-то не по-русски говорящие люди выглядели вполне москвичами и вполне своими ребятами, поскольку отважно забывали буржуазные замашки и уверенно хлебали чай из блюдечек. Скульптуры, гравюры, миниатюры и модели памятников, расписные доски и рисунки Сидура притягивали к себе не только актеров модного театра, собирали - и очень недаром, хотя и бесплатно - особенную публику, особенный круг ценителей прекрасного. Юнна Мориц, Виталий Гинзбург, Булат Окуджава, Юрий Левитанский, Андрей Сахаров, Лев Копелев, Степан Татищев…
Ты спускаешься по старым ступенькам вниз, под домом обнаруживаешь кнопку, через двадцать секунд слышишь высокий голос хозяина: "Кто это? А-а, прошу, прошу, очень рад…" И сразу от порога встречаешься с уже знакомыми или только что сделанными: дядями, тетями, музыкантами, девицами, алкашами, громоздкой мамкой с дитем, портретом Юнны Мориц, портретом Альберта Эйнштейна, портретом Христа и с символическими монументами, в которых динамика металла особым образом озвучивает наши страхи, боли и отчаяние "жертв насилия". Обходишь, привыкаешь к новым композициям - из серии "Гроб-арта". Рядом с тобой - Вадим, весьма симпатичный и немолодой бородач, отвечает на любой твой вопрос по поводу новых работ… А ты обходишь мастерскую, слышишь Юлино "Ну, пошли к столу, чайник вскипел"… ты понимаешь, что надо сказать, а сказать не умеешь.
Однажды я привел в подвал друзей - артистов Наташу Тенякову и Сергея Юрского, в другой раз познакомил с работами в подвале кого-то из французов, друзей Л.Ю.Брик. Одна из них, по имени Бланш, осмотрела подробно и долго всю мастерскую, потом уселась за стол, взяла чашку чаю в руки и сказала: "Это очень интересные работы, особенно хорошо для меня то-то и то-то". А потом Вадим мне заметил: "Я знаю, что ты хочешь каждый раз сказать что-нибудь особенное. Пожалуйста, говори. Но если тебе интересно мое мнение - то, наверное, так, как сказала эта Бланш, для автора лучше всего". Значит, не нужно вычислять родовые связи эстетики Сидура из древних греков, не нужно сопоставлять и умничать - он сделал, он сам все знает. Но если тебе здесь интересно, а вот эти работы особенно хорошо подействовали - тогда скульптор доволен…
Казалось: откуда взяться силам творить наперекор? Физическая израненность, преследования и угрозы, опасная влажность и вечные "сюрпризы" зимы и осени в подвале… Безденежье, непризнанность… Откуда силы? Пусть отвечает Юля, ибо она - его соавтор, его мадонна и его модель. Когда с любимым другом, Юрием Визбором, мы оказались в гостях у Булата Окуджавы, хозяин дома, перед застольем, показал в новой квартире то, что пожелал показать, и у картины Вадима Сидура я воскликнул: "О, это литография "Юля с кошкой". У меня она тоже есть!" И поэт посмотрел на хвастуна с уважением, после чего, к удивлению Визбора, мы некоторое время обсуждали графических "мутантов" и пластических "Гроб-артов" так, будто говорили на языке шифров.
Откуда силы и где тут взяться юмору или поэзии? Тут бы выжить, дотащиться и дотащить: вот эту глыбу к тому углу подвала. Метафизический эликсир искусства - и нет физической немощи. Вадим Сидур не отражал действительность, потому что был занят более важной работой: он выражал себя. Сама действительность отражает мир его фантазии, как морское зеркало - игру облаков. Он объяснил свой "Гроб-арт" так: "Искусство эпохи равновесия страха".
Вадим Сидур любил уходить от разговоров насчет своих работ, искусства "вообще" и здоровья "в частности". Зато, как мало кто другой, умел выспросить тебя - чем живешь, над чем трудишься, что интересного вокруг тебя и т. д. Умел привязывать своих друзей друг к другу.
Я помню, как удивлял своими причудами и талантами Олег Киселев - актер "Таганки", художник, мим, создатель разных спектаклей и студий: во французской спецшколе в Москве (где преподавала Юля Сидур), на сцене Театра им. Пушкина, в Новосибирске и в Канаде… Он, конечно, не соврет, если скажет, что и он "вышел из шинели Сидура". Клара Лозовская, премудрый секретарь Корнея Чуковского, Таня Жукова, отличная актриса "прежней Таганки", Илья Кабаков и Владимир Янкелевский - знаменитые художники-концептуалисты… Для каждого из них, из нас - "а помнишь, у Сидура в подвале" - как пароль, как талисман, как инфекция чуда.
Я помню, с авторской группой нашумевшего сборника "Физики шутят" мы обсуждали… портрет Солженицына работы Вадима: как здорово похоже, какие васильковые глаза на портрете и как теперь попадет художнику за эту далеко не советскую публикацию. Главный из "шутивших физиков", Валя Турчин, был одним из близких друзей Вадима и особо ненавидимым властями правозащитником. И ему подвал был тоже "домом родным" в период облав и обысков.
В начале семидесятых серьезным холодом подуло в окна Юли и Димы: мало того, что сам закоснел в грехе "формализма", но кого принимает дома?! С кем дружбу водит и чаи гоняет? Сплошные вольнодумцы и иностранцы… Посмотришь на Диму - ну что в нем от героя? Ну борода, ну руки крепкие. Но борода маскировала фронтовое ранение, а руки у скульптора другими не бывают. Всегда смеющиеся глаза, всегда веселое дружелюбие в голосе.
"Где у тебя скрывается героизм?" - спросил я смело, но шепотом, когда мы слушали в доброй компании, за столом в подвале, то ли "Свободу", то ли "Немецкую волну". Понимали, понимали, как хорошо "прослушивается" каждый шорох в доме Сидура. Но всерьез о страхах говорить было невозможно: и Юля звучала простодушно-звонко, и Дима умел быть только ровно-веселым, уверенно-спокойным. "Мой героизм скрывается в Юле", - сознался "нетипичный" герой.
Хорошо прослушивали в тот вечер чекисты - кого? За столом царила, кстати, напряженная тишина. Хрипло кричало "ненаше радио". Исторический момент: в немецком городе Касселе установлен Памятник погибшим от насилия, и профессор Карл Аймермахер по-немецки и по-русски объясняет это событие. Прорыв из подвала в пространство европейской культуры - праздник! Только через тринадцать лет, в Москве на проспекте Мира, рядом с домом Валерия Брюсова, в особняке Комитета защиты мира, впервые на родине художника было показано небольшое собрание работ Вадима Сидура. Мы стояли среди зрителей, и замечательный поэт Юрий Левитанский озвучил возможное (с небес) удивление Вадима примерно так: "Смотрите, кто открыл России Сидура! Председатель комитета Генрих Боровик! Как долго скрывал он любовь к Диме, но все же не выдержал и открыл ему сердце и ворота своего комитета!! Нет, я ему правда благодарен. Хотя, разумеется, в октябре 1974 года, когда мы слушали Карла Аймермахера в подвале по приемнику, Генрих Боровик нас всех считал если не врагами мира, то во всяком случае "сидурковатыми" изгоями…"
В конце шестидесятых Сидур выполнил скульптурный портрет Альберта Эйнштейна, но как! Смотришь в это причудливое соединение металла и воздуха и видишь отчетливое сходство с оригиналом. Обходишь портрет и вместо затылка обнаруживаешь… другой портрет, и тоже - копия Эйнштейна! Остроумно, крепко и непонятно. Вся разгадка, видимо, в теории относительности и в абсолютной гениальности. О скульптуре узнали физики центра Ферми в Чикаго. Их главный, Роберт Вильсон, был в Москве, и академик Виталий Гинзбург помог ему "по блату" оказаться в подвале. Официальным путем купить работу у художника не вышло, в Министерстве культуры ахнули: "Да вы что - пять тысяч?! Да мы народным художникам за голову Ленина даем тыщу триста максимум, а тут - Эйнштейн за пять, да вы что?" Тогда наш академик-физик сам позвонил замминистра культуры В.И.Попову - с ходатайством за коллег-американцев. Куратор изящных искусств не поверил Гинзбургу: "Такой большой ученый, как вам не совестно! У Сидура - это ж ужас, а не искусство! Ужас!" Виталий Гинзбург объяснил Попову, что Сидур - это как раз большое искусство, вот почему его "Эйнштейна" так мечтают купить… и т. д. Не помогло. Но физики выдержали круговую оборону: их дружба спасала художника и в быту, и в миру, и вот - "с материальной стороны". Кстати, именно физикам - П.Л.Капице, Г.Н.Флерову, Н.Н.Семенову и другим "атомщикам" - обязаны были выживанием и другие "эксперименты в искусстве". И "Современник" О.Ефремова, и "Ленком" А.Эфроса, и "Таганка" Ю.Любимова были горячо поддержаны именитыми учеными. А борцы с "галиматьей" иногда, хоть и редко, но отступали: черт их знает, а вдруг эти "гады-физики" рассердятся и, в самом деле, по песне А.Галича, "раскрутят шарик наоборот"?
А в истории с Эйнштейном дело закончилось так. После серии закулисных переговоров самому Диме звонит некто. Называется "Разноэкспортом" (а является, видимо, разноэкспертом). Советует, и почему-то "по дружбе", подать жалобу на Минкульт… В ходе беседы скульптор заявляет: "Я, мол, готов подарить Академии наук, а они пусть дарят американцам". И тут "эксперт" возликовал: "гениально! так и надо! все о'кей! Как, мол, с вами приятно было поговорить! Кстати, вы не хотите два билета на футбол - страшный дефицит? Не болеете? Ну и будьте здоровы…" И голова Эйнштейна украшает ныне зал центра Ферми в Чикаго. Автор же получил взамен - чисто душевную благодарность от академика Скрябина. Кстати, синтез духовного и материального все-таки состоялся, и круг друзей Юли и Вадима один раз крепко порадовался - не по поводу Эйнштейна, а по другому поводу. На Профсоюзной улице в Москве вздымалось к небу одно из новых зданий Академии наук СССР - Институт морфологии. И был заключен контракт, и исполнен заказ, и подножье института украсило изваяние Вадима Сидура - "Сплетение молекул с атомами". Итого при жизни: "Эйнштейн" в Чикаго, одна работа в Москве, одна - в Касселе и в 1985 за год до смерти автора - "Взывающий" в Дюссельдорфе…
В 1992 году на окраине Москвы был установлен Памятник оставшимся без погребения - всем жертвам афганской войны… Суровые слова на митинге посвящались не художнику, а страданиям матерей, семей, воинов бессмысленной войны. Но Вадиму Сидуру, прошедшему две войны - Вторую мировую и Великую подвальную - комплименты не нужны были ни до, ни после смерти.
Помню, как уже после смерти Вадима Юля и Миша Сидур (сын) совершили огромное благо: в Перовском районе, недалеко от шоссе Энтузиастов (как символично звучит, однако) - первая выставка скульптур. Помогали… райкомовцы, во главе Москвы стоял Б.Ельцин, пока остальную страну перестраивал М.Горбачев. Поражены были свидетели: неискушенные жители района шли и шли к Сидуру, без особых реклам, без помпы и принуждения. А в день, когда на Политбюро Ельцин был свергнут с московского пьедестала, по неизвестным причинам был закрыт и выставочный зал в Перове. Писались письма, ходили по инстанциям - не помогало. Я, например, даже записался на прием к Захарову, новому министру культуры СССР. И тот заверил общественность: "Я верю, музей будет!", но, конечно, обманул. Никто не мог победить очередной приступ насилия. И только Вадим Сидур улыбался - уже издалека. А потом куда-то ушли тучи, выставка стала музеем, народ по-прежнему ходит, поэты выступают, каталоги издаются…
Напоследок - зарисовка из дневника. В 1976 году я привел в гости к Сидуру Юрия Петровича Любимова. Я знал, что думает художник о тогдашних спектаклях "Таганки" и как ему интересно послушать создателя такой школы вблизи. Любимов, конечно, непростой человек. Ему явно понравилось в подвале, но он не сказал "интересно", мол, и все. Он начал перечислять Сидуру все, что ценит в русском и зарубежном авангарде. Мы сидели за столом в подвале, Юля разливала чай, в изобилии имелись баранки, мармелад и прочее, а Юрий Петрович гневно издевался над начальниками, которые считают искусством глупые копии, и цитировал Гёте ("Если художник правдиво изобразит собаку, никакого искусства тут нет - просто одной собакой стало больше"), и хвалил Эйзенштейна, Шостаковича, Шнитке, Пикассо, Денисова, Феллини, горячо защищал в искусстве все экспериментальное, авангардное, антиреалистическое… а рука его при этом с удовольствием поглаживала изумительно красивую миниатюрную бронзовую статуэтку голой женщины. Статуэтка была абсолютно реалистической, ее автор Вадим Сидур улыбался и пил чай, а я, невоспитанный актер любимого театра, прямо в глаза своему шефу сказал горькую правду. Вот, мол, умом вы постигли сложное искусство, а душа ваша просит реализма, о чем рука ваша говорит красноречивее всех слов. Юрий Петрович простосердечно ответил: "Я человек все-таки, и ничто человеческое мне не чуждо".
В апреле 1977 года Вадим с Юлей были на спектакле "Мастер и Маргарита". Назавтра, по телефону, рецензия: спектакль понравился. Финал понравился (вечный огонь и портреты Булгакова в руках актеров-персонажей). Декорации остроумно повторяют яркие детали из прошлых спектаклей. Как всегда, Вадим выделяет работу художника Боровского так, что работа режиссера кажется менее важной: мол, с такими "говорящими" деталями можно сыграть почти без режиссера. Я, конечно, возражаю и прошу его держать Любимова на главном пьедестале. О моем Воланде Сидур сказал: "Он у тебя добрый сатана. Он людей презирает и жалеет". Спустя много лет в дневниках Сидура Юля прочитала его запись нашего тогдашнего разговора, эпизод из которого я помню в таком виде. Я спросил:
- А для тебя Бог - это кто?
- У меня Он есть, но описать Его я не могу. А у тебя?
- И я, наверное, не могу. Иногда чувствую очень сильно присутствие Его (так было, между прочим, когда начал играть Воланда). Не понимаю только, почему Он к одним, например к тебе, - жесток, а к другим милостив?
- Нет, Он не жесток совсем, это люди - жестоки. Если бы Он был жесток, я не смог бы работать.
И вот сегодня, когда обновляются экспозиции в Перове, в музее В.Сидура; когда установлены его работы не только в Касселе, Берлине или Дюссельдорфе, но "даже" в родной Москве; теперь, когда выходят каталоги, а также книги его удивительных стихов, когда сняты фильмы о его творчестве и появилась книга - фотолетопись Эд. Гладкова, - теперь оказывается, что обойденность и непризнанность на самом деле не мешали богатству "внутреннего содержания". Новое время бросает свой свет в окна выставочного зала, где по-новому оживают пластические фантазии Вадима Сидура. В дневниках и стихах художника - другое освещение личности, новые и новые этажи драгоценного "Подвала"… И кто знает, насколько нам известен "известный Мастер" и как много еще сидуровского предстоит открыть?
Я помню, в Центр кардиологии, правдами и неправдами, дружбой с врачами, билетами на Таганку - удалось поместить больного Диму. А когда проходили регистрацию в этот новый, "дефицитный", "чазовский" центр, дама в регистратуре, поставив точку и возвращая документы, сказала: "Не понимаю! Зачем нужны были звонки и поддержка? По всем документам больного выходит, что он - герой войны и имеет право лечиться у нас вне очереди…" И дама была права, ибо по документам Вадима Сидура никак не выходило, что он - формалист или диссидент или неверно отражает передовую действительность. А Вадим улыбался. Он очень хорошо всегда улыбался. Как будто наперед знал, как мало значат все испытания, если ты награжден свыше таким даром, такой любовью, такой Юлей…
ИННОКЕНТИЮ СМОКТУНОВСКОМУ
Раньше все-таки были надежды… Например, когда лето приносило новость о смерти знаменитого артиста, была надежда, что это - слухи. Например, Аркадия Райкина слухи хоронили (и хранили) лет десять подряд. Владимира Высоцкого - тоже много лет… Но ты возвращаешься в Москву, звонишь - все в порядке, опять дурацкие слухи. Жив! Надежды оправдались.
В 1995-м - не так. Услышал 4 августа: умер Смоктуновский. И сразу ясно: это правда. И нет никаких надежд. Ужасная, горькая правда.
Умер не просто великий русский артист - умер МИФ.
В нашу жизнь 50-х годов И.М.вошел сразу как символ, как синоним гениальности. "Оттепель" в стране, весна в крови, открыты души и окна нараспашку - ждали гения на сцене и экране. Князь Мышкин в "Идиоте" в БДТ у Г.Товстоногова взорвал зрительный зал театральной России. Такого еще не бывало: сложнейший образ сыгран так тонко, просто и легко, как будто с него, актера, Достоевский списал своего князя. Актеры и педагоги театральных школ взахлеб пересказывали впечатления: "он не ходит, он парит!", "он не текст произносит, у него действительно рождаются эти слова - на глазах у публики!", "это живое чудо: он так смотрит и так дышит на сцене, что никогда не знаешь, что он сделает в следующую секунду". Начало актерского мифа сразу было поддержано легендами о судьбе личности:
- …Вы слыхали? Говорят, Смоктуновский воевал, попал в окружение, даже был выведен под расстрел, но чудом остался в живых!
- …А вы слыхали? Смоктуновский-то с таким талантом, а как мыкался без работы, по всей стране - и на Волге, и в Норильске, и где только ни просился на сцену! Из милости давали десятые роли…
Я учился тогда в лучшем российском театральном институте - при Театре им. Евг. Вахтангова. Делом чести каждого молодого патриота нашей школы было задирать нос перед прочими, несовершенными. Смоктуновский аннулировал амбиции - всех мастеров, всех возрастов, всех школ.
Следующее потрясение - физик из "Девяти дней одного года" режиссера Михаила Ромма. С первого фильма ("Солдаты" по В.Некрасову, роль Фарбера) - не было ученичества, не было ни на полкадра фальши или привычного киноштампа. Все впервые, все - жизнь, и каждый жест, взгляд, слово - поражали даже искушенных профессионалов.
В 1967 году Театр на Таганке гастролировал в Ленинграде. Молодые актеры, мы были поражены точностью и силой реакции интеллигентной публики. А у меня лично, счастливого ролями, дружбами, успехами, произошел случай, все успехи заглушивший.
На служебном входе Дворца культуры на Театральной площади после спектакля "Жизнь Галилея" стоял сияющий Смоктуновский, всем актерам жал руки, всех хвалил, а потом увел меня на улицу и… проводил до гостиницы - не специально пошел провожать, а просто был возбужден, двигался вместе со мной. Я не знал, на каком я свете, мне было, кажется, неловко перед прохожими (его многие узнавали), но всего более смущали меня потрясающие слова артиста: о спектакле и обо мне, в частности.
В брехтовском "Галилее" я играл комическую роль куратора Приули, играл законченного придурка с дефектом речи… И.М. уверял, что трижды, пока я скандалил с Галилеем - Высоцким, он от хохота падал под стул и оттуда досматривал мои сцены… Мне потом кое-кто объяснил: не верь ему, он всем говорит комплименты. Но хотелось, конечно, верить.
Впоследствии я несколько раз приглашал И.М. и его жену Саломею Михайловну на свои премьеры. И почти всегда за традиционным ужином после спектакля И.М. соединял новые впечатления с моим комическим типом из Бертольта Брехта.
Два случая связывают в памяти И.М. и поэзию… Первый. Встречаемся в радиостудии на ул. Качалова. Режиссер у пульта, я жду рядом, а за герметическим окном, у микрофона - Смоктуновский. Читает лирику Евг. Евтушенко. Читает, как привык играть - самотеком чувств, нарушая все рамки строфы, строки, рифмы… Режиссер корректирует гения сцены, а мне замечает: вот, мол, вы любите авторское чтение, а у И.М. нет этого в привычке, он не стихи читает, а переживает - "по системе Станиславского". Однако голос прекрасен, нюансы хороши, да что говорить - такой мастер! Мастер вышел, я - на его место, читаю того же поэта другие стихи. На ходу успели поздороваться и попрощаться. Через час, отчитавши, захожу к режиссеру, удивляюсь: И.М. не ушел, дослушал мое чтение. Пока расписываюсь в ведомости, выслушиваю резкую критику. Дескать, зачем ты занудно "раскачиваешь строчки", как поэты, если слушателю надо давать чувства и мысли? Меня задело за живое, я в ответ спародировал "актерскую манеру", которая убивает строй стиха, душу поэзии, зато самоуверенна и самозванна - как будто слушатель поверит, что "дядя самых честных правил" - не Онегина дядя, а его, актера, и не Пушкин сочинил стихи, а на актера так нахлынуло, накатило… Я язвил. Смоктуновский язвил. Нас помирил режиссер: "Товарищи, можно и так, и так…"
Через некоторое время нас опять свела поэзия: молодой режиссер поставил со студентами композицию по ранним, футуристическим, стихам Маяковского. Зрители - особенные (по тогдашнему сказать - "левые"), актеры - хоть и самодеятельные, но гордые и с апломбом: а как же! Почти запрещенного периода стихи! И смело, формально, как "на Таганке"! И Смоктуновский, и я - почетные гости. Кончается на сцене странный спектакль. И.М. шепчет мне строго: "Веня, они нас позовут к себе, но я дам тебе слово. Я эту ахинею не люблю, а ты - любишь и сам так, как они, читаешь… Извини, я шучу, ты - лучше, но я - ничего в этой манере и в этих футуризмах не смыслю". Я требую, чтобы говорил он, ибо "генерал на свадьбе" - конечно, не я. Он очень обидит молодежь, если отмолчится и т. д. И мы оказались за кулисами, лицом к лицу с юными "футуристами". И.М. опять шепчет, с испугом поглядывая на разгоряченных, юных и гордых. Я обращаюсь к Саломее Михайловне: "Скажите ему как жена - нельзя, чтобы он молчал, пусть два слова скажет". "Надо сказать два слова", - согласилась "Саломка" (так называл жену И.М.). Началось. Я приготовил речь. Жду. Смоктуновский медленно начал: "Как хорошо, что вы нас позвали… Как приятно слушать свежие голоса… Как был бы счастлив Маяковский…" И вдруг - все быстрее, энергичнее - пошел, пошел… Наверное, полчаса говорил И.М, и сам увлекся, и нас увлек… О праве юности играть и мыслить по-своему… О русской поэзии начала века. О дерзости Маяковского и о дерзости Товстоногова - в период работы над "Идиотом"… Мне осталось кратко поблагодарить компанию "футуристов" и подтвердить вышесказанное. А студенты, конечно, охотно поверили комплиментам артиста, как я сам поверил - после "Галилея".
Из дневника 2000 года.
Апрель. У нас в гостях Вл. Паперный. Узнаю много нового о старых кумирах. В возрасте 16 лет он снимался у А.Эфроса в фильме "Високосный год" со Смоктуновским в главной роли. После съемок Эфрос сказал: "Сыграли по-настоящему только двое. Смоктуновский - потому, что он все может как актер, и Вадик Паперный - потому, что он ничего не может… И еще: Смоктуновский чувствует каждого и дает ему то, чего тот ждет. Точно поворачивается к человеку той стороной, которую ожидают. Так что какой он на самом деле - никто никогда не узнает".
На премьере таганковского "Гамлета" Смоктуновский в зале был всеми сразу отмечен - живой кумир и прославленный принц датский из фильма Г.Козинцева. Пусть говорят что угодно об умении И.М. ласково лицемерить похвалами, но никто как он не мог бы так вскочить с места в финале и, забыв о регалиях и возрасте, плача и крича "браво", воодушевлять зрительный зал. Никто другой не пошел бы, зная цену мировой славе своего Гамлета, по гримерным, по всем переодевающимся и вспотевшим жильцам кулис, не целовал бы всех подряд, приговаривая неистово "спасибо, милый друг, это было гениально" - всех, включая электриков и рабочих сцены, сгоряча спутав их с актерами.
Ночью, выпивая и закусывая у меня дома со своими друзьями-финнами, И.М. сумел убедить в серьезной подоплеке своих восторгов, удивил беспощадностью своего огорчения…
- …Я же умолял Козинцева не делать из меня красавца, не играть из чужой роскошной жизни! Вот вы и доказали, что я был прав! Вы играете так, что публика забывает о классике и старине! Ошибки ваши меня не интересуют! Это живые, настоящие чувства, как настоящий этот петух слева от меня… Как он бился, как он рвался улететь! Я у вас тоже играл - это я был петухом, рвался и орал: "Козинцев - м..!" Нецензурность слова вполне соответствовала нетипичности волнения.
После "Часа пик" И.М. сделал памятное признание: "Вот теперь Любимов, кажется, начал работать с актерами, начал отделывать характеры, а не только потрясать зал звуком и светом. Я бы, наверное, сейчас согласился играть у Юры… Но только, извини, прыгать и мотаться на маятнике, как ты, я бы отказался…"
В тот вечер Смоктуновский весело подтвердил: да, он когда-то стучался в двери долюбимовской "Таганки". И он, и Евгений Лебедев. И их обоих не приняли в труппу тогдашнего Театра драмы и комедии… "Потому что мы показались плохими артистами! Меня часто называли заумным, чудаческим и малоспособным…"
В 1978 году я режиссировал звуковую диск-пластинку "Было на свете сердце" на фирме "Мелодия". Романтические рассказы М.Горького я перемешал, придумал какую-то острую драматургию и упрямо добивался, чтобы основной текст читал И.М. "Только вы, - ворожил я ему, - можете хрестоматийный, надоевший, картонный текст спасти своей метафизикой интонаций". Артист был страшно занят - и в театре, и в кино. Снимался в Болгарии. Но я снова находил его и, пользуясь его расположением, патетически звал вернуть раннему Горькому славу оригинального таланта. "В него уже никто давно не верит, - кричал я, - но ведь не только мы в детстве, но даже такие писатели, как Толстой, Чехов, Бунин, Ходасевич, Бабель, - все его уважали! Какая интересная задача: прочесть Горького так, чтобы у всех мурашки от волнения забегали!" Пластинка записана. Главные роли сыграли И.Смоктуновский и Е.Коренева. Любимые артисты, они порядком истрепали режиссерские нервы. Елена впервые играла "звуком" и была невероятно самокритична, до истерики. Смоктуновский стоял рядом у микрофона и подливал масла в огонь. Делился опытом работы на радио: как дышать, чтобы не "заплевывать" микрофон, как держать расстояние, чтобы звук отражал линию темперамента… Время катастрофически таяло, и я в отчаянии вторгся в их диалог: "Иннокентий Михайлович, извините, время идет, а мы стоим". Боже мой, как он испугался! Покраснел, извинился, ушел с головой в текст и стал послушен, как дитя! Дело не во мне, дело в корнях настоящего актерства. Актер может забыться, удалиться куда-то в сторону от профессии, но в его генетике, в его гигиене ремесла заложено уважение к дистанции. Актеру - играть, режиссеру - ставить… И чистота труда, гордость за творимое предполагают соблюдение дистанции. Композитор сочиняет, Рихтер исполняет. И актеру-мастеру неважно, кто именно сегодня режиссирует, его знак качества - исполнительская профессия. И это было уроком для меня.
В те дни, что мы писали пластинку, И.М. неизменно восхищал еще одной чертой, как говорится, старого, доброго воспитания. Он появлялся в студии на улице Станкевича не за минуту, как большинство, а за час. Без показухи (вопреки сплетням), а из соображений личного комфорта вынимал из сумки тапочки (чтоб не заскрипеть башмаками) и термос с чаем и с молоком…
В 1989 году в Крыму снимался фильм "Ловушка для одинокого мужчины". Иронический детектив по французской пьесе. И опять меня удивил И.М. Для роли жулика-клошара он приготовил совершенно новые и, как показалось на съемке, невыигрышные краски характера. Какие-то дикие ужимки, нелепые интонации (в одной фразе голос его кувыркался то тенором, то баритоном, то фальцетом)… Молодец Алексей Коренев, режиссер, он не усомнился в интуиции мастера. А Смоктуновский теребил оператора Анатолия Мукасея: вышло? я не переиграл? В том-то и фокус, что часто на площадке кажется корявым то, что на экране - выигрывает.
Съемки проходили в Ялте, где всех тянуло к отдыху и спокойному режиму работы, а И.М. приехал на 2 дня, с утра до ночи прикидывал и зубрил. Дурачился в гостинице перед выездом: "Давай махнемся ролями? Твоя интереснее, а?" Я согласился: "Вам же хуже: я ведь ни своего, ни вашего текста не знаю, а вы-то, небось, как всегда…" Он вздохнул в ответ: "Да, как всегда". Он знал всю роль так, будто отыграл ее на сцене своего МХАТа раз сто.
Если в том краю, куда ушел навсегда Смоктуновский, мне придется ответить ему лично, какие его роли меня больше всего восхитили, я отвечу так: Мышкин, Куликов ("Девять дней"), Деточкин ("Берегись автомобиля") и еще одна, которую увидеть повезло мне одному.
Однажды И.М. защищал… квартирные интересы моей семьи. Знаю, я один из многих, кому сердечно и легко помог артист в обыденной жизни. Но сейчас я говорю об актерской стороне дела. Мы направлялись к зампреду Моссовета по жилищным делам. У меня на руках документы, по которым давно уже полагалось разделить большую квартиру. За два часа перед нашей поездкой Смоктуновский подробно допросил меня: как кого в семье зовут? сколько лет тестю? чем он знаменит? что выгоднее подать в разговоре? сколько метров у каждой семейной ячейки? Дома перед выходом нас благословила на победу до слез трогательная Саломея Михайловна, подала И.М. пальто - "специальное, красивое, представительское". Тут я начал трястись от волнения: такая подготовка! такое пальто! Но то ли было дальше… И.М. взошел в кабинет начальника, как Ангел Доброй Вести. К нему и к его лауреатскому знаку с почтением склонился чиновник, даже не кивнувший при этом мне, обыкновенному.
Иннокентий-Ангел немедленно принялся очаровывать хозяина кабинета, а я зажмурился и зажался. Я такого никак не ожидал. Изумительно сверкая улыбкой, великий лицедей убедил начальника в два счета: что я таких-то высот покоритель (в искусстве), что семья моя - это гордость всей Страны Советов, что метров столько-то, а орденов и заслуг у тестя столько-то… Он жонглировал именами, цифрами, эпитетами, снова цифрами… Как он мог столько удержать в голове!
…Я вез И.М. домой, мы заехали в школу за его дочкой Машенькой, а когда я очухался от впечатлений, то спросил Смоктуновского, откуда такие познания в дипломатии и неужели двух часов подготовки хватило, чтобы столько удержать в памяти?
И.М. обворожительно изумился: "Дорогой мой, у меня ведь одна профессия и нет другой! Я вынужден относиться серьезно каждый раз! Как я мог перед этим… долбодуем быть самим собой? Я обязан был сыграть такого же… из его же круга… а как иначе?"
Чиновник не сделал ничего из того, о чем его просили, но это неважно. Я его все равно люблю: мы оба были зрителями уникального спектакля. Одного Артиста.
1995 год. Я вернулся в Москву в сентябре, и у меня не было шанса надеяться на прежнюю роскошь: позвонить и узнать, что во всем виноваты дурацкие слухи. Раньше были надежды. Нынче умирают мифы.
УМЕР, КАК МОЛЬЕР
1987 год, 17 августа, гастроли театра "Современник" - Хабаровск. Здесь 16 часов, в Москве 8 утра. Звоню Табакову из автомата. Прими, Олег, телефонограмму:
Дурачине по причине очень давнего восторга, мне не спится на границе очень Дальнего Востока.
Дорогой мой Табаков,
Будь здоров со всех боков!
Вместо веселого ответа - ужасное сообщение. Чем живет сегодня Москва: умер Андрей Миронов. В Риге, на гастролях, через пять дней после смерти А.Папанова. Настоящее черное горе. Оно амортизируется дальностью расстояний, долго кажется бредом. Постепенно обрастает подробностями. И все тревожнее посматривали в театре на Игоря Квашу: Андрей - его друг, и дальность расстояний убивает его еще больше…
В "Известиях" было сказано, что Миронов умер на сцене - как Мольер. Страшно - на руках ближайшего друга - Шуры Ширвиндта. А Гриша Горин сопровождал движение машины в Москву, и население и милиция салютовали по всей тысяче километров пути.
Уже в предсмертном состоянии, в "скорой помощи", он произнес последний монолог Фигаро и умер, не оставшись у зрителя в долгу. Он ведь упал на сцене и не договорил монолога… Как Мольер.
Он был сразу хороший артист. Сразу, с 1958 года, когда поступал к нам, в Щукинское училище. Авторитет его родителей был столь высок, что трудно понять, где кончалось удовольствие видеть их сына, а где начиналось лицезрение его собственного обаяния.
…На щукинских вечерах, как и по всей стране, робко возрождалась культура западного танца. Раскованно буйствует в "буги-роке" один Андрюша Миронов (из мужского персонала). Первокурсник легко летает, грациозен, европейский шарм подчеркнут самоиронией - словом, хорошо смахивает на тех "стиляг", которых журнал "Крокодил" еще пару лет назад "смахнул" с нашего победоносного пути. Впрочем, в одежде Андрей весьма строг, подтянут и совсем был бы похож на лорда, если бы не краснел на каждом шагу. Девичий стыд, надо признаться, делал его простым, неизбалованным пареньком… Ада Владимировна Брискиндова, обратила наше внимание на младшего щукинца: Андрей ежесекундно и всепогодно, не для показухи, а по личному кодексу - выбрит, причесан, при галстуке и при крахмальном воротничке… Причем не какой-нибудь полукрахмал, а тугая жесткость: ошейник аристократа…
…Стороннее наблюдение за Андреем могло вызвать ложную обиду: "Ты не слишком зазнаешься, юноша?" Виноваты, конечно, и комплексы "стороннего", и сумма внешних примет - фасонистая выправка, пружинистое парение над толпою и небрежное скольжение в речи, где запросто слагаются репризы.
Но при близком общении - все по-другому. Детская дотошность в расспросах о жизни, о семье, о театре, о вкусах, о слухах, о твоем личном мнении… Умение хорошо вслушиваться, вглядываться в собеседника, а рядом - искренняя пренебрежительность к славе, "успехам". Всегда памятлив к общим встречам и событиям и очаровательно благожелателен. Даже в мрачном расположении духа - готовность отозваться на юмор, отдаться течению импровизации, словесного перепала. И думаешь о нем: "Не слишком ли он скромен и прост для всенародного любимца?"…На хабаровских гастролях грустно возвращаю артисту Антону Олеговичу Табакову воспоминание о его детском признании. Маленького Антошку спрашиваю, кого после отца от считает великим актером? Или лучшим? Любимым? Ответ показался тогда пижонским забиячеством: "Я, дядь Вень, вообще никого не считаю, кроме Миронова, он для меня самый первый - Андрей Миронов - среди всех вообще!" Сокрушенно кивает Антон Олегович; так и было, так и есть. И только что звонил в Москву, разыскивал Ларису, жену своего кумира.
…Начало 70-х годов - много-много счастливых вечеров в доме нашего общего друга Игоря Кваши. Собрание громких имен - и актеров, и художников, и врачей. И Гриша Горин, и Слава Голованов, и открытие огромной мастерской на троих (Л.Збарский, Б.Мессерер, В.Красный) на ул. Воровского… Я ощущаю себя случайным зевакой на этих карнавалах талантов, где Андрей всегда бывал в центре как веселых, так и серьезных разговоров. К тому же он один из первых (как и сам Кваша) владел магией автомобильных терминов, что по тем временам казалось столь же мудреной областью, как и космонавтика.
…На вечере 4 февраля 1983 года в "Современнике" Андрей со своим партнером Александром Ширвиндтом завершали праздник пятидесятилетия Игоря Кваши. Атмосфера в доме на Чистых прудах была примерно такой, какую сама Фея могла заказать Золушке - к ее пятидесятилетию. Бывает иногда в театре такое стечение обстоятельств, что полный зал разного народа живет единым дыханием, когда все как один счастливы и у всех один кураж, одна печаль, одни и те же ассоциации. Словно все играют в одну и ту же игру, у всех разом "ложится карта", полная колода козырей, и все в крупном выигрыше. В картах так не бывает, а в театре бывает. Всех, кто в тот вечер выходил на сцену - поздравлять, зачитываеть или острить от себя, - всем и каждому везло. Меня, например, "несло", как Остапа Бендера с голодухи - такой прием, такой народ, такой фурор… Остапа с голодухи, а нас - от любви. Все были прекрасны - и Ахмадулина, и Окуджава, и Юрский, и Арканов, и целые коллективы, и представители с "адресами", ну и, конечно, Валентин Гафт - ведущий вечера. Они только что отыграли булгаковского "Мольера" ("Кабала святош"), которого друг Миронова и поставил, и сыграл. Там в финале (как теперь оказалось) Кваша - Мольер умирал на сцене, точно "как Андрей Миронов"…
Гафт в полурасстегнутом костюме Людовика был звонок и щедр на комплименты. Вся труппа, сидя на сцене, была детски смешливой. Особенно юбиляр, который задыхался от хохота и бил каблуком об пол… Так вот, пиком вечера, его триумфальной развязкой был финал: Ширвиндт без единого слова играет на скрипке, бережно возлагая под щеку иссиня-чистый платок; Кваша, задерганный послушник, невпопад вторит припеву, а всей песенной галиматьей сухо дирижирует Миронов. Он дирижировал скрипачом и пробами сил юбиляра, куплетами-припевами и перерывами на гомерические раскаты публики… Он действительно довел до слез, истерзал Квашу, пока тот не выучил и не спел припев гимна про себя самого. Куплет идеально исполнял Андрей, успевая на ходу глазами и телом намекнуть имениннику на скорый приход припева… вот-вот… вступай, брат! Опять не попал… Зал грохочет, юбиляр исступленно лягает каблуком сцену. Труппа изнемогает от хохота… И только двое невозмутимы, как часть неживой природы: мрачен фрачный скрипач, по знаку дирижера снова бросая подбородок на плечо, и адски серьезен Андрей в своем просветительском рвении - научить Квашу петь причитающийся ему гимн. При всем том он ухитряется оставаться самим собой - изящным, пластичным, как циркач, и обаятельным, как Миронов!.. Добавлю, что всю ночь актерское собрание гудело восторгами воспоминаний о вечере, буфетный подвал на Чистых прудах ходил ходуном от возбуждения и любви…
В тот же год, весной, я летал дважды в Ялту, к моему товарищу Александру Митте на съемки его фильма. Как часто бывает у нас, я дал себя обморочить клятвами типа "картина погибнет, если ты не сыграешь эту роль", "роль гениальная, хотя в сценарии ее почти нет", "она небольшая, но от таких ролей мастера не отка…", "только ты один, не считая, может быть, Марлона Брандо, да и он не вытянет"… Словом, выворачиваешься в театре, бюллетень тебе в тоску, но летишь, дабы спасти судьбу шедевра СССР и Каннского фестиваля… Все это - из области суеты. Так сказать, виновата суета, а не данная Митта… И вот съемки "Сказки странствий" и мое мелкозернистое участие дали возможность наблюдать "младшекурсника" в работе. В дневнике я записал, что Андрей неутомимо послушен мучителю Александру Наумовичу. На площадке почти не заметен стаж его популярности, он умеет беречь в себе стартовое, дебютное самочувствие. Любит, можно сказать, быть учеником. Это не всегда удается, но я с удовольствием замечаю исполнительское достоинство и моментальную отзывчивость в репетициях к съемке. А уж когда объявлен "мотор" - тут у Андрея точность без изъяна. Ни на долю секунды, ни на полвершка вправо, ни на полтона ниже - ни в чем не отступит от просьбы режиссера. Он впервые у Митты, он привык к другому режиму, его природа пропитана духом импровизации, но он послушен воле режиссера. В этом и достоинство профессии. Обеденный перерыв. Мы спасаемся в зыбкой тени декораций. Далеко внизу режет своим блеском наши усталые глаза Черное море. Очень жарко, мы оба раздражены, каждый по-своему; однако новости театра и жизни, общие темы и друзья - все это приводит нервы в штилевое состояние. Потом, как индейцы с гор, к ногам Андрея сваливаются дети, с ними - парочка отдыхающих дефективных дамочек, и актер раздает автографы. В его глазах - привычная вежливая тоска. Наш разговор развалился, и теперь мы дружно спрягаем и склоняем режиссера, которому палящее солнце не мешает носиться, ругаться без отдыха и тени. А вечера прекрасны. Ужины в гостинице "Ялта", споры и сговоры в пользу завтрашней смены… Рассказу Андрея о параллельной съемке в Ленинграде я не придал того значения, которое имеет теперь в моей душе и его роль, и весь фильм Алексея Германа об Иване Лапшине…
Самый памятный день - 16 июля. Рано "отстрелялись", навестили в Мисхоре дочку Андрея Машеньку и тут же, двумя террасами выше, над морем, расположились на даче Вадима Туманова. Андрей очарован уютом и миром дома, и сада, и кухни с банькой, а перед телевизором в гостиной, направив на себя мощный вентилятор, замирает в блаженстве: "Я отменяю съемки, передай своему Митте. Я всю жизнь искал эту точку на планете. Мечта идиота: покой, изоляция, диван и телевизор с вентилятором. Я счастлив, а ты?" Весь вечер, что мы просидели под виноградными плетениями, уничтожая плоды гостеприимства хозяев, показался одним из самых славных и добрых в жизни. У меня сошлось в одну чашу радости: начало отпуска в театре, канун дня рождения жены, дорогой мне мир Владимира Высоцкого (в честь его пристрастия к этому дому и была приобретена дача другом поэта, Вадимом), любимый Крым, принудительно отдыхающий Митта… И, разумеется, особую приподнятость настроения я отношу к факту присутствия Андрея. При многолетней привычке ощущать какую-то дистанцию между нами я всегда, издалека или ближе, как-то теплел "щукинским родством", мне в нашем знакомстве было дорого все, что нас соединяло, и все, что не соответствовало клише "кумира" и "кинозвезды". На этот вечер 16 июля ласковый ангел Тавриды (выразимся высокопарно) подарил мне замечательного Андрюшу Миронова. Такого, каким он был, видимо, для всех своих друзей. Добавлю на основании единичного опыта: для счастливцев.
В последнем разговоре, в мае 1987 года, возле служебного входа в его театр, мы говорили о новостях. Андрей, мне кажется, всегда охотно переключался на волну собеседника… В моем случае назовем это даже волной идейного занудства. Назначение Николая Губенко на Таганку. "Самоубийца" Эрдмана. Что будет, что есть, что было. И я назвал лучшие для меня, зрителя, работы Андрея в театре. Более всего - Жадов в "Доходном месте", постановка Марка Захарова. Под занавес 60-х годов спектакль был запрещен, и с ним вместе лишилась своего развития, быть может, важнейшая грань таланта артиста.
В ту же Ригу, где случилось несчастье, два года назад мы ехали втроем, и очень весело… Я морочил ему голову борьбой с никотином, он за это смешил мою Галю разоблачительными этюдами на тему занудной идейности ее мужа - еще с институтской, мол, скамьи! - а в тамбуре мы совершали перекур и печальный обмен тогдашними новостями об обоих театрах. А в купе продолжались веселые речи и шаржи… Июльский вечер в Крыму, как водится, был детально и гиперболически помянут добром и хохотом. Андрей уморил нас изображением бедного Саши Митты, которого и в глаза, и за глаза объявлял падучим советским режиссером: за панику в работе, презрение к отдыху и, конечно, за обморок в баньке, до которого довел себя сознательно, которым гордился, а нас весь вечер укорял за невежество в области банных обмороков…
В Риге Андрея почему-то не встретили, отчего мой брат и друг получили приятный шанс "комфортировать" артиста транспортом и завтраком в отеле "Латвия". Через пару дней мы, как договорились, наведались к Андрею в санаторий "Яункемери". Мама, Мария Владимировна, возмущенно описала дикий режим "отдыха" ее сына и доказала, что "звезды" ее поколения были не такими доступными и разбросанными психопатами, как эти "звезды"-дети… Я в ответ утешил ее рассказом о собственной дочери.
Начало 70-х годов, поселок на Пахре под Москвой. Я гуляю с Аликой - дочкой-пятилеткой, егозой и худышкой. Остановка на аллейке. Папа увлекся беседой с чужими тетей-дядей. Дочь рвется из рук. Я крепко держу ее за руку, не уставая смеяться и продолжать скучнейший, с ее точки зрения, разговор - опять о "Таганке", о какой-то "Сатире", об Эрдмане и Утесове, об эстраде и о каком-то Хазанове, выступавшем в Кремле у кого-то на семидесятилетии… Дочь уже изнемогает, скулит и тащит меня в дом, к обеду. Я извиняюсь, прощаюсь с незнакомыми ей людьми и шлю привет их сыну Андрюше… Через пару шагов Алика замерла от разгадки: "Какой-какой Андрей? Миронов?! Это, что ли, мама Андрея Миронова?! И папа?!" И восторг, и отчаяние, и срочный порыв в их сторону - разглядеть чудаков, которых кумир наградил правом его родить… И, конечно, я в результате получил первый выговор от малютки: "Как тебе не стыдно! Ты же знал и не сказал, что это Андрея Миронова мама! Что мне теперь делать?!" Думаю, назавтра в детсадике она сообразила, что делать, и юные коллеги моей дочери получили яркую картину ее встречи с Его родителями… Так замкнулось время: в пятидесятых глядеть на сына мешало очарование родительской славы, а в семидесятых наши дети с обожанием и завистью взирают на тех, кто "лично знаком" с Андреем Мироновым… Сомкнулась радуга фамильной легенды.
ЮРА ВИЗБОР
Знаете, что очень часто говорит перед съемкой режиссер актеру? Он говорит: "Ничего не играй!" Странное указание, не так ли?
…В конце пятидесятых уходили в прошлое (и в будущее) военные сюжеты, героические профили суперменов, становились популярными фильмы итальянского неореализма. Эффект простоты усиливался тем, что большинство исполнителей не были актерами: их приглашали на экран прямо с улицы.
Мы учились в театральном институте, бегали в кино, а собираясь дома после итальянских картин, слушали пластинки с французскими шансонье. Песни Ива Монтана, наверное, не меньше повлияли на здоровье поколения, чем решения ХХ съезда партии.
Новые имена советской культуры конца пятидесятых - прямые родственники неореализма.
Какая музыка была, какая музыка звучала - Она совсем не поучала, а лишь тихонечко звала… Звала добро считать добром, а хлеб считать благодеяньем, Страданье вылечить страданьем, а душу греть вином или огнем……Лет через пятнадцать после института я участвовал в передаче радиостанции "Юность". Она состояла из песен и стихов Б.Окуджавы. Помню ответ поэта на вопрос корреспондента: "Вам нравится, когда ваши песни исполняют другие?":
- Я не люблю, когда поют другие, потому что придумал их по-своему, по-другому. Наверное, ближе всего к тому, как я придумал, - это когда поет Юрий Визбор… Он поет очень просто, по-мужски, и, кроме того, он не изображает чувства, он вообще ничего не играет…
Сказано так легко, а исполнить трудно. Когда актеру говорят: "ничего не играй", то имеют в виду: не позируй, не афишируй чувств, оставайся естественным.
Комплимент Окуджавы я понимаю так. Юрий Визбор много знал, пережил. Он был личностью. Ему не надо было "доигрывать", актерствовать - и на экране, и на эстраде, и в жизни тоже.
Советский образ игры на публике до сегодняшнего дня сохраняет демонстрацию чувств. Если персонаж переживает - это выражается ярко, с нажимом. Все без конца твердили и твердят о правде, о реализме. Но эту правду стесняются выпускать на люди - такой, как она есть. Ее одевают в кричащую обложку. Кислая конфета в сладком фантике пафоса.
"Ничего не играть" - значит еще играть от себя и только по существу, не занимать чужих жестов и интонаций.
Владимир Высоцкий шокировал своих первых слушателей (и коллег), потому что он кричал "по существу", а мы привыкли кричать - по праздникам. Александр Галич язвил системе власти, а мы привыкли, когда язвят по… "системе Станиславского". Булат Окуджава пел в обществе и был свободен от общества. Юрий Визбор задушевной манерой вроде как бы исполнял одно из главных требований к массовой песне: "она, как друг, и зовет, и ведет…" Его песня звала, вела и уводила - по-одному из толпы - в горы, в ясность, в чистоту, в сторону от коллективного разума…
Все "данные" Ю.И.Визбора звали повториться "советский тип" в характере и внешности, однако его натура предпочла сходство с персонажами из Хемингуэя или Ремарка. Таким мог быть закадычный друг детства Жана Габена, лично подпевавший Иву Монтану где-то у стен Малапаги…
Фильм "Июльский дождь" любимого "неореалиста" московской заставы режиссера Марлена Хуциева вызвал восторги умной публики и раздражение публики официальной. Юра Визбор "ничего не играл" в одной из главных ролей и пел в фильме свою песню "Спокойно, дружище, спокойно". Марлен Хуциев взял героя из жизни, а не из актеров. Героя с антигероической внешностью. И Юрий Визбор сразу стал знаменитым. Его снимали Лариса Шепитько, Андрей Смирнов, Михаил Калатозов. Конечно, он был обаятельным, киногеничным… как говорилось - неотразимый мужчина. Но разве мало не менее эффектных, но "обученных" актеров? Почему такие хорошие режиссеры предпочитали Юру? Я думаю, по той же причине, по какой мы все тянулись к фильмам неореалистов и голосу Монтана: Визбор был абсолютно натуральным и в жизни, и на эстраде, и на экране. Он "никогда не играл".
Наполним музыкой сердца, Устроим праздники из буден, Своих мучителей забудем, Вот сквер - пройдемся до конца……Снимался фильм "Красная палатка". Персонажи Визбора и Бориса Хмельницкого, по воле сценария, попали в ледяную воду, боролись, стреляли, отснялись, вылезли. Съемка шла за Полярным кругом… Белые медведи глядят и не верят своим глазам: человек добровольно купается в ледяной воде?! Юра и Боря сразу опрокинули по стакану чистого спирта, оттуда - в каюту, там - горячий душ, довольны, вернулись на площадку. Вместо благодарности - приказ режиссера: снимаем второй дубль.
- Как? Да вы что?
- Да ничего! Кино есть кино! Быстро в кадр! Грим, костюмы! Группа, внимание!
- Да вы что? А наши детородные органы, а ваш гуманизм…
- Все! Время! Первый дубль в браке - а мы снимаем итало-советский фильм! Впервые в истории! Быстро в кадр!
И они полезли в ледяную ванну. Борьба, брызги, стрельба, и белые медведи - в ледовитом шоке… Вылезли, им опять сразу - спирт, каюта, горячий душ. Вернулись на площадку (помните, куда преступников обычно тянет?)… Калатозов крепко обнял героев. Овации всей группы. И - маленькая просьба от оператора, при поддержке режиссера:
- Ребята, нужен третий дубль, нужен до смерти! Есть погрешности, словом, это наша вина, простите, без третьего дубля - фильма не будет!
- Да вы что, озверели?! Вам нужен третий дубль до смерти, да? До нашей, что ли, смерти, а?!
И оба артиста скрылись в каюте. К ним посылали гонцов, им сулили, им угрожали. Молчал океан. На двери каюты появился листок с ответом Юрия Визбора: "Кино найдет себе другого, а мать сыночка - никогда".
Что за погода? Как эти сумерки ужасны! Что за погода? Меняет климат свой земля… А я устала. Ходила целый день напрасно…1975 год. На съемки фильма "Смок и Малыш", где я изнывал от одиночества посреди литовского кинематографа, посреди снегов Кольского полуострова, явился мне спасатель Юрий Иосифович. В красной пуховке, круглый, крепкий, румяный и рыжеватый.
Явился будто бы снимать документальное кино про Апатиты и флотаторов, про героев наших будней, но на самом деле - спасать друга. Он был в курсе моих переживаний: я впервые столкнулся с интригами большого кино, и с комплексом неполноценности кинорежиссера (того же, что снимал трифоновский "Обмен"), и с антирусскими комплексами тоже… Я играл главную роль, меня втащили в кадр, надеясь на мой театральный опыт, а я нуждался в уроках совсем новой профессии. Режиссер психовал, учить не умел и все недостатки начального периода смело валил на упрямого актера, да еще из ненавистной Москвы… Экспедиция в красивых горах превращалась в филиал тюрьмы народов.
Юра приурочил свою работу к месту и времени моих съемок, погостил пару часов в киногруппе, обворожил всех моих литовцев:
1) тем, что, будучи всесоюзной звездой экрана, шутил, смешил и все время высоко уважал каждого литовского представителя;
2) тем, что, по секрету от меня, хвалил их за выбор "такого" актера, сулил бешеный успех первому литовскому сериалу на всесоюзном телеэкране;
3) тем, что намекал на большие симпатии к этим съемкам большого начальства киностудии "Экран";
4) тем, что выпивал и закусывал со всеми литовцами запросто и за свой счет;
5) тем, что признался сразу и без пыток, что его натуральная фамилия Визборас, что отца его, Йозаса, сгноили в сталинских лагерях, но он с матушкой (украинского происхождения) никак не мог, к сожалению, выучить родной литовский язык…
Юра провел несколько сеансов ненавязчивой психотерапии, носился со мною, в свободные мои часы окружал братской заботой, перезнакомил со многими хорошими апатитовцами… Были теплые вечера посреди снежных гор, были его песни - в том числе о соседних вершинах… Юра принял участие в "Академиаде" горнолыжников, на одном из этапов которой его рассмешил большой физик из Киева…
- Ты можешь себе представить мой неслабый успех в высоких слоях гениев науки? На плато Росвумчорр группа ученых подъезжает, пожимает мне трудовую перчатку, а самый смелый из них, академик Савельев, заявляет… Что, мол, они понимают, я и то умею, и в этом преуспел, и песни мои они, дескать, с молоком своих мам приняли, и что на лыжах держусь, не падаю и вершин не боюсь… Но одного они все, хотя и очень умные, понять не могут: как я, такой мягкий и добрый, сумел перевоплотиться в этого суку Бормана? Каких трудов мне, наверное, стоило - сыграть на фоне маститых мастеров экрана этого суку Бормана? И даже голос, дескать, я как-то филигранно изменил, и глаза, и щеки, и нутро - ну вылитый сука Борман! Особенно, конечно, голос!
Рассказ сопровождался нашим обоюдогромким хохотом. Разумеется, попав в артисты, журналист Визбор готов был терпеть возвышенные фантазии кинозрителей на счет особых трудностей в жизни киносъемщиков, но такой высоты еще не брал никто… Этот Борман был сыгран Юрой срочно, по просьбе коллеги-режиссера в Останкино, без отрыва от основных занятий. Портретный грим "суки Бормана", два-три дня съемок - и Юра прочно забыл о случайном эпизоде. Он даже не сумел расстроиться, узнав, что его роль озвучивает другой актер… Но успех фильма "Семнадцать мгновений весны" и лично образа Бормана превзошел все мечты - "особенно, конечно, голос!".
…Когда Визбор уехал со съемок в Москву, у меня начался перелом к лучшему - в работе, в отношениях с режиссером и просто в душевной области… В гостинице Юра поделился большой сердечной новостью, которой он уже посвятил несколько прекрасных песен. "Новость" жила в Москве и через год превратила жизнь Юры в кромешный ад.
Романы, лирика, любовь - дело, конечно, тайное, и всегда неприятны сплетни и версии, но… Данный пожар сердца дорого стоил замечательному человеку, и мне впервые пришлось сыграть "ответную роль" спасателя… А на Кольском полуострове, на старте романа - только ахи да охи, только румянец и радость, а также песни, шутки, прибаутки…
Ax, как нам хорошо! Как хорошо нам жить на свете! Дождь, кажется, прошел. Наступит скоро теплый вечер… Ах, как светло вокруг! И птицы весело щебечут… Ах, дорогой мой друг! Как хорошо нам с тобой вдвоем…1976 год. Юра в моей квартире справляет свои сорок два года. Он сбросил бремя "любовного наваждения". (Очень скоро ему улыбнется судьба - в лице "прекрасной Нинон", навеки верной и любимой жены.) Теперь он ожил, и в океан его обаяния вливаются снова реки его друзей. Звучат умные и бодрые шутки, тосты блистают прозрачными намеками, хохот компании сменяется песнями Ю.Визбора, С.Никитина, В.Берковского, Д.Сухарева… А я, хозяин дома, счастливей счастья. И надежно скрываю от друзей то, что случилось буквально накануне Юриного дня рождения. Он пренебрег моим мудрым советом и сбежал по адресу бывшей "новости". Вернулся домой страшнее тучи, улегся на кровать, замкнул уста… В глазах - такая скорбь, такая тоска… Ни слова между нами, тишина. Вижу: рука Юры набирает горсть лекарств, он их глотает, запивает, не меняя выражения остановившихся глаз… Я, не очень разбираясь в медицине, в ужасе мечусь, предчувствуя худшее. Дальше случилась моя идиотская импровизация, за которую впоследствии, к моему удивлению, он хвалил меня родным и близким.
Я вбежал в ванную, смочил холодной водой полотенце, вернулся к Юре и огрел его прямо по шее, по лицу, по голове… И остановился, в страхе от содеянного. А Юру именно этот шок вернул к жизни - так он потом рассудил.
Что ни баба - то промашка, Что ни камень - то скала. Видно, черная монашка Мне дорогу перешла.1980 год. Роман мой, квартира - его. Легко об этом читать в чужих книгах, а если и страсти, и страхи - твои, родные? Не стану ворошить черных чертей проклятого прошлого: не я первый, не я последний получал удар за ударом в эпоху развода. В черные дни я спасался - от надзора, от сплетен, от риска потерять любимую, от исполнения безумных угроз… Меня укрывали теплые стены дома Юры Визбора. А однажды случилась комедия, по ошибке принятая за трагедию.
Юра отдал нам свои ключи с предупреждением: являться тихо, на звонки и стуки не откликаться, ибо его дом только для меня - крепость, а для него - мишень разбоя. Одна, скажем, суровая к Визбору дама жила в том же кооперативе и осаждала квартиру повышенным вниманием, а застань она там посторонних - готово дело о незаконной сдаче жилья и т. д.
И вот однажды Юра явился к себе домой, уверенный, что мы с Галей в театре, и забыв, что среда на "Таганке" - выходной день. Он привычно вставил ключ в дверь. Дверь не открылась. Он услышал шорох внутри и замер. Мы, в квартире, услыхали вражеские звуки и замерли тоже. Юра позвонил. Мы не ответили. Он стал помогать ключу, нажимая плечом на дверь. Я догадался: ломятся с проверкой. Надо спасать дом друга! Я занял позицию у двери. Враг жмет. Я держу дверь. Враг со всей силы толкает. Я изо всех сил креплю оборону. Бедная моя Галка, решив, что дом обречен, решила спасать меня: собрав в охапку зимние пальто и свитер, раскрыла окно (оно выходило на заснеженную крышу магазина "Диета"), звала, умоляла жестами - на крышу! огородами! на волю! в пампасы… Но я стоял насмерть. И тут враг в барсовом прыжке долбанул дверь ногами. Дверь зашаталась, закряхтела, но с петель почему-то не сорвалась. Враг пыхтел и сопел. Силы терялись по обе стороны двери. А Галка все тянула меня - туда, откуда тянуло диким холодом - на свободу, на "Диету", в пампасы. Сердце колотилось громче двери, а дверь ходила ходуном, ибо враг был (как потом выяснилось) серьезным горнолыжником…
На мое счастье, спортсмен устал прыгать и приложил ухо к двери: кто, мол, прячется и почему так тихо? Сразу пришла в его кипящую голову странная мысль: а вдруг?.. И Юра шепнул неуверенно: "Ве-ень! Ве-ень! Это ты?" И я широко распахнул дверь… Ни волков, ни красных шапочек - две изнуренные "бабушки" рухнули на кровать. Нервный смех родился у Галки. Свежий воздух возродил сознание. Сердечные капли помогли понять, что было и что есть. Потом Юра и я надолго ушли в хохот. Через час его, профессионала, волновал только один вопрос: как бы это все так описать, чтобы читателю передать все нюансы трагикомедии… Вот я и попробовал… почти двадцать лет спустя…
В конце семидесятых была им написана песня о нашей дружбе. Я ее очень стеснялся и на своих концертах отвечал на вопросы так: "У Визбора таких, как я, сотни, просто мое имя удачно попало в его рифму…" А первыми слушателями песни оказались замечательные друзья Юры - Лариса Шепитько и Элем Климов. Я цитирую песню, и больше нет стеснения, осталась только грусть:
Впереди у нас хребет скальный, Позади течет река - Время. Если б я собрался в путь дальний, Я бы Смехова позвал Веню. … …Никакого не держа дела, Раздвигая на пути ветки, Мы бы шли, и, увидав девок, Мы б кричали: "Эй, привет, девки". … Я бы сам гитарный гриф вспенил, Так бы вспенил, что конец свету… "Я бы выпил, - говорю, - Веня, Да здоровья, дорогой, нету!" Ну а он свое твердит, вторит: "Воспарим, мол, говорит, в выси, Дескать, пьяному почем горе, Ну а трезвому - какой смысел?" Так и шли б мы по земле летней, По березовым лесам - к югу, Предоставив всем друзьям сплетни, Не продав и не предав друга. А от дружбы что же нам нужно? Чтобы сердце от нее пело, Чтоб была она мужской дружбой, А не просто городским делом.Ю.Визбор жил и пел естественно и просто. "Ничего не играя", он сыграл важную роль в жизни многих, многих людей. Я видел благодарных ему в театре Марка Захарова, где шли две его пьесы; на телевидении, где он сделал много отличных документальных фильмов; в институтах и научных городках.
Да, наша молодость прошла, Но знаешь, есть одна идея у меня: Давай забросим все дела И съездим к морю на три дня… хоть на три дня……У самого синего моря, в Севастополе, команда умной молодежи вцепилась в любимого барда - до самой ночи. Ну, и мне перепало от того тепла и от песен, юмора, еды, питья, а под утро - и… гнева за то, что тянул Юру из гостей на улицу, в машину. Надо было добираться до Ялты, где мы снимали два номера в гостинице над морем. А водитель усталый, а ночь дождливая. И мы выехали из Севастополя, оставив позади и "визбороведов", и ужин - экспромт на газетах вместо скатерти, и горящие очи южных студенток, и дневной поход на старую яхту "Седов", и ливень, и ветра, и гитары…
А на трассе - круглое кафе, которое крымские шоферюги кличут "Шайбой". В этой "Шайбе" надо было взять пачку сигарет (в старой песне Визбора: "на вас не напасешься, ребята, папирос"). Пустой зал. Одинокий едок над вчерашними сосисками с капустой. Одинокая пара танцующих… дружинников. Одинокий бармен, а рядом со стойкой - электрогитара и у микрофона - музыкант. Юра застыл в позе выходящего из кафе. Он знал всех лучших шансонье, джазовых певцов, группы разных стран, он часами воспроизводил любимые песни на английском языке. И он застыл и побоялся прервать вдохновение певца. Какие ветры занесли в эту заброшенную Богом "Шайбу" такого мастера? Наутро в Ялте Юра изменил нашим совместным планам прогулок, а поздним вечером показал свою новую песню "Одинокий гитарист"…
…В огромном зале Дворца культуры города Самары, спустя год после смерти Ю.Визбора, я услышал, как тысячи разных людей соединила светлая душа Юриных песен. Наверное, я слишком сентиментален. Надеюсь, что я далеко не одинок в этом. Тысячи людей вторили мелодиям и текстам, а глаза были "на мокром месте". До сегодня на высоком берегу Волги собираются бывшие и нынешние юноши-девушки, и среди песен-кумиров часто звучат песни Юрия Визбора. Я слышал их в домах и на дорогах Америки, Германии, Израиля. Одинокий гитарист звучит и звучит по белу свету. Его голос и его рифмы щедро развеял ветер русской эмиграции.
Когда мы уедем, уйдем, улетим, Когда оседлаем мы наши машины, Какими пустыми тут станут пути, Как будут без нас одиноки вершины. (Повторяется два раза.) То взлет, то посадка, То снег, то дожди, Сырая палатка И писем не жди… Ты мой остров, дружок, ты мой остров, Ты мой остров, я твой Робинзон… Да, уходит наше поколенье - Рудиментом в нынешних мирах, Словно полужесткие крепления Или радиолы во дворах… Ах, вернуть бы мне те корабли С парусами в косую линейку… Покидаю город Таллин, состоящий из проталин, На сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, И отчасти состоящий, и отчасти состоящий, И отчасти состоящий из невыпивших людей…(Повторяется два раза.)
… Идет молчаливо в распадок рассвет… Уходишь - "счастливо", Приходишь - "привет".(Не повторяется.)
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
Говорить о Высоцком на публике - трудно. В ушах ворчит предупредительный голосок: "Еще один примазывается, еще одному погреться в лучах чужой славы совесть не мешает, еще один закадычник сыскался". И вдруг - свобода. Сидишь в компании таких же "современников" и свидетелей, и если настроение хорошее - как прекрасно поговорить об этом "совместно нажитом имуществе", об унесенных ветром годах таганской юности. Остановить мгновенье, и разглядеть его, и оживить старым актерским способом…
Дружба дружбой, а роли врозь
В фильме Э.Рязанова о Высоцком в 1986 году Золотухин поделился историей с ролью Гамлета. И миллионы высоцколюбов дружно возненавидели Валерия - за что? За то, что Высоцкий счел предательством согласие друга войти в его любимую роль.
Несколько слов для непосвященных. В театрах всегда есть проблема "второго состава", но на Таганке первые лет восемь большие роли строились на одного исполнителя. Смолоду мы играли каждый день, и о вторых составах почти не говорилось. С годами у каждого складывался свой "роман" с образом, и передача главной роли другому исполнителю часто не воспринималась по-служебному. Высоцкий - яркий пример того, что к любимой роли можно относиться как к любимой девушке.
Все сочиненное досталось читателям. Все пропетое - слушателям. Фильмы - зрителям. А спектакли?.. Ю.П.Любимов учил нас: спектакли уходят в легенду. Не надо хороший театр снимать на пленку. Там, для экрана, стараются оператор, монтажер - чужой народ, ему не соткать нам воздушных мостов - тех, по которым зритель ловит актерские биотоки. Богу - Богово, кесарю - кесарево. Жестокая и прекрасная участь театра - переходя из уст в уста, слагаться в легенду… Вот уже и наш "Гамлет" - легенда. Спасибо экрану, он сохранил правдивый отчет о ролях и мизансценах. Но души он не задел, и легенда осталась легендой. Я бы держал телезаписи в архиве, для специалистов. Не надо развенчивать мифы. И пусть каждый вспоминает свое.
Кто с умыслом, кто бессознательно, поддаются люди очарованию легенды. И уже не только они - ее, но и сама легенда начинает творить нас - по своему образу и подобию…
Известная женщина-критик при мне в 1976 году, сидя во втором ряду, отворачивала лицо, когда Высоцкий начинал монолог Лопахина в "Вишневом саде", а в антракте в ярких красках рисовала мне возмущение его грубостью, однозвучностью… Сегодня под ее пером роль Лопахина в исполнении артиста Высоцкого изобиловала… удивляла… восхищала… а сколько такта и ума!
Тринадцать названий, тринадцать ролей Володи. Я их располагаю по хронологии, и как в цифре "13", так и в самом перечне заголовков звучит нечто символическое - надо уметь только услышать, вот! С 1964 (осень) по 1980 (зима) - тринадцать пьес. Пусть они прочтутся без кавычек: Добрый человек из Сезуана - Герой нашего времени - Антимиры - 10 дней, которые потрясли мир - Павшие и живые - Жизнь Галилея - Послушайте! - Пугачев - Гамлет - Пристегните ремни - Вишневый сад - В поисках жанра - Преступление и наказание…
"Гамлет", видимо, был для него важнее благ и доводов. Он бы с края земли вырвался играть его - даже если б уже совсем ни с кем не общался в театре. Он прилетал, приплывал, он и больным "приползал" к любимой роли. Он был отходчив, его не назовешь упрямцем. Многим прощал, кому и прощенья нету. Он умел и повиниться - пусть кратко, "через губу", он не был гордецом. Но за "Гамлета" Высоцкий мог даже впасть в грех злопамятства. И - впадал.
Так случилось на нашем перекрестке театральной судьбы, что Театр на Таганке сыграл какую-то историческую роль. Может быть, в будущем окажется, что и наше поколение в истории России сыграло немаловажную роль. И очень возможно, издалека откроется безусловность факта: главную роль в нашем поколении сыграл Владимир Высоцкий.
В 1980 году в начале июля на служебном входе "Таганки" раздался звонок. Шутник спросил по телефону: "Кто у вас сегодня играет Высоцкого?" И вахтер, не моргнув, ответил: "Гамлет!"…
…На роль Гамлета в начале работы Любимов назначил Леонида Филатова - Володя реагировал. В последние два года, несмотря на частые отлучки, такое же отношение у Владимира было и к роли Свидригайлова в спектакле "Преступление и наказание". Кого-то он мог терпеть в "своей" роли, а к кому-то ревновал…
Публика - это публика, а нам-то вблизи ясно, кто виноват. Нельзя сказать - Высоцкий, скорее всего - актерский максимализм.
Правда, в "Вишневом саде" у Эфроса Володя и не подумал заступиться за товарища, актера В.Шаповалова, который до него отлично репетировал Лопахина и был отставлен, как только Володя появился в театре. Ему была приятна эта рядовая театральная несправедливость… И для Лени Филатова были не лучшими те дни репетиций "Гамлета", которого он так и не сыграл… И некого винить, если можешь понять. Конечно, сегодня о прошлом легко говорится. Так же, как легко забывается: вот Володя на исходе сил и нервов выходит на сцену играть спектакль, работает "как на премьере" и резко обижает товарищей по сцене: "Что ты халтуришь? Зачем уронил сцену? Что ты через губу плетешь?" Обижались сильно. Когда не здоровался, не улыбался приветливо - обижались. А если Любимов за спиной Высоцкого нападал грубыми эпитетами на "всенародного любимца", "владельца "мерседеса" и "кинозвезду" - тогда радовались и подхалимски хохотали… Кого винить? И надо ли… Лучше - удивимся! Вот: из блестящего устного рассказа Ивана Дыховичного…
На Таганке в разгаре работа над Шекспиром. Любимов опасно суров с нами. Опоздать или даже заболеть в это время - упаси бог, себе дороже. В театре - зловещая тишина за кулисами, на сцене - кромешный ад, режиссер недоволен ходом работы, ушаты грязи щедро льются из его уст на наши головы… И вдруг - беда в свадебном ритуале у Ивана: днем ехать в загс, а утром он обнаружил пропажу документов! Выхода нет, но Владимир - находит. Берет Ивана за руку, ведет к Любимову (через пять минут - начало репетиции). Как можно плотиной остановить Ниагарский водопад? А вот как…
В ы с о ц к и й (входит в кабинет, где буря висит в воздухе): "Юрий Петрович, случилось несчастье".
Ю. Л ю б и м о в (еще не слыша, но уже попадая под магию взгляда B. C.): "В чем дело? Почему вы не в репетиционной форме?"
В. В ы с о ц к и й (бросаясь под Ниагару): "Юрий Петрович! Я везу Ивана в милицию, срочно!"
Ю. Л ю б и м о в (вдруг страстно и с сочувствием): "Да, да, быстрее езжай!"
И они, захватив гитару из театрального реквизита, появились у главных людей московской милиции. "Вы сейчас срочно сделаете ему копии украденных документов, - приказал Высоцкий, - а я все это время буду петь вам свои песни". И пока Ивану заполняли копии документов, у начальства в кабинете пел два часа подряд…
Дневник 1975 года.
26 мая. "Таганка". "Пристегните ремни". Новость - приехал из Парижа бородатый, красивый и спокойный Володя Высоцкий. "О, где же вы, дни весны, сладкие сны" - давно с ним так не журчали. Мирно посидели в гримерной. "Жить там нельзя… но ностальгия притупилась - от сознания возвращения… Видел три спектакля Питера Брука… мощно - в чем-то сходен с шефом, но все-таки посильнее. Напел пластинку - здесь наши не утверждают…"
Дневник 1976 года.
8 февраля. Воскресенье…(утро дома)… "Тартюф" старая развалина. Дружновато едем в театр. "Вишневый сад"…а-а, нет. Сад мимо: Высоцкий болен. Звоню по секрет-телефону 254-75-82. Слава Говорухин. "Веня, звони попозже. Не могу сказать. Еще не понял…" Воздух раскаляется. Шеф - тоже.
13 часов - На доске - дурные приказы о заменах в "Добром", "Гамлете". Золотухин - принц? Днем был Андрей Мягков - телегерой СССР. О чем они с Любимовым? Не затычку ли ищем? Ю.П. явно не Прокруст, однако тянет Володю в старое ложе, хруст, треск, трах, бах. Вове ехать у Париж, Вову мучает престиж-свара с Миттой, полгода "Арапа Петра Вел." - и черный Высоцкий в ужасе от материала. По словам Золотухина, Митта жесток и беспардонен. Итак, новые беды. А в зале - Суходрев, придворный переводило Хрущева и Брежнева, и… Эфрос. Столкнулись в низах, под сценою мiстецтва на Таганке. Эфрос серо-дружелюбен (приходит редко, а тут - отмена "Сада"). Алка бодро: "Ну! Вы будете Веню вводить на Гаева?" Эфрос: "Как Вы скажете…" - "Надо, Анатоль Васильич!" Эфрос: "Всё, решено…" Я: "Вам дать Володин телефон?" Он: "У меня есть, я буду сейчас звонить…"
13 февраля. Иду на "Гамлета". Володя красно-крупно-глазый, воспаленный и хромой. Театр полуглупый, получуждый, но родной. Ю.П. отговорил Филатова от ухода из театра (Ленька: "Ну да, такой удар перед съездом… Он же мне не дал сказать, полтора часа о своих горестях… что я мог?"). Я рад, что так. Надежд на поправку Ю.П. мало. Ленька: "Да, он вдруг сказал: "Я знаю, Вениамин обижен на "Обмен", но это была бы роль как в "Часе пик"…" Гм, во-первых, я не обижен, а расстроен; во-вторых, не за обмены, а за обмеры-обвесы; в-третьих, хорошо, что он помнит, и еще - сильна в нем убежденка в группировках. Тошность.
22 февраля. 22 часа. "Антимирики" прошли на высоте. Высоцкий, когда возвращается - он - старый Вовка, друг и ближе нету. И зритель рад, и каждый - брат. Я в поклонах ору Нине Шкатовой, помрежу: "Нина, пиши докладную - спектакль прошел так хорошо, что пять раз может идти плохо!" Эйфорический успех шутки, расход.
23 февраля. "Павшие". Очень хорошо. Овации. Володя - как ни в чем не пивал, блеск. Паперный: рукоплеск. У Любимова внутри на двери - рисунок Эрнста Неизвестного 22 февраля 1976 года. Володя и я: "А он - чего?" Ю.П.: "Ничего, он уезжает, приехал, простился".
24 февраля. "Жизнь Галилея". Высоцкий на служебном входе собирает оброк с поклонников. Это всегдашняя обаятельная декорация Володи при служебном входе: цветы, рулоны, книги, конверты, бутылки и т. п. Он полусумрачно (чтоб не обнаглели) благодарен.
27 февраля. "Гамлет". 4 автобуса делегатов XXV съезда съезда КП. У директора генсеки Латвии и еще чего-то. Перепады в погодах, болтанка зимо-лета - и всех клонит в сон. Отсюда - взлет дарований на сцене. Высоцкому болят почки, рванул паховую мышцу… все нехорошо. Ан весел и мил. Сидим в антракте - об съезде, об Митте - девочка высшесортная - актриса с четырнадцати лет - Ирочка из Горького (снялась у Титова Вити до "Арапа Петра"…). Доиграли!
7 марта. "Павшие и живые". Сильноват Высоцкий. Хорош и как бард, и как Вовка. Давид Боровский прибыл с Рейк-Копен-Даника. Четыре блока жувачек - деткам. Ночные "Антимиры". Зал прохладен. Десять минут междусобойчик с Высоцким. О честности, об иудаизме, о любви, о "Winston"- сигаретах, Любимове и la vie.
"Сажаю в своей поезд, кого захочу…"
Володя был очень щедр в любви и дружбе. Это если он лишит тебя своего пристрастия, то сразу может казаться колючим и недобрым. Но когда ты находишься в кругу его выбора, можешь ни о чем не заботиться. Высоцкий, как бы ни был занят своей гигантской работой, ни на секунду не спускал глаз с тех, кого опекал. В чем еще проявлялась щедрость таланта - он перебарщивал в оценках опекаемых персон. Золотухин в устах Владимира был величайшим народным певцом. Когда он полюбил Леню Филатова, то никаких поэтов-пародистов-юмористов он близко бы не поставил. Филатовские пародии и артистизмом, и блеском юмора, и россыпью словесных попаданий - сражали Володю (как и всех нас) наповал. Когда он любовался теми, кого любил, на него глядеть - не наглядеться… С какой всегдашней пылкостью он отзывался на появление Севы Абдулова! Как аппетитно перебирал подробности того, что и как готовила к столу хлебосольная художница Лиля Майорова-Митта! Как восхищался Аллой Демидовой…
Помню, мы шли по двору "Мосфильма" и обсуждали театральные новости. Шедший навстречу Михаил Швейцер приветственно-покровительственно сжал обеими руками на ходу Володин живот и ушагал далее… Володя прошел десяток шагов, плюнул и выругался: "Ненавижу, когда меня вот так (спародировал) за живот!" Больше - ничего. Сели в такси, и, наверное, до самого театра Володя говорил про Демидову… "Смотри-ка, ведь ей не даны от природы ни внешность "звезды", ни безумье страсти Джульетты Мазины или нашей Зины… Сотни более "готовых к употреблению" рядом, близко, да? А она ведь всех обошла! Ты гляди, всех обошла! А почему? Я думал о ней и понял: она колоссальный конструктор. Нет, это не просто сухой расчет. Она все свое имеет - и темперамент, и талант. Но она точно знает свои недостатки и обернула их в достоинства… А время сработало на нее! И гляди, гляди: Иванова, Петрова, Сидорова - это все милашки, такого товара всегда навалом. Но кого у нас нет, а есть только одна Демидова, - так это - интеллект на экране!" Тут мы припомнили и ее скромность в театре, и то, что она успела себя испробовать и в танце, и в пантомиме, и хотя снимается много, но в театре это почти не заметно, ибо - интеллигентна, а то, что на нее "катят бочки" коллеги и шеф, так она выше этого, умеет не замечать и тем повышает цену своему имени…
Влюбившись в "Таганку", немедленно влюбил в нее всех, кого захотел. Однокурсники-друзья Жора Епифанцев и Сева Абдулов жили не тужили во МХАТе, но Володя им что-то такое сказал и так удивил светлым будущим, что они назавтра сбежали к Любимову. Годик потрудились, вошли в кое-какие спектакли, особых перспектив для себя не узрели, вернулись в "Академию". И вот что уникально: никогда бы высокомерный главный театр страны не простил бы измену, а тут и побег, и возвращение были такими странными, нелепо-романтическими и смешными, что Севу с Жорой зачислили снова в штат. А Володя, помню, объяснил так: "Они-то, мхатовцы, в своих глазах - слоны искусства. Ну и что случилось? Двое из стада отлучились, переспали слонята с мартышками и - марш домой в стадо! За что их ругать? Слономолодо - слонозелено…"
В Киеве, на гастролях, Володя обещал потрясти нас с Ваней Дыховичным вкусным рестораном. Ваня за рулем. Едем, отпираться бессмысленно, хотя времени до спектакля - в обрез. Володя показывает дорогу, удивляет знанием деталей географии и местной жизни. Новый красавец - загородная забегаловка "Млын". Вошли, слюнки нам уже агитатор распустил. Ну и где еда? Володя к шефу: прошу меню, у нас спектакль. А шеф вяло и бессердечно:
- Ну и шо? Йишьте соби, шо е.
- А шо е?
- Тильки горылка тай кавуны.
Невероятно, но факт: Высоцкий, не моргнув глазом, убедил нас в том, что это - большая удача, ибо лучшей водки нам не найти, а арбуз - лучшая в мире закуска, а, кроме того, в арбузе - такие достоинства (подробно перечислил) и даже недостаток - полезен: арбуз быстро выводит всю гадость через мочу, и актер оказывается сыт, здоров и строен, как сам пропагандист. Мы с Ваней выпили, а Володя так и столько съел арбуза, что я лично с тех пор даже на дыню глядеть не могу.
Где-то в 1976 или в 1977 году Володя организовал вечер в Международном телефонном центре. Его связывала дружба с этим домом. Думая, что он своими песнями ко всем праздникам им наскучил (он так прямо и сказал), постарался к 8 Марта составить концерт из актеров - своих товарищей. Он звал Голубкину и Миронова, Высоковского и Золотухина, певцов, пианистов… Кто смог, тот пришел. Я помню наш столик у сцены. Володя объявляет, садится к нам, оглядывает зал. Нарядные женщины-телефонистки. На столиках, меж стаканов и бутербродов, красуются флаги. Здесь связисты, отвечающие за переговоры со всеми странами и континентами. Флажки на столах - знаки рабочего места. На нашем столе - флаг Французской Республики. О каждом из нас Володя говорит с такой теплотой, так аттестует наши дарования, что, услышь я это сегодня, не скрою - заплакал бы. А тогда - ничего, привыкли к его доброму "завышению цен". Впервые представлен молодой выпускник Консерватории, певец, ставший солистом Камерной студии при Большом театре, - Александр Подболотов. Как Высоцкий его объявил! Он не хвалил, а ставил в известность тех, кто не в курсе:
- Вот Подболотов. Вы думали, что кончилась эпоха певцов, у которых звуки - небесные? И я так думал, пока не услышал Подболотова. Саша, иди сюда, пожалуйста, и вы станете самыми счастливыми людьми.
Саша Подболотов замечательно пел Есенина и на сцене, и потом, когда мы спустились в гигантский зал, и для дежурящих телефонисток Володя устроил блицконцерт. Звенели зуммеры. Наушники в руках. Глаза - блестят, незабываемая картина!
Андрей Вознесенский в мемуарной прозе вспомнил о наших с Владимиром посещениях его дома… Слава спектакля "Антимиры" была столь высока в 60-х годах, что мы вдвоем даже удостоились чести посидеть на вознесенском новогодии 1966-1967 года. Я не иронизирую: зритель еще не желал выделять из таганского карнавала отдельные лица, а имя поэта Вознесенского уже гремело по миру. Мы от радости, от холода и от боязни опоздать пришли даже на час раньше срока. И вот Володя с другом детства Игорем Кохановским терпеливо греются на радиаторе между этажами, пока не пришли "старшие гости"… А нас с женой хозяйка отослала еще дальше: домой за вилками. Все обошлось. В разгар праздника Андрей, порадовав гостей только что сочиненным, переселяет часа в 4 утра всех в другую комнату, где Высоцкому будет удобнее петь. И тут произошло открытие поэзии Владимира Высоцкого для многих присутствующих людей искусства. "Письмо с выставки", помню, автора умоляли бисировать, а когда Володя в своей клоунской манере сообщил "в деревню" о посещении Большого театра ("Был в балете - мужики девок лапают. Девки все, как на подбор, - в белых тапочках… Вот пишу, а слезы душут и капают: не давай себя хватать, моя лапочка…") - Майя Плисецкая так засмеялась, что, во-первых, певец должен был прерваться, а во-вторых, выяснились превосходные вокальные данные великой балерины…
Близким издавна была драгоценна в Володе комическая жилка. Не только сам свое рассказывал, но пересказывал с чужих уст, на ходу довыдумывал, перекраивал, обновлял - так, чтобы слушатели "животики надрывали". А какое владение речью, акцентами, говорками! Сколько типов отовсюду - узбеки, волжане, украинцы, одесситы, американцы, немцы и, конечно, любимые кавказцы - все выходили живыми, яркими и гомерически смешными… Рассказчиком Володя был мастерским: бывало, твой собственный случай через пару дней услышишь из его уст и залюбуешься: так он его перефразировал, что вышло и ярче, и смешнее, и… гораздо правдивее.
Наслушавшись приятеля по Театру им. Пушкина, он создал смешную историю посещения товарищем Березовым из Москвы городского театра на Северном Кавказе.
Дело было в столице крохотной, но гордой республики, где директор театра оказал московскому артисту Березову пышный прием с кавказским акцентом… После приема - жуткий спектакль, от которого москвичу стало обидно за напрасно прожитую жизнь. После спектакля - овации всего зала и цветы всей республики - ему, Березову. Он уже хочет домой, в Москву. А директор водит гостя по галерее портретов актрис и предлагает выбрать спутницу ночи. Гвоздь рассказа - настойчивая просьба выбрать для сексуальной утехи женщину уровня "посланца Москвы товарища Березов-джан", а именно народную артистку Тарды-Курдинской автономной области, депутатку, лауреатку и т. д. "Лейлу Меджнуновну Карабанды-манды-чирикуликову". Березов-джан умоляет, вопит - не хочу депутатку! Если у вас такие обычаи - дайте вот эту, молодую! Директор гостеприимно вопит в ответ: "Нет! Непрестижно, Березов-джан, товарищ! Ваш уровень - наш выбор, извини, дорогой!" И директор созывает на "отсмотр" всех народных артисток, самой младшей из которых пока еще меньше семидесяти… Занавес.
…Там же на Кавказе мама Наума Гребнева, пока Наум в Москве в поте лица переводил стихи Кайсына Кулиева, кушала в горах, поражалась хлебосольству поэта. И Володя своими ушами слышал (уверял он нас своими устами), как мама с одесским акцентом отблагодарила кавказского мастера слова: "Не знаю, Кайсынчик, каких вы себе пишете стихов, но Нёмочка переводит вас блестяще!"
Не сбылось увидеть Высоцкого в комической роли. Впрочем, как и в его известной песне "Если я чего решил" - обязательно исполнялось все, к чему стремился… И если не сыграл на сцене комедийных ролей, то властью автора населил ими многие песни, а уж как Высоцкий "перевоплощался" и как сумел рассмешить своими Ванями-Зинами-ведьмами-Серегами всю необъятную аудиторию слушателей, давно всем известно…
Помню Володину шалость: как ворвались не в свой спектакль Высоцкий с друзьями… Во Дворце завода "Серп и молот" шел "Добрый человек из Сезуана", где Володя исполнял роль летчика Янг Суна. А в полутора километрах, на Таганке, дома, игрался "Час пик". Здесь я два с половиной часа бегаю, качаюсь на маятнике, грешу и каюсь за варшавского человека - чиновника Кшиштофа. В этом современном трагифарсе есть рефрен: все актеры в назначенный миг высыпают на сцену, озабоченно снуют туда и назад, под грохот музыки и вспышки прожекторов. А я сквозь людей, суету и шум продолжаю выкрикивать свои монологи - как бы на улице и как бы в запарке жизни. И вот, представьте, привычные рефлексы разрушаются… улица Варшавы кишит народом… что-то мешает… а, это смеются персонажи, просто давятся от хохота… теперь вижу и я, но давлюсь от другого - от гнева и отчаяния: вместе с "варшавянами", в том же ритме, с полным серьезом во взоре носится по сцене взад-вперед Высоцкий - Янг Сун вместе с тремя дружками из "Доброго человека". Так сказать, проездом из Китая в Варшаву… Четверо оборванцев среди цивильной публики… В глазах - плохо скрываемый восторг и, конечно, ожидание ответного восторга… Я, вопреки ожиданиям, обиделся. Высоцкий увез ребят в машине доигрывать Брехта, это они так "проветрились" в свой антракт.
Но мне смешно стало только через день, когда Володя подошел, сузил презрительно глаза и "врезал":
- Ну что, доволен? Настучал на нас шефу? По дружбе, так сказать? Выговор влепили из-за тебя!
Пошли к доске объявлений, и я расхохотался - и над нелепостью подозрения, и над Володиным гневом. Я доказал ему, что я "не виноват" (как в песне у него: "…я доказал ему, что запад - где закат")… но было поздно… выговор не сняли… И что за печаль: мало ли их, выговоров, на его бедную голову… Никто ведь не изобрел отдельного статуса общения с исключительными личностями. И сегодня, когда на Доску Памяти одну за одной вывешивают ему Благодарности, это крохотное происшествие оборачивается всего лишь доброй шуткой, даже - талантливым сувениром от его спектакля - моему спектаклю.
В 1967 году в Измаиле на Дунае шли натурные съемки фильма "Служили два товарища". Одна из основных ролей - поручик Брусенцов - едва ли не лучшая, серьезнейшая работа в кино актера Высоцкого.
Не могу ответить теперь, почему я так ругал тогда киноактерство - и в шутку, и в крик. В это время тесно общаясь с Володей и Золотухиным по сцене и вне сцены, мы переживали совместно радости хороших ролей на премьерах "Павших и живых", "Пугачева", "Послушайте!". Спорили мы, кажется, лишь на тему кино. Я говорил: имея такой дом, такую работу, таких зрителей, экран можно любить из чистого фанфаронства и из суеты чувств. Они смеялись: ты хоть раз попробуй сняться в хорошей роли, все свои глупости забудешь. Это, конечно, другая, мол, профессия, но раз она дается в руки, почему не попробовать? А я шумел, что и пробовать противно, потому что киноартисты в большинстве своем - покалеченные славой, легкостью забот и больные честолюбием люди.
Все-таки они меня переубедили. Золотухин снялся в "Пакете", Высоцкий порадовал ролью в "Коротких встречах". Переубедили работой - не только ее результатом, но и процессом. После спектакля "Павшие и живые" вышли на улицу к Садовому кольцу.
- Знакомься, это Карелов, он режиссер, я снимаюсь у него. Фильм должен получиться отличный. Сценарий Фрида и Дунского, понял? Я дам тебе почитать, завтра вернешь.
- А мне-то зачем? Потом посмотрю ваше кино.
- Дурачок, вот Женя посмотрел тебя в театре, ну, не такая большая, но есть в фильме роль хорошего мужика, барона, как его… Краузе. Со мной будешь. Съемки под Одессой… Артисты замечательные. Роль твою разовьем, я уже говорил сценаристам… Чего ты морщишься? Жень, скажи дурачку.
Невозможно спрятаться от его убежденности. Высоцкий не выносил упрямства перед очевидностью. Факт налицо: режиссер, роль, полет, Одесса, все свои, увлекательность сюжета, профессиональный интерес. А человек упрямо сопротивляется. Еще два раза, сверкая очами, повышая голос до опасного тона, повторяет аргументы… Если и после этого не согласишься, неизвестно, чем кончится буря гнева… Я согласился попробовать.
Полет в Одессу - и мы обсуждаем общие дела в театре, пересадка, переезд в Измаил, и я сетую на то, что не знаю совсем Одессы. По дороге к съемочному городку - советы, подсказки, уговоры не теряться, хотя я вроде и так не теряюсь. Но он что-то чувствовал такое, в чем я и себе не признавался. В театре - опыт, роли, все знакомо, а тут - явный риск проявиться щенком, зеленым юнцом, осрамиться, и перед кем - перед "киношниками"… Гм… Доехали. Володя стремительно вводит в чужой мир, на ходу рассыпая подарки "положительных эмоций"… Знакомит с группой, и о каждом - коротко, с юмором и с нежностью. Оператор - чудо, ассистенты - милые ребята, звуковики - мастера и люди что надо и т. д.
Гостиница-"поплавок" на Дунае - блеск, закачаешься. Входим в номер, я ахаю и качаюсь. За окном - леса, Дунай, румынские рыбаки на дальнем берегу. Быстро ужинать. Погляди, ты такую ряженку ел в жизни? Ложку ставит в центре чашки, ложка стоит, не дышит. Я в восторге. Володя кивает, подтверждая глазами: я, мол, предупреждал тебя, какая это прелесть - кино. Бежим дальше. Вечер. Воздух. Воля. Спуск к реке. Гигантские марши массовки. Войска на берегу. Ракеты, всполохи света, лошадиные всхлипы, плеск волны. Разворот неведомых событий, гражданская война, белые у Сиваша. На взгорье у камеры белеет кепка главного человека, Евгения Карелова. Они перекинутся двумя словами с оператором, со вторым режиссером, и вот результат: на все побережье, на весь мир, как мне кажется, громыхает усиленный мегафоном голос ассистента Славы Березко. По его команде - тысячи людей, движений, звуков - все меняется, послушно готовится к новой задаче. Когда Высоцкий успел подговорить Карелова? Я только-только начал остывать, уходить в тоскливую думу о напрасной поездке, о чужих заботах - и вдруг… Слава передает, я вижу, мегафон главному, и на весь мир, на страх врагам и очень звонко-весело раздалось: "В честь прибытия на съемки фильма "Служили два товарища" знаменитых артистов московского Театра на Таганке такого-то и такого-то - салют!"
Грянули залпы, грянуло "ура!", и пребольно ущипнул меня знаменитый артист с "Таганки": мол, радуйся, дурачок, здесь хорошо, весело и все свои.
Дальше - вечер у Карелова, разбор завтрашней съемки, ночь бесед о кино и о поэзии…
Высоцкий знал про кино со всех сторон. Казалось, он может все за всех - от режиссера и оператора до монтажера и каскадера. Впрочем, каскадеры-дублеры здесь исключались. Все сам. Известно, что он с ранних работ в кино не просто овладел конным спортом, но даже вольтижировал, совершал цирковые номера верхом на лошади. И, как дитя стихий, впадал в абсурд… Встает в 5 утра. Спускается вниз. Помощник режиссера отговаривает, вчера отговаривали всей группой… На месте съемок уже не говорит, а кричит раздраженно Карелов: зачем рано встал, зачем приехал, это же такой дальний план, зритель тебя и в телескоп не разглядит… Володя переодевается, не гримируется, естественно, и - на коня. Три часа скачек, съемок, пересъемок того крохотного кадра, где его и мой герои появятся верхом - очень далеко, на горизонте… Плотное слияние с персонажем, охота быть всюду, где тот, мечта преодолеть грань между игрой и жизнью, если кинематограф претендует на натуральность передачи событий. В период подготовки - земной грешный артист любил, когда гримеры прихорашивали, "улучшали" его лицо, очень нравился себе в усах и при бороде - все так… но когда надо сниматься, то вы следа не обнаружите актерского красования! В бороде или без, он душу вытрясет из себя, из партнеров, из киношников, чтобы вышло все, как задумано, чтобы без поблажек и без ссылок на головную боль! Так было у него и в театре: являлся смертельно усталым, с температурой, с бесцветным лицом, но на сцене - как на премьере! И тайна его резервов так и не ясна…
А на концертах: сколько б ни искали "доброхоты" записи такого вечера, где Высоцкий выдал бы голосом слабинку, - не сыскать! И с безнадежной болезнью, и накануне разрыва сердца - звучит с магнитофона голос единственно, неповторимо, как только у Высоцкого звучал!
Может, это со стороны казалось, что он тщится "объять необъятное", а на деле человек был рожден все испробовать, ибо он-то знал тайну своих ресурсов. В поликлинике, где моя мама была врачом-терапевтом, помнят, как однажды я уговорил его перед спектаклем показаться ларингологу. Мы ехали с концерта, и я был встревожен состоянием Володиного голоса. Ольга Сергеевна, опытнейший горловик, велела ему открыть рот, и… такого ей ни в практике, ни в страшном сне не являлось. Она закричала на него, как на мальчишку, забыв совсем, кто перед нею, она раскраснелась от гнева: "Ты с ума сошел! Какие еще спектакли! Срочно в больницу! Там у тебя не связки, а кровавое месиво! Режим молчания - месяц минимум! Что ты смеешься, дикарь?! Веня, дай мне телефон его мамы - кто на этого дикаря имеет влияние?!" Это было году в шестьдесят девятом. В тот вечер артист Высоцкий сыграл в полную силу "Галилея", назавтра репетировал, потом - концерт, вечером - спектакль, и без отдыха, без паузы прожил - как пропел одну песню - еще одиннадцать лет. А врачи без конца изумлялись, не говоря уже о простых смертных… А тайна его резервов - это его личная тайна.
Я упомянул вскользь про Одессу: Володя запомнил мои вздохи в аэропорту - жалко, в таком городе бывать транзитом, по дороге в Измаил. Не забуду радости от Володиного подарка… Он звонит в Москву, объясняет, что материал нашей съемки - в браке и что я обязан лететь на пересъемку. Получаю телеграмму от директора картины - все официально. С трудом выискиваю два свободных дня, кляну себя за мягкотелость, а кино - за вечные фокусы; лечу, конечно, без настроения. Среди встречающих в Одессе - ни одного мосфильмовца. Стоит и качается с пяток на носки Володя. Глаза - плутовские. Сообщает: никаких съемок, никакого Измаила, два дня гуляем по Одессе. Понятно, меня недолго хватило на возмущение…
Володя показывал город, который всю жизнь любил, и мне казалось, что он его сам выдумал… и про сетку проспектов, и про пляжи, и про платаны, и про Пушкина на бульваре, и про Ришелье. Мы ночевали в "Куряже", общежитии киностудии на Пролетарском бульваре. Я за два дня, кажется, узнал и полюбил тысяч двадцать друзей Высоцкого. Сижу зрителем на его концерте в проектном институте. Сижу на прощальном ужине, где Володя - абсолютно не пьющий тамада и внимательный хозяин. Да и весь двухдневный подарок - без единой натуги, без ощущения необычности, только помню острые взгляды в мою сторону, быстрая разведка: ты в восторге? Все в порядке?
Только одна неприятная деталь: посещение в Одессе некоего дома. Утро. Володя еле согласился на уговоры инженеров: мол, только позавтракаете, отведаете мамалыги, и все. Избави Бог, какие песни, какие магнитофоны! Только мамалыга, кофе и очень старая, оригинальная квартира. И мы вошли в огромную залу старинного барского дома. На столе дымилась обещанная каша, по углам сидели незнакомцы, стояли гитары и магнитофоны "на взводе". Мы ели в полной тишине, прерываемой зубовным скрежетом Володи. Я дважды порывался увести его, не дать ход скандалу, уберечь его от нервов… Он твердо покачал головой: остаюсь. А незнакомцы нетерпеливо и холодно ждали. Их не интересовал человек Высоцкий: это состоялся первый в моей жизни сеанс делячества коллекционеров. Володя глядел широким взором - иногда он так долго застывал глазами - то ли сквозь стену куда-то, то ли внутрь себя глядел. И, не меняя странного выражения, протянул руку, туда вошла гитара, он склонился к ней, чтобы сговориться с ее струнами. Спел несколько песен, встал и вышел, не прощаясь. На улице нас догнал приглашатель, без смущения извинился за то, что "так вышло". Володя уходил от него, не оборачиваясь на извинения. И я молчал, и он не комментировал. Володя поторопился к своим, раствориться в спокойном мужском товариществе, где он - человек и все - люди. А когда захочется - сам возьмет гитару и споет. По своему хотению. Что же было там, в холодном зале чужого дома? И почему он не ушел от несвободы, ведь так просто было уйти?
Сегодня мне кажется, что он видел гораздо дальше нас и жертвовал минутной горечью не для этих стяжателей-рвачей, а для тех, кто услышит его песни с их магнитофонов потом, когда-нибудь потом…
И вновь отправляю я поезд по миру, Я рук не ломаю, навзрыд не кричу, И мне не навяжут чужих пассажиров - Сажаю в свой поезд, кого захочу.Гастроли и скорости
Веселое, хлопотное и очень хорошее дело - гастроли. Актеры - кочевое племя, и гастроли оживляют кровь и работу. А как прекрасно племя "безбилетников"! Какая славная традиция - протаскивать "зайцев", вопреки запретам администраторов! В каждом театре есть свои рекордсмены, проводники-контрабандисты. На Таганке это Зинаида Славина. Многие ныне солидные люди благодарно вспоминают тот веселый ужас, с которым они, тогдашние студенты, карабкались по пыльным стенам, по пожарным лестницам, просачивались бесшумно сквозь окно дамского, извините за подробность, туалета на третьем-четвертом этаже, длинной вереницей призраков перелетали из-за кулис в фойе, вслед за Славиной, актрисой редкого трагедийного таланта. Помню, в Ленинграде, посильно помогая Зине, я был свидетелем того, как двадцать призраков с белыми от штукатурки спинами и с белыми же от страха лицами завершали маршрут, но в фойе напоролись на группу пожарников… Не меняя выражения лиц, группа призраков в обратном порядке перетекла через сцену на улицу… И хотя никто со стены не свалился, этот единственный случай надо признать трагическим исключением в геройской практике Зинаиды Славиной.
Другим рекордсменом был Высоцкий. Каждый судит по себе, поэтому каждому из нас казалось, что и Высоцкий "протаскивает" только близких, дорогих, нужных или просто знакомых… Ничего подобного! "Знаете, у меня, - рассказал мне незнакомец в Вильнюсе, - физиономия светилась такой тоской, что Высоцкий пожалел и протащил на "Павших и живых". И еще двоих заодно!" Высоцкий продолжал свое дело поэта - сеял разумное, доброе… словом, человечное. В самом деле: нельзя, чтобы в зале сидели только те, кому легко достаются билеты. Нельзя играть такого Гамлета, если, скажем, добрые Горацио остаются за порогом, а Розенкранцы по знакомству с Полониями получают места в партере. Они это делают "для престижа", а Горацио это необходимо для жизни. Поэтому Высоцкий проводит людей, угадывая по "тоске физиономий" истинность их духовной жажды.
Гастроли в Болгарии. Первый выезд за границу. Все незнакомое. После первого же спектакля Высоцкого осыпали цветами, а в гримерной я даже прорычал, что не дают переодеться: барышни и граждане стекались к Володиному столику за автографом. Масса друзей, поездок, встреч, записи на радио, на телевидении, всегдашнее волнение помрежа - и явление Володи к самому началу… Конечно, он не хотел опаздывать. Разумеется, переживал, хотя из гордости никогда не показывал этого. И дело в том, что его организм вообще не нуждался в подготовке, а нуждался только в отдыхе - да так, увы, и не дождался. Так что можно считать, что не формально, а истинно артист был готов гораздо прежде срока явки. Доказательство - каким он выходил на сцену. Тут уж ни один придира, актер или помреж, не в силах были углядеть слабины, небрежности или игры "вполсилы".
Совершенно умилительную помню сцену в нашей гримерной в Софии. Мать и отец, смущаясь, знакомят Володю с сынишкой, и сей последний, пяти лет от роду, защищает право на персональный автограф поэта: он исполняет с прелестным акцентом фрагменты из песен Высоцкого… Если хотите, предлагают родители, он будет петь очень долго - он знает почти все, что есть у нас в записи…
После Болгарии - гастроли в Ростове-на-Дону. У Высоцкого - никаких перемен в режиме дня. Его так же раздирают на части. Он так же откликается на приглашения коллег или начальства и так же таинственно исчезает с "неизвестными трудящимися"…
Из Ростова летели в Волгодонск, давали концерты в Азове и в Таганроге. Не удержусь от нескромной детали. Очень веселое настроение было в Таганроге. Попали в гости к зрителям, ухаживали за девушками - озорно, благородно и безрезультатно. На пороге дома А.Чехова шутили в пользу этих "чеховских барышень", искали глазами вишневые сады. Вспомнив, что отсюда родом мой однокурсник, сочинили на пару двустишие: "Где родилЕсь Высоковский и Чехов, нынче гуляют Высоцкий и Смехов".
Самолет Одесса-Москва. Рядом с нами Андрей Тарковский, у которого "Андрей Рублев" не один год лежит "на полке". Скоро фильм выйдет, хотя Андрей ничего не дает в нем менять, а сейчас Высоцкий обсуждает с режиссером идею "Гамлета" (это за четыре года до нашего спектакля). Тарковский говорит, что он с удовольствием поставил бы пьесу в Англии, тогда бы два месяца - на освоение языка и контакта с актерами, а еще два - собственно постановка. И что надо реализовать метафору о кровавом времени, должно быть много крови, в Англии это пройдет. Все это обсуждается не без юмора. Вдруг оба напряглись: затих один мотор. Высоцкий комментирует, оба, видимо, и в самолетах разбираются, не только в "Гамлете". Перечисляют достоинства нашего самолета. Опять напряглись: ничего себе, второй заглох. Я отвлекаю вопросом: сколько осталось, мол, и успеем ли до оглушения остальных приземлиться. Нелестно отзывается обо мне сосед Володя. Через некоторое время оба заявили, что третий тоже заглох. Правду сказать, следов испуга я не заметил, но озабоченность и интерес к технике явно повысились у моих соседей. Я перебиваю, нервно задираясь пародией на Высоцкого: "Володя, чего волноваться! Ты же отлично знаешь аэрогидрофаллические потенции нашего лучшего в мире парапсихофюзеляжа, а также…"
- Дурак! - резюмировал Высоцкий. И сразу же оба успокоились: вновь загудели из трех "отдохнувших" целых два!
Из наземных видов транспорта, любезных сердцу поэта, выделю автомобиль и лошадей. Причем, его бы воля, он бы второе повсюду вернул на первое место. На любых съемках, где полагались скачки, проскачки и просто езда на телеге, Высоцкий впадал в младенческий восторг, и останавливать его по дороге в седло было опасно для жизни. Когда в 1976 году театр, гастролируя по Венгрии, остановился на экскурсию под Дебреценом, нам неосмотрительно предложили быть зрителями объезда табуна… Помню: хрупкий охотничий домик, широчайшее поле, чернеющий в глазах табун, одного обгонщика перед лицом скачущей братии, гудящую под ногами землю и Высоцкого, дрожащего от счастья. Натравил переводчицу на обгонщика, тот разрешил и… Необъезженная лошадь плюс табун минус знание венгерского языка. Мы хором отговариваем: завтра в Дебрецене "Гамлет"… Рядом с Володей водрузился на дикую лошадь Виктор Семенов… Ну, все-таки их двое - это почему-то слегка успокаивало. Кончилось все благополучно, хотя безрассудство налицо. Гораздо приятней было наблюдать Высоцкого на лошади… в Ленинграде, возле Мариинского театра. Во время наших гастролей к служебному входу Дворца, откуда мы вышли после репетиции - кто к автобусу, кто к такси, кто пешком, - вдруг подъезжает (или подскакивает, подрысивает, словом, подцокивает) группа спортивных лошадей. Нечего и сомневаться, что Высоцкий здесь не нуждался в переводе с венгерского. Наездник сам добровольно скатился с коня, и Володя гордо удалился в сторону Невского проспекта.
Весной 1980-го машина у Володи была на ремонте, ехать нам в одну сторону, он садится после спектакля ко мне, и тут я решаюсь блеснуть… Водитель я не слишком давний, но успел уже поднатореть за рулем, этого Высоцкий еще не знает. Ну, сейчас узнает. Лечу вниз от театра. Черт с ним, еду на желтый свет. Так, обхожу этого слева, этого справа - удача, они сзади встали, а я успел - это у Политехнического. Нажимаю на газ. Сам себе страшен, тишину в салоне справедливо принимаю за восторг моего седока. Еще пара маневров - ну, на грани катастрофы… но я отчаянно решил его потрясти… Потрясаю - до самого дома! Выходим: гляжу, он сосредоточенно покусывает губу, нуль внимания. Сказал, конечно, "спасибо", позвал к себе. Я не был у него на этой квартире, подымаемся. Настойчиво ожидаю заслуженных похвал. Дома он вдруг "отключил" сосредоточенность, ясным взором глянул мне в глаза, улыбнулся: "Молодец, что аккуратно ездишь, молодец. Осторожно, грамотно, молодец". - "Интересно!!! Я думал, у тебя душа в пятках, обзовешь лихачем…" - "Серьезно? А по-моему, культурно…"
На гастролях в Париже он был собран, хмур и предельно ответствен - в работе. Почти ни с кем в театре не общался, никого французским бытом не угощал, это как-то обижало, настораживало…
И вдруг подговорил знаменитую сестру своей знаменитой жены - и мы попали в огромный дом в Латинском квартале… все чинно, просторно, великолепно… Мы ждали посреди великолепия, что приплывут на стол невиданные яства… ночью, после "Гамлета", на левом берегу Сены, на втором этаже старинного замка, в честь русских, то бишь иностранных артистов торжественно внесли два гигантских блюда: горячую гречневую кашу и гору котлет… Володя был счастлив за свою выдумку, он обегал нас, узнавал про наше удовольствие с видом того чудесного арапа, которого сыграл на экране.
В последний год он почти не бывал в театре. По серьезному счету, его на Таганку тянули три "магнита": Гамлет, Лопахин и Давид Боровский. Мало что знали о происходящем в душе у поэта даже очень близкие люди.
…И весело, и грустно вспоминается теперь эпизод с моей нежданной удачей в журнале "Аврора". В пятом номере ленинградского журнала за 1980 год вышли фрагменты из моей рукописи. "Аврора" два года тянула с этим "выстрелом" из-за Высоцкого. А я не соглашался, чтобы среди портретов Демидовой, Золотухина, Табакова, Визбора, Славиной не оказалось главы о Володе. Не мог согласиться, потому что Володя в гримерной, при всех, заключил со мной пари: не будет о нем напечатано, запретят. А я горячился, ибо знал еще в 78-м году, что вся публикация набрана, что вот-вот придет верстка-правка… Несколько раз переверстывали и переправляли. Наконец, спасибо вмешательству Федора Абрамова, книжка "Авроры" вышла, и я выиграл пари… Я подарил Высоцкому журнал на предпоследнем "Гамлете"… За день до его смерти у него дома был Валерий Плотников, чьи фотографии сопровождали мою публикацию. Он увидел красненькую книжечку "Авроры" № 5, спросил у Володи и услыхал в ответ: "Приятно о себе почитать… не на латинском шрифте…" И сыновьям своим велел раздобыть экземпляры журнала.
Все, что успел о себе и своего сочинения прочитать на родном языке поэт Высоцкий: публикация в "Дне поэзии", публикация в журнале "Химия и жизнь"(!), статья Н.Крымовой в журнале "Клуб и художественная самодеятельность" о его творческом вечере в Доме актера в 67-м году, буклет с описанием киноролей члена Союза кинематографистов Вл. С.Высоцкого, добрый труд Ирины Рубановой… И вот, мой выигрыш в нашем пари, "Аврора" № 5…
Но Высоцкий умел мстить за обиду необыкновенно: власти запрещали печатать стихи и выступать публично, а он, как оказалось после смерти, звучал и был любим, как никто другой…
В день похорон Высоцкого, 28 июля 1980 года, такие люди, такой поток личностей прошел мимо гроба Высоцкого на Таганке! И ночью, в доме Владимира, Белла Ахмадулина от себя и от всех послала душе поэта, в небеса, от сердца сказанное спасибо - за то, что он впервые одарил нас правом назвать население - "народом". С уходом Высоцкого вдруг реализовалась метафора - "всенародная любовь"…
КОГДА Я БЫЛ АТОСОМ
НАЧАЛО
Если бы я писал книгу "Кино в моей жизни", то многосерийный фильм о мушкетерах, где я сам сыграл роль графа де ля Фер, в ряду выдающихся изделий искусства назван бы не был. Я бы смаковал впечатления кинолюбителя по другим адресам. Статистика успеха "Мушкетеров" несоизмерима со шкалой ценностей в искусстве. Можно было бы объяснить это термином "шлягер", но с ним легко запутаться. "Шлягером" был "Бродяга", "Веселые ребята" тоже, ну, а "Чапаев"? "Кабаре" - тоже? Не знаю ответа, я не специалист.
Значит, эта глава - не про кино? Нет, она все-таки про такое кино, которое любят смотреть разные люди и с удовольствием вспоминают участники съемок. Один из них как раз и вспоминает.
Итак, в январе 1978-го друг моих друзей, Юра Хилькевич, художник и режиссер из Одессы, звонит и говорит:
- Веня, по заказу телестудии "Экран" я запускаю три серии фильма о мушкетерах. Потрясающий сценарий Розовского, гениальные песни Максима Дунаевского на грандиозные стихи Ряшенцева. Веня, я беру тебя на роль Атоса - без всяких проб! Приезжай в Одессу, поищем грим, обо всем договоримся. Мне дали "зеленую улицу", все решаю я сам. Согласен?
Через короткое время, уже после моего визита в Одессу, переговоров и пробы грима снова звонит в Москву Хилькевич:
- Я послал в "Экран" список всех, кого хочу снимать. Утверждать должны хозяин студии Хессин и его команда. Веня, меня только что предупредили, что с "Таганки" не только Смехова, но даже Трофимова не допустят. Я буду стоять насмерть, но ты мне помоги. Посветись перед начальством: выступи на вечере в Доме кино, ладно?
На сцене Центрального Дома кинематографистов - праздник, 15 лет студии "Экран". Ведет вечер Юрий Визбор. Пародируют дуэт "журналист-актер" А.Ширвиндт и А.Миронов. Поет Н.Сличенко. В зале кроме трудящихся экрана - чиновники, руководители… Словом, друзья кино. Десять минут шучу по бумажке:
"Я буду говорить ровно семнадцать мгновений и уйду…
Стоит только закрыть глаза, и сразу встает прошлое: битком набитые залы кинотеатров, фильмы идут один другого… лучше не вспоминать, а нынче - поглядим в окно, постучим в любую дверь… Что идет сегодня в кинотеатре "Перекоп"? Пожмут плечами, не ответят. А спросите любого: что шло сто семьдесят четыре дня назад по второй программе ЦТ в 21.15? И любой улыбнется наивности вопроса и нежно ответит с точностью до…
И чем дольше и чаще, тем ярче и сильнее желание людей досмотреть до конца, чему-то поучиться у шестой серии, чему-то улыбнуться в двенадцатой, о чем-то погрустить в пятнадцатой, чего-то не заметить в шестнадцатой, а о семнадцатой и говорить нечего. Ее смотришь и наутро, и в повтор, под нее бюллетенишь, о ней пишешь письма и растешь от письма к письму, от серии к серии…
Только я бы название изменил. Неблагозвучно говорить "первая серая", "вторая серая"…
Почему серая?
У нас много цветных!
Я бы предложил отсчитывать фильмы в "ярках": "первая ярка", "вторая ярка", третья… Тогда это сольется в единую симфонию многояркостных телекинофильмов, и каждый поспешит с работы - досмотреть это дело от сих до сих, от "ярки" до "ярки"!
Главное - чтобы людям было весело! Не надо бояться трудностей, не надо валить на свое начальство, я знаю по своему начальству: они тоже были когда-то как мы, так что не будем их судить за то, чего у них нет, а будем судить о них по тому, чего у них нельзя отнять.
Я знаю как автолюбитель: не всегда то, что думаешь, то и надо пить. Можно и важно держать себя в руках.
Дорогие "экрановцы"!
Еще смелее разверните самокритику вторых и третьих режиссеров!
Невзирая на лица, давайте бичевать язвы закадровых исполнителей!
Еще полнее ударим по рукам нерадивым уборщицам!
Ваши фильмы снискали любовь, ваши фильмы снискали славу, они снискивали и будут снискивать еще больше любви, они снищут себе самую великую, эпохальную, они снищут - "Любовь Эровую"! И для этого каждый работник "Экрана" не должен бояться "Хождения по нервам". Тогда-то и будет высота, достойная Останкинской башни.
Кстати, это старое название. Когда-то здесь не было бюро пропусков, а стояли только музей да крепостной строй. Тогда и назвали место: "Отстань, кино".
Ну что это за название - "Отстань, кино"? Я бы в честь юбилея "Экрана" переименовал бы район в "Экранкино", а башня бы тогда звучала: "Экранкинская башня". А саму студию за подъем надежд и духа дальше бы звали "Подъемный экран".
Я желаю, чтобы ваши фильмы шли с "Вечным зовом", с вещим звоном, с легким даром, словно счастливая симфония судьбы!
Спешу закончить, пока у вас не настал "Вечный зев".
Я закончил. Визбор показывает из-за кулис большой палец. В фойе Володя Высоцкий и Марина Влади тоже подбадривают: дескать, после такого выступления они должны разрешить "Хилу" (Хилькевичу) тебя снимать в "Мушкетерах". Визбор, штатный сценарист "Экрана", подводит меня к начальнику. Б.М.Хессин благосклонно улыбается, хвалит мои шуточки и предлагает пригласить его… на "Мастера и Маргариту". О, конечно! Говорим обо всем, кроме главного дела. Привычный диалог по формуле "два пишем, пять в уме"… Что же у нас на уме? а) Хилькевичу доверяют. На "Мушкетеров" возлагают особые надежды - талантливо отвлечь советский народ от его трудовых подвигов; б) Хессин уже пару раз вычеркивал меня из числа кандидатов на роли в других фильмах, но я об этом "как бы не знаю"; в) ненавистную "Таганку" при желании можно обойти, поскольку я много работал и на стороне - как режиссер, писатель, актер в телепередачах; г) наконец, "Три мушкетера" - это все-таки не "Рожденные революцией", и Атос - не Дзержинский. Фильм развлекательный, что с него взять. Режиссер беспартийный, актеры - тоже (кроме Табакова, да и тот студию норовит открыть какую-то антисоветскую).
Словом, утвердили меня на роль Атоса, а моего товарища по "Таганке", Сашу Трофимова, - на роль кардинала Ришелье.
ХВАЛИТЬСЯ ИЛИ НЕ ХВАЛИТЬСЯ?
Нет пророков в своей киногруппе! Во Львове, в 1978 году, посреди шума и хлама, в Доме культуры, где переодевали массовку, выписывали ордера, гримировали актеров, где звучала из уст "гвардейцев кардинала" густая украинская мова, где истошно хрипел постановщик Георгий Юнгвальд-Хилькевич, - ничто, казалось, не предвещало успешного киноискусства.
Каждый съемочный день - гибель нервных клеток. Конечно, нет пророков, и теперь, с расстояния в двадцать с лишним лет, видишь, что для той поры и той страны все было сделано отлично. И Хилькевич и директор Бялый - молодцы. Но тогда я исходил язвительным юмором: "Что может быть хорошего в группе, где режиссер Хилый, а директор Вялый?!" Единственный мастер, который вызывал уважение вместо юмора, - Саша Полынников, оператор фильма. Да и тот, отвечая на вопросы, спокойно признавался: "Дюму этого не дочитал, от книги не в восторге, в шуме не участвую, гляжу себе в глазок камеры и снимаю…"
Кто бы мог подумать, что спустя годы это станет почти "культовым кино", любимым, ежемесячно смотримым в России и везде, где "наши"?
…Незадолго до съемок я ехал по Москве в "жигуленке" Юры Визбора. Свисток милиционера: Юра нарушил правила движения. "Гаишник" посреди Садового кольца представляется лейтенантом Петровым, требует документы у водителя, но тут Юра разворачивает светлое лицо и строго вопрошает: "А что, лейтенант, разве вам не передали по рации, что Борман едет?" Пять, десять, семнадцать секунд… И счастливый Петров козыряет Юре - проезжайте, товарищ Борман, только будьте осторожны. Юре чуть-чуть неловко за такую игру, а я думаю про себя: я бы так не смог. Но я смог, не прошло и двух лет.
По Москве - слух: ГАИ ловит грязные машины: эпидемия чистоплотности и поборов с граждан. Мне свистят, я торможу. Голос снаружи: "Ваши документы!" Мой "жигуленок" - грязнее грязи. Я разворачиваюсь смуглым лицом к офицеру: "Добрый день!" Офицер переворачивает штрафную квитанцию: "Дайте автограф, товарищ Атос, а машину все-таки помойте…"
Четыре года спустя мы с моей Галей и Юрой Визбором отдыхали в январе в любимой Ялте. На обратном пути, в аэропорту, вдруг выяснилось, что Галина сумка с книгами осталась в микроавтобусе. Вечная проблема - добраться из Ялты в Симферополь. Водители Крыма имели твердый "левый" заработок. И тот, кто нас привез, как я помню, спешил назад, через перевал, в Ялту.
Мудрый Юра находит кабинет военного коменданта, поражает воображение офицеров своим знаменитым лицом, и уже через десять минут я слышу: он на связи с отделением милиции, что находится прямо на перевале.
"Товарищ Антонов, - строго указывает он в трубку. - Задержите, пожалуйста, микроавтобус синего цвета с названием "Интурист". Он следует в гостиницу "Ялта". В его салоне осталась черная сумка с книгами господина Атоса. Сообщите о результатах поиска. Информацию передайте капитану Ивахненко, лично для Бормана".
Через сорок минут звонок, и Юра слышит: "Докладывает лейтенант Антонов. Автомашина "Интуриста" номер такой-то с водителем таким-то возвращается в аэропорт, встречайте. Товарищу Борману и Атосу счастливого полета".
В подобных случаях я повторяю про себя: "Слава богу и спасибо Хилу", то есть режиссеру-постановщику бессмертного сериала о мушкетерах Георгию Юнгвальду-Хилькевичу.
Двадцать лет я крепился, стеснялся развлекать публику "байками" о съемках. Всегда было неловко за коллег, которые после показа своих фильмов бодро врут в микрофон, морочат головы кинолюбителям… Ах, как тяжело сниматься! Какая это кропотливая, трудоемкая, опасная работа! Сколько нужно таланта и мужества! Никакой театр не сравнить с кино!
Конечно, среди киноактеров есть исключения, когда мастеру и в плохом фильме удивишься, когда мастер и сквозь холодный экран будто светится и прожигает огнем своей личности. Но никто из мастеров, наверное, не будет перехваливать место актера на экране. Экран обходится - и прекрасно себя чувствует! - без профессиональных актеров (итальянский неореализм) и без актеров вообще (документальное кино, мультфильмы). Хороший режиссер из плохого актера делает чудо, а в театре это - невозможно. В театре какой ты есть, таким тебя и видят. Конечно, когда появляется лицо крупным планом, сам себе можешь показаться очень большим и значительным. Но истина остается истиной: главные "роли" в этом виде искусства - за режиссером, за оператором, за монтажером, а сценаристы и актеры делят свои честные 4-5 места.
Хотя в кино мне приходилось падать с крыш и лошадей, валяться в снегу, ездить в упряжке чукотских собак-лаек и переворачиваться в море вместе с лодкой, но с трудом на сцене это не сравнить. Если искать подходящее сравнение для кинопроцесса, то мне, выходцу с "Таганки", самым близким кажется… процесс санаторного отдыха. Если курорт дорогой (вроде "кремлевского-цэковского"), то там тоже на каждого клиента - по пять ухажеров, пылинки с тебя сдувают, дышать на тебя боятся. Меня на съемках радикулит разбил, так меня человек восемь нежно водружали в седло и обратно. Бывают и в санаториях залы для фехтования или поля для верховой езды. И там отдыхающие хвастают своей ужасной усталостью от процедур и горных восхождений, и там падают на кортах и с лошадей… Но я отвлекся.
Двадцать с лишним лет назад и сами съемки, и рабочий материал, и весь процесс работы - все мне казалось не слишком серьезным, так что победы я никак не мог ожидать. Виноваты в этом и малый опыт работы в кино, и театральная "фанаберия". Не угадал я, когда пророчил скучную премьеру. Когда же среди поклонников фильма (и книги, разумеется) я обнаружил таких блестящих людей, как писатель Натан Эйдельман и поэт Давид Самойлов, - я окончательно расстался с сомнениями. Хотя надо точно знать цену каждого труда, а тысячи писем и уважение сотрудников ГАИ полагать приятным казусом.
Смешно читать о себе в журнале "Советский экран": "По опросам зрителей, в 1987-1991 годах Вениамин Смехов назван в числе 10 самых популярных актеров кино СССР". Я видел эти списки: "Лучшие 100 актеров". В первых строчках год за годом оказывались герои "Мушкетеров" и "Гардемаринов". Я обнаруживал имена Е.Евстигнеева, О.Табакова, О.Борисова где-то на 80-90-х местах, а кого-то из моих любимых актеров и вовсе не находил. Странно? Конечно. Скорее всего, выбор публики отражал явления жизни, а не культуры. В жизни людям не хватало такой романтики, лихости, честного слова и верной дружбы.
За двадцать лет "Д'Артаньян и три мушкетера" на моих глазах "вырос", и мы стали играть лучше. Так что теперь я без зазрения совести на своих концертах воздаю хвалу "мушкетерам" и даже рассказываю "байки" о съемках.
КЛАВДИЙ, ЯГО И БАБА-ЯГА
Гастролирую в Израиле, где пятая часть населения - "наши люди", где смотрят три телепрограммы из России и где, судя по афишам певцов и артистов, скоро будет узаконен филиал Московской филармонии. Встречи на перекрестках гастрольных дорог. Под Хайфой, в городке художников, мы обедаем с Левой Дуровым. Вечером у него спектакль в Реховоте, а у меня концерт в Хайфе. Застолье веселое, а Атос со своим капитаном Де Тревилем не могут оторваться друг от друга и от воспоминаний. И уже трудно понять, что это: судьба, разобранная по "байкам", или "байки", составляющие судьбу.
У меня во время съемок была своя беда: не отпустил Любимов из театра - я репетировал Плюшкина в "Ревизской сказке" - пьесе по "Мертвым душам" Гоголя - и два месяца летал по выходным, по средам, на львовскую натуру. Летать во Львов - мука, ибо билет достать - приключение, на самолет попасть - приключение, а в срок попасть к утреннему гриму - редкость, ибо администраторы нерадивы, всё путают, ибо директор Михаил Бялый уже устал сражаться и в глаза нам твердил о "худшем фильме всех времен и народов". Прилечу, схвачу дозу упреков от Хилькевича ("Мы тут кровью харкаем, а ты там на Таганке - весь в цветах и овациях"), сразу - костюм, грим, тренировка драки или стрельбы на свежем воздухе… Борода, усы, шпага и белый конь Атоса… Тренер кричит: "Спину, спину держи, граф!" Я держу спину и не успеваю струсить, как слышу: "Мотор!"
Вспоминаем с Левой очередное бешенство азарта и риска - ночной рейс во Львов, билетов нет и всесильные администраторы - бессильны. На Таганке идет "Гамлет". В Театре на Малой Бронной - "Отелло". Я играю злодея Клавдия, короля Дании. Лев Дуров играет злодея Яго. Я умоляю Высоцкого-принца, Демидову-королеву, Нину-помрежа: хоть на десять минут пораньше окончить спектакль. Высоцкий делает исключение из правил: поддерживает злодея, но только в честь своей дружбы… с "Хилом". Антракт на пять минут ужимается, и отлаженный ритмический механизм любимовского спектакля с трудом дает желанный результат: я вылетаю пулей из театра на пятнадцать минут раньше.
Такси у входа. Таксист, с хорошим грузинским акцентом, обещает домчать до Внуково за сорок минут. Ура, могу поспеть! Уже созвонились с Дуровым: Яго тоже уговорил своих, будет вовремя.
Несутся из двух театров в одну точку два шекспировских негодяя. В одну точку земного шара стремятся их мечты: во Львов, на съемку "Трех мушкетеров". Таксист мой ловко объезжает всех, дает резкий вираж из туннеля Садового кольца вправо, к Ленинскому проспекту. Его прижимает машина ГАИ. Радиоголос велит прибиться к обочине. Таксист, не сбавляя скорости, сближается с врагом, кидает в окно начальнику десятку, орет: "Извини, дорогой, мушкетер на самолет опаздывает!"
Я - во Внуково. А вот и Дуров. А вот и очередь на посадку. Дуров каким-то чудом уже сговорился с пилотами, нас ждут! Но дежурная, проверяя пассажиров, вдруг страстно возненавидела нас обоих - не пущу, и всё! Мы и так, и эдак - она уже кричит: "Отойдите без билетов, самолет не пойдет, здесь командую я!" И правда, без ее слова взлета не будет.
Лева с разбегу прошмыгнул и исчез вдали. Тетка совсем обозлилась. Я в отчаянии: не быть мне во Львове, а завтра - все актеры будут в кадре, без меня нельзя, другого дня такого не предвидится, Хилькевич сойдет с ума. И при последних свидетелях из очереди я внезапно и вдохновенно пророчествую: "Слушайте, вы! Запомните мои слова! Скоро выйдет фильм "Три мушкетера". Его полюбит весь советский народ! И когда его все полюбят, я найду ваш дом, приеду к вашим детям и скажу им: дети, хотите знать, кто эта тетка, Баба-Яга, которая одна на всю страну мешала снимать ваш любимый фильм? Это ваша мать, дети!"
Тетка остолбенела от моей наглости и крика, а я скрылся в момент ее столбняка и вспорхнул по трапу в салон самолета. Команда и пассажиры - наши болельщики. Когда дежурная взошла на проверку, нас нигде не оказалось. Народ секрета не выдал! Самолет взлетел. Мы вышли из своих укрытий: Яго-Де Тревиль покинул рубку пилотов, а Клавдий-Атос вышел из гардероба, где задыхался меж синих габардиновых пальто летчиков.
УТРО ВО ЛЬВОВЕ
Конечно, администраторы спутали рейсы, нас не встретили, и мы сами кое-как добрались до города. Я видел: администрация не справляется, порядка никакого, актеры и режиссер надрываются, а директорская компания бездельничает и ноет: "Мы привыкли обхаживать две-три звезды на одну группу, а с остальными - кое-как; и никто не жаловался. А здесь - что ни роль, то капризы: и номер ему подавай отдельный, и к самолету не опаздывай, и с оплатой поторопись… Кого ни возьми - сплошные "звезды"… Психопаты, ни минуты отдыха ни себе, ни людям, ни лошадям! Трюки делают сами, прыгают, стреляют, боевыми клинками сверкают - страх! И все сами, без дублеров, без техники безопасности… И тренер у них - головорез какой-то. Такие ставит драки - смотреть больно. (Владимир Болон - доблестный фехтовальщик, гвардеец Де Жюссак и живая пружина актерского энтузиазма.) А что они после съемок творят, когда от усталости все нормальные лошади и администраторы уже при смерти? По большому блату, львовский обком партии доверил киногруппе самое дорогое, что у него есть, - отель "Ульяновск". И под эту вывеску, после съемок, каждый день - все поголовье симпатичных девчонок города и области - туда-сюда! Ночью заходят, утром выходят. Ни стыда, ни совести! Водки выпито, бутылок разбито, клиентов гостиничных распугано - не счесть!"
И бежали с поля боя малодушные администраторы: брали бюллетени, расчеты и отпуска по поводу грыжи…
Приехали мы с Дуровым во Львов. Как всегда, путаница с номерами в гостинице, и в комнате со мной - чужой, активно храпящий гражданин. От дирекции мы услыхали в оправдание - вернее, в нападение: "Шо вы за прынцы такие! И то им не то, и это им не то, шо вы кипятитесь, как эти, все равно шо? А вот была перед вами Алиса Бруновна Фрейндлих, не хуже вас звезда и народная артистка, и никаких капризов! Даже голову у нас мыла холодной водой!" Я, как обещал, сочинил сатиру на нерадивых халтурщиков и в конце съемок, уже в Одессе спел в репродуктор, и меня слышало все население киностудии. Хотя, конечно, и не классика, но песня на испорченный мотив из "Вертикали" звучала так:
Горит цветным огнем Одесское кино, Похожее слегка На детское… вино. Четыре мушкетера - (здесь ритм ломается, и смысл тоже) Ацетон, Протон, Д'Артамон И стройный Армавир - Слетелись, спились, спелись И храбро порешили: Что весь крещеный мир Они затмят собой… Припев: А Фрейндлих мыла голову Холодною водой! А Фрейндлих мыла голову Холодною водой! Земшар стареет наш. Так громче грохот чаш! Нас всех, несовместимых, Соединит монтаж! Четыре мушкетера - Антон, Понтон, Д'Артамон И трезвый Армавир! Мы все, чего стесняться, Так хороши собой… Припев: А Фрейндлих мыла голову Холодною водой! А Фрейндлих мыла голову Холодною водой!Почему Арамис (фамильярно названный Армавиром) превратился из "стройного" в "трезвого" во втором куплете - об этом чуть ниже. А пока что - утро во Львове. Успех прилета выветрился вместе с несостоявшимся сном. Дом культуры, и я шагаю через тела, как через бревна, к Паше-гримеру.
Паша всегда в хорошем настроении, я слегка дремлю под его руками. Рядом вповалку спят Арамис, Портос и Д'Артаньян. Это и есть "бревна", через которые я шагнул к Паше. Они явились раньше, но решили отдохнуть, прямо в мушкетерской форме. Видимо, опять вчера не скучали без Атоса, что хорошо передает аромат в гримерной. Когда я готов к бою, мне обидно, и я художественно и зычно бужу их стишком из стенгазеты "Львовский ленинец" - типичным примером лирики пионерской эпохи:
Ленину ридны! Учителю наш!…Ниже в стенгазете стояла подпись: "Оксана Копейка. 9 лет".
А теперь объяснюсь насчет "трезвого Армавира". История эта связана с лошадью. Лошадь - это не только животное, но еще и тот знак гороскопа, под которым прошел-проскакал весь съемочный год. Как я помню, ни один из героев до съемок не умел пользоваться этим видом транспорта.
Одну заповедь старательно повторял львовский тренер: лошадь - существо деликатное, если почует на себе пьяного - понесет. Мы тренера не расстраивали и кивали. Однако так получалось, что все мушкетеры бывали в седле обязательно навеселе. Даже если я прилетал утром, то летевший рядом Володя Болон - наш мушкетерский эталон - прямо в самолете раскупоривал трехлитровку своей знаменитой "шморовидлы"… И вдруг однажды красавец Старыгин - Арамис прибывает из Москвы после спектакля, по чистой случайности не выпив ни грамма спиртного.
Утром - съемка, мы красиво взлетаем в седла. Я держу спину и поводья, умело скрываю от всех (кроме лошади) свои чувства и с завистью поглядываю на моих товарищей. Портос и Д'Артаньян беззлобно поддевают Игоря-Арамиса. Если бы Дюма-папа услышал, как шутят над его героями его же герои - ей-богу, он бы охотно вставил наши тексты в роман. Арамис не отвечает на шуточки и как-то непривычно задумчив. Не успели мы тронуться в путь, как вдруг рванулся Арамисов конь, стал резко крупом сбрасывать Игоря с себя. И сбросил, и убежал. Причина, как мы поняли, была в том, что к трезвому Арамису лошадь не привыкла и переменой в своем герое была огорчена. Значит, неважно, трезвый или пьяный, важно не меняться.
Боярский, будучи натуральным гасконцем, с ходу овладел своим Хасканом и в фехтовании тоже быстро преуспел. Он мне кажется человеком, который тяготится ученичеством, быстро схватывает любое интересующее его дело… и уже рапира поет в его руках, и лошадь влюбленно послушна всаднику.
Смирнитский, обаятельный Портос, не расставался с Боярским ни во время, ни после съемок и, скача рядом с ним, не мог позволить лошади узнать о своей неопытности.
Я лично легко бы согласился сниматься не на самой лошади, а где-нибудь рядом, но судьба и Хилькевич распорядились по-своему. Мой старый белый Воск не часто видел меня, но ни он, ни я не скучали друг без друга. В Москве я по два раза в неделю тренировался на ипподроме. Тренер - пожилая дама - сразу сообщила, что в войну ухаживала за лошадьми Буденного. Неудобно было спросить - какую из двух войн она имела в виду, но сохранилась тренер превосходно. Так что "шагом" и "рысью" я под ее руководством овладел, а с галопом мы не успели. Зато во Львове от нас с Воском требовали именно скоростной езды. Но Воск, хоть в войне и не участвовал, был, что мне в нем нравилось, утомлен жизнью и никуда не спешил.
Спасибо М.Боярскому: он научил моего коня, двадцативосьмилетнего Воска, галопу. Говорили, что Воск в двадцати двух фильмах актеров носил - надорвался, память, видимо, притупилась. Миша ему все сразу напомнил, и я полетел - как в детских снах, со свистом в ушах.
Итак, галоп состоялся, и мы летим вчетвером. Летят наши лошади, летят наши кудри, а я лечу впереди товарищей и вдогонку слышу вопль изумленного Боярского: "Атосик! Это уже аллюр!"
Не успеваю сообразить, к добру или во вред мне это хитрое французское словечко. Воску явно в радость вопль гасконца, и мы летим еще шибче, я прижимаюсь еще ниже к потной гриве, и судьба моя летит аллюром.
Миша кричит: "Атосик, молодец!"
Режиссер кричит: "Мушкетеры, отлично!"
Оператор кричит: "Стоп, сняли!"
Они сняли, а я все несусь. Сапогами сжимаю лошажьи бока, кричу: "Стой, сволочь!" Узду перебираю, как учили, а он все быстрее вперед. Уже Украину проехал, уже Белоруссия позади… Конь, куда несешься ты, дай ответ! Куда мчит тебя разбуженная память? Ору, матерюсь, скорость космическая, на ходу уже с мамой-папой и с детишками простился, вдруг смотрю - овраг! Воск бы и его перемахнул, коньком-горбунком бы обернулся, ему-то что? Но тут я, как Илья Муромец, силу безмерную почуял, вздернул поводья - конь мой столбом встал. В цирке это "свечкой" называется. Жаль, полюбоваться некому: единственный зритель на земле лежит. Из обморока вывел меня Володя Болон (шепотом): "Веня, если ты живой - не признавайся. Мы из дирекции оплату трюковых под твою смерть выбьем". И трюковые выбили, и меня оживили.
Кстати, о моем Воске я услыхал совсем недавно, именно во время гастролей по Израилю, печальную новость. В доме друзей, в Иерусалиме, оказался славный парень из Львова. Теперь он ди-джей, а в тот год Лошади он мальчишкой помогал нашему тренеру и ухаживал за лошадьми. Припомнил он белого Воска и весело сообщил, что Воск после съемок был очень печальным, работать отказывался и его, по старости лет, прикончили и… съели. И парень из Львова перестал мне казаться славным.
НЕСРАВНЕННЫЙ ГАСКОНЕЦ
Когда вышел фильм, его обругали во всех газетах. Критики осуждали режиссера и исполнителя главной роли за то, что Д'Артаньян получился не такой уж интеллектуальный. Увлеченные руганью (а ругань всегда украшает критика), журналисты спутали гасконца с принцем Гамлетом или князем Мышкиным. А Боярский, как теперь знает каждый новорожденный, был и остается лучшим, талантливейшим Д'Артаньяном нашей советской эпохи.
Где-то через неделю после премьеры фильма по телевидению я выступал в одном из институтов Академии наук. И какой-то профессор, поклонник "Таганки", встает с места и говорит: "Мы вас знаем по ролям в театре, а тут увидели в кино. Ну, Атос еще ладно и другие - ладно, но уж Боярский-то совсем не Д'Артаньян!" Меня взорвало, и я удачно разгорячился. "Представьте себе, - начал я, - длинную, в сорок километров, дорогу из Львова в Свирж. Съемки длятся, пока длится световой день (то есть от рассвета до заката). На каждом из нас тяжелая одежда плюс оружие, плюс грим. А кругом жара. Укрыться негде. Лошади фырчат, мотают гривами. К концу работы плохо выглядят - и кони, и люди. Когда дан сигнал отбоя, ограждавшие шоссе сотрудники милиции на машинах и мотоциклах снимают заслон. (Однажды, перед тем как снять грим, мы сели в мотоцикл с коляской, чтобы сфотографироваться вчетвером вне съемок. Снимок вышел памятный.) Силы еле теплятся, пока снимают грим. Разделся и - в автобус, а там падаешь как подстреленный. Теперь вообразите длинную кавалькаду машин. Мы возвращаемся из Свиржа во Львов. Усталые до смерти режиссер, оператор, ассистенты, звуковики и актеры спят в разных машинах. Ползут по дороге тонвагены (машина звукозаписи), лихтвагены (светотехника), автобусы с массовкой. Ползут большие грузовики-скотовозы. Даже лошади от усталости валятся с ног. Но кто это патрулирует всю полусонную кавалькаду, кто там так молодо гарцует позади колонны? Да это гасконец Д'Артаньян, взявший себе странный псевдоним - М.Боярский или, по моей игре слов, - "Бо'Яртаньян!".
И пристыженный профессор сдался, признал фильм стоящим, а Боярского - настоящим гасконцем.
Из-за Миши выносливость у меня на съемках оказалась - как на войне. Но там хоть святая цель была, за родину-мать, а тут - за что? За чью маму? Видимо, рядом с Мишей стыдно было трусить. Он один своим куражом реализовывал всю романтику книги Дюма.
Однажды он чуть не погиб: в одесской Опере снимали проход Д'Артаньяна к королеве Анне сквозь команду врагов. Ошибся в рисунке боя гвардеец и проткнул Мише боевой рапирой полость рта. Температура сразу - под сорок. Зуб выбит. Вызвали по телефону маму из Питера… А он очнулся и в павильон бежит, сниматься! Никто отговорить не сумел. Злой, отважный гасконец - таких больше не делают.
Я обижался на Мишу, когда слышал от него упреки: "Ты прилетаешь из Москвы на день. Тебя снимают крупным планом, чтобы потом подмонтировать к нашей компании. В результате мы будем на экране - кучей, а ты - везде один. За такие номера в Голливуде ты бы специальные деньги доплачивал…" И он оказался прав: по техническим причинам мой герой стал заметнее других. Я готов "бешеную популярность" Атоса отнести на счет этого кинообмана, мне не жалко, поскольку киноартистом себя не считаю. Да и смешно было, право, получать комплименты в тысячах писем такого рода: "Вы гениально сыграли и особенно спели песню - "Есть в графском парке черный пруд, там лилии цветут", спасибо большое!" А спеть мне как раз не дали, но об этом позже.
Двадцать лет назад я был потрясен поступком Миши Боярского - зимней ночью, после показа третьей серии по телевидению… Мы собрались отметить событие в доме художников Алины Спешневой и Николая Серебрякова. Сидим на высоте последнего этажа, а под нами - угол Театральной площади, заснеженный выступ Большого театра. Наполнили бокалы. Набираю по коду Ленинграда номер Боярского. Линия занята. Тогда звоню по "ноль-семь".
Т е л е ф о н и с т к а (гордо): "Ждите в течение часа".
Я (ей): "Простите, мы не можем ждать. Мы в Москве - Атос, Портос и Арамис, а там, в Питере - Д'Арта…"
"Ай! Правда?! - теряет девушка остатки гордости. - Давайте ЕГО номер!"
Даю. Сразу получаю голос Ларисы, жены гасконца.
Миша вырвал трубку: "Алло! Привет. Заболел, черт возьми. Высокая, 39 с чем-то. Спасибо. Жалко, не могу".
Я (с бокалом): "Михаил, тут все твои друзья: Алина и Коля, Болон и Дунаевский; Хил в Одессе, ты в Питере, но водка разлита, и ты слушаешь звон наших стаканов - за тебя и за нас…"
Каждый чокнулся с трубкой-Мишей, а я объявлял, чей это "чок", в конце хотел добавить что-то лирическое, но в трубке раздалось: "Стоп! Я еду! Ждите!"
Далее - сюжет фантастического кино. Миша врет жене, что обязан подъехать к вокзалу - взять посылку от Дунаевского, срочно. "На минутку, и назад". Такси в Пулково, аэропорт, нелетная погода, вьюга. Почтовый самолет. Команда, вместо Мурманска, рискует лететь в Москву. Москва. Метель. Ни души. Одинокая "Чайка". Спит шофер, с утра встречающий босса из Питера. Миша будит его стуком в окошко. "Чайка" летит к Большому театру. Часа в два ночи гости и хозяева полуспят после еды, питья и дневной работы. Тихо в доме. Вдруг сквозь двойные рамы окон - песня. Между Большим театром и нашим этажом раздается:
Пора-пора-порадуемся на своем веку!..
Морозный воздух, дивная акустика, голосище - не для оперы. Миша принимает стакан водки на душу своего населения. Все счастливы. Занавес.
ЕСТЬ В ГРАФСКОМ ПАРКЕ… СТАКАН КОНЬЯКА
Все мы в группе были в восторге от песен Ю.Ряшенцева и М.Дунаевского. Блестяще записали свои "арии" Алиса Фрейндлих и М.Боярский. Кто-то был "не в голосе", а кто-то и "не в слухе" - всем нашли замену. Кого-то обидели, больше всех - Атоса. Я долго не умею обижаться, стараюсь свалить вину на себя, и это справедливо. Я не музыкант, хотя были фильмы, спектакли и пластинки, где удалось прилично исполнить песни. Знаю, для этого необходимо терпение репетитора-композитора, время и атмосфера поддержки. Так, например, мое счастливое сочинение, мюзикл "Али-баба и 40 разбойников", было записано на фирме "Мелодия" в нежном режиме дружбы. Там трудились и "вытягивали" певцов из актеров Сергей Никитин и Виктор Берковский (композиторы). Там было славно заниматься "не своим делом" драматическим актерам - и С.Юрскому, и Н.Теняковой, и А.Джигарханяну, и О.Табакову, и мне тоже. Но для песни Атоса Максиму-композитору не хватило времени, а мне - музыкальной хватки.
Максим жил недалеко от меня, и накануне съемок я трижды его навещал. Репетиции вселяли надежду. Песня технически трудная для неопытного исполнителя. Максим играл на рояле своего великого отца, Исаака Дунаевского. Наверное, это тоже мне помогало. Максим хотел свести меня с Сашей Градским, чтобы я "потренировался" с мастером. Но время не позволило, и я поехал на запись в Лиховом переулке, где нашей группе дали минимум студийных часов. Однако молодой Дунаевский бодрился: "Не робей. Дома получилось, получится и с оркестром. Берем с собой коньяк, выпьешь для куража, обратно твою машину поведу я".
Студия огромная, дирижер Дима Атовмян, большой мастер, друг Максима. Все у меня впервые: такая студия, дирижер, оркестр, наушники. Мне бы потренироваться, успокоиться.
Максим после первой пробы: "Ну, неплохо, раза три всего сфальшивил, прими коньяку и - смелее!"
Коньяк у меня, конечно, не впервые, но в сочетании с новой закуской ("черный пруд… там лилии цветут…") - напиток вышел боком. Я спел так смело и громко, что слушать этот "дубль" было невозможно. Еще выпил, еще спел, еще больше содрогнулся от фальши в записи. Мой голос, как лошадь, испугался пьяного "наездника" и "выбросил" меня из седла. Кое-как записали куплет Атоса в общей песне мушкетеров ("На волоске судьба твоя, враги полны отваги…"), а главную песню решили отложить.
Ночью спал я крепко. Верил композитору, что обязательно перепишем песню - или в Полтаве, или во Львове, или в Одессе. Обманул меня мой приятель, хотя больше всех виноват я сам. Так и осталась в фильме "черновая запись", сделанная голосом одного музыканта. Его встретила через много лет в Нью-Йорке моя дочь. Он просил передать привет папе. Недавно он умер, но голос его продолжает украшать фильм, а я продолжаю получать комплименты. "Как вы прекрасно сыграли Атоса! А особенно - спели про черный пруд!"
Когда фильм вышел, я регулярно набирал номер телефона М.Дунаевского и пел ему страшным голосом:
Есть в графском парке черный пру-уд, там лилии цвету-у-ут, там лилии цветут!
Сначала Макс смеялся, потом стал хвалить меня за идеальное пение, потом умолял его извинить, а потом почему-то так испугался, что вот уже двадцать лет ежегодно меняет квартиры, города, страны, семьи и номера телефонов - лишь бы я не дозвонился…
Думаю, песни сделали добрую половину успеха нашему фильму, не меньше, чем песни отца Максима - лучшему советскому киномюзиклу "Веселые ребята". Два эпизода на эту тему.
Первый. В Москве, где еще не испарились надежды на светлое будущее, НТВ снимает новогоднее шоу (к 1995, кажется, году). В огромной студии в Останкино - сплошные звезды экрана, депутаты, шоумены, министры, поэты, певцы - от Газманова до Гайдара, от Зыкиной до Явлинского, от Хакамады до Пригова.
Ведущий Л.Парфенов перед каждым номером призывает всех к овациям: "Еще веселее! Еще дружнее! Еще раз запишем эту песню с вашими счастливыми лицами! Прошу встречать - Эдита Пьеха!"
Все было хорошо, и всем было хорошо, вкусно и бесплатно. Перед выходом мушкетеров "временно непьющие" Миша - Д'Артаньян и Валя - Портос льют мне водку, умоляют балдеть "за всех, а все - за одного", я послушно выпиваю. Игорь - Арамис от зависти лопается, хотя он тоже "в завязке" - льет и пьет. Портос и гасконец хохочут, как тогда во Львове: Арамис - всегда Арамис! Старыгин, по дружелюбной кличке "гюрза", миролюбиво объясняет, что Новый год с мушкетерами - редкость, почему бы "завязку" не перенести на январь? Я беру за воротничок Максима Дунаевского, предлагаю выпить за общий "черный пруд"… и тут ведущий просит народ поаплодировать на выход четырех мушкетеров.
Мы выходим, с нами - наш "пятый мушкетер", душа компании, любимец Володя Болон и элегантный Макс Дунаевский. Он садится за красный концертный рояль, а мы встали вдоль рояля. Миша запевает, мы подпеваем, с нами подпевают - без подсказки ведущего - все в зале. Овации, тоже без призывов Парфенова.
- Стоп. Техника? Номер записан? Еще дубль нужен?
- Не нужен! - гремит голос с облаков.
- Нужен, нужен! - как малые дети, вдруг просят хором поэты, певцы и политики.
Хохочем. Повторяем. К нам подходят, в порядке импровизации, молодые и бывалые, знаменитые и суперзнаменитые… И вся махина студии сотрясается в упоительном безумии:
Пора-пора-порадуемся на своем веку! Красавице и кубку, счастливому клинку! Пока-пока-покачивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шепнем: "Мерси боку!" Потом - соло каждого из нас: Судьбе не раз шепнем… И грянули все вместе напоследок: "Мерси боку!"И кричали, и аплодировали, и смеялись, как дети… Этот номер был всем в радость, как будто именно приобщение к "мушкетерству" освобождало души от быта, от суеты и от реальных забот.
Второй эпизод приключился в совсем не подходящем месте. Мне удалось выполнить просьбу Ю.П.Любимова: 7 ноября 1996 года я попал на прием к Юрию Лужкову. Не сам. Несмотря на все добрые отношения - ни М.Ульянов, ни М.Захаров тогда не смогли помочь. Лужков не хотел, видимо, общаться с "Таганкой" Любимова, ибо у него - победителя - не вышло победить ситуацию с "оккупацией" второй половины здания группой Н.Губенко. Необходимо было личное свидание с мэром Москвы. Помог - и очень, я бы сказал, артистично - Григорий Явлинский.
В тот день Москва отдыхала, блаженная команда коммунистов-демонстрантов отмечала день революции, а мэр трудился и ждал Г. Явлинского для консультации по экономическим проблемам. Политик привез актера во двор Моссовета. Никаких документов у меня не спросили, лицо моего спутника было здесь "популярнее" звезд кино и эстрады. В огромной приемной секретари и референты мэра еле скрывали неприязнь ко мне, непрошеному гостю. Григорий прошел в кабинет. Я предчувствовал неудачу. Явлинский же предчувствовал характер мэра. Распахнулась дверь. Секретарь сладко улыбнулся: "Смехов, пожалуйста!" Я вхожу в кабинет. Справа от меня - напряженно ожидающий Явлинский, слева на меня быстро надвигается харизматичный, упругий Юрий Лужков. И то, на что уповал политик-экономист, свершилось - мэр крепко пожал мне руку и запел:
Есть в графском парке черный пру-уд,
Там лилии цветут, а?
"Цветут!" - уверил я начальника, и беседа состоялась. Лужков назвал акцию Губенко и его самого ругательными словами и просил передать это театру и Любимову… Я поблагодарил и, радостный, пошел к выходу.
Пора-пора-порадуемся на своем веку! - пропел мне вслед мэр столицы России.
- Еще как порадуемся! - уверенно попрощался с мэром актер оккупированного театра…
Все, что здесь касается песни Дунаевского-младшего, - все похоже на чудо.
Все, что касается Театра на Таганке, - увы, чудом быть перестало. И обещание мэра не исполнилось. Одно дело - песни, другое - политика.
ОДЕССА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
Был такой хороший фильм - "Весна на Заречной улице". Помните песню: "…но ты мне, улица родная, и в непогоду дорога"? Фильм снимал в Одессе кумир нашей молодости Марлен Хуциев. Через двадцать, примерно, лет я стою в костюме мушкетера на этой Заречной: такая дощечка сохранилась на территории киностудии в городе Одессе. Слева и справа тянутся съемочные павильоны. И у самой дощечки, в начале "Заречной", встречаю Марлена Хуциева. Отпускаю дозу сентиментов-комплиментов, Марлен прерывает: "Да я тебе, знаешь, как завидую! Моя мечта всю жизнь была - сыграть… Догадайся, кого? Не догадаешься, Рошфора! Я даже Хилькевичу намекал, не взял, понимаешь!"
Я уверяю Хуциева, что это, наверное, месть за меня, и напоминаю то, что случилось еще на заре "Таганки" (Любимов был с ним очень дружен, звал поставить "Героя нашего времени", но поставил сам). Первые пробы в кино у меня были в 1961 году, когда в Щукинском училище шли дипломные спектакли моего курса. На киностудии им. Горького М.М.Хуциев отбирал актеров на роли для будущей легендарной "Заставы Ильича" (или "Мне двадцать лет"). Меня загримировали для роли Фокина, показали Марлену, он велел меня перегримировать, сделав подтяжку носа. А я сказал, что не хочу подтяжки и вообще улетаю по распределению в театр Куйбышева-Самары. Но я бы и с сокращенным носом не прошел: роль в фильме замечательно сыграл молодой Коля Губенко… Вот как все переплетается на углу Заречной улицы и Мушкетерского проспекта в Одессе!
Через двенадцать лет я снова "в качестве Атоса" на пару с Арамисом пробирался из Одессы к Белгороду-Днестровскому. Дело было ближе к весне. Поселок пустовал и выглядел жалким, бесхозным скопищем древних лачуг. Мы зашли в лавочку у моря, обнаружили кефир, водку и хлеб. По тем временам это была большая удача. Грязь и хлябь месили сперва своими башмаками, а затем - казенными сапогами "эпохи Людовика". Помню холод, ветер, мы снимаемся по пояс в воде, а на берегу - красные носы рыбаков, переодетых во что-то красное, красный закат и косо висящее, бывшее гордое, название совхоза "Красный гарпун". За "гарпун" не ручаюсь, может, это был "невод", но что "красный" - помню точно… Там же, в гостинице, вернувшись со съемок, узнаем, что у Миши Боярского украли сумку, где были и деньги, и документы. Поставлена на ноги милиция. Лень было отвечать на их вопросы, надежд никаких, и оставили потерпевший и его сосед требуемые отпечатки пальцев. Уникальные автографы Д'Артаньяна и Портоса.
ОДЕССКИЕ ДОСУГИ
Достался мне "в наследство" от киевских друзей чудный парень - Ванечка Пильгуй. Большое удовольствие - водить знакомых на съемки. Для них это интереснее, чем смотреть кино. Особенно когда идут драки гвардейцев с мушкетерами… Я пригласил Ванечку. Он провел с нами день и сказал, что теперь боится смотреть подобное кино: сердце будет болеть за артистов, раз он узнал, какой ценой достается каждый кадр.
Ванечка ужасно хотел чем-нибудь пригодиться - и мне, и моим товарищам. На съемках бывает жарко, между съемками, как правило, скучно. Как-то легко актеры поддаются на гостеприимство малознакомых граждан. Ванечка пригласил, и мушкетеры согласились. Все-таки не в гостинице и все-таки вместе. На частном "Москвиче" добрались до окраины Одессы. Кажется, улица имени Чапаевской дивизии. Подходящее название.
На первом этаже - Ванечка. Входим, он от избытка чувств бросается к холодильнику, и на стол ложится главная реликвия советского стола - колбаса твердого копчения. Долго идет работа по нарезке кружочков. Мы отговариваемся. Ванечка упорно режет. Мушкетеры узнают в продукте ровесницу своей эпохи.
Миша, Валя, Игорь и я болтаем без умолку. Миша с Валей "прикалывают" Старыгина, Игорь отбивается и нападает, я примирительно переключаю дискуссию на тему съемок. Миша пародирует манеру говорить Хилькевича, Бялого, Вали, Игоря, меня… Веселимся. Невероятно, чтобы эти люди сегодня отработали полный съемочный день.
Встретились мы в Одессе с Геной Хазановым. Он участвовал в большом концерте эстрадных мастеров. Я объяснил ему, что после съемок из французской жизни слушать советские песни не могу и иду только на его номер. Он посадил меня и еще нескольких друзей в оркестровую яму и обещал быстро освободиться. Гена обманул меня, но это был обман специалиста. После двух часов нелюбимой мной эстрады вышел Кобзон, поразил тембром, силой голоса и неуемным азартом петь без отдыха (я его слушал и видел впервые на сцене), а за ним, на "сладкое", подавался Хазанов. Потом за кулисами он угостил нас рассказом о семидесятилетнем юбилее Л.И.Брежнева. Рассказал о том, как отбирался его номер, как усадили Гену за стол среди стукачей и какая была тоска, какое напряжение, какой абсурд. Особая тема возникла у нас - Марк Розовский, не только как учитель Г.Хазанова, А.Филиппенко, С.Фарады, но и как автор сценария к "Трем мушкетерам".
Когда Розовский прилетел на съемку, я сразу почувствовал запах скандала. Не мог и не хотел вдаваться в детали, старался понять каждого, но факт был неприятным: распри между режиссером и авторами (Розовский и Ряшенцев) на целый год задержали выход готового фильма на экраны. В Москве, дома у Дунаевского, я даже попытался сыграть миротворца, ибо порознь был дружен с каждой "стороной". Не вышло.
Во время съемок в Одессу на гастроли из Риги прибыл Театр русской драмы, и несколько вечеров мы провели вместе - мушкетеры и несколько рижских актеров. Любимцем театра был родной брат Миши Саша Боярский. Миша познакомил нас в первый же вечер и, оставив вдвоем в номере гостиницы "Аркадия", исчез куда-то с Валей Смирнитским (разумеется, с Портосом). Вернулись оба счастливые, ибо в полуголодном городе достали гуся. Его зажарили поклонники мушкетерского таланта на кухне ресторана "Аркадия".
На фоне старшего брата совершенно преобразился наш гасконец. Миша трогательно скромничал: "Сашка, - говорил он мне, - отлично разбирается в поэзии, вам будет с ним интересно. Он мне уже сказал про твою передачу о каком-то поэте Востока, я не знаю, я - профан, а Сашка - классный, интеллигентный. Ты пойди на "Утиную охоту", он здорово играет".
Пьеса А.Вампилова находилась тогда под запретом, только МХАТ и Рижский театр русской драмы, так сказать, прорвались. Но спектакль у О.Ефремова, где были декорации Д.Боровского и музыка А.Шнитке, расстроил меня показным реализмом - почти у всех актеров, кроме Андрея Попова, игравшего Официанта. А в рижском спектакле, у режиссера Каца, "Утиная охота" вышла и естественно-правдивой, и одновременно трагически-символичной, и все играли хорошо, но лучше всех (и тоже роль Официанта) - Саша Боярский.
Я еще раз увидел Сашу в Риге, а потом - в Киеве, перед отлетом их театра на гастроли в Болгарию. Там он погиб - нелепо и трагично, замечательный артист, настоящий интеллигент, скромный и красивый Александр Сергеевич Боярский.
ГЕОГРАФИЯ СЪЕМОК
Я большой любитель путешествий, и когда приглашают в новую картину, особенно радуюсь словам "на натуру мы выезжаем туда-то". Дальше - перечисление мест. Я снимался в Крыму, на Кольском полуострове, на Урале, на Куршской косе, в Севастополе, в Самарканде… Одно удовольствие перечислять эти названия.
"Три мушкетера" снимались во Львове (сцены и скачки в Париже и королевская резиденция), в Одессе и под Одессой (павильоны-интерьеры, дворцы и берег моря). Музыку писали в Полтаве, песни - в Питере и в Москве. Озвучание проходило на втором этаже Останкинского телецентра, на студии "Экран". Через двенадцать лет, на съемках "20 лет спустя", география расширилась (хотя возможности бюджета сузились). Я не сравниваю эти фильмы по их, так сказать, художественной себестоимости - первые три серии фильма "Д'Артаньян и три мушкетера", конечно, выше по всем статьям. Но об этом - позже, а пока о географии. В 1990 году, на съемках "20 лет спустя" и "30 лет спустя"…
Город Таллин, пока мы там снимались, удлинился на одну букву: Таллинн. Помню под Таллинном старинный, хмурый замок - на сутки он стал "Замком Атоса". Подъезжали к нему все мушкетеры и сын Атоса в "двух лицах": Сережа Шнырев в младшем возрасте виконта и Андрей Соколов - в старшем. Эстонские конноспортивные базы давали лошадей покрепче львовских, но падать с них было больнее. Тренерша отказывалась говорить по-русски, хотя все понимала. Инструкции через переводчика давала сухие и странные. В результате один за другим падали на землю я, мой сын "обоих возрастов" и Арамис. Потом дважды и пребольно грохнулся бывалый Смирнитский. Когда же бешеная лошадь Д'Артаньяна, извиваясь в руках могучего наездника, все же "катапультировала" его на землю, тут я уверенно заподозрил "национально-патриотический" заговор. Похоже, что участники киноэкспедиции оптом зачислялись в список врагов эстонского народа.
Снимались в Нарве, в Иван-городе. Снимались в Ялте, в море, на уникальном, сто раз заштопанном фрегате, который уже устал помогать советскому кинематографу в его фильмах о пиратах, капитанах, бурях и штормах. Снимались в пустыне Каракум, под Бухарой, где по сходной цене уговорили местных верблюдов стать последними лошадьми в последней серии фильма.
Юра Хилькевич не хотел следовать финалу у Дюма, хотел смерть героев заменить кадрами ухода мушкетеров в жаркие страны, в пески, в никуда… Нам это понравилось: кому охота умирать, даже в роли Атоса? Прибыли мы в Бухару, оттуда в пустыню. Узбекские ребята беспрерывно смеялись, глядя на мушкетеров. Старшие учили нас слезать, держаться за горб верблюда, правильно сидеть, правильно лупить его, чтобы чувствовал власть седока.
Для начала не повезло Арамису: его верблюд хотел, видимо, объясниться в любви к звезде экрана, но… плюнул. Хрестоматийно плюнул верблюд, нехорошо разукрасил костюм Арамиса.
Благородный Боярский первым оседлал ("огорбил") своего "скакуна", адаптировался, уверился в безопасности, тогда и нам предложил присоединиться.
Мы взгромоздились, и наши "цари" или "корабли" пустыни взметнули нас вверх. Часов пять надо было держаться там, никаких стремян не предусмотрено, сам гордо сидишь на каких-то подушках, а ноги болтаются и затекают. Жарко. Появляются разные поводы сойти на землю. Нельзя. Снимаемся. Даже понравилось - ходим важно, без спешки, без рысей и галопов. Правда, не знали верблюжьих половых проблем: дама-верблюд ни за что не хочет без супруга гулять и норовит к нему прижаться. Ну, хорошо, учли исторический атавизм древнего животного, пусть Портос и Арамис шагают совсем близко. Все-таки я зря расслабился. Уже в конце съемки просит режиссер: подойти к камере, нужен крупный план, через морду зверя. Я подъезжаю и, на свою голову, читаю Маяковского:
Лошадь сказала, взглянув на верблюда: "Какая гигантская лошадь-ублюдок". Верблюд же вскричал: "Да лошадь разве ты?! Ты просто-напросто - верблюд недоразвитый"…Тут меня и снесло вниз, как с горы! Верблюд либо Маяковского не любил, либо ему захотелось совсем "укрупниться" в кадре - он вдруг упал на передние лапы, и я был готов. Кажется, этот трюк повторили все верблюды, кроме того, который возил Д'Артаньяна…
Снимали в Санкт-Петербурге и в окрестностях. Знал бы Дюма-отец, какие дворцы отхватил его граф де ля Фер! Дом ученых. "Фонтанный дом". Дворец Белосельских-Белозерских, он же Куйбышевский райком партии, что на Невском, - тоже был "моим". А ведь я, москвич, с детства обожал это роскошное здание. Приятно было влезать в штаны графа де ля Фер в комнате с дощечкой "Кабинет агитации и пропаганды". Был у Атоса дом и в Павловске, и даже "чайная комната" в кабинете Петра Великого…
В Петергофе выпадают два часа отдыха. С Мишей Боярским ищем, где поесть. Толпы туристов. Миша нашел кафе, где почти нет клиентов: это германо-российская компания, здесь дают пить и есть только на валюту. Но Миша есть Миша - и нам, в виде исключения, разрешают подкрепиться за советские рубли.
Съемки в Одессе. Мушкетеры в лодке, у меня под одеждой - комбинезон для прогулки на дно. В автобусе тревожно ждет одевальщица с махровым полотенцем и сухим бельем. Подплывает Мордаунт, сын Миледи. Атос - в море. Борьба. Октябрь, вода ледяная. Я на берегу, переоделся, на душу ложится стакан водки. Вспоминается рассказ Юры Визбора о двух дублях купания в Ледовитом океане. В моем случае исполнитель роли Мордаунта - Витя Авилов - отсутствовал. Когда я кувыркался в воде, за него работал дублер. Витя прилетел, меня стали вызывать на повторное купание, потому что "пленка подвела". Я процитировал Юрия Визбора, и меня оставили в тепле и покое.
В Белгороде-Днестровском, в бывшем Аккермане, снимались в знаменитой крепости. Во время съемок первых "Трех мушкетеров", в 1978-м, мои дочери были здесь на экскурсии, после чего младшая, Алика, отчиталась:
- Такая была красивая крепость, но, папа, ее разрушили!
- Кто?
- Ну, этот… татаро-монгольский Иг!
Теперь здесь - тьма людей, фонарей, лошадей… Ночная съемка. Орет в мегафон ассистент режиссера, командует: "Репетиция!" Толпа пришла в запланированное движение. Тронулись гвардейцы, повозки, кони, люди.
"Стоп!"
Еще репетиция.
Еще одна.
Это новое время: пленка ужасно дорогая, снимать стараются в один дубль (что, конечно, сказывается на качестве фильма).
"Стоп. Внимание! Мотор! Двинулись! Так, гвардейцы, пошли! Мушкетеры, пошли!"
Вдруг: "Стоп, что случилось?"
Площадь замерла. Вся масса народа остолбенела. В центре площади молодой жеребец поднялся на кобылу и объяснился ей в любви. Мертвая пауза. Трепещут огни факелов на фоне зияющих окон крепости.
КИНОСЕМЬЯ
Конечно, фильм - дело временное, и каждый в нем, от режиссера до "хлопушки"-помрежа, - только гость. Если повезет с атмосферой на съемках, то временное дело и через много лет помнится, как будто там - в павильонах, на колесах, на натуре - прожита семейная жизнь.
Из сильнейших впечатлений на тему кино - рассказ моего друга Александра Калягина о работе в "Неоконченной пьесе для механического пианино". Никита Михалков сумел создать в группе иллюзию незыблемости семейного острова, где каждый, буквально каждый - дорог и любим всеми.
Говорят про кино и театр: половина успеха - в выборе актеров. Не могу ничего сказать про своего героя, но что касается моих товарищей Боярского, Смирнитского и Старыгина - то здесь, очевидно, режиссеру Хилькевичу подсказка была дана прямо с небес, от Ангела Удачи. Или же - от самого Александра Дюма-папы.
"Каждый пишет, как он слышит", - повторю слова Булата Окуджавы. Мне и слышится, и дышится вполне сентиментально, когда перед глазами - время съемок мушкетерских сериалов. И здесь абсолютно не важно, какая серия лучше, какая хуже. Память играет на скрипке нежный мотив, и я благодарно перебираю кадры моей внутренней кинохроники.
Михаил Боярский. Суровый товарищ, он кажется вообще несговорчивым эгоистом. На поверку - из самых надежных. И в работе, и в жизни. Помню, уже после съемок, года через два, я звонил ему из Москвы: "Помоги, нет другого выхода, срочно нужно передать посылку с продуктами моим друзьям. Посылка идет поездом. Вагон такой-то. Адрес друзей такой-то". Миша все сделал идеально, и на площади Стачек на пятом этаже раздался его звонок. Открыл дверь мальчик Алеша. Получил посылку и "привет от Атоса". Исчез Михаил, а мальчик сегодня - хороший артист в немецком городе Штутгарте, но он никогда не забудет, как открыл дверь квартиры и увидел Д'Артаньяна.
Для телепрограммы "Театр моей памяти", которая шла на Российском телевидении, у нас дома, в Москве, на Краснопресненской набережной, снимался сюжет: "Мушкетеры. 17 лет спустя". Столько воды утекло, но стоило оказаться за одним столом, стоило согреться душой "в своем кругу", хорошо поесть… И всех связал этот странный "семейный синдром". Говорили не умолкая. Любую тему, которую я, из эгоизма автора программы, строго и внятно выносил на обсуждение, начинали шумно комментировать. Мне честно помогал Володя Болон, но и он не в силах был удержать общего бедлама. Казалось, пока шел обед, много интересного сказано каждым. Рабочих видеокассет было отснято часов на пять. Но из них смонтировать двадцать шесть минут было чистым мучением. Почему? Потому что зрелище оказалось "слишком семейным", чтобы из него можно было выудить что-то для общего пользования. Я надеялся: придут профессионалы, ответственно отнесутся к задаче. Ну, вылетит половина, ну, две трети - на случайное, на скучное, на бестолковое. Но часа полтора останется для выбора! Ничего подобного. Вот Боярский начинает серьезно и горячо замечательную фразу. Одновременно кладет в рот пирожок, ест его, а заодно съедает и главную часть фразы. Вот Портос обращает внимание на смешную ужимку Арамиса, тут же Арамис припоминает что-то Д'Артаньяну, а Д'Артаньяну приспичило разыграть Портоса. Детский сад! Опять все застолье тонет в шуме, в звоне, в хохоте… Я очень был расстроен. Героически вытянули и смонтировали положенное время, где-то "закрыли" жующие рты кадрами из фильма - словом, программа вышла. А как приятно через несколько лет смотреть наивные, сбивчивые кадры и как много они говорят узкому кругу участников! Стоило ли расширять этот круг? Ведь это был семейный праздник, семейное застолье…
Валя Смирнитский - обаятельный, доброжелательный, мягкий человек. Его можно уговорить на что угодно и - отговорить тоже. Так казалось, когда мы знали друг друга коллегами двух популярных театров Москвы - "Малой Бронной" и "Таганки". К тому же оба - выходцы из одного "вахтанговского гнезда". Но вся его мягкость каменеет и Валя становится диким вепрем - когда у него приходит час Азарта. Это неукротимый, своенравный, ниагарский темперамент. Валя - игрок. Подобное я читал о Маяковском. Карты, скачки, казино, бильярд, вино - лучше не дразнить в нем "зверя". Но интересно: в любой момент любого игрового безумия он остается обаятельным, что большая редкость.
Игорь Старыгин мне понравился как актер в фильме "Доживем до понедельника". В жизни он показался хрупким интеллигентом. Последнее - правда, а с хрупкостью я ошибался. Все бури и натиски нашего "курортного спортлагеря" Игорь выдерживал как-то легко и гордо: падал ли он с лошади или попадал под постоянный обстрел юмора и сатиры господ Портоса, Д'Артаньяна и Де Жюссака (он же Володя Болон).
Юра Хилькевич - папаша киносемьи. Художник и режиссер, он получил на свою голову от критиков и коллег столько шишек, обид и оскорблений, что любой другой бы бросил свое поприще или сломался душой. Юра - авантюрист и победитель. Казалось: все зло, полученное им в награду за многие фильмы, он превратил в топливо, на котором и совершил свое путешествие в страну мушкетеров в "не очень советском" жанре: в соединении мюзикла с вестерном, где вместо ковбоев - поющие мушкетеры.
Снять в темпе трехсерийный фильм в неуютных обстоятельствах контроля Москвы (телестудия "Экран"), Одессы (начальство киностудии), Киева (кураторы украинской столицы) и с ненадежной командой администраторов - это, я вам скажу, большая удача. Ему сильно подфартило: в те времена рядом с ним была прекрасная женщина, его ассистент по актерам и бессонный спутник его одержимого характера - жена Таня. Актеров надо уметь согреть, а жесткий характер не годится для киносемейного очага. Таня была "Танюшей", "Танечкой", "Танькой". Она была везде, где в ней нуждались. Она утешала, хвалила, выслушивала жалобы и защищала группу… от Хилькевича.
Жизнь большинства "киносемей" кончается нелюбовью к режиссеру и дружбой с ассистентом режиссера по актерам - таков парадокс. Это главный каторжник группы. Честное слово, я не помню ни одного плохого ассистента. Их будто выводят в одном инкубаторе, и они выходят на свет для одной цели: подставить одну щеку (для удара) режиссеру, а другую (для поцелуя) - любимым артистам. Ассистенты по актерам словно не живут своею жизнью, они - душа киносемьи.
Таня Хилькевич была одарена еще сверх сказанного. Прошло несколько лет после наших съемок, и она оказалась в Канаде. Никто из нас не знал, что ради Хилькевича она ушла из своей профессии. Она балетный мастер и "служила" то психотерапевтом, то сестрой милосердия. Сейчас с успехом дарит свой основной талант детям в балетной школе.
Когда в 1978 году пришло время озвучания "Трех мушкетеров", Хилькевич сорвался, "развязал". Таня позвонила близкому другу семьи Володе Высоцкому. Володя уже приходил на помощь, когда болела Таня и ей нужны были редкие лекарства. Но теперь Таня искала Володю с другой целью. У обоих друзей был за плечами не только фильм "Опасные гастроли", но и некоторые другие "опасные" сходства.
Володя в эти дни был в Париже. Таня позвонила мне в отчаянии: организм отравлен, Юра умирает. Повезло устроить больного в клинику, где профессор Элконин сразу подключил его к каким-то проводам, начал экстренный курс борьбы за жизнь. В палату, конечно, не допускается никто со стороны. Вдруг прилетает из Парижа Высоцкий, узнает, где Юра, врывается в палату, на глазах обомлевшей сестрички отключает оживающего от всех проводов, одевает и тащит к выходу. Скандал! Сестричка, не веря глазам, шепчет: "Это - реабилитация… Его нельзя трогать… меня под суд…" Высоцкий быстро пишет расписку и тоном, который уже никому не повторить, убеждает медицину: "Я все знаю. Вам ничего не будет. Передайте руководству, что Высоцкий взял его на себя, и вас реабилитируют!" И увез бездыханное тело. Дома напичкал его новейшим французским средством, и через пару дней режиссер явился в студию.
Алиса Фрейндлих. Долгая ночь в Петергофе. Снимается "20 лет спустя" - визит Атоса к королеве Анне. Сидим в обветшалом помещении. Сыро, холодно и голодно. Обсуждаем с остроумным "кардиналом", Анатолием Равиковичем, победы и издержки "перестройки", медленно переваливаем за полночь. Где-то к двум часам ночи полусонные мозги отказываются принимать эти ветхие коридоры и комнаты за королевские покои. "Покои нам только снятся", - вяло каламбурится строчка из А.Блока. В нашу комнату заходит Алиса Фрейндлих, берет термос у Равиковича, наливает себе чаю… Исподтишка наблюдаю за ее движениями, за ее статью, за ее улыбкой и манерой говорить… В одежде Алисы присутствуют и наряд ее героини, и собственные вещи. На плечи наброшена кофта. Движения актрисы домашние. Просто, без участия камеры, света прожекторов и красивой музыки, я оказался в королевском окружении. Именно домашние, именно незначительные бытовые жесты подтверждали истинное королевское величие Фрейндлих. Как сказал Коровьев у Булгакова в "Мастере и Маргарите": "Кровь - великое дело".
Олег Табаков - король Людовик. Олег - из самых давно любимых актеров. Кстати, пока шли съемки, в журнале "Аврора" вышла глава из моей книги "Мои товарищи - артисты". Там были литературные портреты Высоцкого, Визбора, Золотухина, Славиной, Демидовой и Табакова. Там я признавался, что оставил портрет Олега "на сладкое", а еще назвал его несколько неуклюже, но от всей души - "человекотеатр".
Помню, как-то на съемках он испугал меня своей бледностью. Понимая, как мало Олег отдыхает при таких ролях и заботах, я предложил ему отложить часа на два смену: нельзя же сразу после самолета работать! Олег не принял моего братского предложения. В картине есть сцена, где под красивым шатром король элегантно жует клубнику, а вокруг танцуют придворные, и кардинал перед ним отчитывается, и королева гуляет без знаменитых подвязок… Огромная сцена. Снимали под Львовом. Большое поле, большая массовка, большое блюдо и большой артист Олег Табаков. Я сижу в теньке под деревом, рядом с Маргаритой Тереховой и слежу за Олегом. Делюсь с Ритой опасением за его здоровье. Говорю ей: "Видишь огромное блюдо "исходящего реквизита" (то есть подотчетной пищи)? Так вот, был бы Олег здоров, он бы еще до репетиции начал оттуда есть, он же легендарный Гаргантюа!" Проходит час, съемка окончена. По нормальному ходу вещей, актеры уходят разгримировываться, а "эпизоды" (то есть исполнители неглавных ролей) и группа доедают "исходящий реквизит". Большое было блюдо. Но, кажется, ничего там не осталось - после ухода из кадра большого артиста. Мы были довольны: Табаков ест, значит, здоров…
Риту Терехову я знал еще в пору ее первых ролей в Театре Моссовета, после окончания студии Завадского. Рита умеет слушать режиссера (даже если он - далеко не А.Тарковский, у которого Рита блестяще снялась в "Зеркале"). Слушать и не перечить, не диктовать, как и где она будет стоять, сидеть, лежать в кадре. А ведь она - "звезда". Я очень люблю актрису Терехову, поэтому мою совесть терзают угрызения за то, что мне пришлось-таки прикончить ее - в качестве миледи Винтер. Я ей признался через год в этом, но Рита успокоила меня: я, мол, тоже обижалась, что ты меня прикончил, но моя дочь так полюбила твою пластинку "Жили-были ежики", что я тебе прощаю!
В нашей киносемье был кардинал Саша Трофимов, очень длинный и демонический Ришелье. Меня роднила с ним причастность и к более основательному семейству - любимовскому Театру на Таганке. Во время съемок, в Одессе, мы гуляли с ним от гостиницы "Аркадия" к морю и много друг другу рассказали о предыдущей жизни. Саша - человек закрытый и болезненно гордый, так мне казалось до этих съемок. Он открылся тонко чувствующим и поэтическим человеком, с множеством комплексов и сомнений. А гадкого кардинала сыграл и остро, и умно, и иронично.
Очень подходящий у мушкетеров оказался командир - капитан Лев Константинович Де Тревиль. Дуров - актер вулканического происхождения, дорогой мой товарищ по битвам политического театра 60-70-80-х годов. Нас не развела большая "бранная" история: и на Таганке, и на Бронной. Теперь все битвы прошлых лет кажутся глупыми: с кем боролись? против кого боролись? за что боролись? Все перемешалось, перессорилось, перепуталось. А что осталось? Лев Дуров, лучший артист лучших спектаклей Анатолия Эфроса, его сподвижник и опора в Центральном детском театре, в Ленкоме и на Малой Бронной… Он по-прежнему играет роли в кино и в театре и сохраняет форму, несмотря на все беды и болезни. Об этом я пел ему в 1981 году, на сцене его театра, в присутствии тысячи радостных лиц, избранных гостей пятидесятилетнего юбилея Левы. Александр Ширвиндт вел этот чудо-вечер, а я со сцены спел Леве на мотив песни Булата Окуджавы ("Моцарт на старенькой скрипке играет") 21 декабря, в день рождения тов. Сталина:
Дуров на старенькой сцене играет, Дуров играет - а сцена поет! Дуров рождения не выбирает: Сталин родился, а Дуров - живет!Леша Кузнецов в нашей семейной киноистории - лицо иностранное. Артист Театра им. Евг. Вахтангова, он сыграл возлюбленного королевы Анны Австрийской - лорда Бэкингема. Сыграл, с чисто вахтанговским блеском смакуя свой образ и иронизируя по поводу идеализма Бэкингема. За весь период съемок я виделся с ним, может быть, дважды, но его присутствие в фильме для меня особо радостное. А.Кузнецов учился на том курсе, где Ю.П.Любимов поставил "Доброго человека из Сезуана", чем покорил тогдашний театральный мир. Леша играл Водоноса и был в этой роли клоуном-интеллектуалом. Позднее, уже на Таганке, Водоноса играли и Алексей Эйбоженко, и Валерий Золотухин.
В семейной кинокомпании все хороши. В поздней экспедиции, на съемках "20 лет спустя", новые (и достойнейшие) братья и сестры поддержали репутацию доброго семейства. Дима Харатьян. Анатолий Равикович. Алексей Петренко - он один из тех редких мастеров, о котором без преувеличений можно сказать "потрясающий" или даже "гениальный".
Остановлюсь на имени Светлана Яновская. Она только что окончила художественный факультет Школы-студии при МХАТе, успела выпустить пару спектаклей и фильм, и вдруг попала в адское пекло, каким оказался наш фильм после превращения его из государственного в частно-коммерческий. Мы не понимали и не смогли понять этой новой самодеятельности. Дорогая пленка "Кодак" по государственным расценкам покупалась на "Мосфильме" и тут же перепродавалась - по коммерческим - нашему фильму.
В глазах рябило от обилия странных лиц. Приходили и уходили спонсоры, рэкетиры, спортсмены. В ушах гудело от звуков новой речи на темы маркетинга, бартера и "ко-продакшен". В номерах отелей совещались и мудрили администраторы и опекуны новой компании, перезванивались Москва с Одессой, Таллин с Будапештом, а все вместе - с Берлином. В результате этих активных процессов кто-то получал "иномарки", торговал трикотажем и продуктами питания, одновременно распоряжаясь съемками и нуждами мушкетеров "20" и "30 лет спустя". Забегая вперед, скажу, что все кончилось для здоровья людей благополучно и даже, кажется, до сегодняшнего дня никого не убили. Напротив, под Таллином сложилась большая дружба с тюрьмой, ее начальством и лично арестантами. Дело в том, что при начале экспедиции группу обокрали. Группа недосчиталась как оружия, так и готового платья. Имеется в виду, например, костюм Атоса. Дальше, по команде своего мушкетеролюбивого начальства арестанты с удовольствием изготовляли исторически достоверные клинки, кинжалы, шпаги и ножны. А с костюмами пришлось бы худо, например, пришлось бы Атосу выступать, закутавшись в материю наподобие индийского сари, а может быть, и просто в трикотажных изделиях щедрых спонсоров из Будапешта (что под Берлином). Но так же, как в первом сериале была Таня, так же для съемок 1990 года Ангел Удачи подарил Хилькевичу и нам, актерам, Свету Яновскую.
Чуть старше двадцати лет, взятая на ответственную работу вместе с другими коллегами, она оказалась единственной художницей по костюмам. Сама сочиняла, рисовала эскизы, доставала, возила, кроила, примеряла. Так как костюмы, сшитые в Москве, были украдены в Таллине, многое для героев и массовки она делала сама прямо в гостинице. Ее помощницы заболевали или отлынивали, она же к третьему месяцу экспедиции работала уже за десятерых. Однако, увидев ее посреди этого ада, никто бы не подумал о муках творчества и жертвах капитализма. В это же время все заработанные деньги, которые выдавали ей нещедрой и дрожащей рукой владельцы трикотажа и иномарок, она тратила на многочасовые переговоры с Америкой, куда в тяжелом состоянии был транспортирован ее отец, оператор Александр Яновский, только что отснявший фильм "Дамский портной".
В киносемье мушкетеров прибавилось молодых лиц. О двух одаренных исполнителях роли де Бражелона я говорил выше. Подругу Д'Артаньяна в фильме "20 лет спустя" играла прелестная Катя Стриженова. Ее фамилия - вернее, фамилия ее мужа - дает повод к мушкетерско-лирическому отступлению.
ОТСТУПЛЕНИЕ
За семь лет до "Трех мушкетеров" в Москве, в Останкино, снимали фильм-спектакль по роману А.Дюма-отца "20 лет спустя". Критика была дружно возмущенной. Зрители писали восторженные письма. Добрейший телережиссер А.Сергеев был влюблен и в книгу, и в актеров. Конечно, фильм получился слабым: режиссер потакал любому капризу своих питомцев и приговаривал: "Вы - моя слабость". Зато компанию он собрал редкостную…
Кардинал Ришелье - Владимир Зельдин.
Королева Анна - Татьяна Доронина.
Герцогиня де Шеврез - Руфина Нифонтова.
Ее сын виконт Де Бражелон - Игорь Старыгин.
В роли Атоса - блестящий романтический актер Олег Стриженов.
Портос - Роман Филиппов.
Д'Артаньяна играл Армен Джигарханян.
Арамисом тогда был "скромный автор этих строк".
Когда отсняли первую серию, помню, все в студии подошли к монитору: на экране медленно, под музыку, ползли имена исполнителей. Сверху, с пульта, прогремело: "Армен Борисович, в "Вечерней Москве" объявлен приказ. Поздравляем, вы - народный артист республики!" В титры внесли изменения, и снова поехали имена и звания: народный, заслуженный, народный… Один я - просто артист. Олег Стриженов смеется: "Мы все как будто так себе, из "народных театров", а "артист" один - Смехов". Я отшутился: "В нашем фильме народных артистов как "Зельдин в бочке"!"
Съемки не запомнились никак. Запомнились перекуры на лестнице в Телецентре. Разговоры о гибели Изольды Извицкой, партнерши Стриженова в "Сорок первом", у Г.Чухрая.
"Работы Изольде не давали, за судьбой не следили, но начальники Госкино таскали ее по заграничным гулянкам - вот она, наша "кинозвезда"! А характер безвольный, погибла без работы…" - сокрушался Олег.
Врезался в память разговор о друге Стриженова Леониде Енгибарове. Я передал от Леонида привет, поскольку накануне съемок "печальный клоун" посетил Театр на Таганке, второй раз смотрел наш "Час пик", а после спектакля, на сцене театра, для сотрудников, показал несколько своих номеров. Любимов в "Часе пик" добился труднейшего в искусстве: мы работали в жанре трагикомедии. А Енгибаров был гений этого жанра. Нас с ним связал один отказ в одной роли и по одной и той же причине… Марк Розовский написал славный сценарий про чудака-добряка "Синие зайцы". Мы с Енгибаровым порознь "пробовались" для этой роли. И оба понравились. И обоих худсовет отверг - за "нерусскую внешность". Енгибаров смеялся: "Если б я признался, что я совсем не еврей, они бы мне мой нос простили!"
Для Стриженова (как, кстати, и для В.Высоцкого) Леонид Енгибаров был больше, чем клоун. Он был Поэтом Цирка. И умер он через год, в тридцать семь лет, как Пушкин, Хлебников, Маяковский, Рембо…
Вот кто мне запомнился на съемках - Армен Джигарханян. Все у него было готово, все тщательно отработано дома, а на съемку являлся с лучезарной улыбкой простака, ждущего указаний. И партнеров подкупал братской нежностью, и режиссера предельно уважал, но только прозвучит: "Внимание! Съемка!" - преображался в солдата-трудягу, помудревшего и помрачневшего Д'Артаньяна. И все его широкие улыбки исчезали с лица, будто их и не было никогда.
МУШКЕТЕРЫ В ПРОКАТЕ
"Трех мушкетеров" не выпускали год из-за тяжбы авторов с постановщиком. Но единственную копию фильма с успехом возили по Домам кино - в Киев, в Одессу, в Ташкент. Я не мог там быть, но слышал от Хилькевича фантастические речи об убитой наповал публике, о невероятных бурях оваций. Не очень верил, но было приятно. В Московском Центральном Доме кинематографистов я был в самом начале показа, потом уехал в театр. Наутро получил несколько хороших отзывов, но запомнил больше всего звонок моего учителя по вахтанговской школе Владимира Этуша: что работа его ученика похвальна и серьезна и что он не заметил, как прошло четыре часа!
Мушкетеров попросили приехать на съемку очередной "Кинопанорамы". Мы были веселы, проскакали на лошадях от башни до бюро пропусков в своих плащах и костюмах. В передаче шутили и задевали друг друга (больше всего, по традиции, доставалось Арамису). Я прочитал свое шуточное стихотворение, написанное в Одессе, в конце съемок. На экране шутка вышла урезанной, целомудренная цензура сократила сомнительную рифму к "галопу" и просьбу насчет моей могильной ограды: в эпоху Брежнева о смерти нельзя было говорить, народу полагалось верить в бессмертие вождей и прочих лиц. Припомню стишок, ибо он по-своему отразил наше общее настроение.
К сему - комментарий.
О гороскопах: я родился в августе, под знаком Льва (по "европейскому гороскопу"), снимались мы в год Лошади (по "азиатскому").
О Высоцком: рядом с нами снимался фильм "Место встречи изменить нельзя". Голос Хилькевича действительно напоминает хрипловатый баритон Владимира. Когда я исполнял этот стих в громкоговоритель, посреди киностудии, всем было весело, в том числе и Высоцкому. Увы, время встречи вернуть нельзя.
Итак, цитирую:
В год Лошади Атос, родясь под Львом (Под знаком Льва, по еврогороскопу), Впервые сел на лошадь. Город Львов При этом вел себя по-городскому: Гремел - трамваями, бездельничал - людьми… А рынок Галицкий ломился от черешен. На мостовой - копыта! Львов, гляди: Кино сымают! Случай интересен… В год Лошади Атос, родясь под Львом (Под знаком Льва, по еврогороскопу), Пал с лошади! Свидетель - город Львов. Упал с галопу, повредив родную… спину… Летали каскадеры и дублеры, Летали кони, взрывы, шпаги, пыль… Летали самолетом мушкетеры. На убыль сказка шла и наседала быль… Летали Фрейндлих, Табаков и Дуров. Боярский жил - в седле, раскован и рисков. Являла Терехова перл кинокультуры, Венчая Звездный Кино-Гороскоп! Летели дни старательного лета. Гремел вверху Высоцковидный хрип: Знаток Дюмы, кина и пистолета, Хилькевич Юра в "мушкетерство" влип!Когда умру, то, Бога ради,
Когда умру, то, Бога ради, Мне надпишите на ограде: "МУЖчина. КИньщик. И акТЕР". А сокращенно: "МУЖ-КИ-ТЕР"!Перед вечерней съемкой мне польстила Рита Терехова, попросив продиктовать стишок: "Дай слова списать!"
Год спустя, в мае, на сцене Колонного зала в Москве праздновали День радио. К нему присовокупили и телевидение, и по этому случаю артист Юра Богатырев попросил меня придумать что-нибудь смешное про "Кинопанораму". Накануне Юра вел передачу, где четверо мушкетеров встречались в студии с чемпионами и чемпионками по фехтованию. Я исполнил Юрину просьбу, но перед праздником заболел и дома, по радио, слушал собственное сочинение в роскошном исполнении Ю.Богатырева, М.Боярского, Л.Гурченко и Н.Михалкова. Ночью позвонил Юра (один из самых интеллигентных актеров, не говоря уж о таланте художника) и благодарил и возмущался: руководство не разрешило со сцены объявлять имя автора "капустника"!
Из этого капустника - фрагмент на мотивы песен из фильмов "Я шагаю по Москве", "Карнавальная ночь" и "Три мушкетера":
Бывает так на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймешь.
А это просто ЧАС пришел: берешь, включаешь, ждешь…
Сверкнет улыбкой круглое лицо - ведущему* ура!
Мелькают кадры, за кольцом кольцо, ведет себя ведущий молодцом на кино-пано-ра…
И улыбка, без сомненья, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее самомнение развивается у нас!
Если вы с работы тянетесь устало
(дома - дел по горло и забот - гора), вспомните, включите
Рязанова Эльдара -
Как рукой усталость снимет
Кино-пано-ра…
Пора-пора-порадуемся на хороший фильм!
Спасибо, телевизор: просветил нас, простофиль!
По ки-по ки-по кинопанораме знает зритель, кому он прокричит:
Мерси, "Мосфильм!"
- А если студия Горького?
- Мерси, дет-Горе-фильм!
- А если в Киеве?
- Мерси, Довже!
- А если в Грузии?
- ТбилисЕ, мерси!
- А если в Азербайджане?
(И все хором) - Мерси, Баку!
Тогда же, год спустя, я вылетал из Киева в Таллин, где в Молодежном театре начинал работу как режиссер. Был конец лета. Сильные грозы задержали в портах десятки рейсов. В залах ожидания тысячи людей сидели, сердитые, на своих мешках и чемоданах. Провожавшие нас пытались навести справки. Настроение падало. Выхода, казалось, нет, кроме возвращения к друзьям, за стол… Я беспокоился за завтрашнюю первую репетицию. Друзья сказали: в аэропорту точная информация - только в зале депутатов Верховного Совета. Пробуем пройти - запрещено. Вдруг из окошка кассы нам машет женщина: "Вы - Атос?" И все пошло как в сказке (спасибо т.т. Дюма и Хилькевичу). К нам подскочил парень, он отвел нас в спецкоридор, нажал спецшифр на спецзамке, и мы с Галей оказались во Дворце Особого Отношения. Здесь, отделенные каменной стеной от шумного мира, просторно раскинулись залы с коврами, зеркалами и люстрами. Милая дежурная у пульта с множеством телефонов (прямая связь с Кремлем и всеми столицами СССР) призналась, что вчера смотрела первую серию, а сегодня вот дежурство, и посмотреть вторую - не удастся. Нас напоили чаем с "депутатскими" конфетами. Дежурная каждые десять минут давала информацию о возможном полете в Таллин. Дальше - три сцены.
Сцена первая. В пустой зал входит единственный депутат. Его помощник представляет нас друг другу. Маленький смуглый толстяк оказался министром лесной и деревообрабатывающей промышленности Узбекской ССР. Он угощал нас своим коньяком, а по телевизору уже пошла вторая серия. Мой авторитет возрастал. Я хамски поинтересовался, где в Узбекистане набрали столько лесов для его министерства. Он улыбнулся: "Но мы же вот смотрим кино и верим, что у нас есть мушкетеры?"
Сцена вторая. Милая дежурная посовещалась с начальством, и на ночь нас с Галей определили в шикарный номер, а на визитке стояло: "депутат А.Смехов" - очевидно, мне заодно присвоили имя Атоса.
Я бросился было за вещами, меня любезно остановили: "Не беспокойтесь, ваши вещи - наша забота. Отдыхайте, при первой же возможности вам позвонят и на машине подвезут к трапу". Как хорошо быть депутатом! И мы уснули, а в три утра нас разбудили: "Машина ждет, у вас есть двадцать минут, в Таллин уже позвонили, товарищи из Министерства культуры вас встречают".
Сцена третья. Самозванных депутатов подвезли к трапу. Поодаль толпились пассажиры. Измученные бесконечным ожиданием, с измятыми лицами и красными глазами, провожали они недобрыми взглядами двух странных депутатов: простенько одетых, без галстуков и габардинов, а в руках - два рюкзака. Провожающий усадил нас в пустой салон, удивился, что мы не в первом классе, и удалился, а "простой народ" повалил по билетам. За время полета мы успели позабыть о своем "депутатстве". Однако в аэропорту Таллина нам напомнили: попросили пассажиров не вставать со своих мест, разглядели нашу парочку и вывели первыми на сушу. Там усадили в автомобиль - без украинской любезности, по-эстонски сухо. Довезли, указали на общий зал с пассажирами, и мы влились в родную стихию.
Два года спустя после премьеры фильма я стал постоянным получателем писем. Поскольку в "киномоду" я вошел в возрасте сорока лет, головокружение мне не грозило. Два правила усвоил благодаря Вл. Высоцкому: читать каждое письмо и никогда не отвечать. Читать, ибо человек потратил на тебя эмоцию и часть своей души. Не отвечать, ибо в нашей больной стране почти не бывает цивилизованного уровня самооценки. Человек спрашивает: "Как Вы дошли до роли Атоса? Почему не Портос или Арамис? С Вашей классной внешностью гармонируется скорее Арамис"; или пишет: "Умоляю, ответьте мне"; или: "Пришлите, пожалуйста, автограф". Любой ответ может вызвать агрессивную реакцию адресата. У меня все-таки было два-три случая, от которых опытный Владимир предостерегал. В ответ на мой вежливо благодарный автограф немедленно пришла просьба ответить подробней на вопросы о семье и жизни. Затем прошел месяц ожидания моего письма, а дальше - пулеметная очередь все более "обвинительных" посланий: "Я думала, вы благородный, как Атос, а вы - как все…" - это самая скромная из обид.
Письма приходили и из так называемых братских стран. Например, помню приветствие девочки Снежаны из Софии:
Ты лети, лети письмо Прямо к Веня в окно. Если Веня будет спать, Разбуди ее читать.И дальше в таком же духе - про любовь к Атосу. А внизу подпись: Снежана такая-то, 10 лет.
Или стихи из другого письма:
Я вас люблю и день, и ночь и снова ночь и день. Но я ни разу не коснусь, Тебя, мой милый Вень!Было письмо из пионерского отряда имени Атоса: "Пришлите себя цветного, черно-белый вы у нас уже есть". Детские письма с фотографиями девочек или мальчиков в усах и при шпагах вспоминаются приятно. Через двадцать лет где-нибудь в Бостоне, Питере или Берлине после моего концерта может подойти солидная дама и сообщить: "А я не только воспитана на вашем фильме, но даже играла Атоса на школьном вечере и посылала вам свою фотографию".
И я спрошу: "Вы обижаетесь, что я тогда не ответил?"
В ответ обязательно: "Что вы! Все правильно! Как можно реагировать на детские завихрения!"
Три года спустя нас с М.Боярским пригласили выступить на вечере подобных "завихрений". Под Ленинградом, в Зеленогорске, во Дворце спорта трудились отряды юных "мушкетеров" и "гвардейцев", при полной амуниции, при шпагах, плащах и шляпах. Мы чуть-чуть рассказали о съемках, а потом каждый читал или пел, по отдельности.
Семь лет спустя. У меня концерты в Молдавии. В Дубоссарах на заборе близ Дома культуры с любопытством узнал о себе следующее: "Народный Атос республики Вениамин Смехов выступает с рассказами и с песнями из фильмов". Ни песен, ни слов о кино я им в благодарность не произнес, но подивился магической силе рекламы - народу собралось "выше крыши".
Десять лет спустя, в Париже. Недалеко от площади Nation, в гостях у близких друзей, Володи и Франсуаз. Выходим из дому и видим надпись на соседнем доме: "Д'Артаньян".
Володя говорит: "Это к твоему приезду, всего неделю назад открылся ресторанчик".
Факт не заслуживает особого внимания, поскольку для Парижа имя гасконца вполне привычное. Даже то не заслуживает внимания, что клиенты ресторана принадлежат к "сексуальным меньшинствам". Но интересное открылось чуть позже.
Спустя еще лет пять друг Володя повел нас с Галей во двор, что находится за стеной ресторана. Этим двором и этими доходными домами владел барон Геккерн, и после удаления из России здесь жил его приемный сын, убийца Пушкина Дантес.
Семнадцать лет спустя на концерте в городе Мюнхене ко мне подходили эмигранты-соотечественники. Хвалили "Таганку" и "Мушкетеров", обращались с привычными комплиментами.
Но самый неожиданный комплимент был получен от пожилой, ярко накрашенной и сильно экзальтированной дамы: "Боже мой! Я вас вижу! Вы же были кумиром моего детства!"
Народ засмеялся искренне, а я - задумчиво…
Девятнадцать лет спустя. Целый семестр читаю американцам-студентам курс актерского и режиссерского мастерства. Они за это время раскрепостились и повзрослели, а я - впал в детство, в свою студенческую молодость. Экзамен был театральным: собрали полный зал гостей, показали все упражнения с голосом, телом, с партнером, с публикой и сыграли сценки из Гоголя и Чехова. Потом у нас дома, прощаясь с курсом и друг с другом, загрустили. Писали мне в альбом сантименты в прозе и стихах - совсем забыли, что они американцы-прагматики-индивидуалисты, обрусели из-за игры в наш театр… И поздно ночью, со слезами выходя, вдруг вернулись в гостиную: кто-то принес видеофильм с участием их педагога. Включили, смотрят сцену из "Трех мушкетеров", где Атос готовится застрелить Миледи, потом бросается спасать Д'Артаньяна, стреляет в бокал в его руке, и друг не выпил отравы, и пошла драка, а потом скачка…
Сперва глаза студентов округлились, они серьезно подошли к игре в Атоса-Портоса-Арамиса, но потом поднялся смех, громче всяких норм, и угомонить их было нельзя. А я так и не понял, почему им стало весело. Может быть, угадали, из какого детства я "выпал", чтобы заразить этой чужой для них романтикой - "один за всех, и все за одного"?
А может быть, дело не в них, студентах, а в нас самих, сыгравших книгу А.Дюма на свой манер. Людям, воспитанным на западных фильмах и никогда не видевшим фильмов нашего "Востока", скорее всего, не понять ни феномена "Трех мушкетеров", ни причин успеха. Был у нас случай убедиться в этом.
Галя вела курс истории русского кино в летней русской школе в Миддлбери, штат Вермонт. Ее студенты смотрели по программе классику нашего кино от Эйзенштейна до Тарковского и Параджанова. А в конце лета состоялась моя лекция о разных направлениях театрального искусства в России. Директор школы Александр Воронцов-Дашков (и граф, и князь в одном лице) решил перед лекцией показать меня как актера в каком-нибудь фильме. Педагоги из России, естественно, предложили "Три мушкетера". Достали кассету и наугад запустили вторую серию.
Мы сели в последнем ряду. Смотреть было неуютно. Затылки американцев в темноте выразительно замерли, потом они задвигались, а потом затылки с их хозяевами стали покидать зал. О чем речь? После сильных фильмов прошлого и нынешнего времени, после собственных американских фильмов студентам наш сериал кажется в лучшем случае имитацией голливудских мюзиклов.
Двадцать лет спустя. Я в Праге ставлю "Пиковую даму" П.И.Чайковского. Солист Оперы, русский баритон Вишняков хвалится: "У меня "тарелка", и я ловлю наши программы. Вчера снова показали вашу милость на коне. Первая серия! Хотите посмотреть вторую?" Конечно, не хочу. Хочу поставить оперу, но когда поставил и вернулся домой, то на сцене московского Дома кино, в начале своего вечера, рассказал и про "Пиковую даму" в Праге, и про старую новость, показанную по первой программе:
Опять по ОРТ гоняют "мушкетеров".
Опять я на коне в компании славян, хотя из пеших, не из конных я актеров: меня старик Буденный не благословлял.
Мы двадцать лет назад скакали, не жалея ни пленки, ни Дюмы отца и мать.
Я славлю родину слонов и юбилеев.
Пора и мушкетеров "юбилять"!
Себе и лошадям не причиняя боли, спокоен нынче и вкушаю благодать: я ставлю оперу; чего же боле?
Что я смогу еще свалять?!
…Двадцать лет спустя. Мои "братья по оружию" без меня отмечали юбилей фильма. Об этом я слышал от родных из Москвы и от эмигрантов с "тарелками". Я пишу эти заметки, чтобы "отомстить" им. Так было и на съемках, если помните: они без меня были вместе, а я прилетал на день и один как бы общался со всей тройкой друзей.
Я пишу и мысленно общаюсь с каждым и со всеми троими - с Мишей, Валей и Игорем - Д'Артаньяном, Портосом и Арамисом. Моя мечта пока не сбылась - я советовал Боярскому найти хороший сценарий и снять самому о нас и с нами последнюю, остроумную, боевую и фантастическую, серию. Боярский перерыл всего Дюма, подготовил либретто, искал сценариста. Кто-то из спонсоров "второго сериала" нашел на фильм половину нужной суммы. Мне казалось, я договорился с идеальным сценаристом - с Леней Филатовым. Рассказал ему вкратце Мишину идею. Леня ждал, но второй половины суммы не нашли, и никто ему не позвонил. Всех разметало, разбросало по делам, по заботам. По детям, по семьям, по больницам, по невзгодам. По странам и континентам.
Но кажется - появится снова Д'Артаньян и с кличем: "Найти подвески королевы!" - объедет, обзвонит и соберет всех своих.
И все мы, словно гвозди к магниту, не веря глазам и ногам своим, мгновенно сойдемся, прилетим и прискачем!
И найдем злополучные подвески.
И отдадим их королеве.
И со всеми вместе споем:
Пора-пора-порадуемся на своем веку!
Красавице и кубку, счастливому клинку!
Пока-пока-покачивая перьями на шляпах,
Судьбе не раз шепнем: "Мерси боку!"
Если только найдется такая королева…
Что еще? За двадцать последних лет в России кухарки не расхотели руководить государством. А в 1978 году в Одессе, рядом с нами, снимался фильм "Место встречи изменить нельзя", и однажды Володя Высоцкий подговорил меня забрать режиссера фильма на день, чтобы самому снять какой-то эпизод. Володя рвался к режиссуре, и в тот день я ему помог. Я ездил по Одессе на новеньких "Жигулях" и давал хозяину автомобиля урок вождения. Слава Говорухин - так звали моего ученика - был вдвойне счастлив: во-первых, я терпеливо учил его за рулем, а во-вторых, он отдохнул от съемок и от неуемного Володи, которому хочется и сочинять, и петь, и играть, и ставить… Слава хорошо снял этот фильм, хорошо умеет водить машину, а теперь рвется руководить государством, хотя он не кухарка…
…Сегодня в стране не юбилейно и не весело. Если где и весело, то, конечно, в кадрах мушкетерского сериала: уже и танки прошли, и "поезд ушел", и "крыша проехала", а наши кони все скачут и скачут…
Давайте будем считать Д'Артаньяна ответственным за безрассудство, Арамиса - за тайные страсти, Портоса - за явное чревоугодие, а Атоса - тоже за что-нибудь, чему я названия еще не подобрал, но он мне все равно дороже всех. И для красного словца (а совсем не в упрек славному артисту В.Смирнитскому) я провозглашаю: Атос в России больше, чем Портос.
Двадцать один год спустя. Я пишу эти строки в перерывах между репетициями. Опера Верди называется "Фальстаф". Я ставлю ее в городе Любеке.
Старый рыцарь Джон Фальстаф сидит в таверне и пьет херес. Таверна называется "Орден Подвязки" (почти подвески). Иногда хочется, чтобы знаменитый баритон Марио ди Марко открыл рот и, пока-пока-покачивая перьями на своей шляпе, спел вместо Верди:
А что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи?.. Пора-пора-порадуемся на своем веку!Хорошие слова для последней строки.
"МАСТЕР И МАРГАРИТА" В СТРАНЕ ЧУДЕС
ТЕАТР НА ТАГАНКЕ В ЛАГЕРЕ ПОЛУСТРОГОГО РЕЖИМА
В 1967 году Ю.П.Любимов впервые подал заявку наверх: разрешите поставить "Мастера и Маргариту", роман напечатан, значит, "залитован". Ему ответили отказом и спустили указание думать над грядущим столетием В.И.Ленина. Любимов думал вместе с друзьями театра и спецами в политобласти. У него уже был почти готов план постановки спектакля "На все вопросы отвечает Ленин…" Это было время, когда с помощью Ленина боролись со Сталиным.
Любимова по поводу его охоты "ответить на все вопросы" при помощи Ильича грубо "урезал"… кто бы вы думали? Молотов, член Политбюро времен Сталина, правда, в чине старичка-пенсионера. Любимову было очень интересно побеседовать со злодеем-расстригой: дело было после спектакля "10 дней, которые потрясли мир", в 1970 году. Молотов скривился, услыхав название "На все вопросы отвечает Ленин", и высказался так: "На все вопросы даже Иисус Христос не может ответить!" Парадокс о безбожнике… Кстати о парадоксах и совпадениях: когда в тот вечер мы вышли на поклоны, зал, как всегда, бурно аплодировал. И, кажется, никто из публики не догадался, что за парочка сидит на директорских местах: 5 ряд, 23-24. И мало кто понял, кому это прекрасный комик Готлиб Ронинсон, в шинели генерала царской армии, так уважительно аплодирует и кланяется в пояс. У актера случилось легкое затмение памяти: он снова вернулся в какой-нибудь 1940 год, когда увидеть Молотова, Ворошилова, Калинина было невероятной удачей, а уж играть на сцене перед ними - счастье навсегда. А мы были из молодого поколения, поэтому за кулисами я изругал бедного Гошу. "Ну, просто забылся, братцы, - оправдывался Гоша. - Увидел вождя и забылся. Молотов в зале - это почти что Сталин, такое же чудо!" Мы презрительно и гневно фыркнули. А через много лет в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой я прочитал: "16 января 1940 года. Звонок Гоши Ронинсона - трогательное отношение к Мише…"
Парадоксы и совпадения: через тридцать семь лет после того звонка бесподобный Гоша Ронинсон, в роли Жоржа Бенгальского, конферансье в Варьете, звонко и уверенно бросает в зал булгаковский текст:
- Вот, граждане, мы с вами видели сейчас случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт…
Юрий Любимов обращался наверх несколько раз с просьбой о разрешении включить в план "Мастера и Маргариту". В том числе и накануне десятилетия театра. Не разрешили. Зато сам Любимов, накануне нашего первого юбилея, чудесным образом… приобщился к М.А.Булгакову. Это не шутка. Никто не верил, что Ю.П. вернется к актерской профессии. Но случай был уникальный: Анатолий Эфрос снял на телеэкране лучшую из своих картин - "Несколько слов о господине де Мольере" по М.Булгакову. Любимов сыграл Мольера, и великолепно. Как ответил на похвалы А.В.Эфрос: "А Юре ничего не надо было играть. Он что-то свое помнил - и текст сам собою получился…" Это значит: Мастер играл свою главную тему. Художник и власть. И это было первой встречей с Булгаковым.
Из дневника 1973 года.
Декабрьские беседы: бесповоротно прекрасное телеизделие Эфроса - Мольер, Булгаков во главе с непредвиденным Артистом Ю.Любимовым. Вот искусство режиссера - свое, ненапрокатное, со смазанной динамикой, медлительно вязким языком, поэтикой душевной грезы умершего художника. Любимов с пронзающим прожектором очей.
В 1976 году Ю.П.Любимову (упрямцу!) в очередной раз запрещают играть "Живого" и ставить "Самоубийцу". Обратите внимание на сочетание названий. Ни о жизни, ни о смерти нельзя. И вдруг - спасибо стране чудес - власти дают согласие на "Мастера и Маргариту"! Дают - с изысканно извращенной припиской: ставьте и играйте - но в порядке эксперимента, то есть без денег на декорации, музыку, костюмы и реквизит… Ставьте, а там посмотрим. Любимов даже не унизился до реакции. Разрешили!
Очень удачную инсценировку романа написал Владимир Дьячин, педагог и литератор, совместно с Юрием Петровичем. Я могу себе представить, о ком мечтал Любимов - в качестве автора пьесы! Ах, какое бы могло быть счастливое совпадение: роман Михаила Булгакова и пьеса по роману - Николая Эрдмана.
Как говаривал Коровьев: "Короче! Совсем коротко". В апреле 1977 года спектакль был готов. На генеральной репетиции торжественно толпились особо допущенные - как положено в театре. После этого - заседание художественного совета и выступления членов комиссии по наследию писателя. Сергей Ермолинский, Виталий Виленкин, Константин Симонов говорили коротко и ясно: одобрили. Известный представитель цензуры в Союзе писателей Феликс Кузнецов говорил много, туманно, и нас это стало пугать. Но вывод он сделал все же оптимистический и делу не повредил. Сдача спектакля Управлению культуры. Любимов был готов (к борьбе). Зал "Таганки". Вошли гости (цензоры). Спектакль сыгран. Ждем обязательного, всегдашнего: мнение наше, мол, и замечания - через неделю, на Неглинной, в Управлении культуры Моссовета. Ждем непременного: "Следующая сдача, после всех переделок, состоится…" Не состоится! Спектакль принят! Никаких сдач. Такого еще не бывало. Как сказала бы Елена Сергеевна: "Я не верю. Это штучки Воланда".
Премьера. До заката советской власти было далеко, печать отмолчалась, отзывы были только устными. Ну, конечно, и букетно-цветочными. И, конечно, хлопали в зале громко. Но громче хлопнул выстрел по радио: ночью премьеру горячо похвалили по "Голосу Америки" и по "Би-би-си". Кажется, за это Любимова даже одернули (в "верхах", как говорилось, хотя ниже быть не может).
РОМАН М.А.БУЛГАКОВА В "САМОЙ ЧИТАЮЩЕЙ СТРАНЕ"
Меня окружают добрые призраки давнего времени. Самый близкий к сюжету моих заметок - образ Августа Зиновьевича Вулиса. "Самый" - потому что именно ему мы обязаны первым выходом в свет романа. В начале 60-х годов А.Вулис опубликовал несколько страниц из "Мастера и Маргариты", снабдив их защитными научными рассуждениями об эпопеях и мениппеях в своей книге "Советский сатирический роман".
…В 1961 году в Куйбышеве я познакомился с главным психиатром области Яном Абрамовичем Вулисом. От Яна цепочка ведет к его двоюродному брату, филологу - профессору Ташкентского университета. Потом мы с ним встретились в Москве, потом он побывал на спектаклях "Таганки", потом написал рецензию на спектакль "Мастер и Маргарита". Поскольку ни одна рецензия света не увидела, я по дружбе забрал у Вулиса статью и развесил листы на сцене за кулисами.
Профессор Вулис был высок, сухопар, элегантен, черноволос и черноглаз, с густыми смоляными бровями. Живи он в пространстве эпилога "Мастера и Маргариты" - первым бы загремел по подозрению чекистов: и видом, и фамилией, и профессорством - вылитый Воланд. У Елены Сергеевны Ава пользовался большим кредитом доверия. Она говорила ему приблизительно так:
- Вот мы им всё будем давать, они будут всё печатать, а потом придем и скажем: "Вот вам роман, и все деньги заберите, но напечатайте!" Как вы думаете?
Нужна была поддержка, и ее нашел Вулис в лице человека, в котором молва угадывала приближенность к Сталину и всякие придворные советские склонности, но который при этом совершил массу смелых и честных поступков в самые свинские времена. Это был писатель и поэт Константин Симонов. Симонов схватил Вулиса и повез его к Анатолию Софронову. Вулис испугался, ибо в лице Софронова свинское время запечатлелось без метафор. Идея Симонова не удалась, хотя была почти гениальной. Софронов замыслил издание многотомника советской сатиры и где-то между собой и Михалковым мог бы поместить сатирический роман Булгакова. "Роман абсолютно талантливый и безвредный, правда?" - обратился К.Симонов к профессору. Тот кивнул. А Софронов, не вняв просьбе, указал на пустые бутылки (вчера - день рождения, жалко, без тебя, Костя) и на всюду разбросанные листы черновиков, вздохнул и пожаловался, не глядя на Вулиса: "Ведь ты-то меня понимаешь - все это никто, кроме меня, не напишет".
Потом главный редактор журнала "Москва", решившись напечатать роман, предложил поменять местами предисловие Вулиса и послесловие Симонова, и это было стратегически верно. Благородный редактор Поповкин расплатился за подвиг инфарктом и ранней смертью: покоя ему цензоры не давали. Публикация была изуродована купюрами - и объяснимыми, и глупейшими, - но главное было сделано, и джинн вышел из бутылки.
"Мастер и Маргарита" принадлежит перу драматурга. Каждая глава романа как будто сама просится на сцену. Загляните на любую страницу книги, и вы получите полную информацию: где кто сидит, куда и как передвигается, что у кого в руках, как выглядит площадка игры, какой задник, какие кулисы, какого цвета дома и деревья, какая при этом звучит музыка и как меняется освещение. И часто, очень часто: как ведет себя луна - один из древнейших спутников театральной декорации.
Как только роман был напечатан, все театры мечтали его поставить на сцене. Но это было запрещено. Сегодня "Мастера и Маргариту" играют во всем мире. В 1994 году нас с Галей пригласили в Чикаго в театр "Лукингласс", и мы давали советы и ответы на вопросы об авторе, о спектакле Ю.Любимова, о роли Воланда, о Маргарите и Елене Сергеевне, о Москве, о Понтии Пилате… Через год мы увидели премьеру. Эмигранты из России презрительно фыркали: "роман американцы не поняли", "на Таганке лучше было". Но успех был большой, а исполнитель Понтия Пилата Дэвид Швиммер вскоре стал кинозвездой - одним из героев сериала "Friends". Интересно, что в том же сезоне в одном Чикаго были сыграны еще две премьеры по той же книге. Один из спектаклей поставил наш москвич - режиссер Театра на Юго-Западе Валерий Белякович.
Парадоксы и совпадения. 2000 год. Звонок друзей из Лос-Анджелеса: только что вышел спектакль "Мастер и Маргарита", в новом переводе. Половина зрителей, конечно, из России. А половина этой половины уверена, что режиссер "все стянул у "Таганки".
- Правда, что в первой сцене скамейка стояла в центре? Правда, все сцены Пилата и Христа у вас играли где-то наверху? Правда, что Маргарита с Наташей голыми танцевали?
Все неправда, но приятно: значит, миф Булгакова в театральном изложении поддержан легендой о спектакле "Таганки". Ни один из этих эмигрантов, скорее всего, на Таганке не был.
- Ах, неправда? Вот и мне показалось, что как-то неэстетично скачет голая Маргарита. Нельзя же полчаса играть голой, наверное, я - консерватор, как вы думаете?
- Не знаю, но полагаю, что вчерашняя Маргарита не была красавицей?
- Да уродина, прости господи!
- А если бы она была красавицей…
- А, ну тогда бы - другое дело…
На Таганке с Маргаритой очень повезло. Нина Шацкая голой по сцене не бегала, да ей бы и не разрешили органы советской власти. Зато ее лицо - прекрасно, а обнаженная спина в сцене "Бал у Сатаны" действовала на воображение зрителей и украшала сцену великолепно.
Читая дневники, письма и мемуары Булгакова и о Булгакове, невозможно представить себе, как могла состояться эта рукопись… Затравленный, униженный властями и коллегами, задолго до смерти поставивший сам себе смертельный диагноз - как он мог написать роман-симфонию, роман-театр, роман-поэму? Откуда такая могучая раскованность духа, на две сотни листов продлившая пушкинское "Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю"! Это не романтическое восклицание, это реакция на прочитанное: слушатели первых глав, близкие, избранные друзья, выражали смущение, трепет, испуг и только потом - восхищение искусством. Очевидно, сам автор упростил бы поиск сверхъестественных причин своей стойкости: в названии романа - два лица, второе лицо и было спасением первого. Маргарита "вытягивала" Мастера. Это есть в мемуарах близких - о том, какой целительной силой обладала любовь Елены Сергеевны и ее неистовая вера в гениальность творения: "Дом их, словно назло всем враждебным стихиям, сиял счастьем и довольством!.. Хозяйка была энергична и безудержно легкомысленна. И жизнь перестала быть страшной" (С.Ермолинский. Из записей разных лет).
Один из двух актеров, исполнявших роль Мастера в спектакле на Таганке, - Леонид Филатов. Так совпало, что, ведя эти заметки, я навестил больного друга в санатории. Жена его, актриса Нина Шацкая, по срочной надобности выехала в Москву, а мы сидели и разговаривали, поглядывая за окно на яркую майскую зелень. Но все-таки… если бы слышала Елена Сергеевна Булгакова, что сказал Филатов о своей жене, о спасительнице - она бы узнала себя - в устах М.А. Много лет, изо дня в день, Нина живет с постоянной тревогой за мужа. В спектакле Театра на Таганке по роману Михаила Булгакова Нина исполняла роль Маргариты.
"Дом их, словно назло всем враждебным стихиям, сиял счастьем и довольством!.. Хозяйка была энергична и безудержно легкомысленна…"
СПЕКТАКЛЬ И РОЛЬ ВОЛАНДА. ДОРОГА К ПРОВАЛУ
Вернемся к началу работы над спектаклем. Получено разрешение - на "эксперимент", без копейки денег на постановку. Но разве нашего человека трудности пугают? Самое милое дело - выкручиваться вопреки дурным ожиданиям. И выкрутились.
Пьеса, повторяю, успешно соединила все линии романа.
Художник Давид Боровский хитроумно собрал на сцене элементы декораций наших известных спектаклей.
Композитор Эдисон Денисов помог Любимову создать музыкальное оформление, в основном из номеров, звучавших на нашей сцене: сочинений Д.Шостаковича, А.Шнитке, Л.Ноно, С.Прокофьева, Ю.Буцко и самого Денисова.
Костюмы, реквизит, бутафория - почти все было заимствовано с таганских складов.
Идею самоцитирования Юрий Петрович сформулировал так: великий роман Булгакова как повод отчитаться перед самими собой за пройденный путь Театра на Таганке. В романе, мол, заключен целый мир, где есть и Россия, и революция, и Ершалаим, история человечества, добро и зло, искусство, любовь и т. д. Каким ключом открыть этот мир, чтобы театр не иллюстрировал прозу и не уничтожил ее ценности? Мы, слава богу, имеем приличный опыт работы в разных жанрах - от классики до современности, мы испробовали действенность своего театрального метода. Как это ни парадоксально, хотя Булгаков работал во МХАТе и не понимал успеха Мейерхольда, но стиль его "Мастера" - смелая, вольная игра фантазии, перебросы действия из эпохи в эпоху, и сама центральная сцена в варьете - все это ко мхатовскому реализму не имеет никакого отношения. Кроме того, если все время помнить о "Театральном романе", то этот ориентир не даст нам сбиться в сторону натурализма, он возбуждает энергию театральной клоунады, карнавала, праздника…
Три главных элемента декорации: занавес из "Гамлета", маятник из "Часа пик" и золотая рама из "Тартюфа". Гигантский занавес - самоходное "крыло судьбы" из грубой вязаной шерсти - управляется невидимой командой техников. Он то свободно плывет; то стремительно несется от стенки - к авансцене, от левого портала - к правому; то замирает в любом положении; то крутится вокруг своей оси; то перекрывает сцену, когда подлетает вперед.
Всем чудесам и превращениям романа Любимов нашел театральные эквиваленты. Примеры: полет Маргариты, варьете, бал у сатаны, Ершалаим. В центре авансцены - металлическая балка с циферблатом, маятник. Маргарита раскачивается из глубины сцены - в зал, с криком "Полет! полет! ай да крем!" взлетает над первыми рядами; перемена света, актриса оказывается на высоте одного метра над сценой, она ухватилась за край занавеса, симметрично ей на дальнем краю так же держится Наташка, домработница. Бегемот и Азазелло раскручивают занавес. Специальный световой прибор создает яркое мелькание лучей. Музыка хорошо помогает создавать чувство полета. Актрисы визжат от "ведьминского" восторга. Сцена готова. Вдруг Маргарита кричит: "Стоп!" Замерла гигантская карусель занавеса. "Что это? Драмлит?!" - и героиня узнает дом, где живут мучители Мастера. "Латунский! Латунский! Это он погубил Мастера…" Актриса хищно изготавливается к дикому прыжку. Бегемот отводит край занавеса назад и резко швыряет его на зал - стоп, звук разбитого стекла. Еще рывок назад. Кричит Маргарита. Орет Наташка вдали. Снова удар, громко звенят осколки. Чудо театра: все явно скроено из условных, "неопасных" элементов, но чувство утоленной ярости, грозной расплаты и страшного риска - мощнее и реальнее, чем если бы это было снято в кино "в натуральную величину". Эффект вашего присутствия, энергия радости и мести героини - все здесь делает вас соучастником "преступления ведьмы".
Варьете. Возбужденно скачет вдоль авансцены конферансье Бенгальский (Гоша Ронинсон). Он объявляет номер Воланда "с сеансом черной магии" и призывает зрителя поверить, что "маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса… а так как мы все как один за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!". Но вместо техники начинается сеанс сплошной чертовщины. Масса голых женских ножек выделывает канкан (все торсы скрыты занавесом). Безголовый танец переходит в сладострастную пантомиму голой Геллы, ноги за спиной которой выделывают немыслимые кренделя, а потом отделяются от Геллы и вырастают… в фигуру Коровьева. Яркий свет обнаруживает в центре сцены, перед занавесом, всю команду с Воландом во главе. "Кресло мне!" - приказал мессир, и ему Бегемот услужливо подставил кубик (из спектакля "Послушайте!") с перевернутой буквой "Л". Вышло - начальная буква имени Сатаны. На кубике воссел маг и резко спиной откинулся к роялю, взяв локтями мощный аккорд. Коровьев уложил мяукающего кота и лихо пробил ему череп огромным гвоздем. "Ап!" - прикрикнул регент, и Бегемот вскочил, кланяясь пробитой головой с торчащими в обе стороны хвостами гвоздя. Затем - простенький фокус с перебросом колоды карт друг другу, затем - колода таинственно возникает в зале у одного из зрителей, в котором Коровьев немедленно узнает алиментщика и картежника Парчевского. Затем колода оказалась червонцами. Затем Коровьев, исполняя заказ другого "зрителя", вскрикнул "Эйн, цвейн, дрей!" - и на зрительный зал падает с неба масса… нет, не червонцев, как у Булгакова, а контрамарок Театра на Таганке. Чертовщина из книжной становится местной. И уже вся публика превращается в массу заинтересованных лиц. Бумажки хватают, за ними подскакивают, толкая друг друга, а Коровьев подзадоривает: мол, бумажки с печатью - это бесплатные места на наши представления! Достать к нам билеты в те годы было невозможно. Масса хохочет, в дверь заглядывает дежурный администратор (не артист) и косноязычно заверяет зал в подлинности билетов. Масса в восторге. Бенгальский, теряющий власть и голову, призывает зрителей к порядку, а Воланда - разоблачить опыт с этим "массовым гипнозом". Кажется, уже сама собой стерлась граница между залом и сценой: зрители ведут себя "как по писаному":
"Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве… Публике речь Бенгальского не понравилась".
Тогда Коровьев-Фагот (артист Иван Дыховичный) просит зал разобраться с неприятным конферансье.
- Голову ему оторвать! - сказал кто-то сурово…
- Ась? Это идея! Бегемот! Делай! Эйн, цвейн, дрей!!
Крупный кот (артист Ю.Смирнов) в черной плюшевой куртейке, в теплых варежках на тесемочке и в толстых шерстяных носках пошел на Бенгальского. Тот попятился, наткнулся спиной на косяк портала и попал в лапы Бегемоту. Свет мигает. Музыка играет. Голова летит через всю авансцену. Коровьев поймал голову и допросил ее. Над залом, усиленный микрофоном, рыдает голос конферансье: "Не буду больше!"
Тогда из зала раздаются всхлипы и крики: "Простить! Простить!" Шутки внезапно обрываются, Коровьев склоняется к Воланду: "Как прикажете, мессир?" Яркий луч сверху, яркий луч снизу (из-под решетки светового колодца)…и в мертвой тишине Воланд оценивает поведение массы в московском зале:
- Ну что же, они - люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних… - И громко приказал: - Наденьте голову.
Голова перелетает в обратную сторону и водружается на плечи Бенгальского. Веселое настроение вернулось к погрустневшим зрителям. Коровьев вовлекает зал в последнюю игру, "открывая дамский магазин" с бесплатными дарами лучших фирм мира (их по радио выкрикивает голос самого Ю.П.Любимова - из спектакля "Час пик"). Ручеек зрителей перетек на сцену и скрылся за занавесом. Затем, поощряемые Геллой, Бегемотом, Фаготом и Азазелло, разодетые дамы спускаются к публике. И пока клоуны разбирались с клиентом неженского пола (у него жена заболела, видите ли, он и документ за нее предъявил), раздался страшный визг. Неизвестно как снова очутившись за занавесом, дамочки обнаружили свое полное неглиже. И с дикими воплями, прикрывая кто что может, растворились в массе публики. Сеанс окончен? Нет, важное лицо в партере поднялось и потребовало разоблачения фокусов, потому что "зрительская масса требует объяснения". Коровьев немедленно опознал в важном лице А.А.Семплеярова, председателя Акустической комиссии московских театров (а зрители, втянутые в нашу чертовщину, опознали в нем сходство с обезглавленным Берлиозом). Коровьев обещает "разоблачение" и, резко изменив тон, допрашивает чиновника о месте его пребывания вчера вечером. Вскинулась гневная жена, уверенная, что муж вчера был на заседании. Коровьев ей по секрету (в зале затаили дыхание) - и в то же время по микрофону - сообщил правду об артистке Покобатько, у которой четыре часа прозаседало важное лицо. За это оно (лицо) немедленно получило по голове лиловым зонтиком - но не от жены, а от хорошенькой родственницы. Шум, крик, свистки, вызов милиции…
- Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш! - рявкнул Бегемот.
Сцены Ершалаима. На Патриарших прудах, то есть на переднем плане пустого пространства сцены, где Берлиоз - Воланд - Бездомный восседали на своих кубиках "Х-V-В" (воландовское "V" буквально втерлось между пасхальной аббревиатурой "ХВ"), завершалась первая часть беседы… "Иисус существовал", - устало сообщил Воланд и, игнорируя возражения обреченного редактора, уперся взором вдаль:
- Все просто: в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана…
Пока длится знаменитая фраза, свет медленно гаснет на сцене и проявляется, как в фотографии, картина в правом углу. Звучит музыка библейских эпизодов. В крупной золотой раме, под парчовыми золотыми портьерами - Понтий Пилат (артист Виталий Шаповалов). В этой раме, в спектакле "Тартюф", сидела очень эффектная кукла короля Людовика, к которой Мольер-Оргон обращался за милостью, а кукла то кивала, то махала рукой - в знак согласия.
Библейские сцены Ю.Любимов с художником Д.Боровским решили просто: Пилат сидит в раме, а его собеседники от дальней стенки двигаются к нему и уходят - туда, откуда явились: Иешуа, Каифа, Афраний, Левий Матвей. Занавес плотно примыкает к правому порталу, и можно вообразить за спиной прокуратора бесконечный коридор, ограниченный махиной занавеса.
Важную роль в соединении Москвы с Ершалаимом, как и романа с пьесой, сыграл образ "от Автора". Он бесшумно и скромно появлялся то слева (Москва), то справа, у Пилата, вел записи на пергаменте, как секретарь игемона, либо комментировал события в московских сценах, либо подыгрывал чертовщине коровьевских штучек, с микрофоном в руке, на трибуне слева (трибуна заимствована из спектакля "Живой"). Роль "от Автора" тактично, музыкально и точно исполнил Виктор Семенов. Иногда строгость библейских эпизодов нарушалась: в прологе из-за дальнего края примкнутого занавеса выходила красавица Низа и манила за собой - по диагонали к середине пустой сцены - влюбленного Иуду, а двое людей в черных плащах убивали предателя. Вспыхивала и гасла сцена с упавшим Иудой и большим деревянным, несколько неправильной формы, крестом на задней стене. Стена из белого крашеного кирпича, и на ней, во всю ширину, высоту и длину, сложенные крест-накрест две балки мореного старого дерева. Когда впервые Боровский прикрепил их к стене для спектакля "Гамлет", мне казалось, что эти две и еще несколько таких же древних щитов по всем вертикальным поверхностям сцены - это фрагменты того корабля, на котором Гамлета сопровождают в Англию его "смертельные друзья" Розенкранц и Гильденстерн. Так что золотая рама, пустая сцена и крест - вот и вся декорация. После шумных живописных эпизодов Москвы очень впечатляет такой контраст цвета, света, графики и классического покоя. И другое "нарушение" библейской статики - сцена казни. На четырех крюках задней стены висят трое преступников и Га-Ноцри. После того как Пилат бросает в зал свой приговор - "Имя того, кого сейчас при вас отпустят на свободу… Вар-равван!" - толпа жителей, стеная и вопя, прорывается справа налево, колотя в отчаянии по занавесу, который медленно отступает, ведя толпу за собой.
Великий бал у сатаны. Эту большую главу режиссер превратил в отдельную "пьесу в пьесе". Как только Воланд, ведя в торжественном полонезе Маргариту, крикнул "Пора!" - все завертелось на сцене. Занавес отплыл назад, гроб, на котором до и после бала должен сидеть мессир "в квартире № 50" и похлопывать старое дерево под собой, приговаривая: "Я люблю сидеть низко", - гроб этот водружался вертикально в центре и становился осью бального вращения. Из этой "кабины" выходил дирижер (Иоганн Штраус, натурально) и следовал указаниям Фагота-Коровьева. Под звуки сатанинского вальса размашисто двигались и гости со свечами, и сам занавес. От танцующей массы отделялись те, кого выкликал Коровьев, бросались к Маргарите и припадали губами к ее королевскому колену. Маргарита была усажена на очень эффектный трон: мощное гладко спиленное полено; под ее левую и правую руки свита вбивала по топору. Топоры и "лобное место" были взяты из спектакля "Пугачев". А где же быть сатане? А сатана открывался за парчовой портьерой в золотой раме, на месте Понтия Пилата. Помню, кто-то из театралов усомнился - стоит ли использовать раму для Воланда и ломать картину библейских сцен? На что был дан толковый ответ: а чей вообще это бал? Эпиграф-то романа откуда? Из гётевского "Фауста". А оперу "Фауст" Булгаков, по свидетельству сестер, слушал 141 раз! Кто же не помнит этого "режиссерского указания" композитора Гуно: "Сатана там правит бал"? Вот Воланд и сидел, перебросив через плечо кровавую мантию, и правил - то есть наблюдал.
- Дорогой мой! Я открою вам тайну: я вовсе не артист, а просто мне хотелось повидать москвичей в массе, а удобнее всего это было сделать в театре. Ну вот моя свита… и устроила этот сеанс, я же лишь сидел и смотрел на москвичей…
…Перед тем как рассказать о роли Воланда и о дороге к ней, я еще раз отвлекусь. Не зря Михаил Афанасьевич так часто прибегает к слову "массы"… не зря лишает головы - и в прямом, и в переносном смысле - "зрительную массу" в варьете. И в его время, и в наше время иметь голову на плечах означало - выделяться, солировать, "высовываться" - из массы.
А совпадение в том, что сильнее всего (и опаснее для жизни автора) тема "народных масс" была выражена другом М.А.Николаем Эрдманом в его "Самоубийце". И Ю.П.Любимов, работая с материалом Булгакова, имел, конечно, в виду репризу Эрдмана. В "Самоубийце", в сцене проводов героя на тот свет, представители "бывшего" племени пристают к гордому "пролетарию" Егорушке: выпей, мол, рюмочку. Егор отвергает выпивку, поскольку при социализме вина не будет. Его просят тогда - всего одну, за дам. А он: "При социализме и дам не будет". Все ахают: как же быть человеку? "А при социализме и человека не будет", - отвечает Егор.
- Как не будет? А что же будет?
- Массы, массы и массы. Огромная масса масс…
А теперь - как шла дорога к роли.
Из дневника 1974 года.
21 декабря. Второе десятилетие театра. Азарт с проседью. Климат индивидуализма, послушания и медоречивого патриотизма. Но - это лишь черные мысли момента. Явная надежда на мужицкую здравость рассудка и верность Любимова старым добрым идеалам: и Кузькину, и Булгакову, и Эрдману, и Аису*, и Некрасу**, и Брехту, Крейче, Мейерхольду…
30 декабря. Иду на читку. "Мастера и Маргариты". Читка не состоялась, ибо не состоялось физсостояние Любимова. Но труппу (было сорок девять актеров и примерно двадцать начальства и цехов) встретил стол буквой "П", шампань, бутики энд пирожные плюс чай. Но главное - СОБРАНИЕ. Давайте выясним отношения. То, что в кулуарах! Чушь, обреченная. Так и вышло. Сначала долго якобы вдумчиво объяснялся Ю.П. За творчество, за "элементарную дисциплину" и больше всего - за шкодиных. О том, что только плохо организованное производство нуждается в подвиге. О необходимости поисков и разумного использования талантов и т. д.
Потом - все в нерве-крике. Формулировочный Филатов: а мне наплевать на ваши заботы, Дупак, почему каждый индивидуум не обеспечен вашими гарантиями? Крик Славиной: во спасение духа кроткой святости. Мимо! Пыльнова, Шацкая, другие - молчи, Зинка! У тебя роли, тебе легко и т. д. В бедламе - Гоша Ронинсон: вы, Ю.П., задаете последнее время сами тон грубости и неуважения. Почему я одиннадцать лет должен выслушивать попреки насчет одних и тех же фамилий? Перебивает Любимов, наивно путаясь в дипломатии председательства, деленной на желчь спорщика и самоутвердителя.
По домам. И вышло так, что никакой логики в театре нет. Зарплатные, загрузочные, кино - отхожие, этические и прочие дела расшибаются о специфику, фатально обречены. Торжествует агностицизм и божественное. Пометит тебя Некто (Удача, Бог, Случай) - и не надо объяснений - попрешь по ролям, по званиям, по славе, по загрузке. Не пометит - изноешься и, ничего не поняв и никому не отомстив, - загнешься.
И права вышла… Зинаида, шебутная, неправедная, но - она взывала к необъяснимой общности, к пятым и шестым чувствам родства, солюбви к делу, к творцу и друг к другу.
Так неужто сгинула та сила добра и чутья? Главное, чутья?!
В 1975 году я получил роль Воланда и, когда читал за кулисами приказ Ю.П.Любимова, глазам своим не верил. Мечтать боялся - так был убежден в любимовской нелюбви ко мне.
Из дневника 1975 года.
19 января. Любимов - в Италии, гуляем. Собственно, без разницы. Вывешены два распределения - на Гоголя (заняты чел. 38) и на Мастера (тоже не меньше). Я обеспечен перспектом. В Гоголе - литератор из "Разъезда" плюс Плюшкин, а в Мастере - ВОЛАНД(!!!!) втроем с Вилькиным (он же режиссер при Ю.П.) и Соболевым.
А пока я стою, перечитываю приказ и чуть не плачу от счастья. Назначается день первой читки. В зале так называемого "зрительского буфета" рассаживается вся команда будущего спектакля.
Любимов собирает труппу, читает пьесу "Мастер и Маргарита", представляет нам своего соавтора, учителя литературы В.Дьячина. В воздухе пахнет грозой. Наверное, его замучили начальники, они уже десять лет запрещают работу над романом. А может быть, раздражают актеры, легкомысленные и невежественные спутники его "крестного пути". Лучше режиссеру даются монологи Понтия Пилата. Очевидно, помогает сходство: игемон у Булгакова стиснут между римской властью, народной массой и порывами спасти Иешуа Га-Ноцри. Юрий Любимов зажат между кремлевской властью и порывом к вольному искусству. Обсуждение пьесы. Всё как всегда. Глупые слова сверхвосторгов, робкие замечания с ответным окриком типа: "Надо уровень свой повышать, в книжки умные заглядывать, а не советы давать…" На мои сомнения, нужны ли два персонажа "от Автора" - резкое возражение: "Нужны! Спасибо за предложение! Будут два!"
Из дневника 1975 года.
6 января. Читка "Мастера и Маргариты". Нелюбезное утро, слякоть и снег. Я в театре. Звонки туда-сюда. Читка. Яростный шеф. Через губу с ничтожным уважением к труппе - скопищу эгоистов, невежд и прочия недостатки, обнаруженные его чутьем и его сыном, поодаль с другом расположившимися. Начхать на них, живите как знаете, но то, что вползли в атмосферу мизантропия и дисгармония, неблагодарная нелюбовь к актерам и самовозвеличка - вот что есть кошмар текущего момента. Не дочитав - а читал Ю.П. скверно, на одной краске Пилата с немногими вдруг рассветами актерства и попадания - ушел в 14.45 в управление.
7 января. Рождество Христово. 10 утра. Дочитка "Мастера". Запретили спектакль "Пристегните ремни". Управление предъявило тыщу глупостей. Послано выше. Эх. Конец инсценировки, переплетение трезвучия Булгакова - чище и лучше.
Инсценировка и сегодня кажется очень удачной. Собрать в одно целое такую книгу, чтобы сыграть ее за три с половиной часа, - да так собрать, что все сложные линии романа сохранились! Ю.П. очень хвалил В.Дьячина - интеллигентного, тихого книжника из Сибири. Когда случился распад "Таганки" и Любимов оказался в эмиграции, мы узнали о трагической гибели в автокатастрофе сочинителя пьесы "Мастер и Маргарита". А когда в 1988 году мы с Галей выехали за рубеж, впервые после андропо-черненковских времен, в Германии я увидал книгу: пьеса по роману Булгакова, автор Ю.Любимов. Не думаю, что память подвела Ю.П., скорее всего, были какие-нибудь уважительные причины.
…Юрий Петрович рассказывает и показывает - все о замысле и об "эксперименте" работать без бюджета. Затем - читка по ролям. По правилам нашего театра, читке уделяется самое короткое время: услышать за столом весь текст, договориться о стиле спектакля, разобраться в логике характеров и речевого действия - и на сцену.
Я любил этот короткий энергичный период застолья. Нравилось слышать, как впервые оживают и меняются сцены, уже сложившиеся особым образом в моем читательском воображении. С ролью Воланда сразу же попал в двоякое положение. Произносить текст было наслаждением, но именно это вызывало протест режиссера. Читатель во мне никак не хотел уступить место актеру.
Покатились репетиции. Дальнейшее строительство спектакля было счастливым и безоблачным - в сравнении с грозовыми раскатами первого дня. Каждый следующий эпизод ищется в комплексе всех театральных атрибутов: как играть актеру, как работать осветителю, как звучать музыке, где быть реквизиту, декорации и т. д. Любви к роли Воланда у меня не убавилось, но расстояние между мной и успехом катастрофически удлинялось. Сам себе повредил в начале работы, когда улетел на съемки в Свердловск, а репетиции на сцене были объявлены вдруг - и без меня. На Западе такого не бывает, а у нас жаловаться некому: сидел бы в Москве, узнал бы, что завтра, вместо того-то и того-то, всем участникам сцены "На Патриарших прудах" следует явиться к десяти утра. Вернулся домой, пришел в театр - батюшки, уже полсцены разобрали. Стоят два кубика "Х" и "В", на них беседуют Берлиоз с Бездомным, справа, как бы в окошке - торговля напитками, слева - "от Автора", из глубины сцены шествует элегантный, чернобородый, весь в черной коже Воланд - Хмельницкий. Любимов заменил Соболева на Хмельницкого. В сцене на Патриарших прудах он мне очень нравится. Неизвестно, как надо играть сатану. Перенести на сцену точно так, как его описал Булгаков, невозможно. И вообще, книга - для чтения, сцена - для обозрения. Но длинный, худющий, в черной коже с ног до головы и с голой грудью - этот Воланд казался эффектным.
Любимов через спину кидает: "Смехов явился? Ему бы сидеть и смотреть, а не по киношкам дешевой славы искать". Думаю, прав учитель, такой шанс два раза в жизни не выпадает. Упустил я своего Воланда - эка хорошо ребята играют… Но репетиции - дело долгое, и мало-помалу я вылезал на сцену, по-своему повторял найденный рисунок роли. Когда дело пошло, когда все элементы театра заработали на Булгакова, настроение у всех поднялось. В московских сценах рождались, как полагается в искусстве, "гениальные находки", складывался оригинальный и театральный мир московской чертовщины. У меня в дневнике сплошные знаки изумления: через двенадцать лет, пройдя столько ступеней удач и переживаний, став потихоньку героем шаржей и капустников в качестве "вождя народов" - Ю.П. превратился в того вахтанговца 60-х годов, кто буквально обворожил и актеров, и зрителей. Он вел репетиции без жесткого напора, с радостью принимал предложения, проверял их, отменял или фиксировал, но никого не ругал! Не грубил! И мы плескались в нежных руках, как в теплом молоке… А может быть, причина в нас? Может, и мы, актеры, работали, наконец, в полную силу, были точны и хватали с лету замечания режиссера? Словом, над нами витал и осенял таганскую сцену дух М.А. и его героев… А может, это были "штучки Воланда"? "Роман летел к концу"…
Из дневника 1976-1977 годов.
24 мая. На Таганке: сцена - Гоголь ("Ревизская сказка"), в буфете - Булгаков, режиссер Вилькин. С 10 утра - Булгаков, дрожу от сладострастия к тексту Воланда. Великие слова, великий писатель. Вилькин - репетитор, свысока разминающий, все знающий. "Веня, здесь надо дать прокол"…Кого? Гм… Ну-с, радость говорения Воландом налицо. Затем сцена, Любимов, Альфред Шнитке и мытарства на месте, топтанье возле первых 15 минут спектакля. Ладно, профессия - надо же пережить.
25 мая. 10 утра - Булгаков. Воланд-аюсь через усталого маэстро Вилькина - с Берлиозами - Сабининым и Штейнрайхом и с Бездомными - Золотухиным и Высоцким. - Звонки - лечу с лестницы на сцену. Гоголь… литератор.
29 мая. 10 утра. Гоголь, Шнитке, Любимов, шинели. Наверх в буфет! Там Вилькин, Сабинин, некто Лебедев (за Высоцкого) и Штейнрайх. А я - Воланд. И Хмель - присматривает. Меня хвалят, зачем? Цель далека, размыта. Я просто счастлив приобщаться, таять в объятьях текста. Не надо хвалить, дайте надежду - сыграть Воланда - хоть когда, я оч-чень постараюсь.
31 мая. Последний день весны. И дождь, и тепло. Репете. Уже живее - Воланд с Берлиозом, Вилькин хвалит и брюзжит. Это сами себе режиссеры, утомленные властолюбцы, надменцы с обязательным присутствием таланта, а Фоменко - Моцарт, Любимов - Моцарт, всё, что делают, - в сцену, в Бога, в мать, а себе - потом, а эти - сразу, с первых секунд - себе.
12 октября. Мы за границей. Кого-то возят на теле, Володя с Мариной в Интер Владинентале, кто-то курит, кого-то фотографируют, а я в Россию, домой хочу - и Воланда сыграть.
9 декабря. 10 утра - "Тартюф", репетируем без шефа же. Балуемся, но что-то ничаво себе. Метнулся на мал. сцену - "Мастер и Марго" с реж. Вилькиным. Хмель глубоко мыслит в предлагаемых Воланду обстоятельствах. Я-таки вырвал момент и прошел первую сцену, вспомнил, утешился. Волшебник Булгаков. Бездна соблазнов. Сабинин удачно ищет Берлиоза через Белинского Сашу.
14 декабря. 10 утра. Театр. Я прошлялся, проснимался, а тут новости… Любимов на два дня дав Гоголю строиться, хотел коснуться Булгакова, вывел на сцену… и увяз, увлекся, увдохновился. Почти час готов, неделя горячих репетушек, Воланд - Хмель, экстерьерен и самовлюблен. Но серьезен, молодец. Гениально и смешно у Дыховичного - Коровьева, у Сабинина-Берлиоза… Жаль, что отстал от Воланда. Хмель с тростью и бородою - копия черт. Ю.П.: "Вениамин, нельзя так театр держать в напряжении…" Не удалось ему воспарить, я ответил.
17 декабря. 10 ч. Любимов выводит на сцену "другой" состав. Высоцкий - Бездомный, Штейнрайх - Берлиоз, Коровьев - Подколзин, Пилат - Пороховщиков, а не Шопен. Ощупью полчаса поискали. Я неуверен, Володя якобы самоуверен, но брыкается и не найден. Лечу домой, все же рад, что побыл при Булгакове.
18 декабря. 16-го - полчаса в "Мастере", неуверенно, 17-го весь день репетуем с Высоцким, чего-то стронулось. Рад, доволен, хочу, люблю. Сегодня - не мы, гляжу в зале.
20 декабря. Репетую. Зря Любимов перемрачняет в Воланде то, что Булгакову слышалось "привзвизгиваньем". Но - работа впереди. Прелестно, что маэстро увлекся всерьез. Гоняем первый акт туды-сюды. Пришел Можаев. Стоп, прогоним!
26 декабря. Миновали католические рождества, наступили православные холода. 11 утра, репетиция "Мастера" в парткоме. Мебель Эрдмана - вольтеровское кресло, диваны, креслица*, Любимов торопит финал Булгакова. Читаю сцену с Лиходеевым и Никанором Иванычем. Разобрали без особых трюизмов. Уверенно читал Хмель, я пока вполголосю. Когда отвердею и засерпантинюсь - неизвестно.
13 января. Кайф, лайф. Читаю Канта - "Доказательство бытия Божия" и пр. Воланд точит, колет, свербит. Гульба.
17 января. Репетировал Воланда. Ю.П. мирно-свой.
18 января. Утро. Булгаков. В зале А.М.Володин. Почеломкались. Он визжит от радости за "Мастера". Из театра лечу на "Мосфильм" и еле нашел путь. Пропуска нет, есть Отар Иоселиани. Едем в "Метрополь", ж/д билеты, вспять, "Мосфильм", его пропуск. Тонателье. Борис Венгеровский - звукорежиссер кинофильма "Пастораль". Кажется, блеск. Естество, ничего влобного, климат и печаль, юмор и музыка. Стараюсь попасть в тон. Вроде довольны. Буфет, черепное давление Отара. Пьянству… бой. Работа до… 0 час. Под звуки гимна вышли на улицу.
20 января. 23 градуса мороза. Театр. "Мастер". Прогон сделанного. Куча людей в зале, злюсь, зажимаюсь. Володин, Гутьеррес, Ситников и незнакомцы. Ю.П. в конце: "Много было верного. Хорошо сказал: "Я один, я всегда один". Пожалуй, мне надо где-то злость подключать… Володин: "Очень хорошо. Ну, оттого, что ты попросил глядеть пристально - перед репетицией… Знаешь, захотелось услышать живую интонацию, заинтересованность, насчет Берлиоза и Бога… а так очень…" Гм, гм… Плохо дело.
27 января. Барахло настроение. Мучает Воланд. Хмеля очередь.
29, 30, 31 января, 1 февраля. Беготня. Еле поспеваю мучиться ролью ВОЛАНДА… Несколько ублагополучилось с Ю.П. Худ. уровень. Федор Абрамов, приехав на сотых "Коней", - сел на репете "Мастера" и оглушил aprPs восторгами: "Веня, мы потрясены… Вы так глубоко, так верно берете - это невероятный характер… Молодец…" Тьфу, тьфу, тьфу…
3 февраля. День высокой успеваемости. Репетиция. Хмель. Я слежу, но и бегаю звонить.
4 февраля. Прекрасные Гердт и Таня. Чмок-чмок, репетиция. Туго, но славно - бал у сатаны - крадемся по великой прозе. То броском, то ползком.
6 февраля. Тоска по роли Воланда…
7 февраля. С утра читаю "Мастера", легкий ожог правого глаза (заставил Ю.П. ходить с "бебиком"* в 100% света за занавесом)…
С 8 по 12 февраля. Дотыркались в "Мастере" до "Всесилен!" - финал второго акта и кульмиНаитие чтения рукописи… Кажись, чуть успокоился, ищу опор вовне, в партнерах и т. д., является старое позабытое чувство важности и серьеза происходящего с тобой.
С 13 по 18 февраля. Бурный поток. Летаю, скачу, скольжу, недосыпаю. Что-то уже складывается. Нервирует любимовская небрежность к артистам, перебор сальных глупостей, плоский юмор, но когда он зажигает на пульте лампочку и сам показывает Воланда - все железно. И хорошо! Скрепя печень, иду вперед. Через день - я и Хмель. Еще зубрит Сева Соболев. Я никого не боюсь; и если не сподличает вероломщик шеф - дотяну сию роль.
19 февраля. 9.50 - одеваюсь. Шик-костюм, бархатный нашейник с брошью. Голое тело. Любимов одобрил. Еще кож. пальто. И цилиндр. Обрезанье носков - как бы на босу ногу. Сбор гостей. Максакова с Улею, Целиковская - моя и всееврейская поклонница. Делюсины. Еремин. Карякин. Ильина. Денисов. И куча людей. Юля Хрущева. Первый гранд-прогон двух актов "Мастера". Чрезвычайно озабочен, взнервлен, очень хочу прорваться.
10.20 - поехали. Плоды волнения в смеси с кой-каким опытом и знанием Воланда. И вдруг покойные (сам удивлен) тона, всех вижу, тихо глаголю. Что-то принимается. Всеобщее волнение. Рванулась Славина в Азазелло. Взаимозаботы и вспомоществование.
1 час 15 мин. - антракт. Наисильнейше обрадовала Ира Рудакова - секретарь, интель и эфросительница: "Вы очень хорошо сегодня играете. Есть какая-то высшая свобода - знание незнаемого и власть над живыми…" Кое-кто еще одобрил. Уверен в сценичности выглядки - бабье актерское чувство, весьма плодоносное. Второй акт, варьете, нормально, в Сокове напутал с брынзой, в новой вставке чуть напутал, но выкрутился с бебиком в руках после бала у сатаны (то есть у меня). Конец. Искомая гармония в сцене чтения романа ("рукописи не горят") найдена. Финал. Переодеваюсь. Высоцкий и Марина Влади поздравили с… "первым прогоном". Целиковская довольна и поздравила Зинаиду и Дыховишню. А вот и мой урожай: жарко похвалили Сайко, Жукова, Иваненко, Комаровская. Они отмечают рост и покой, знаки образа. Гости ушли. Ю.П. собрал состав. Обо мне - ни плохо, ни хорошо. Одобрил, однако, Коровьева, Берлиоза, очень - Зину, Лебедева, Семенова, и Шацкой, и Щербакову - по слову хвалы. Воланда показал в двух местах - то ли для примера, как надо всем чувствовать Булгакова, то ли чтобы меня подтянуть. Очевидно, не уверен в методе воздействия на меня. Но не может не видеть, как мне дорога и серьезна работа. Расход. Смесь чувств, из коих главная - дичайшая усталость. Не ем, но курю. Во всяком случае - дурак. Ибо - интуитивен, и только. Что же будет, Господи.
21 февраля. Начало 3-го акта. Без разгона - скрип и претензии Ю.П. Торопит результат, всеми недоволен, кроме, кажись, Дыховичного. Мотив Высоцкого - подспудье заспинных речей - вымолить роль Воланда. Вдрызг испорчен тонус. Денисов тоже что-то неприятное сказал о прогоне: мол, ты, Веня, еще не личность, Воланд должен быть особенной личностью, и подтексты глубже… Показалось все кабинетной игрой…
22 февраля. В театре примерки с портным, репетирует Хмель. 3-й акт. Все мнет, врет текст, и Ю.П. его за это жутко обижает. Неприятно до злости.
23 февраля. Скользко, дождь, снег, грязь. Еду. День Красной Армии. Бегом. Театр. Пилат с Афранием и чуть дале Хмель двинулся к финалу. Я - звоню и сижу глазеть.
25 февраля. Ну, репетировал. "Мастер и Маргарита": к 13 часам спектакль доведен до финала… "Оставьте их вдвоем… И, может быть, до чего-нибудь они договорятся". Воланд слева, Иешуа справа, занавес закрыт. Шеф весь в монтаже и свете, а мы - на воле. Однако тонус и все дела.
Когда прошли основной массив пьесы и стали возвращаться, повторять все, от Патриарших прудов, я опять почувствовал холодок под сердцем: не выходит роль. Вокруг меня все крепче, все шикарнее нарастает игровая стихия балагана, актеры московских сцен уже купаются, как говорится, в своих ролях. В библейских сценах уже видны контуры успеха: прекрасно, величественно и солдатски резко играет Понтия Виталий Шаповалов. Изможденное лицо Саши Трофимова, вкупе с его худобой и ростом Дон Кихота, помогают портрету Иешуа, тем более что его глубокомыслие и речь так индивидуальны, какие могли быть "у прототипа". И дикция странная: то появляются звуки, то изчезают - странный Га-Ноцри, наверное, таким он и был. И Коровьев - Дыховичный - ядовит, зычен, смачен, а то вдруг мрачен и холоден, как тот рыцарь, в которого превратился в финале шут Фагот… Очень мелодична и проста речь Мастера - Димы Шербакова. Его прекрасная человеческая суть явно подходит к роли. Буйствует красавица Щацкая - Маргарита. Ярко балаганят персонажи "Грибоедова". Хороши кот Юры Смирнова, Азазелло Зины Славиной, Гелла Тани Сидоренко… да все хороши, кроме меня.
Любимов недоволен обоими Воландами, но достается больше всего мне. Режиссер обращает внимание на какие-то удачные моменты - с Лиходеевым, с буфетчиком, с Берлиозом, но они явно случайны… Я расстроен, кидаюсь к умным людям - помогите. Иду на явное нарушение в профессии: Станиславский запрещал "играть результат". А я опрашиваю друзей: каким вы хотите видеть или представляете себе идеального Воланда на сцене? Каких только чертей мне не нарисовали! Мудрых, гадких, громких, тихих, а любимый артист Смоктуновский изобразил мне по секрету совершенно оперного Мефистофеля. Но все это было завлекательно и одновременно - не то. Искать надо было что-то в самом себе. Тогда я стал читать Канта. Хотел поумнеть, чтобы это сразу было видно со сцены. Не поумнел, не понял я Иммануила, отложил чтение трудной книги. Забегая вперед, скажу: старания были на пользу. Чем плотнее, гуще масса сомнений и исканий, тем крепче раствор, тем больше шансов набрести на искомый результат.
Я стал самоистязателем. С утра до ночи читал, готовился, ругал себя за бездарность, искал встреч с теми, кто мудрее меня, выше, лучше и образованней. Георгий Борисович Федоров - археолог и историк, помог очень: беседы об Иерусалиме, о книгах Канта… Писатель Тендряков Владимир Федорович: о стиле Булгакова, о теологии, о Христе, о Мефистофеле Гёте… Художник Орест Верейский: о Гюставе Дорэ и его рисунках к Библии, о внешнем виде Воланда… Я совершенно отчаялся сыграть эту роль. Чем больше я вникал в роль, чем больше брал ее в оборот - через Канта, Ренана, через черта и дьявола, - тем более размывались очертания образа. Если он таков, каким мне представился, человеку не под силу его сыграть… Но магия театра в том, что чем меньше получалось, тем более хотелось…
Друг и коллега Игорь Кваша привел меня к хранителю тайн и историй МХАТа - Виталию Яковлевичу Виленкину. Рассказ о первых чтениях романа…
"Вот здесь сидели мы с П.А.Марковым, здесь - чета Файко, потом приходили братья Эрдманы… да, конечно, друзья Михаила Афанасьевича и Елены Сергеевны - Вильямсы, художник Дмитриев… Булгаков вдруг прервал чтение главы о Патриарших прудах, о Берлиозе и Бездомном, и хитро спрашивает (а нам ужасно понравилось! мы были так возбуждены! да и тема запретная…): "Ну, кто будет у меня главный герой?" Все помолчали, а я вдруг: "Сатана!" Он так хорошо улыбнулся, обошел стол, вот так вот надо мной встал и - по головке погладил…"
Виленкин произвел на меня впечатление фактом своего присутствия в булгаковском доме "тогда" - таким же простым, как мое присутствие в его доме - теперь. Актерская эмоция получила неожиданную дозу топлива, и фантазия заработала…
Любимов ругал и помогал. Но когда я освоил всю роль, я в тысячу первый раз уже не мог слышать одни и те же замечания. Злился я на себя, а огрызался на режиссера. Типичный случай на репетиции (цитата по памяти):
Ю. П.: Вениамин, здесь нельзя вступать с ними в прямое общение, надо вам внутри себя как-то созреть для этого… типа. Надо глубже брать тему "Эх, люди, люди, крокодилово племя…" и вот так… вот на их глупости… глядите… смотрите на меня… вот так вот (все смеются, Ю.П. точен, мрачно качает головой и таращит глаза - само страдание и скепсис)… "Люди, люди, порождение крокодилов…"
Я: Хорошо, а дальше? А текст к Маргарите: "Вы, я вижу, человек исключительной доброты, высокоморальный человек…" Он же издевается над ней, а как?
Ю. П.: Ну… это ваше дело… надо глубже брать, с подтекстом ко всей сцене, здесь сверхзадача работает на каждый шаг… Брать изнутри. Вы же понимаете, что это за человек… то есть не человек, конечно, а существо… (все смеются).
Я: Еще точнее - вещество? (Смеются, Ю.П. обижается.)
Ю. П.: Ну, ваши хохмы я знаю! Лишь бы не работать, лишь бы не идти вглубь по действенной линии!
Я: Покажите действенную линию, я пойду (я тоже обиделся, и я не прав).
Ю. П.: Актер не должен препираться с режиссером. Он сразу теряет кураж! Слушайте, думайте, связывайтесь с партнерами и пробуйте! Ему бы ролью помучаться, а он дурью мучается, надо мной юморит! Да пусть он играет как хочет. Перерыв.
Слова режиссера не действовали, ибо слов я начитался и более глубоких. Зато Ю.П. поразительно показывал - глаз Воланда. Метод показа идет от самого Е.Б.Вахтангова: уметь воображаемое реализовать в мгновенной отгадке интонации, жеста, взгляда. Любимов прерывал наш диалог, включал свою настольную лампу, направлял свет на себя, и вдруг оттуда, с режиссерского места в седьмом ряду, на нас смотрел уже не он, а Воланд. Тяжелый, вязкий взгляд его говорил о мирской суете, о вечной беспечности людей… Мне этот показ был дороже книг и поучений, и я повторил, и он похвалил. Похвалил, конечно, по-любимовски скупо, но зато - по имени: "Вот сейчас верно глядите, Вениамин, туда, туда стучитесь!" Стал понимать - уже не головой, а печенкой: нельзя сыграть этот образ, играть надо - и со всей беспощадной искренностью - отношение образа. К миру, к партнеру, к свите, к Пилату и к Мастеру. Особое положение Воланда в романе и в пьесе: события и люди действуют внешне очень беспокойно, бурно, а Воланд - вне игры. Он только наблюдает и редко говорит. Он статичен посреди хаоса звуков и движений, и его статика оказывается активнее внешних страстей. Я представлял себе на сцене в этой роли тех, кому она "к лицу". Жан Габен - безусловно. Евстигнеев, Гафт, Гердт… Во время Варьете, во время бала сидеть и смотреть в зал - какие слова внутреннего монолога должны укреплять актерскую уверенность? Откуда взять это право на полную, абсолютную независимость - от вас, от тебя, от них, от всех на земле? Как удается, например, Жану Габену - ничего не делая, не играя, а всего лишь подымая ресницы и "кладя глаз" на партнера - становиться властелином времени и внимания?
Невозможно перечислить все виды загадок и догадок того периода. Меня покинули привычная, родная лень и досада: если не выходит, то черт с ним. Я не способен был выйти из колдовской зависимости от собственной тоски… Она меня ела и ела, а я ей себя подставлял. Как будто неукротимо шел к чему-то, что внушал не самый любимый писатель Достоевский: только страдания выводят на путь очищения…
Спектакль собран. Мы окончательно закрепили все, что касается внешней и внутренней жизни. После генеральной репетиции, где Хмельницкий сыграл Воланда, Любимов оставил меня одного, а через несколько спектаклей на эту роль вернул Всеволода Соболева. Моя вина, что в премьерной гонке я никак не реагировал на личную травму моего товарища и был сильно огорчен, узнав через пять-шесть лет, что Борис считает меня одним из виновников любимовского решения. Это неправда: Любимов и назначал на роль независимо от "личных конфликтов" (так было со мной), и снимал с ролей - только по собственному желанию.
Уже без конца пройдены все сцены "Мастера и Маргариты", и первые гости, друзья Любимова и члены художественного совета, уже посулили большую удачу. Меня одобряли, и Любимов перешел на "ты", сократив "Вениамина" на пять последних лишних букв. И вдруг - прогоны, без остановок, с замечаниями режиссера после игры. И я не почувствовал цельности своего присутствия в пьесе… Но при этом ужасно мечтал о похвалах. Любимов почти не коснулся меня в замечаниях - это и было его похвалой. Мне и этого хватило, я даже радовался: значит, я на верном пути! А впереди - новые прогоны и… Господи, помоги мне сыграть эту роль! Тут ко мне подходит мой давний друг, композитор спектакля Эдисон Денисов. Десять лет подряд, начиная с "Послушайте!" - его первой работы с "Таганкой", - я слышал от него только комплименты. Он трижды писал прекрасную музыку к моим телевизионным спектаклям, моими почитателями он сделал всех членов своей семьи. И он знал, что со мной натворила эта роль. Но он все равно подошел и убил во мне всякую надежду. "Это ужасно, что ты играешь! Никакого Воланда, я тебе не верю ни одной секунды! Веня, я просто не узнаю тебя!.." Я, конечно, огрызнулся и был уверен, что прав: не веришь и не верь, придут люди поумнее тебя, они все поймут. Меня, помню, страшно огорчило отсутствие чуткости у моего друга. Но теперь я уверен: Денисов не умел оставаться чутким, если художник, музыкант, Мастер в нем возмущался. В коротком разговоре с Любимовым, у него в кабинете, я поделился печалью на свой счет. Пусть репетирует Хмельницкий, я не верю в себя. Любимов обвинил в малодушии, сказал, что детские разговоры накануне премьеры и борьбы с "этими оглоедами" (жест к потолку - туда, где большие начальники) ему вести неинтересно. Потом поглядел на меня и сразу - на портрет Н.Р.Эрдмана, стоящий от него всегда справа, на пианино:
- Ты же хорошо помнишь Николая Робертовича. Как Николаша смотрел на нас, на вас, на всех вокруг? Ты же помнишь, какая всегда была дистанция между ним и любым, все равно кем? Вот возьми его образ себе внутрь… И используй то, что у тебя от природы… вашу вечную печаль еврейского народа…
Режиссер приблизил меня к личному ощущению характера, напомнив манеру слушать и говорить покойного драматурга. Лаконичный строй фраз, потаенный сарказм, смешанный с грустью, ни тени улыбки на лице, когда говорит самые смешные вещи, глубокий взгляд на собеседника, а главное - ты чувствуешь, что этот человек находится одновременно и здесь, и где-то еще, куда нам входа нет. Ощущение дистанции между ним и окружающими, дистанции, которая никогда никого не обижает, ибо рождена какой-то "ненашей" грустью или мудростью - то есть очень естественна и "надчеловечна"… После гениальной пьесы "Самоубийца" Эрдман не смог продолжать жизнь театрального писателя. Автора "Мандата" и "Самоубийцы" удалось убить задолго до его физической смерти…
Памятны ответы Эрдмана на мои восторги после чтения романа Булгакова. "Ведь вы дружили с Михаилом Афанасьевичем, значит, вы знали эту книгу раньше всех?" - "Да, Булгакова читал, очень хорошо читал… я вижу, вы любите этот роман, а я больше люблю его другие вещи… Я, знаете, что говорил? Что эта вещь не имеет обязательного размера. Он может что-то вставить, а что-то выставить, и везде мне кажется такая анархия, а в других вещах все как в стихотворении - есть начало, есть конец, есть все, что ему надо… Видите, когда Булгаков имел точный план вещи, то это одно дело. А в "Мастере и Маргарите" есть и такое, и другое, и он сам не знал, где закончить - это уже не так хорошо… Если сочинитель дописал одну линию, а потом еще пол-линии, а потом многоточие, и опять нет конца - я это меньше понимаю. Получается, что ему все равно, и тогда мне - тоже…" Я возражал от лица миллионов, открывших для себя булгаковскую вселенную, отстаивал "анархию" как особый стиль, как новость в жанре литературы, и Эрдман сразу же уступил - наверное, из вежливости. "Поладили" на том, что как у Пушкина в "Онегине", так и у Булгакова в "Мастере" создание вырвалось из рук автора и стало диктовать - и поступки героев, и ритмы, и размеры… Эрдман улыбался задумчиво и позволял мне думать, что и я прав, и он прав, но что сам Булгаков все это знал лучше нас…
Булгаков умер в год моего рождения. Эрдман умер в день, когда мне исполнилось тридцать лет. Роман о Мастере вышел через двадцать шесть лет после смерти автора. Великая комедия Эрдмана увидела свет (на русской сцене) через двенадцать лет после его смерти.
…В беспокойстве и тоске я искал пути к своему герою. Снова и снова возвращался к образу и глазам Н.Р.Эрдмана. Видимо, количество накоплений перешло в качество осознания: сыграть существо без возраста и вне земных страстей невозможно, даже придумав самую замечательную, неузнаваемую характерность речи, походки, жеста. Требуется что-то вроде собственного перерождения, воспитания в себе абсолютного права видеть всех вместе и каждого в отдельности (и безразлично, в пространстве или во времени). Иметь постоянную, выношенную "столетиями" гримасу созерцательного скепсиса… И ни в коем случае - нигде! - не унизиться до "личной заинтересованности", суетливого соучастия… Это дело Фагота, Бегемота, свиты.
Все было плохо, рвано, в лучшем случае - эскизно напоминало желаемое. Если что-то и стало получаться, только на зрителе, когда зал впервые был битком набит. Подчиняясь интуиции, я за полчаса до начала, в своем сюртуке и при сверкающей на черном бархате броши у горла, с тростью и в полном одиночестве, бродил за дырявым мохнатым занавесом и все глядел и глядел на публику… И чем значительнее являлись персоны, чем больше привычного волнения из-за них ожидалось, тем легче мне было, тем я охотнее охлаждался, леденел… И бормотал: "Все было… ничего нового… Суета сует… Как они оживлены, как их тревожат мелочи… Все тлен и миг единый… Я вижу, как глупо повторяют новые люди ошибки и дрязги тех, кто давно в земле. Какая тоска… А эта балерина в палантине… дался ей этот палантин".
Неважно, какую чепуху я сам себе наговаривал, но результатом стала новость: вопреки привычкам, я от приближения спектакля ощущаю в себе все больше силы… и какого-то особого (высшего?) Знания… Меня не страшит, а манит проверить дистанцию. И уже выйдя на публику и глядя - это я очень люблю в театре - прямо в глаза освещенному для меня зрительному залу, разглядев в наступившей тишине каждого - от лацкана до бородавки! - ах, как хорошо оказалось "сверху" поразмыслить вслух:
- Ну что же… Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было…
…Назавтра, на прогоне, я взял себе "чувства Эрдмана", я не расставался с ними со вчерашнего дня, образ Н.Р. присутствовал где-то очень близко для всех, кто общался с писателем. Сцену на Патриарших я играл с едва заметным, эрдмановским заиканием, строго отчетливо, странно выделяя главные слова фраз и всегда находясь как бы на расстоянии от всего происходящего… Любимов из зала покачал головой: мол, не надо речевой характерности. И мне показалось, что снова рухнули надежды. На самом деле, я впервые (а может быть, единственный раз в жизни) попадал в поле неизвестной мне энергии. И подсказка Любимова оказалась необходимо точной и попала на готовую почву. Мне после прогона показалось, что с заиканием образ бы вышел, ибо такая манера вести разговор вызывала к жизни иную, неродную, а именно воландовскую власть над мыслью и над залом. Я замкнулся, и, очевидно, меня оставили в покое и дома, и в театре.
На генеральную репетицию (уже разрешенного спектакля) съехался, как обычно, знатный люд. И, как не обычно, прибыло много известных писателей и поэтов. А студенчество толпилось вокруг театра - в невероятном количестве. Ажиотаж превышал "таганковский" и приближался к "варьетевскому", булгаковскому. Святой день для театра - первая встреча со зрителем. И всегда премьерная дрожь передается зрителям, и всегда - праздник и обязан быть успех. Правда, спустя время, когда еще раз первый зритель увидит уже окрепшую премьеру, случаются недоумения: неужели мне такая чепуха могла понравиться? Или наоборот: какой стал отличный спектакль, а был робким, тусклым на премьере.
- А чего же вы тогда захваливали?
- Сам не пойму, какое-то безумие напало, все в восторге, и я в восторге…
Я ехал в троллейбусе к Таганской площади. Ночью выспался отлично. Утром вспомнил о генеральной и никаких чувств не испытал. Странными казались пассажиры - словно персонажи из романа. Но это, правда, новость: подъехал к театру, увидал тысячную толпу, но ни на полградуса не согрелся! Это даже интересно, такого не бывало. Кажется, человек чем-то сильно болел, а ночью пережил кризис, сразу пульс встал на место, а в глазах вместо смятения и тревоги - прохладная задумчивость. Прошел служебный вход. За кулисами - суета и нервозно-радостный гул.
Оделся. Уже стал привыкать к новости: раз организм предпочитает быть не психованным, а задумчивым - ему виднее. А мне почему-то льстит такая незнакомая индифферентность… Надел бархатный черный нагрудник со сверкающей брошью, застегнул длинный сюртук, глянул в зеркало, не захотел себя рассматривать. Видимо, понял, что разглядывание знакомого лица помешает кому-то незнакомому. Заметил, когда проходил мимо коллег за сценой: никто не окликнул, поглядывали несколько осторожно. Может быть, и показалось, но так было надо. На сцене подошел к занавесу, погладил его мохнатую вязь и стал сквозь его щели наблюдать публику. Никогда в жизни со мной не было такого и, очевидно, не будет. Я видел полный зал. Я обязан был трепетать перед первым экзаменом, перед такой выдающейся "комиссией". Как минимум пятьдесят человек - не просто талантливые, а даже исторические личности. Лучшие из лучших. Ну и что? А у меня в мозгу словно открылся шлюз, и оттуда хлынул холодный, сильный поток:
- Что они радуются? Кем они себе кажутся? Кто они на самом деле? Ни один из этой глупейшей толпы не споткнется о простейшую мысль… пройдет меньше минуты - и никого из них не останется на свете, как ушли другие, кто тоже, как эти, радовались своей глупейшей радостью, как будто у них в резерве - больше, гораздо больше, чем одна минута…
В первой сцене мне было неожиданно приятно допрашивать обоих болванов на Патриарших прудах. Я уже владел каким-то особым рычагом внутри моего механизма: включал и выключал свой интерес к партнерам. Ну, особого-то интереса не было, но надо было вести эту церемонию объезда Москвы со слугами-шутами. Какое-то прозрение произошло после бала, когда, сидя на том же гробе, рядом с Маргаритой, пытался узнать ее просьбу, ради чего она и прошла мерзкий парад поцелуйщиков…
В конце этого "экзамена" появляется запрошенный королевой Мастер, с ним-то разговор и зашел в тупик. Не на репетициях, не при чтении книги - именно здесь, в страшно разреженном, высокогорном воздухе генеральной репетиции, я (или мой герой) догадался: никто и ничто для Воланда загадки не представляет, кроме этого человека. Неуловимость предмета его мечты. Никому-не-принадлежность. И даже - Маргарите. Ему дают всё, в том числе главное дело жизни - роман, из огня восставший, на секунду его удививший; а он - ноль внимания, как будто он один понимает мини-минутность всей суеты, как будто он - заодно с… Невероятно, но чувственная логика романа на сцене как будто подводила меня, исполнителя роли сатаны, к непотребному, унижающему выводу: не Мастер об него, а он споткнулся об этого, никому-не-принадлежащего…
Кажется, спектакль захватил зрителей. Не всех, не всех, разумеется. Но на лучших представлениях случалось нечто, что на Западе называют "химией". Замечательно, что многие, многие люди признавались в важной особенности впечатлений: спектакль не мешает любить роман, а роман не мешает спектаклю быть любимым. Кстати, первым одобрил мою игру композитор Эдисон Денисов.
Из дневника 1977 года.
Событий куча. Главнейшее событие: "Мастер и Маргарита". После тоски и сутолоки, редких исподвольных намеков, что у меня что-то выходит (что спектакль выходит, сомнений не было), после томительной игры в "двух Воландов" (хотя это только закаляло нервную сталь у меня), после трех с половиной месяцев волнений и одиночества в роли - У-Р-Р-Р-А!
Прогоны… 9 марта (Любимов ободрил перед началом в 18 час.: играй, мол, спокойно, сегодня день похорон Сталина, это Булгакову хорошо…). Сжав зубы и остановив сердечное колотье - впервые прошел насквозь роль, а в зале комиссия по наследству, т. е. К.Симонов, Ермолинский, Каверин, М. и А.Чудаковы, В.Розов, В.Виленкин, а также Верейские, Ильина, П.Л.Капица и его оба сына, В.Я.Лакшин, и многия, многия… Победа. Чао. Карякин, мой антитез и супротивник досель, - лобызал и возгласил, что я достиг "того"… покой и века… Далее - 12-го - прогон, тыщи людей, и снова - здорово. Ю.П. ликует. Спектакль зацентрирован на Воланде, если не держать, все расползется.
Ю.П. за семь-восемь лет дарит впервые ласкою - теплом. Вокруг наворот похвал в мой адрес - обуяла скромность, ничего не опишу. Чистая радость - "Мастер" вышел! Еще гнали 17-го, утром 18-го, затем 21-го вместо "Гамлета" (Высоцкий запимши). 18-го была сдача, и впервые за тринадцать лет - управление, без претензий и экивоков, - просто сердечно поздравило с победой. То-то мудрость, то-то истина… кто-то сверху что-то взял на себя - или выше. Много слов - теплых звонков: Биргер, Гердт, Каневский, Юрский-Тенякова, Хуциев, Хрущева, Эмиль Радов, Ильина, Ицыкович, Бадалян, Кандель, Бураковский, Делюсин, Митта, Валуцкий, Демидова… Славкин, Розовский, Игорь Шкляревский и др. Золотухин. Ава Вулис (Абрам-Август Зиновьевич), булгаколог, булгаковед - дважды был, звонил, заезжал, я его "Часом пиком" угощал, он дарил книжки, он молодец, а его сказ про начало печати "Мастера" - отлично! Рита Райт и Маргарита - дочь - мои верные, дарят за Воланда перевод "Паркинсона". Дополучил за Воланда от Эскина, Гафта, Давыдовых и т. д. Ночь - в ресторане ВТО. Стол с Мишей и Региной Козаковыми (тоже первые поддержанцы Воланда), старуха Зуева.
1 апреля. Пер. день без репете. День Смеха.
3 апреля. Вечером - "Мастер и Маргарита". Без Ю.П. все же не тае. Рабы. Хамская профессия. Играю нешибко. В зале Копелев, Бугаев (МГК).
5 апреля. Высоцкий на "10 днях" сорвал Керенского, пьян был зело и вторую часть образа "доиграл" Золотухин… Умер Завадский Юрий Александрович. Такие дела. Звонят люди. Просятся на "Мастера". Бессилен.
Еще о подробностях. На генеральной, а потом навсегда, я влюбился в слово ВЫХОД. Как уже говорилось, Воланд - наблюдатель. На сцене это выражается в том, что можно или разглядывать зрителей, или глядеть над их головами - в далекую даль. Со зрителями, начиная с генеральной, мне в этой роли оказалось просто, ибо все они и каждый из них, сами того не желая, прекрасно иллюстрировали мой внутренний монолог. Представьте себе, ваш друг-психиатр вводит вас в незнакомое общество и шепотом предупреждает: "Улыбайся, это мои небуйные пациенты, они сегодня празднуют избрание в Гос. думу". И хотя через тридцать минут психиатр признается, что разыгрывал вас, всё это время все и каждый будут иллюстрировать для вас тезис о психах. Что бы и как бы эти действительные члены Думы не выделывали! Так что наблюдать за зрителями - дело для Воланда (актера) приятное. Но в моей роли много мест, где я гляжу перед собой, не замечая зрителей. И тут я оценил важность и прелесть той светящейся дощечки, которая висит над входной дверью в конце зала. Обычно в этом дальнем проходе стоят люди, а если Любимов в зале, то он - всегда там. Но я равнодушен к человеческому присутствию, мне очень интересно разглядывать эту зеленую дощечку со словом "ВЫХОД". Почему же я раньше не замечал этого магического слова? Очевидно, до ремонта там было: "Запасной выход". А это уже совсем неинтересно. Алла Демидова уверяла меня, что эта надпись имеет особое энергетическое излучение, и этот "ВЫХОД" ей тоже помогал.
Важный реликт театра советской эпохи - намеки в подтекстах. Надеюсь, что эта радость больше не вернется. Все, что было запрещено, но обсуждалось на кухнях, могло быть услышано в подтекстах. У нас на Таганке, среди бумаг Управления культуры, диктующих сокращения и изменения в спектаклях, было однажды резко выражено указание… "убрать антисоветский подтекст из стихов Маяковского". Речь шла о том, что стихотворение "Юбилейное" было разыграно как пьеса. Четверо из пятерых Маяковских вели со своего памятника ночной диалог с Пушкиным-Высоцким. И вместо ровного течения беседы одно место игралось так:
Я: Хорошо у нас в Стране Советов…
В ы с о ц к и й (нервно перебивая): Можно жить?!
Я (уклончиво): Работать можно… дружно…
И так далее. Публика, само собой, почти рыдала от хохота.
В "Мастере и Маргарите" подтексты шли густо - и общечеловеческие, и узкоместные.
В о л а н д (разглядывая ярко освещенных зрителей): Неужели среди москвичей есть мошенники?
О т А в т о р а (артист Семенов, комментируя гримасу Сокова): "Кривая улыбка буфетчика отмела сомнения - да, среди москвичей есть мошенники". (Интонация и гримаса вызывают реакцию особого злорадства публики к привилегированным мошенникам)…
- А дьявола тоже нет? - спрашиваю я у Ивана.
- Нету никакого дьявола!.. Перестаньте вы психовать!
- Ну, уж это положительно интересно! Так, стало быть, так-таки и нету? (Тут я, притворяясь разгневанным, подымался во весь рост и обращался дальше к залу.) Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!
Последнее восклицание производило взрывной эффект с 1977 по 1992 год - пока магазины были пусты и народ не мог ничего купить, а мог только "доставать"…
Изменилась реакция и на знаменитую сцену любимовского спектакля, когда Воланд читает лист сожженной рукописи Мастера. Сцена сделана очень красиво. После слов "Рукописи не горят" звучат первые такты марша из "Ромео и Джульетты" Сергея Прокофьева, и под эту музыку, широким жестом, я отделял лист за листом и швырял их вверх. Листы взлетали. Музыка ликовала. Занавес "дышал" под руками восхищенной свиты и под крики Маргариты: "Вот она, рукопись! Вот она!.."
Картина вызывала бурные реакции в течение многих лет. В 1989 году, восстанавливая спектакль, Ю.П. сократил его - и справедливо - минут на сорок и из трех актов оставил два. Раньше после сцены "Рукописи не горят" следовали антракт и третье действие. Теперь, когда сразу за этим мы продолжали разговор Воланда с Мастером и Маргаритой, реакции убавились. Впрочем, и время изменило многие реакции.
К сожалению, время не избавило зрителей от страхов и опасности. Так что, не знаю, как у других актеров, но у меня сквозь все времена и правления, кроме сатирического, сохранился главный подтекст. Подтекст благодарности Богу - за счастье обоих чудес: и выхода книги, и выпуска спектакля.
Выхода книги - на сто лет раньше самого уверенного прогноза одного из первых читателей романа: "Конечно, о печатании не может быть и речи. Идеология романа - жуткая, и ее не скроешь… В этом отношении, чем меньше будут знать о романе, тем лучше. Гениальное мастерство всегда останется гениальным мастерством, но сейчас роман неприемлем. Должно пройти 50-100 лет…"
Так написал Павел Попов, друг и биограф М.А.Булгакова, в письме к Елене Сергеевне.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В апреле 2000 года, по приглашению славянского отделения Гарвардского университета в Бостоне, я сделал большой доклад о романе и спектакле "Мастер и Маргарита". На эту же тему были мои выступления в двух других американских вузах, в том числе в Маунт Холиок Колледже, где работал Иосиф Бродский…
После доклада о "Мастере" и Воланде студенты и преподаватели славянского отделения задавали вопросы. О школе Станиславского на территории Гарвардского университета. О диктате режиссера в театре и менталитете Любимова как диктатора. О Владимире Высоцком - играл ли он в "Мастере". И какие были рецензии на спектакль "Таганки"…
На три последних вопроса отвечу на этих страницах.
Юрий Петрович как создатель своей школы театра - лицо уже историческое. Его шедевры и неудачи описаны в книгах на многих языках. Его диктат, по-моему, есть часть метода, в котором главным достоинством спектакля является синтез искусств. Его восторг перед "Вестсайдской историей" Л.Бернстайна стал стартом режиссерской жизни в начале 60-х годов. Чтобы организовать драматический спектакль в жестких рамках мюзикла или балета, необходима твердая рука режиссера. Диктаторы-режиссеры, по распространенному домыслу, - это Мейерхольд или Любимов. На самом деле суровой требовательностью к исполнению рисунка роли обладали и обладают почти все настоящие режиссеры. Я был свидетелем того, как Анатолий Эфрос в лучших своих работах, Петр Фоменко или Анатолий Васильев - знаменитые и разные режиссеры - вели себя на репетициях не менее строго, чем "легендарный диктатор" Ю.Любимов. Вообще говоря, театр в Божьем мире - это единственное место, где абсолютная монархия является благом и объективной необходимостью.
О Высоцком в спектакле по Булгакову. По первому приказу Любимова, Владимир должен был играть Ивана Бездомного. И те две или три репетиции, которые он провел, показали идеальный выбор режиссера. Я уверен: сыграй Высоцкий Бездомного, это стало бы серьезной удачей спектакля. Трудность образа в чем? В начале он - невежественный советский "выдвиженец" (на Патриарших). В больнице, в дуэтах с Мастером, он становится Иванушкой - наивным, остро чувствующим и талантливым собеседником писателя. И наконец, он - профессор И.Н.Понырев, ученик Мастера, и он дописывает роман… Надо знать героев песен Высоцкого и диапазон его актерских возможностей, чтобы сказать с уверенностью: это был бы прекрасный герой Булгакова. К сожалению, Высоцкий не вошел в спектакль. Правда, случился один забавный казус. Когда, после премьеры "Мастера", был подписан контракт на гастроли в Париже, Лионе и Марселе, Володя попросил Любимова о репетициях… в роли Воланда. Из соображений товарищества, попросил скрыть это от меня. Забавно было следующее. Любимов отговаривал актера, но отказать Высоцкому не сумел, попросил: покажи, мол, первую сцену. Володя, по секрету от меня, отрепетировал с Бездомным и Берлиозом, вышел как-то после конца репетиций на сцену, и тут я стал свидетелем казуса. Репетируя без режиссуры, Высоцкий сам себя уверил в том, что главное в сцене - напугать зрителей и партнеров "дьявольщиной". В самом начале разговора на Патриарших прудах он крикнул со сцены в будку осветителей: "Гаси свет!" И страшным голосом проговорил об Иммануиле Канте, затем чиркнул зажигалкой и в темноте открыл рот, оттуда брызнуло пламя. Любимов прервал показ, сказал "спасибо" за цирковой трюк, и они удалились в кабинет. Через пару дней Высоцкий, по правилам дружбы, подошел за кулисами ко мне и признался, что хотел "подсидеть" меня в роли Воланда. Мы обменялись шутливыми репликами, и конфликт был исчерпан.
Из дневника 1977 года.
6 апреля. ДЕНЬ ПРЕМЬЕРЫ "МАСТЕРА". В театре ловил билеты для Лили Юрьевны. Взял во 2-й ряд. Оля Окуджава - ура, книжка Булата (сам в Венгрии), слова любви и дружбы, я таю и везу Олю на Калининский. Затем Л.Ю. завез билеты, получил жвачки и шоколад. Театр. Толпа, милиция, рупора: "Освободите по возможности проезжую часть…" Шум-говор-трепет - премьера Булгакова в "Таганке". Гости Любимова. Можаев с хвостами, Карякин со свитой, Еремин, милейший Соколов Алексей с Галей (на премьеру и назад в Питер), Шахназаров, Черняев и др. цековские таганцы. В зале Лиля Брик, Наталья Ильина, Артур Эйзен, Кнебель, Павел Марков, Штейн, Салынский, Делюсин, Юнгвальд-Хилькевич, Пьянов, Дементьев… Перед началом студентки мне подарили рукоделие - коробку с голубым вязаным псом на бутылке коньяка, очень спасибо.
"Мастер" шел приемисто, Любимов чухался с фонариком. Я гневался на него и на зал, в котором мне, по произволу профвоображения, мнились Сурковы и Латунские. В антракте - Юля Хрущева, восторги и проч. Ее дочь попросилась "посидеть с Воландом". 8-й класс и "Вы - гений". Решилась актеру в лицо. Девочка читала книгу "давно". А как спектакль? Смешнее или серьезнее твоих впечатлений? "Торжественней". Пристально выражал восторги Хилькевич. Автономно хвалил Логинов. Обнимал и жал Салынский. Хвалили густо Штейн, Шахназаров, Делюсин и другие официальные лица. Из зала хлопал мне лично Биргер, а Денисов сказал, что я играю все лучше!
23.20 - одиноко уезжаю на "фиате", а Шопен и Лебедев остались в гримерной, вытащив по бутыли, - молодцы, это премьера! И у Славиной выпивка - ее день рожденья. Хлопали сильно, зал стоял. Любимов кейфовал и поздравлял. Цветы, цветы, цветы. Все - в чашу. Я свои отнес к портрету Булгакова. Все. Ю.П. простился за ручку, дружка дружке откомплиментировавшися. И его бибикнула дип-мерседесина, и он куды-то с ними учапал. Еду. Я - за семь минут по зеленой волне (Воланд, однако) - домой. Пью коньяк. Хорошо. Пьяно. Спу. Поздравляю меня, Венечка, с Днем Булгакова.
Звонила Лили Брик. Очень ругала спектакль, "повесть, ерунду" и т. п. Меня хвалила за выглядку и пластику, но - "мало слов, нет роли"… Гм. Беда с энтими музами. Спать!
Премьера, и слушатели "Голоса Америки" шепотом сообщают: была большая передача о спектакле. Конечно, политические мотивы. Конечно, хвала постановщику. И обо мне - лестные слова вроде - ходил по сцене смертельно бледный и ужасно изысканный тип. Я, обожатель книги, спектакля и роли, ловил добрые речи, плохие пропускал мимо ушей. Где-то кто-то сказал, что голосом и манерами я - сатана, но глаза мои отдают тоской Иешуа. И я был рад, тем более что в ходе репетиции Д.Боровский предлагал Любимову этот вариант: чтобы я сыграл обе роли сразу. Подобное было испробовано в 1971 году, когда, играя в Гамлете роль Клавдия, я пробовал сыграть одновременно и Призрака отца Гамлета.
Из дневника 1977 года.
7 апреля. Вечером - "Мастер", ибо Гамлет в Склифе: запой, закидон, реанимация, ужасающее самоуничтожение. Звонил Биргер, сказал, что Воланд стал идеален, вырос и потряс. Мол, Непомнящий в восторге, мол, Фазиль Искандер - тоже.
13 апреля. 18 час. "Мастер и Маргарита". Очень я рад играть, очень! В перерывах - Элем Климов, Власта-чешка, Сергей Герасимов и Тамара Макарова (очень меня похвалившие), в зале - Св. Рихтер (с Митей Дорлиаком), Г.Рождественский, Л.Коган, три замминистра СССР и прочая. Нормалек. Дома… одна литра водки и трёп до 3.30 утра… Гм.
20 апреля. Театр. "Мастер и Марго". Кажись, публик не совсем тот. Ю.П. одобрил игру, но справедливо просил не уклоняться от постоянства "глаза" на все, что происходит, и не мельчить презрением, с Соковым например, и т. д. В конце - тронувшая весьма, нервнослезая, виброчувствительная Лариса Шепитько. Целовала меня, целовала Ю.П.
22 апреля. Ночь на рождество театра - 13 лет. Значит, наш Новый год. Театр. Еремин и Карякин спорят о Конст. Леонтьеве… о горниле религии, о полной или неполной вере Достоевского… Елка с головой Берлиоза, Ронинсона, грудь Геллы, маски, сверху - цифра "ХIII" - в парике Оргона. Красиво. Микрофон. Даю слово шефу. Золотая афиша "Мастера". Текст стилизованного обращения к труппе. Все расписываются. Выпили за добрый Старый год. "Ноне грех жаловаться", - цитатнул Ю.П. можаевского Кузькина.
На юбилее театра случилось событие: неизвестно как, неизвестно кем, но золотая афиша - единственное исполнение, по заказу! - была украдена. Она в течение спектакля красовалась перед всеми за кулисами, а потом исчезла. Все мы расписались на ее золотом фоне, а она - исчезла. Видимо, ее унесли туда, где сам Булгаков? Или это тоже "штучки Воланда"?
29 мая 1977 года газета "Правда" отреагировала на премьеру, состоявшуюся 6 апреля, большим "подвалом" под угрожающим заголовком "Сеанс черной магии на Таганке". Автор - зав. отделом газеты тов. Потапов сделал ряд замечаний Любимову, неодобрительно отозвался на этот более чем странный подарок театра надвигающейся годовщине Октябрьской революции. Статья всполошила общественность. Нам звонили, просили крепиться и не сдаваться. Да, за кулисами партийных интриг была разыграна игра в неопасное понукание, ибо сами чиновники решили отметить 1977 год на Таганке как "год пряника". Но я все равно предпочитаю видеть здесь "штучки Воланда". Магия булгаковского романа по-своему влияла на всех вокруг и защитила нас. Шутка ли - разнос в "Правде"! Назавтра, 4 июня, в "Нью-Йорк Таймс" - испуганная реакция под заголовком "Самый авангардный режиссер атакован "Правдой". Газеты и радио Запада предчувствуют разгром любимовского театра. Кто знает, не будь здесь магии - не пошли бы власти дальше? Мастер бы сказал: "будьте благонадежны", еще как бы пошли! Однако игра властей была доиграна до конца года, и только там, в декабре, Любимова и театр вернули к прежней позиции - невыездного, подозреваемого коллектива. А до конца 1977 года - и поездка во Францию, и награждение Любимова орденом. А что до статьи в "Правде", то и в ней читались "нетипичные" для карательного органа печати нотки лирических отступлений. Так объяснил мне знаменитый кардиолог Владимир Бураковский, собравший у себя дома полную коллекцию всего, что касалось "Мастера и Маргариты", на всех языках. Академик утешил меня: мол, этот Потапов показал зубы, но спрятал их, когда дошел до Пилата и Воланда! Мол, обратите внимание, как почтительно прошелся по обоим исполнителям, а про вашу сцену "Рукописи не горят" вообще пропел романс, чего в "Правде" отродясь не было! А из ободряющих звонков коллег выделю телефонный монолог Коли Бурляева. Герой "Иванова детства" Тарковского, отличный актер, превративший себя позднее, в эпоху перестройки, в "квасного патриота" - Коля жарко уверял меня, что наступают черные дни для "Таганки", что ему страшно за нас и он просит не забывать, что он - всегда с нами. Через тринадцать лет режиссер Кара снимет фильм по роману: Гафт - Воланд, Ульянов - Пилат, Дуров - Левий Матвей, Бурляев - Иешуа. Съемки в Иерусалиме. Фильм не вышел, таинственно сгинул, стал героем слухов. Я слышал, например, такое: "Нельзя искушать магический текст! С фамилией Ульянов нечего делать в библейском пространстве, антисемита в роли Га-Ноцри выпускать было грех, а уж про фамилию режиссера и говорить нечего".
Из дневника 1977 года.
Проливное сито дней….
19 сентября. Начало ХIV сезона. 10 утра. ТЕАТР НА ТАГАНКЕ. Сбор. Минимум лицемерства, не очень целованство, слава те. Впервые - хроника, свет, кино и фото Гаранина. Цветы и - полная труппа, ни один не болен. Речи. 2.ХI - 11.ХII во Франции, в марте ГДР + ФРГ, а во 2-м квартале - тридцать дней в Италии. Известия о загранпотоке труппа вынесла стойко и негромко. Деловой настрой. Може, так честнее-лучше.
Репетиция. "Мастер" Л.Ю.П. усерьезнивает. Я ныне - "Веня" и на "ты", что означает мягкую линию. Ну-с, Воланд. Слегка першит горло, слегка волнуюсь. Кулуары - "Гамлет", Высоцкий - чмок, об Абдулове*, что Севе стало лучше, Бортник - Лаэрт, ладно. Дыховичный был в Японии, сказывает, Сидоренко в Цюрихе, восторг, Филатов - в Югославии… все стали взрослые и чужевзаимные. Вечер - до конца.
20 сентября. Красные повязки, театр в запожаренном состоянии. Запретили стоять по входным, балкон пуст. "Мастер и Маргарита". Любимов "офонарел", сел, мы начали. Фонарик молчал почти до конца. Шеф в восторге. Мне: "Все хорошо, ну разве одно место чуть уронил - "Чего не хватишься…" На спектакле - Ю.Никулин, Лужина, итальянцы, Денисов, плюс Лили Дени, подруга Лили Брик - переводчица гастролей в Париже. Гостиница "Россия". Чао, Лили. Мы домой.
22 сентября. Вечер. "Добрый человек из Сезуана" ("и снизу Анна"). Веселый шеф. Очень его радует первый "Мастер". Всю дорогу - об этом. Славина - собранно, взросло, иногда более чем надо взросло - там, где только наивностью примитива все рождено.
30 сентября. Поорали, чао. "Мастер". Ю.П. шестьдесят лет. Собрался, вымылся, запудрился - только б доиграть. Зал - гости Ю.П. - Шахназаровы, Самотейкины, Шлезы, Этуш, Максакова, Абрамовы-Можаевы и т. д. Но прошло очень хорошо. Игралось мрачно, экономично (усталость), в радость. Под Ершалаимский кусок пил коньяк (чуть-чуть), бодрил тонус и читал Расулу - Гамзатова, на что тот, подаривший юбиляру гигантскую бурку, заорал обо мне: "Мужчина века!" Он не стесняется признаться самому себе во всенародной любви к самому ему.
13 октября. "Мастер и Маргарита" - конец второго витка (первый: премьера и до отпуска, третий должон быть aprPs de Paris). Ю.П. перемигал фонарем, заметил, что вяловато, и смылся по нью-личным мотивам. В зале Зуева, М.Ульянов и Россельс с японкой Юкой - переведшей Булгакова. Завал народу. Идет неконтактовато. Однако Михаил Лексаныч хвалил, токмо: "Извини, Веня, может, только в финале как-то уж ты очень… не так, как вся роль…" Прав, вроде. Гм.
Впервые большой анализ спектакля в советской печати появился только в 1988 году, в романтический период горбачевской эпохи. В журнале "Театр", № 5, вышла статья театрального критика Нины Велеховой "Бедный окровавленный Мастер". Работа Н.Велеховой как бы делит время пополам: до ее появления критикам было запрещено выступать в печати на тему спектакля; после 1988 года, когда стало "все дозволено", спектакль состарился, "московское народонаселение значительно изменилось" - в отношении вкусов и пристрастий, и тема отошла в прошлое. Так что это - единственное, подробное изложение того события, которое было щедро одарено восторгами "во всемирном масштабе".
А на "узкую тему" моего героя хочу припомнить отзывы драгоценных своих сограждан.
…Булат Окуджава, как потом я узнал, с большими сомнениями шел на премьеру в 1977 году и мнения о спектакле был сложного. Однако насчет Воланда высказался хорошо, но неожиданно. Наутро после премьеры Ольга Окуджава позвонила мне: "Ты знаешь, с чего началось утро у Булата? Он проснулся, сел на кровать и задумался. Я спросила, о чем он задумался, а он вдруг: "Ты знаешь, а я верю, что Веня мог жить в те времена"… Значит, я как-то так сыграл, что мой герой оказался "вне возраста" или "над временами". Думаю, что лестный вывод имел происхождение не столько в актерском исполнении, сколько в прекрасной фантазии любимого поэта.
И.М.Смоктуновский отозвался похвалой, но добавил: "Жалко, что ты такой сдержанный и однообразный. Ты же комический артист. Я бы сорвался и закрутил как-нибудь (показал гримасу "черта"), понимаешь?" Я стал объяснять философию любимовской идеи и заявил запальчиво, что играть так, как хочет И.М., значит носить под сюртуком - хвост, а под цилиндром - рожки. "Ну и было бы хорошо!" - уверил меня великий артист.
…Олег Табаков в дни премьеры "Мастера" вел занятия со своими студентами. Один из них при этом оказался техником-осветителем на Таганке, он-то и сообщил мне агентурные сведения о разговоре их курса по поводу премьеры. И будто бы Табаков, отвечая на вопрос кого-то из учеников, оценил жанр и полифонию любимовского "Мастера", похвалил Понтия Пилата (Виталия Шаповалова), еще нескольких исполнителей. "А кто лучше всех?" - спросил мой агент. "Лучше всех для меня Воланд и Маргарита". Хорошее слово обо мне я объяснил нашей тогдашней дружбой, а вот о Маргарите - Нине Шацкой - это была удивительная оценка. "Эта актриса, может быть, и не слишком умелая, но она потрясающе сыграла свое желание сыграть Маргариту!"
…Павел Марков. Один из близких людей булгаковского дома, заведующий литературной частью МХАТа с 20-х годов, поклонник любимовской "Таганки" с первых ее шагов. Мы встретились с ним, спустя время после премьеры "Мастера". Сидели в очереди за путевками в летний дом отдыха нашего Театрального общества, на Страстном бульваре. Павел Александрович и похвалил, и поругал спектакль. Нашел в нем много излишеств, "капустника" и еще чего-то, что его огорчило, хотя в целом постановкой остался доволен. И, между прочим, уверенно заявил мне, что манерой речи, юмором и даже тембром голоса мой Воланд ему напомнил Михаила Афанасьевича. Я поблагодарил и занес сведения в дневничок. А потом, через много лет, прочел, как часто Марков бывал у Булгаковых в последние годы и понял, как дорого стоила его похвала.
1987 год. Эйфория, возвращение Любимова, мы - вместе, Коля Губенко - наш друг и выручатель, его ценят в Кремле, поскольку он только что сыграл Ленина в сериале, плюс, конечно, хороший актер и режиссер. Восстановление из праха - "Послушайте!", "Мастера", "Высоцкого", "Годунова"… До приезда Ю.П. восстанавливает "Мастера" Александр Вилькин. Он предлагает мне новые краски, я пробую, он хвалит: время изменилось, надо играть более язвительно и остро. Это правда. Время - новое. Я помнил слова Смоктуновского и - прибавил чертовщины в интонации… Вилькин возбужденно приветствовал на репетициях мои новые интонации и новые, и более резкие, выпады Воланда - к партнерам и в зал. Успех спектакля был огромным - громче и жарче, чем десять лет назад…
Юрий Карякин прибыл на спектакль с друзьями, Алесем Адамовичем и Юрием Афанасьевым. Время горячих надежд. Все трое - депутаты нового парламента СССР. Зрители узнавали их, приветствовали. Юрий Федорович хотел увидеть свой когда-то любимый спектакль, ныне возрожденный заново… После спектакля не зашел за кулисы, ночью позвонил мне домой.
- Веня, я в ужасе! Ты все испортил! Ты спустился на землю, твой Воланд раньше был сам по себе, и его надо было слушать. Теперь ты ввязался в суету всех персонажей… Веня, я помню каждый звук твоих монологов, это была музыка, а вчера мне было тошно, ты резал уши мне… Умоляю, верни музыку! Что? Да нет, не волнуйся - и Юра, и Алесь впервые видели спектакль, они в восторге, но я-то помню твою музыку!
Потрясающее откровение. Так мог судить режиссер школы Мейерхольда: найденное в период наития не нуждается в обновлении, мелодия речи сатаны нуждается только в искренности…
Вот поди ж ты - не режиссер и не актер, а такая профессиональная чуткость. Я погоревал и все обдумал: конечно, в новом варианте я играю, так сказать, актуальнее и острее, поэтому смеховых реакций заработал много больше, но что мне до них? Кажется, в этом случае Булат Окуджава не поверит, что такой Воланд мог жить "всегда"… Что сказать - необъяснимы пути и ценности в искусстве. То, что Карякин назвал "музыкой", было результатом долгого мучительного поиска. Музыка родилась, видимо, на той генеральной репетиции, и я ее не культивировал и не понимал. А теперь необходимо поработать, чтобы вернуться к "первоисточнику". Я вернул, конечно, музыку, сильно возбужденный и критикой, и запоздалыми комплиментами.
…1979 год. Вдруг взяли и отпустили "Мастера" на гастроли в Тбилиси. Осень, фрукты, великий город, страсти-мордасти с выбиванием дверей во Дворце профсоюзов. Первый секретарь республики едет на "Мастера". Трижды его заворачивают назад: "Извините, товарищ Шеварднадзе, зал не готов, за вашу безопасность не ручаемся…" Целый час мы ждали на сцене сигнала к прологу. Так и не справились чекисты со своим народом. Публика в креслах и молодежь в проходах… Не то что вождю - яблоку негде… присесть. В Тбилиси - и счастье, и дружба, и юмор без предела. Везет меня шофер такси: "Куда? Туда-то? Ага, вы из Таганка-театра? Ага! Друг! Будь другом, достань билет! Какой-ни-любой! За любую цену - хочу эту увидеть… вашу "Маргаритку"! Где женщину с голой спиной даете, помоги, друг!"
И в газете, в серьезной рецензии, много слов о сюжете, об успехе, вскользь обо всех актерах, а в конце - прорвало плотину чувств южного мужчины-критика: "О, как прекрасна эта Маргарита на сцене!"
Сегодня голой спиной разве можно удивить? Сегодня табунами по сценам и экранам бегают голые вакханки, сотрясая прелестями все твердыни театральных традиций бескрайней родины…
Осень 1994 года. Я два года не играл на Таганке, прилетел из дальних краев, неожиданно для себя самого сговорился с коллегами, провел две репетиции и - сыграл. Был удивлен переполненности зала, слитности зрительских реакций, лицам молодых людей, дружным овациям ("как на премьере").
Но почему я так беспокоен, почему старая (и любимая) роль заново тревожит и мешает уму-разуму? Здесь надо сознаться: я давно поверил в чудеса. Более того: моя любовь к России прямо связана с верой в чудеса. Она вся проистекает из любви к искусству, и значит, необъяснима. Значит, мое волнение, мое беспокойство перед выходом на сцену оправдано свыше: Россия, Сцена, Маргарита… Я - Воланд, холодеет кровь… В густой тени булгаковской прозы приятно чувствовать себя… фразой, вырванной из контекста.
Сквозь многодырчатый мохнатый занавес я снова вижу старый зал театра. Плетеный серо-коричневый гигант носился, пылил и сметал все живое в "Гамлете" с 1971 года до июля 1980-го, когда умер Владимир Высоцкий. Тогда же умерла и моя роль Клавдия. Но с 1977-го, с апреля месяца, занавес, придуманный Давидом Боровским, так же мечется и скрипит среди сборных декораций в "Мастере и Маргарите". Вот тут же, вот так же, в сюртуке и с тростью, с брошью на горле, весь в черном, я торчал семнадцать лет назад, за два звонка до пролога, и разглядывал публику в дырявую шерстяную сеть. А потом занавес был свернут и два года пылился в ангаре позади театра. А потом вернулся домой великий режиссер, поглядел из зала, как восстановили его "Мастера", произнес несвойственные ему слова благодарности актерам, и пошел спектакль как ни в чем не бывало. А потом время дало трещину в эпохе, в людях и в театрах. Губенко - человек, сочинивший историю возвращения Любимова на Таганку, стал министром. И очень скоро расколол старую семью и объявил себя директором половины Таганского театра.
Двадцать пять лет испекал я капустники-тагашники… Вот и под занавес нашей "драмо-комедии" - само напрашивается… Все хорошее в искусстве начинается с любви, так? "Таганка" началась со слова, корень которого "Люб" - Любимов. "Таганка" закончилась именем человека, в корне которого - "Губ" - губитель - Губенко… Каламбур названий. Услышим: первый спектакль - "Добрый человек". Первая рана, через двадцать лет - спектакль с названием "На дне". Первый, обещанный Губенко: "Доходное место". Из последнего списка любимовских премьер: "Пир во время чумы" и "Самоубийца".
Но прочь печали, разве нас можно удивить "свинцовыми мерзостями жизни"? Удивляться нужно только чудесам, которые всё не устают являться в России. И у меня на глазах случилось такое чудо: история треснула по швам, надежды окоченели возле разбитого корыта, и вдруг я снова с черной тростью торчу под занавесом и за два звонка до пролога вижу, слышу, чую… как в сказке… всё, всё, всё, как раньше!
Воланд в романе:
- А вам скажу, что ваш роман вам принесет еще сюрпризы.
- Это очень грустно, - ответил Мастер.
- Нет, нет, это не грустно, - сказал Воланд, - ничего страшного уже не будет…
Публика горячая, умная, красивая. Билеты спрашивают у эскалаторов в метро. "Мастер и Маргарита", через пропасть лет и лиц, звучит новостью - и для зрителей, и для исполнителей. За окном грохочет рыночная быль, а здесь у нас - сказка. И мы рождены, оказывается, чтоб сказку оставить сказкой.
Я смотрю за занавес. Москва. Чудеса на сцене, чудаки в зале - новые чудаки. Сегодня зрители - непонятны мне. В зале сидят явно неискушенные любители. Реагируют иначе, молчат иначе… Я перебегаю взглядом с одного на другого: кто вы, зрители? Что вас привело сегодня на этот старый спектакль? Новые ли вы русские или просто обычные жители грустного времени и вас притягивает легенда о Мастере? Вы отложили в сторону соблазн посетить супершумные шоу, а также пересилили понятную аллергию к семейным дрязгам на Таганке.
Я боялся играть. Я хочу играть. Я буду играть, потому что чудеса и чудаки продолжаются. Потому что и Булгаков, и мохнатый занавес "Гамлета" - необъяснимо живы - несмотря, невзирая и вопреки.
Из-за передела "Таганки" многие роли в "Мастере" остались без исполнителей. Сегодня я играю с новыми Маргаритой, Бездомным, Коровьевым. В сценах "Казни", "Бала" и "Грибоедова" - только молодежь, выпускники любимовской студии. На репетиции они испугали меня любительщиной, но вдруг на публике их как подменили! Через них обновилась кровь старого спектакля. Ведь он - живой организм. Он так же стареет, болеет или молодеет, как всякий человек. То, чего эти актеры и актрисы недобрали в годы учебы, они экстерном схватывают в атмосфере крепко сделанного представления. И здесь их главный учитель - публика, живые реакции. И все прошлое мне видится-слышится сквозь шерстяные щели за два звонка до выхода булгаковского сатаны.
Предпоследняя по времени встреча с книгой Булгакова - в Праге. Я ставлю "Пиковую даму" П.Чайковского, а ночами читаю в студии радиостанции "Свобода" весь роман. И трижды поражаюсь новому открытию: как летит работа. Мистическая Прага, мистическая "Пиковая дама", мистическое поле текста - и так легко дышится. Репетиции оперы утомляют, выматывают с утра до середины дня. Чуть отдохнув, идем с Галей от Карлова моста к Вацлавской площади, за ней - "Свобода". Погружаюсь в страницы, попадаю в обьятья драгоценных событий, читаю, играю, повторяю. Потом запись проходит проверку. Далеко за полночь ставим точку. Расходимся по домам и опять поражаемся: нет усталости совсем! Так легко, так хорошо! Роман словно расколдовал весь мистический набор и, в благодарность за любовь и старательность, одарил чудесной легкостью. Записано шесть дисков, семь часов. Запись книги "Мастер и Маргарита" была для меня экзаменом, личной формой благодарности М.Булгакову - за книгу и Ю.Любимову - за спектакль.
ЭПИЛОГ
Но ни чтение, ни игра на сцене, ни записи, ни даже лекции "на тему" никак не могут отменить "загадки Воланда". Я так и не сумел - с 1966 года, с журнальной "Москвы" - прояснить для себя суть образа. Не буду называть сакральных слов, процитирую в финале - самое начало:
- Так кто же ты, наконец?
- Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Может быть, вдруг да прояснится загадка сатаны. Театр обладает волшебной силой - ставить вопросы бытия. Не научно, не книжно, а как-то по-своему. Таинственно, безоружно и волшебно - за что и был любим Мастером Булгаковым.
- Так, стало быть, этим и кончилось?
- Этим и кончилось, мой ученик, - отвечает номер сто восемнадцатый, а женщина подходит к Ивану и говорит:
- Конечно, этим. Все кончилось и все кончается… И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет как надо.
Совпадение на прощанье: я родился в Москве, в квартире "номер сто восемнадцать". Прошу прощения за нескромность. Впрочем, как уже было сказано:
- Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной, - отозвался кот.
- Праздничную полночь приятно немного и задержать, - ответил Воланд. - Ну, желаю вам счастья!
- Прощайте! Прощайте!
- До свидания, - сказал Воланд.
ДО СВИДАНИЯ.

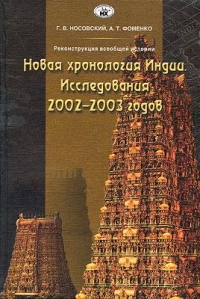

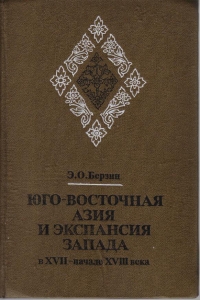
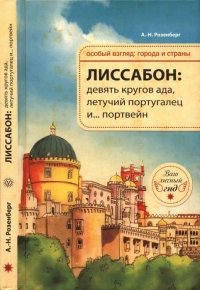
Комментарии к книге «Театр моей памяти», Вениамин Борисович Смехов
Всего 0 комментариев