Пьер Видаль-Накэ Черный охотник Формы мышления и формы общества в греческом мире
Научно-издательский центр «Ладомир», Москва, 2001.
Книга, которую обязательно надо прочитать
Каждая книга, написанная ученым, будь она академической, строго научной или популярной, рассказывает читателю не только о профессиональных знаниях, но и о нем самом — его взглядах, интересах, жизненной позиции. Более того, нередко можно представить (или мысленно нарисовать) внешний облик автора книги.
Когда три десятилетия назад я впервые познакомился со статьями и книгами выдающегося французского историка Пьера Видаль-Накэ, я был, в буквальном смысле, потрясен широтой его познаний, высочайшим профессионализмом историка-классика, смелостью суждений, оригинальностью решения поставленных проблем. Уже заочно я проникся к нему глубокой симпатией и почтением. Через несколько лет мне посчастливилось лично познакомиться с Видалем — так французы уважительно и несколько вольно величают признанного мэтра французской науки о древности.
Профессор оказался человеком небольшого роста, совсем не атлетического телосложения, но и удивительно энергичным, очень подвижным, на редкость остроумным, даже язвительным, прекрасным рассказчиком, блестящим знатоком мировой литературы и искусства. Один из самых любимых его писателей — Борис Пастернак. Будучи в Москве гостем Российской Академии наук, Пьер Видаль-Накэ поехал в Переделкино, чтобы увидеть дом писателя и посетить его могилу.
Во Франции книги и статьи профессора Видаль-Накэ пользуются большой популярностью не только среди ученых, но и среди студентов и широких кругов читателей, его лекции собирают огромную аудиторию. Особая популярность Видаль-Накэ во Франции объясняется еще и тем, что он смело и открыто отстаивает свои взгляды, научные и гражданские позиции, которые часто расходятся с устоявшимися традициями, нормами и догмами.
Один из лучших его научных трудов «Черный охотник» был впервые издан во Франции в 1981 г., и с тех пор переводы этой книги появились в разных странах — от США до Болгарии. Теперь, хоть и с большим опозданием, с ней может познакомиться и русский читатель.
Выход этой книги имел не только научное значение, но и стал событием в сфере культуры. Она — очень французская и по направленности, и по умению автора синтезировать самые разные сферы человеческого знания, и по стилю. В ней в полной мере проявляется личность автора — замечательного французского ученого и известного общественного деятеля, его пытливый ум и обостренное чувство совести и собственного достоинства.
Самые разные сферы жизни древнегреческого общества нашли отражение в этом труде — восприятие древними греками пространства и времени, традиции военной службы и их этнографические корни, положение тех слоев населения древнегреческих городов-государств, которые находились за пределами гражданского коллектива (женщин, рабов, ремесленников), представления о самом греческом городе-государстве, полисе, реальном и идеальном.
Конечно, со многими общими выводами, предлагаемыми автором, и его конкретными интерпретациями можно не соглашаться. Это естественный и постоянный спор, часто острый, диалог ученых-антиковедов — сторонников разных научных школ. Но значимость «Черного охотника» от этого не уменьшается, а даже, думается, возрастает.
Пьер Видаль-Накэ — историк, антрополог и культуролог-структуралист одновременно — избрал для исследования те области древнегреческой истории, в которых она переплетается с мифологией, и те сферы мифологических представлений древних греков, где наиболее отчетливо отразились их общественные отношения. Черный охотник, символический образ юноши, который готовится стать воином, не случайно дал название всей книге. Черный охотник стоит на грани двух миров, ищет (и находит) свое место в обществе.
И, подобно ему, сам автор книги пытается связать события прошлого и настоящего, понять современность, используя знание древности. Публикуемая в качестве приложения статья «Атлантида и нации» раскрывает еще одну грань таланта Пьера Видаль-Накэ, которая столь важна в наше время: историк блестяще показывает, как мифология и мифотворчество могут не только быть объектом исследования ученых, но и использоваться реакционной и националистической идеологией, решительно выступает против попыток фальсифицировать историю.
Каждому, кто интересуется историей, и прежде всего историей античной эпохи, советую обязательно прочитать талантливую книгу выдающегося французского ученого Пьера Видаль-Накэ.
Г. М. Бонгард-Левин,
академик Российской Академии наук,
иностранный член Французской
Академии надписей и изящной словесности,
Президент Российской ассоциации антиковедов
О «Черном охотнике» и его авторе
«Философ говорит, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды, но историк может подниматься вверх по течению времени» — в этом отчасти парадоксальном высказывании Пьера Видаль-Накэ, ставшем эпиграфом к одной из статей в посвященном ему сборнике[1], заключен глубокий смысл. Действительно, что, как не время, служит тем инструментом, с помощью которого историк, подобно платоновскому демиургу, любимому персонажу автора «Черного охотника», создает свои произведения? И что, как не время, выступает в роли собеседника, с которым историк ведет свой диалог? Великолепную иллюстрацию на тему «Историк и Время среди символов различных религий, культур и эпох» читатель найдет на страницах этой книги. Историк и время, история и память — проблема связи между ними, пожалуй, центральная в творчестве П. Видаль-Накэ. И она же — источник, дающий ему, «историку по призванию и профессии»[2], мужество и силы плыть вверх по течению наперекор неумолимому времени и наводить мосты между настоящим и прошлым вопреки знаменитому афоризму Гераклита.
Писать о П. Видаль-Накэ легко и сложно. Легко — потому, что несколько лет тому назад мне посчастливилось познакомиться с ним в Москве и затем посещать его семинары в Париже; еще потому, что о нем сегодня пишут его коллеги, друзья и ученики[3], да и сам он, выступая продолжателем традиций «Исповеди» Жан-Жака Руссо, недавно опубликовал два тома своих «Мемуаров», в которых подробно рассказал о своей жизни, протекавшей в «рукопашной схватке» с двадцатым веком — «эрой тираний» и «веком крайностей»[4]. Сложно — потому, что слишком многогранно творчество этого историка: он одновременно специалист по античности и новейшей истории, стремящийся «найти точки соприкосновения между вещами, которые, согласно традиционным критериям сравнительно-исторического анализа, их иметь не могут и не должны»[5]; необычайно широк круг его профессиональных интересов — от поэм Гомера и Гесиода до документов студенческой революции 1968 г., от Платона до Жореса, от мифа об Атлантиде до коммунистических утопий двадцатого столетия; чересчур пестр спектр его исследовательских методов — здесь и традиции немецкой классической школы источниковедения, и достижения французского структурализма, и открытия англо-американских антропологов, и школа «Анналов», и марксизм. По моему глубокому убеждению, а также по мнению моих коллег, участвовавших в подготовке к выходу в свет этой книги, давно пора познакомить русских читателей с П. Видаль-Накэ и его «Черным охотником». В России труды этого автора малоизвестны[6], тогда как на Западе «Черный охотник» вот уже два десятилетия считается классической работой по истории древней Греции.
Пьер Видаль-Накэ (родился в 1930 г.) сегодня, бесспорно, один из самых крупных французских историков, по масштабу и влиянию на современное антиковедение сопоставимый с М. Финли и А. Момильяно, с которыми его связывали десятилетия дружбы и сотрудничества. Автор свыше двадцати книг и множества статей по античной (прежде всего древнегреческой) истории, истории евреев с древнейших времен до наших дней, историографии нового времени, истории двадцатого столетия, в недавнем прошлом (до ухода на пенсию) профессор Школы высших исследований в области социальных наук и директор Центра сравнительного изучения древних обществ, более известного как Центр Луи Жерне (назван по имени выдающегося французского эллиниста), П. Видаль-Накэ считается одним из мэтров так называемой «парижской школы», представленной также именами Ж.-П. Вернана, М. Детьенна и Н. Лоро («три мушкетера и д'Артаньян», как в шутку называет себя и своих коллег автор «Мемуаров»[7]). К открытиям этой школы я обращусь чуть позже, когда буду говорить о вкладе П. Видаль-Накэ в изучение древнегреческой истории, а сейчас скажу несколько слов о нем как об историке современности, историке — политике и гражданине, «историке-личности» (по определению Ж.-П. Вернана[8]), поскольку без этого портрет автора «Черного охотника» будет неполным.
В самом деле П. Видаль-Накэ трудно назвать кабинетным ученым, эрудитом, живущим в гегелевском «тихом царстве милых видений», о котором он с иронией говорит в предисловии к «Черному охотнику». Достаточно сказать, что его первой книгой было документальное исследование так называемого «дела Мориса Одэна» — трагической истории французского математика, выступившего против войны, которую Франция вела в Алжире в 1954—1962 гг., арестованного и погибшего в полицейских застенках[9]. После этой книги, получившей похвальный отзыв Ж.-П. Сартра[10], имя молодого историка стало известным, о нем заговорили как еще об одном интеллектуале, вовлеченном в политическую жизнь, как о продолжателе традиций «вечного дела Дрейфуса». В 1958—1961 гг. П. Видаль-Накэ — активный участник движения против войны в Алжире, автор газетных статей против генералов-путчистов. Он подписывает «Манифест 121», призывающий к бойкоту военной кампании, за ним организована слежка, его доставляют в полицейский участок и отстраняют от преподавания в Каннском университете. Спустя много лет П. Видаль-Накэ напишет, что, несмотря на провал демократических и светских преобразований в Алжире, «освобождение алжирцев было справедливым делом», и у него хватит мужества признать: в конечном счете именно французы несут ответственность за деспотический режим и анархию, царящие в этой стране сегодня[11]. Война США во Вьетнаме, обострение советско-китайских отношений, арабо-израильский конфликт, студенческое движение 1968 г. во Франции, распад СССР и Югославии — на все эти события французский историк откликался публицистическими статьями или обстоятельными научными исследованиями[12]. Во времена «смут и тревог» П. Видаль-Накэ всегда стремился говорить правду, он продолжает это делать и сегодня.
Что заставляет его вести эту борьбу, быть, по его словам, «историком современных кризисов и преступлений»?[13] Думаю, не ошибусь, если скажу: долг человека, гражданина и историка. «Моя жизнь, — пишет П. Видаль-Накэ, — была посвящена истории, памяти и правде»[14]. В его представлении эти три ключевых слова связаны между собой. Стремление к истине должно быть врожденным чувством историка, его «ремесло требует умения говорить правду»[15]. Цель истории как науки — установление истины с помощью (или благодаря) памяти. Мнемозина и Клио неразлучны: без истории нет памяти, но и без памяти не может быть истории: вспомним «1984» Джорджа Оруэлла или «манкуртов» Чингиза Айтматова. Свой человеческий и гражданский долг П. Видаль-Накэ реализует в профессии историка — свидетеля истины и гаранта памяти, как индивидуальной, так и коллективной. Есть и глубоко личные причины выступлений П. Видаль-Накэ против забвения истории и всякого рода фальсификаций прошлого теми, кого он называет «убийцами памяти»[16]: его родители погибли в 1944 г. в газовой камере Освенцима.
Война прошла трещиной через всю его жизнь[17], трагическое в истории — идет ли речь о древнегреческой трагедии, преступлениях французской армии в Алжире или геноциде евреев во время второй мировой войны[18] — стало одной из основных тем его творчества[19]. Отсюда его обостренный интерес к проблемам расизма, национализма и прочих общественных «болезней», которые он исследует, движимый инстинктом не только коллекционера и архивиста[20], но и (добавил бы я) врача—в надежде найти от них лекарство.
И все же в научном мире П. Видаль-Накэ прежде всего известен как специалист по истории древней Греции. «Греция была и остается, — пишет он в "Мемуарах", — моей областью исследования: Греция философская, Греция поэтическая и литературная, Греция политических институтов, Греция трагедии, ... Греция историков»[21]. Еще в конце 40-х — начале 50-х годов, обучаясь в парижском лицее Генриха IV, а затем в Сорбонне и коллеже Севинье, П. Видаль-Накэ увлекся (под влиянием работ В. Голдшмидта и занятий у А. Маргеритта и А. И. Марру) темой историзма у Платона, и этот интерес он сохранил на всю жизнь — читатель сможет убедиться в этом, обратившись к «Черному охотнику» и более поздним работам историка[22]. В споре с К. Поппером, считавшим Платона абсолютным реакционером, «классическим теоретиком декаданса», П. Видаль-Накэ, реабилитирует платоновскую философию истории. Да, исторические рассуждения Платона "двусмысленны и полны противоречий, которые, однако, обусловлены противоречиями самой эпохи. Подобно Геродоту или Фукидиду, Платон-историк описывает современную ему действительность (de te fabula narratur), но в отличие от них Платон-философ строит утопические модели и творит мифы, с помощью которых пытается воздействовать на эту действительность[23]. П. Видаль-Накэ не отделяет одно от другого, но в конечном счете отдает предпочтение Платону-историку, «свидетелю трансформаций и даже кризиса, которые греческий полис узнал в IV в. до н. э.»[24].
Позже к платоновским штудиям добавились новые темы и сюжеты, связанные с историей древней Греции, в первую очередь история мышления, ментального (imaginaire — «воображаемого», как говорят французы) и антропология древних греков. Именно этим проблемам посвящены все четыре раздела «Черного охотника». Благодаря исследованиям в этих областях П. Видаль-Накэ вошел в анналы исторической науки как один из ярких представителей так называемой «парижской школы», основателем которой считается философ, психолог и историк Ж.-П. Верная. Знакомство с этим выдающимся человеком и ученым, состоявшееся в 1960 г., было важным событием в жизни П. Видаль-Накэ, предопределившим его дальнейшую творческую судьбу. На молодого историка большое влияние оказала книга Ж.-П. Вернана «Происхождение древнегреческой мысли»[25]. Выход в свет этой работы стал вехой в истории изучения древнегреческой философии и цивилизации в целом; необходимость в появлении подобного исследования назрела после дешифровки линейного письма «Б» М. Вентрисом. Открытие гениального англичанина, прибавившее к греческой истории еще, как минимум, тысячу лет, вновь поставило перед историками вопрос: что такое «греческое чудо» и когда оно началось — в VIII в. до н. э. или в крито-микенскую эпоху? По мнению одних, истоки «греческого чуда» следовало искать во II тысячелетии до н. э. (так, А. Ван Эффентерр полагал, что на Крите минойского времени наряду с дворцами существовали и полисы). Другие (например, М. Финли) считали, что крито-микенская Греция более близка древневосточным цивилизациям, чем полисной Греции I тысячелетия до н. э. Ж.-П. Вернан склонялся ко второй версии, утверждая, что возникший на руинах дворцовой цивилизации греческий полис представлял собой совершенно новую структуру, и что греческий разум был порождением именно полиса. П. Видаль-Накэ целиком воспринял эту идею: «Истинный разрыв приходился не на язык, а на учреждения: возникновение греческого города, полиса, иными словами, политического пространства, в конце IX в. до н. э., проводило решительную разделительную черту. Между линейным письмом "Б", служившим нуждам счетоводов из царского дворца, и алфавитным письмом, которое адресовалось всем, пролегала пропасть в несколько веков, на которые приходилось полное разрушение одного мира и возникновение другого»[26]. В своем программном введении к «Черному охотнику» он называет классическую Грецию «цивилизацией политического слова», греческий разум — «политическим разумом», а в главе, посвященной эволюции мышления греков — от мифологического к рациональному — приходит к выводу о том, что подобная эволюция была возможна лишь в условиях полиса, где «всякая человеческая деятельность была... деятельностью политической»[27]. Со временем знакомство П. Видаль-Накэ с Ж.-П. Вернаном переросло в дружбу (даже «братство») и тесное сотрудничество — за последние три десятилетия они опубликовали несколько совместных работ по истории греческой цивилизации[28].
По словам О. Меррея, П. Видаль-Накэ наглядно показал, что «категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности»[29]. С этим трудно не согласиться, особенно если под «категориями воображаемого» подразумеваются представления о пространстве и времени, исследуемые французским историком на примере поэм Гомера и Гесиода, сочинений трагиков, диалогов Платона и других античных источников. Этой проблеме он посвятил ряд статей (они составляют первый и, частично, четвертый разделы «Черного охотника») и книгу о Клисфене, написанную в соавторстве с П. Левеком[30]. В статье «Значение земли и жертвоприношения...» рассматриваются пространство и время такими, какими их изобразил Гомер: пространство «строится на противопоставлении между реальным и воображаемым, между богами, монстрами и людьми, между жертвоприношением и варварством», а время представляет собой переход от «золотого века» Кроноса к «земному веку» Зевса. В контексте этих представлений странствия Одиссея есть не что иное, как возвращение в «наш», земной мир из мира фантастического, мира «золотого века» с его сиренами, циклопами и феаками[31]. В статье «Время богов и время людей» автор исследует формы времени, известные древним грекам, и делает вывод, что в эволюции этих представлений наблюдался своего рода «циклизм»: от циклического времени Гомера к линейному времени авторов V в. до н. э., а от него—к платоновскому «подобию вечности, бегущему по кругу»[32]. Статья об Эпаминонде, написанная совместно с П. Левеком еще в конце 50-х годов, фактически стала для П. Видаль-Накэ началом изучения связей между пространством, временем и военно-политическими учреждениями греческого города-государства. Беотийский военачальник Эпаминонд сумел одержать ряд блестящих побед благодаря реорганизации военного строя, которую он провел под влиянием пифагорейца Филолая, выдумавшего идеальное пространство, где правое и левое были равнозначны. Эпаминонд вел войну как философ, он «показал себя выдающимся полководцем не вопреки своим философским взглядам, но благодаря им»[33]. Его не менее знаменитый предшественник афинянин Клисфен считается родоначальником афинской демократии, проведшим ряд важнейших реформ, включая введение нового территориально-административного деления Аттики и нового календаря. В книге, посвященной этим преобразованиям Клисфена, говорится о влиянии на них передовых идей ионийских философов о времени и пространстве.
Категории воображаемого представляют интерес для П. Видаль-Накэ как объект коллективной памяти. Традиция, миф и утопия, являясь формами этой памяти, хранят информацию об обществе и его институтах; ментальное и социальное, восстанавливаемые на основе текстов, тесно переплетены между собой и поэтому рассматриваются автором «Черного охотника» в неразрывном единстве. «Объект моего исследования — не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать»[34]. Очерки третьего раздела книги посвящены главным образом представлениям древних греков о рабах, женщинах, ремесленниках и ментальному миру этих «маргинальных» социальных групп. Сквозь мифологическую традицию, представления античных авторов и внутренний мир самих «маргиналов» П. Видаль-Накэ пытается разглядеть контуры того общества, к которому они принадлежали, той «господствующей культуры», которая сделала их «аутсайдерами» и одновременно «скрытыми героями». Ментальный мир, воображаемое — источник вымыслов и утопий, хорошо знакомых грекам на протяжении всей их культурной истории от Гомера до Ямбула. В четвертом разделе книги, который называется «Полис вымышленный и полис реальный», автор убедительно показывает на примере мифов Платона о золотом веке и Атлантиде, что за ними скрываются реалии греческой жизни V—IV вв. до н. э. и что с помощью этих мифов и утопий данные реалии порой могут стать более понятными, близкими для исследователей, чем с помощью строго документальных свидетельств. При этом, однако, П. Видаль-Накэ не делает в каждом отдельном случае какой-то один или несколько выводов, а предлагает набор возможных ответов, «поскольку ментальный мир есть факт возможного, а не достоверного»[35].
В 60-е годы П. Видаль-Накэ увлекся структурализмом и особенно его логическим методом: мыслить «парами оппозиций» — излюбленным аналитическим приемом автора, используемым им в «Черном охотнике». Вслед за Ж.-П. Вернаном он одним из первых стал вводить структурный анализ в изучение древнегреческой истории. Однако, строго говоря, П. Видаль-Накэ никогда не был структуралистом в философском смысле слова и никогда не считал себя поклонником и последователем К. Леви-Стросса. Структурный анализ для него — «исключительно эвристический инструмент», а не самоцель[36], но в некоторых случаях — особенно когда речь идет о мифологии, антропологии и военной истории древней Греции — он играет едва ли не ключевую роль. Об этом свидетельствует второй раздел книги, посвященный древнегреческим гоплитам и юношам, собирающимся стать гоплитами. Характерно, что П. Видаль-Накэ отводит одному из очерков этого раздела («Черный охотник и происхождение афинской эфебии») центральное место в книге, названной по данному очерку, который, по словам автора, сыграл в его жизни важную роль[37]. В нем историк впервые обратился к структурной антропологии, а в качестве объекта исследования выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских эфебов и спартанских криптов. Его предшественниками здесь были А. Ван Геннеп и А. Жанмэр, изучавшие обряды инициации в первобытных (например, африканских) обществах и показавшие связь между этими обрядами и практикой эфебии и криптии в древней Греции. Новым в подходе П. Видаль-Накэ было то, что обряды инициации он стал интерпретировать через парные оппозиции: эфеб — гоплит, сырое — вареное, черный — белый, дикий — культурный, тайная охота — открытый бой, agros — polis и т. д. Так на свет появился «черный охотник» — юноша в черном плаще, персонаж, соединивший в себе черты двух мифических героев (юного Меланфа и охотника Мелания), обитающий в дикой местности эфеб, не прошедший инициацию, «антигоплит», «символ переходного состояния»[38]. С помощью этого емкого образа, ставшего весьма популярным среди французских антиковедов (учениками и последователями П. Видаль-Накэ в изучении этой темы можно считать Ф. Артога, Ф. Лиссаррага, А. Шнаппа и др.), автор интерпретировал обряды перехода от одной возрастной группы к другой, показал их роль в религиозной, социальной и политической жизни древних греков, продемонстрировал великолепное умение вписывать в исторический контекст данные мифологии и антропологии, без чего эти данные — всего лишь факты для туристического путеводителя.
Принципиальная важность исследовательского подхода, предложенного автором статьи о «черном охотнике», состояла в том, что он внес свой вклад — после работ Л. Жерне, Ж.-П. Вернана, К. Поланьи, Э. Доддса, М. Финли и др. — в становление новой школы антиковедения, порвавшей с позитивизмом и чисто филологической направленностью старой немецкой школы, господствовавшей на Западе до середины двадцатого столетия. Именно антропология и структурализм, особенно популярные среди историков «парижской школы» в 60—70-е годы, позволили сделать важнейшее открытие последних десятилетий в области античной истории — развенчать идеализированный миф о «греческом чуде» и показать глубокое отличие античной цивилизации от нашей, античного человека — от современного. «Греция без чудес», более близкая первобытным народам и культурам, чем современным европейцам, и поэтому рассматриваемая сквозь призму антропологии, — таков лозунг школы, к которой принадлежит П. Видаль-Накэ и без достижений которой сегодня трудно представить науку об античности[39].
Впрочем, круг интересов и исследований П. Видаль-Накэ-антиковеда всегда был более широким. В «Мемуарах» он пишет, что последние 30 лет его занятий древнегреческой историей «проходили под знаком» не только Ж.-П. Вернана, но и М. Финли и А. Момильяно[40]. С автором «Мира Одиссея»[41] он познакомился в начале 60-х годов, когда работал над темой об историзме произведений Гомера и, разумеется, знал о книге М. Финли, в которой вводилось понятие гомеровской эпохи, существовавшей за несколько поколений до самого поэта — своего рода «эллинского средневековья» (XI—IX вв. до н. э.). В отличие от английского историка, П. Видаль-Накэ находит и подчеркивает элементы синхронного в гомеровских поэмах, в частности сквозь их строки видит контуры зарождавшегося в VIII в. до н. э. греческого полиса[42]. Влияние М. Финли оказалось более ощутимым в работах французского историка по социальной и экономической истории древней Греции: в написанной им совместно с М. Остином книге, в которой в популярной форме излагаются взгляды М. Вебера, К. Поланьи и М. Финли на древнегреческие экономику и общество и которая до сих пор считается одним из лучших учебных пособий для студентов-античников[43], в статьях о древнегреческом рабстве, помещенных в третьем разделе «Черного охотника». Но и здесь влияние М. Финли не было абсолютным: говоря о рабах, П. Видаль-Накэ гораздо большее внимание, чем кембриджский профессор, уделяет мифологической традиции и вопросам рабского самосознания[44]. Тем не менее на протяжении многих лет работы М. Финли служили П. Видаль-Накэ «источником фактов»[45], и не случайно он посвятил анализу его творчества большую статью, а также выступил инициатором перевода на французский язык «Древней экономики» и других работ выдающегося английского историка[46].
История истории — еще одно направление исследований П. Видаль-Накэ, и здесь среди его предшественников необходимо назвать А. Момильяно: благодаря ему автор «Черного охотника» хорошо усвоил, что «написание истории — бесконечный процесс»[47]. На страницах этой книги читатель найдет немало мест, посвященных античной историографии, а некоторые из ее очерков («Бессмертные рабыни Афины Илионской», «Дельфийская загадка», «Атлантида и нации») содержат подробные экскурсы еще и в историографию средневековья и нового времени. Именно историография, будучи «бесконечным процессом», служит П. Видаль-Накэ тем «мостом», который связывает античный мир с современностью. Разбираемый автором «исторический роман» Платона об Атлантиде, дошедший из глубины веков и — как феномен национальной идеологии и пропаганды — не потерявший и сегодня своей актуальности, является убедительным тому примером. Проблемы связи времен в идеологии, политике и историографии (а также их внутренней взаимосвязи) П. Видаль-Накэ рассматривает в книге «Греческая демократия: взгляд со стороны», где, в частности, показывает, какую важную роль в политической и культурной жизни Франции XVIII—XIX вв. играли «идеальные» Афины и Спарта, как их примером вдохновлялись французские революционеры и как с легкой руки Ренана возник миф о «греческом чуде»[48].
По словам П. Видаль-Накэ, его работа и жизнь оказались подчиненными «закону раздвоения». Действительно, всем своим творчеством он показывает, что в истории, в отличие от политики, не может быть вопросов, требующих однозначного ответа. Не случайно сочинительный союз «и» присутствует во всех поднимаемых в «Черном охотнике» проблемах, идет ли речь о греческом дискурсе с его парами оппозиций, о полярных социальных группах в греческом полисе или о двусмысленности статуса платоновских ремесленников. Сам подзаголовок книги — «Формы мышления и формы общества» — говорит об изначальном стремлении автора к такого рода двойственности. «Это раздвоение, — продолжает П. Видаль-Накэ, — имеет и экзистенциальное измерение. Разве я не являюсь по-своему евреем и греком, зрителем и участником, ... отрешенным и заинтересованным?»[49] Автор настоящей книги — как бы сторонний наблюдатель, который, подобно черному охотнику, подходит к греческому полису окольными путями, «со стороны его дальних окраин, границ, а не близлежащих равнин»[50], и в то же время незримо присутствует на каждой странице своего любимого произведения, где, по его признанию, собраны его самые личные размышления о древнегреческой цивилизации (достаточно указать на явную параллель между образом одинокого черного охотника и трагически и рано ушедшим из жизни младшим братом автора Клодом, памяти которого эта книга посвящена)[51]. Взгляд со стороны и одновременно изнутри, бесстрастная объективность ученого и субъективный подход поэта и мечтателя тесно переплетены на страницах «Черного охотника» и придают книге неповторимое своеобразие.
Для творчества П. Видаль-Накэ характерны многосторонность (или, как говорит он сам, poikilia — «пестрота»[52]) и парадоксальность. На склоне лет ему проще сказать, кем он не был, чем кем он был. Он не был филологом-классиком или философом, хотя постоянно работал с манускриптами, изучал греческих трагиков и размышлял над Платоном (причем эти размышления — абсолютно в духе автоpa «Черного охотника»: «Я писал о Платоне, не задумываясь, идет ли речь о Платоне для "филологов", "философов" или "историков"»[53]). П. Видаль-Накэ не был археологом, но неоднократно участвовал в раскопках античных памятников на Крите, Фасосе, в Южной Италии и использовал археологические материалы в своих исследованиях. Его трудно назвать эпиграфистом, хотя он, ученик Л. Робера и друг Ф. Готье, не раз разбирал и интерпретировал греческие надписи. Строго говоря, его нельзя считать и папирологом, но он опубликовал интереснейшую работу о «расписании посевов» в птолемеевском Египте[54] и фактически создал собственную школу папирологии. По образованию не психолог и не антрополог, он много лет работал и продолжает работать с Ж.-П. Вернаном в области социальной психологии и антропологии древней Греции. Греческий мир от микенского времени до эллинистической эпохи, Восток и Запад античной ойкумены, Рим, Иудея, средние века, новая и современная история — трудно назвать тот период или ту область, которые бы обошел своим вниманием этот историк-энциклопедист. Главный парадокс его творчества состоит в том, что, пытаясь не быть целиком вовлеченным в современные историю и политику, он обращается к древней истории, но через нее, как М. И. Ростовцев до него[55], всякий раз возвращается к современности. Через древнегреческую историю П. Видаль-Накэ пытается понять современную историю и по возможности повлиять на текущий ход событий — не случайно его первой книгой по древней Греции стала работа о Клисфене, основателе афинской (а значит и западной) демократии. Таким образом, будучи дистанцированным, его взгляд на современность приобретает особые ясность, трезвость и остроту[56].
И в заключение еще один штрих к портрету П. Видаль-Накэ. В своих «Мемуарах» он пишет: «Я всегда задавал себе вопрос: как связаны между собой история и красота?»[57] Не берусь судить, нашел ли французский историк ответ на этот вопрос, скажу лишь, что прекрасное — неотъемлемая сторона его творчества, где причудливым образом переплелись сцены охоты на греческих вазах и «Ночная охота» Паоло Учелло, стихи Гомера, Еврипида, Ликофрона, Кавафиса и Рене Шара. Но эта красота не похожа на вечную и неподвижную красоту звезд, которые созерцает Небо из платоновской эпиграммы; она тревожит душу, будоражит ум и заставляет поверить в то, что именно она, красота, и спасет мир. Весьма примечательно, что «Мемуары» П. Видаль-Накэ заканчиваются описанием его любимой картины Питера Брейгеля Старшего «Падение Икара». На фоне безмятежного и спокойного пейзажа (землепашец лениво погоняет лошадь, глазеющий в небо пастух застыл в окружении мирно пасущихся овец, корабли плывут к тихой гавани, рыбак ловит рыбу, а за ним наблюдает обращенный в куропатку племянник Дедала) не сразу увидишь ноги тонущего Икара. Отважный и дерзкий юноша упал в море — и «утонул в пучине всеобщего равнодушия». Против этого вселенского равнодушия, которое изобразил великий художник, против людского равнодушия, которое способствовало стольким бедам, войнам и кровопролитиям, выступал и продолжает выступать на страницах своих произведений автор «Черного охотника»[58].
Итак, двадцать лет спустя «Черный охотник» приходит к русскому читателю, и хочется верить, что эта книга, существенно повлиявшая, по словам критиков, на историографию антиковедения на Западе и ставшая для своего поколения одной из важнейших работ по древнегреческой истории[59], не останется незамеченной. Перевод книги осуществлен группой сотрудников Центра сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН А. И. Иванчиком, Ю. Н. Литвиненко и Е. В. Ляпустиной[60]. С согласия автора русский вариант книги расширен: в качестве приложения к ней добавлены два его новых очерка. «Возвращение к Черному охотнику» — логическое продолжение поднимаемой во втором разделе темы «черного охотника», а впервые публикуемая на русском языке статья «Атлантида и нации» включена в книгу не только потому, что тематически связана с одним из очерков четвертого раздела, но еще (и, пожалуй, в большей степени) потому, что представляется весьма актуальной в наш век массового тиражирования националистических бредней и исторических фальсификаций. Отмечу, что работа над переводом книги была нелегкой, поскольку ее переводчики — профессиональные историки — столкнулись с довольно сложным текстом[61], автор которого, по его собственному признанию, не стремится к «ясности изложения», поскольку его цель — «писать, а не переписывать историю». Что получилось в итоге — судить читателю.
Ю. Н. Литвиненко
К российскому читателю
Итак, через двадцать лет после выхода в свет в 1981 г. французского издания «Черного охотника» публикуется его русский перевод, и я не могу скрыть своих чувств радости и гордости. Я искренне признателен Юрию Литвиненко, взявшему на себя основную часть работы над русским изданием, и остальным ее участникам. Не стану называть их всех, и все же мне следует сказать, как и благодаря кому этот проект был осуществлен.
В страну, которая тогда еще называлась СССР, я совершил единственную поездку, организованную академиком Григорием Бонгард-Левиным. Это было осенью 1990 г., и поездка, несмотря на ее краткосрочность, не осталась без продолжения. Ей предшествовали перевод на русский язык и публикация в «Вестнике древней истории» (ВДИ) — вновь по инициативе Григория Бонгард-Левина — моей статьи «Возвращение к Черному охотнику», столь удачно включенной издателями в настоящий том. Во время путешествия удалось завязать несколько знакомств. Помимо Юрия Литвиненко назову Аскольда Иванчика (впоследствии я имел удовольствие принимать его у себя в Париже), чьи археологические, лингвистические и исторические познания произвели на меня большое впечатление.
Но я упомянул не всех. Читатель этой книги поймет, что русское антиковедение мне не совсем незнакомо. Идет ли речь о дореволюционных ученых, например об А. Никитском, или о более поздних авторах, таких как В. Пропп, чья «Морфология сказки» оказала на меня сильнейшее влияние, — я читал их в переводе либо просил, чтобы мне перевели ту или иную работу, выходившую на русском языке. К сожалению, я не знаю русского, хотя это был родной язык моей бабушки по отцу, и его пытался учить мой отец, когда моих родителей арестовало гестапо 15 мая 1944 г.
Кроме этой биографической детали, как здесь не упомянуть, что Россия никогда не была для меня обычной, рядовой страной, и тому способствовал ряд причин. Разумеется, богатейшая русская литература, знакомство с которой началось, когда мне исполнилось тринадцать лет. Во времена Н. С. Хрущева, когда во Франции был опубликован «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, у меня, как и у многих других, возникло ощущение, что возродилась великая русская литература. Не забуду, как во время моего краткого пребывания в России мне удалось с помощью Аскольда Иванчика встретиться с внучкой Бориса Пастернака, побывать на даче поэта в Переделкине и увидеть его могилу.
Но были и другие причины. Для многих французов моего поколения Россия являлась страной, где воплотилась утопия, где впервые в истории был построен социализм. Россия воспринималась ими как религия, как подобие Святой Земли. Я не разделял их веры, проще говоря, я никогда не был ни членом Французской компартии, ни левым, ни социалистом, ни даже «попутчиком». Тем не менее с 1941 г. и до конца войны в нашем доме, как и во многих других домах, висела карта СССР, на которой булавками обозначали линию фронта. Без сомнения, Сталин — один из величайших преступников всех времен, но остается Сталинград, и в Париже я живу в двух шагах от площади «Сталинград», которую, на мой взгляд, было бы абсурдно переименовывать.
Длительное время, пока Россия была отделена от Запада, контакты и связи с ней не прерывались. Некоторые из нас совершали путешествия в эту далекую страну. Жан-Пьер Вернан (его жена Лида — русская и преподаватель русского языка) ездил туда регулярно. К тому же существовали — как ни удивительно — страны так называемой народной демократии. Они были колониями гигантской советской империи, но они же выполняли посредническую роль между русской и западной культурами. В Польше, Болгарии, Румынии и даже наглухо закрытой Албании я встречался с такими посредниками. Назову одного из них: Бенедетто Браво — итальянца, который чаще пишет по-французски и уже в течение многих лет преподает греческую историю в Варшавском университете.
Слово «посредник» возвращает меня к «Черному охотнику». Что объединяет этот на первый взгляд несвязный сборник? Идея, о которой говорится в предисловии: между группами и классами просматриваются — сквозь ряды структурных оппозиций — посредники, те, кого греки подразумевали под словом metaxy. В платоновском «Пире» таков Эрот, сын Пороса-Дохода и Пении-Бедности.
Пусть эта книга в ее русском варианте будет посредником между древними греками и нами, между Восточной Европой и Западом. Спасибо всем, кто перевел ее.
Русское издание «Черного охотника» я посвящаю памяти великого поэта Осипа Мандельштама и его вдовы Надежды, чьи «Воспоминания» были моей духовной пищей в зрелом возрасте, так же как «Война и мир» — в юности.
Пьер Видаль-Накэ
25 января 2001 г.
Памяти
моего брата Клода 1944-1964
Черный охотник
Привет, охотник с сумкой на плече!
Тебе, читатель, — задавать вопросы.
Прощай, охотник с сумкой на плече.
Тебе, мечтатель, — находить ответы.
Рене Шар. Первая мельница.
Пер. Ю. Н. Литвиненко
Предисловие
Вначале скажу, чем эта книга не является. По установившейся традиции ученые, достигая преклонного возраста, публикуют в одном или нескольких томах свои «Scripta minora» или «Kleine Schriften» («малые произведения»). Часто — уже посмертно — работу по составлению сборника, в котором все должно быть продумано и точно, доводят до конца их ученики. Как правило, на полях нового издания воспроизводится изначальная нумерация страниц. Латинское или немецкое название говорит, что за ним скрыты «малые произведения», которые как бы противопоставляются «большим произведениям», выходящим в свет в благородном облике книги.
По причинам личного характера, которые вряд ли покажутся рациональными, статья для меня служит более удобным, чем книга, способом самовыражения в области греческой истории. Я попытался исправить этот, если угодно, «недостаток» и написал за последнее время серию очерков, надеясь опубликовать на их основе книгу. Однако настоящий том, хотя и содержит различные суждения и оценки, касающиеся Древней Греции, не является ни сборником, ни — если быть более точным — одним из сборников моих статей.
Начну с того, что не все в него включено. Социально-экономическая и политическая история греческого мира, история евреев и их контактов с греческой цивилизацией в эллинистическую и римскую эпохи, история историографии и, в более широком плане, история представлений о греческом мире на Западе — все эти темы здесь отсутствуют. Равным образом это касается и древнегреческой трагедии, исследование которой проводится в тесном сотрудничестве с Жан-Пьером Вернаном (Vernant J.-Р.). Результаты этой работы изложены в наших совместных книгах.
Речь также идет не об обычной подборке уже изданного. Все очерки, за исключением одного, были переработаны. В какой степени и по какому принципу? Не стану говорить о необходимости свести воедино имевшийся материал, исправить мелкие неточности и добавить ссылки для придания большей взаимосвязи между разделами этой книги. Кроме того, следовало помнить о двух вещах. Работа над главами, из которых эта книга состоит, была начата в 1957 г., когда появилось мое «Время богов и время людей», и продолжалась до 1980 г. За этот период многое было создано, открыто или забыто, да и сам я многому научился. Разумеется, я не оставил здесь те свои суждения, с которыми больше не согласен. Для меня было неприемлемым и просто все переиздать — будто бы не было этих двух десятилетий. Возможно, в итоге получился неумело скроенный вариант: где-то он подвергся значительной переделке, где-то — весьма умеренной. В расчет принимались время написания каждого очерка и, особенно, уровень моей компетентности (в одних случаях более, в других — менее высокий) в области тех или иных затрагиваемых проблем. Когда нужно было решить какую-нибудь «загадку», я, конечно, использовал по возможности всю позднейшую литературу независимо от того, разделялись в ней или отвергались мои взгляды. В одних случаях я заимствовал выводы авторов, откликнувшихся на мои работы, в других — оставлял или развивал свои старые выводы. Вопреки распространенному правилу все эти (местами многочисленные) изменения в тексте специально не выделяются. Я не стремлюсь к ясности изложения, которой никогда не отличался, моя цель — писать, а не переписывать историю. Мои вчерашние и позавчерашние тексты не исчезли в «дыре памяти» Оруэлла, они по-прежнему в распоряжении читателя, и каждый, кому такое занятие по душе, может проследить их историю. К тому же всякий раз, когда чье-либо исследование убеждает меня в собственной неправоте, я говорю об этом в примечаниях. Не был переработан лишь очерк об Эпаминонде, написанный в соавторстве с Пьером Левеком [Lévêque Р.) и переизданный с его согласия, за что искренне благодарю его, однако к этому очерку прилагается моя заметка, в которой затронугы вопросы, интересующие меня сейчас.
В меньшей степени переработаны главы, посвященные общим проблемам. Тем не менее всякий раз я делаю краткие замечания (подкрепляя их ссылками) о том, каким мне представляется состояние той или иной проблемы на сегодняшний день.
Вводная глава, носящая программный характер, представляет собой сокращенный вариант статьи, написанной для энциклопедии, и не является собственно историческим исследованием, в данном случае вовсе не обязательным. Принимая во внимание технические сложности, я заметно сократил объем греческого текста.
Сформировать книгу и привести ее к нынешнему виду было нелегко. На это ушло с перерывами почти семь лет, начиная с момента защиты моей докторской диссертации 19 января 1974 г. в Нанси. Я возобновлял эту работу во время своего пребывания в Оксфорде, куда был приглашен в конце 1976 г. Энтони Эндрюсом (Andrewes Α.), который сомневался, смогу ли я один справиться с этой задачей. На самом деле я был не один: существенной частью книги я обязан не прекращавшемуся все эти годы диалогу с Николь Лоро (Loraux Ν.). Она создавала эту книгу вместе со мной в ходе наших многочисленных встреч и бесед. Все слова благодарности не смогут выразить мою признательность ей, и я очень рад, что моя работа вышла практически одновременно с ее «L'Invention d'Athènes» и «Les Enfants d'Amena» (Loraux 1981a; Loraux 19816).
Отметив, чем эта книга не является, скажу, что она собой представляет. Она называется «Черный охотник» не только потому, что одноименный очерк занимает в ней центральное место, но еще и потому, что работа над ним стала важным этапом в моей жизни: именно тогда я открыл для себя структурный анализ как исследовательский метод. Кроме того, подобно черному охотнику, который ходит по горам и лесам, я подхожу к греческому полису со стороны его дальних окраин, границ, а не близлежащих равнин. Быть может, более ясно смысл книги передан в ее подзаголовке — «формы мышления и формы общества в греческом мире», — где сочинительный союз указывает на главное: связь между этими двумя областями, которую я пытаюсь выявить, не рассматривая каждую из них в отдельности.
С первых страниц книги я стремлюсь найти точки соприкосновения между вещами, которые, согласно традиционным критериям сравнительно-исторического анализа, их иметь не могут и не должны. Я не отрицаю, что отдельные сопоставления могут показаться если не изящными, то столь же необычными, как, говоря словами Лотреамона, соседство «на анатомическом столе швейной машинки и зонтика». A priori совершенно не понятно, например, почему для выяснения такой темы, как женщины в комедиях Аристофана или в «Истории» Геродота, следует обратиться к противопоставлению двух разных типов рабства.
Формы мышления и формы общества. С одной стороны, литературные, философские и исторические памятники, мифы и интерпретации, с другой — социальные деяния: война, рабство, воспитание молодежи, сооружение монументов. С одной стороны, воображаемый мир полиса и его граждан, с другой — реальная жизнь с ее обычаями и обрядами, политической и трудовой деятельностью, в свою очередь заключающая в себе элементы вымысла, которые тоже необходимо показать. В принципе, что может быть более абстрактным, чем теория пространства, и более конкретным, чем победа в бою? Каждая из сближаемых мною категорий вполне могла бы стать предметом отдельного анализа, и я, возможно, преуспел бы в изучении каждой из них, но в данном случае меня волнует как раз то, что их связывает. Отделенный от социальной истории, структурный анализ может дать блестящие результаты в области классификации мифов, их дополнения одного другим, установления внутренней логической связи между ними. При этом, однако, существует опасность ухода в гегелевское «тихое царство милых видений», царство, каждый уголок которого заполняется по уже заданной схеме. С другой стороны, социально-экономическая история, такая, какой в Англии она представлена работами Мозеса Финли (Finley M. I.), а во Франции — Ивона Гарлана (Garlan Y.), Филиппа Готье (Gauthier Ph.), Клод Моссе (Mossé Cl) и Эдуарда Вилля (Will Ed.), кажется мне полноценной лишь в том случае, если она дополняется анализом всего ментального, которое сопутствует реальной социально-политической жизни.
История текста и социальная история. Анализ в этой книге часто начинается с текста и направлен на уточнение его смысла. Однако, в отличие от Жана Боллака (Bollack J.) и его сторонников, я не считаю, что смысл имманентно присущ всякому тексту и что текст можно объяснить, исходя только из него самого. Согласно этой философской школе, подарившей нам несколько превосходных работ, анализу текста должно предшествовать выявление всех его наслоений, оставленных традицией, которая начинается с александрийских филологов. Только тогда текст засверкает, словно найденный алмаз, у которого отшлифовали его грани. Но существует ли в действительности такой «чистый» текст? Я, со своей стороны, полагаю, что текст существует не только в лингвистическом, политическом и социальном контексте, но и в традиции, благодаря которой мы этот текст имеем — благодаря рукописям, работе филологов, толкователей, историков. На мой взгляд, эта многомерность текста лежит в основе многомерного восприятия истории. Не существует и чисто социальных феноменов. Ментальное, бесспорно, растворено в социальном: автор греческой трагедии пишет иначе, чем Расин, а афинский военачальник действует на поле боя не так, как Фридрих II. Но и социальное, как это хорошо показал К. Касториадис (Castoriadis С), одновременно является ментальным: например, учреждение Клисфеном афинского полиса с десятью трибами или возникновение трагедии. Социальное более весомо и значительно, но не всегда. Даже когда разрыв между текстом и социальным достигает максимума, как, например, между текстами Платона и тем, что Николь Лоро называет «афинской историей Афин», между ними продолжает существовать сложная взаимосвязь. Здесь мой подход историка имеет много общего с «исторической психологией» Игнаса Мейерсона (Meyerson Ι.) и Жан-Пьера Вернана (Vernant J.-Р.), хотя наши пути разные. Мейерсон и Вернан, отталкиваясь от категорий психологии, которые, как следует из их работ, не вечны и могут изменяться, обращаются к текстам и социально-политической истории. Я же иду обратным путем.
Следует заметить, что выявление такого рода соотношений и выяснение их сути не ведут к созданию некой глобальной схемы, подчиненной Абсолютной Идее или «производительным силам». В отличие от Декарта, объединявшего душу и тело, я не стану апеллировать к шишковидной железе головного мозга и объединять две стороны моего исследования. Вместе со многими своими современниками я хорошо усвоил у Маркса (и не только у него), что слова и поступки людей часто расходятся. Но к этой «формуле жизни по Марксу» я старался относиться не как к простому и окончательному объяснению всего, своего рода телеологии, — основанному на опыте прошлого предвидению будущего, — но как к чему-то незавершенному, несовершенному, требующему критики.
В результате, пытаясь связать ментальное и социальное, я часто теряю непрерывную нить логоса и захожу в тупик. Но желание ясности остается, оно — один из тех соблазнов, с которыми сталкивается каждый исследователь, обращающийся к греческой истории V в. до н. э. Это происходит главным образом потому, что тот мир стремился показать себя с предельной простотой и откровенностью: ясность и прямолинейность социальных отношений, политическая жизнь, протекавшая на площадях. И все же, насколько Афины трагиков сопоставимы с Афинами комедиографов и историков, городом надписей и памятников? Почему мы, используя эти разнообразные «источники», объявляем одни из них достоверными и соответствующими действительности, а другие — ненадежными? Какое право мы имеем все это объединять, не замечая лакун и разрывов, не прибегая, наконец, к «рефлективному суждению» Канта, которое, в отличие от «детерминативного суждения», способно находить общее в частном?
Именно «непрозрачность» социального оправдывает, как мне кажется, попытки в нем разобраться, если прав Жак Бруншвиг (Brunschwig J.), сказавший, что «на руинах разоблаченной, постигнутой, открытой Абсолютной Идеи» люди должны водрузить свои «скромные орудия в виде ответного слова и совместного труда»[62].
План моей книги мог бы быть другим, и в этом я нескромно усматриваю подтверждение скорее его продуманности и связности, чем случайности. Скажу несколько слов в оправдание этого плана в его настоящем виде.
В главе «Вместо введения...» предпринята попытка охарактеризовать «греческое слово». Точнее, в ней приводится ряд противопоставлений, systoichia, в значительной степени обусловивших формирование греческого дискурса. Культурный человек и дикарь, господин и раб, мужчина и женщина, гражданин и чужеземец, взрослый и ребенок, воин и ремесленник — вот некоторые из этих противопоставлений, рассматриваемые в моей книге, впрочем, не обошедшей стороной и совсем другие проблемы.
Далее следуют три очерка, объединенные темой «Пространство и время», хотя отступления на эту тему будут встречаться и в других местах моей книги. Данные категории я не рассматриваю в духе Канта, понимавшего под ними «необходимые представления, которые служат опорой всякой интуиции». Пространство, каким оно изображено в «Одиссее», строится на противопоставлении между реальным и воображаемым, между богами, монстрами и людьми, между жертвоприношением и варварством. После Гомера пространство становится пространством полиса и является атрибутом стратегии его военачальников вплоть до того момента, пока смелые фантазии Эпаминонда не нарушат рамки правил, узаконенных повседневной жизнью гражданской общины. Категория времени тоже рассматривается — от Гомера до кризиса IV в. до н. э. — в русле таких оппозиций, как: боги и люди, циклы и восходящие или нисходящие прямолинейные векторы.
«Юноши и воины» — в этой части книги говорится о взаимоотношениях двух важных персонажей греческого полиса: гоплита, его центрального героя, причем как «реального», сражающегося гоплита, так и гоплита воображаемого, участника ставшей «традицией» битвы при Марафоне в 490 г. до н. э., и того, кто гоплитом еще не стал, но скоро станет, — юноши-эфеба, «черного охотника», которому суждено либо добиться успеха, либо потерпеть неудачу. Гоплит и эфеб, сражение и военная служба — эти социальные феномены рассматриваются здесь еще и как объекты мифа, дошедшего до нас от античности в многочисленных свидетельствах, и мифологии как аналитической дисциплины. Читая этот раздел по порядку, от одного очерка к другому, читатель, возможно, заметит то, что автор шаг за шагом все более углубляется в проблему. Я специально поместил здесь свои работы в той хронологической последовательности, в какой они создавались.
«Женщины, рабы и ремесленники». Полис реальный и полис вымышленный исследуются в этом разделе в их взаимосвязи с подневольными людьми, с женщинами, которые были исключены из политической жизни и могли служить полису лишь в роли рабынь Афины Илионской (если этот обычай действительно столь древний, как утверждает традиция, то, по словам Арнальдо Момильяно (Momigliano А.) мы имеем в нем единственное подтверждение реальности Троянской войны), наконец, с ремесленниками, занимавшими, в отличие от гоплитов, скромное место с краю полисного коллектива.
Эти социальные группы имели каждая свою историю, придуманную самими древними и записанную в словах и понятиях, которые нередко сбивают с толку современных исследователей, свои ряды оппозиций (афинский раб отличается от спартанского илота, раб изображен совсем по-другому) и внутренние связи (например, женщины — рабыни, рабы — ремесленники и т. д.), отразившиеся в мифе, традиции, утопии и живой действительности. Власть женщин в трактовке греческих комедиографов не обязательно ассоциировалась с властью рабов. Социальный строй, даже изображенный в кривом зеркале, сохранял свои общие очертания, хотя традиция была разной в Афинах, Аргосе или Спарте. Афинский ремесленник обладал политическими правами, которых был лишен ремесленник идеального полиса, помещенного Платоном на Крите. Материалы этой части книги позволяют по-иному взглянуть и на проблемы предыдущего раздела. Так, согласно Аристотелю, женщины, рабы, молодежь и ремесленники выделялись в отдельную от взрослого мужского гражданского населения группу.
В последней части — «Полис вымышленный и полис реальный» — речь идет о рациональном, о Платоне, о Фидии и Дельфах. Платоновские мифы предлагают две версии рассказа о двух государственных устройствах: Афинах и Атлантиде, двух моделях мифического прошлого, городе, где все неподвижно, и историческом городе, полисе моряков и полисе гоплитов, — двух ипостасях Афин. Век Кроноса и век Зевса: во времена первого (описание века Кроноса приводится в мифе, рассказанном Платоном в «Политике») людьми управляли боги и отсутствовала полисная жизнь, во времена последнего люди продолжают помнить богов, но находятся на пути к их забвению.
Эта книга заканчивается «Дельфийской загадкой» отчасти благодаря изречению Гераклита (фр. 93): «Владыка, чье прорицалище в Дельфах, и не говорит, и не утаивает, а подает знаки»[63]. Логика Аполлона отличается от человеческой логики: человек требует в ответ либо «да», либо «нет» и отказывается понимать нечто двусмысленное или взаимоисключающее. Но здесь присутствует еще один важный момент: в Дельфах перед нами в ином свете предстают Афины, особенно если смотреть на них с уникального пьедестала, украшенного скульптурами Фидия, поставленными в честь Марафона. Этот памятник являет нам образ города, отличающийся от того, который был официально принят в Афинах. Если мы правильно понимаем текст Павсания, то на марафонской базе в Дельфах афиняне запечатлели какие-то другие Афины. Именно этим образом я и завершаю свой труд.
Книга такого рода вмещает целую жизнь автора, состоящую из обменов и встреч, долгов и уроков. Среди тех, кого уже нет с нами, назову Анри И. Марру (Henri I. Marrou), Андрэ Эмара (Aymard Α.), Анри Маргеритта (Margueritte H), Роже Ремондона (Rémondon Α.), а среди живых — Майкла Остина (Austin M.), Бенедетто Браво (Bravo В.), Люка Бриссона (Brisson L), Жанни Карлье (Carlier J.), Марию Дараки (Daraki M.), Жан-Пьера Дармона (Darmon J.-P.), Марселя Детьенна (Détienne М.), Анри ван Эффентерра (Henri van Effenterre), Дениз Фургус (Fourgous D.), Филиппа Готье (Gauthier Ph.), Стеллу Георгуди (Georgoudi S.), Виктора Голдшмидта (Goldschmidt V.), Франсуа Артога (Hartog F.), Сэлли Хэмфрис (Humphreys S.), Марию Иолас (Jolas M.), Лоуренса Кана (Kahn L.), Пьера Левека (Levéque Р.), Джерома Линдона (Lindon J.), Джеффри Ллойда (Lloyd G.), Шарля Маламуда (Malamoud Ch.), Ришара Мариенштраса (Marienstras R.), Франсуа Масперо (Maspero F.), Арнальдо Момильяно (Momigliano Α.), Джузеппе Ненчи (Nenci G.), Симона Пемброука (Pembroke S.), Алена и Анни Шнапп (Schnapp), Полин Шмитт (Schmitt Р.), Чарльза Сигала (Segal Ch.), Мод Сиссун (Sissung M.). Эдуард Билль, вопреки консервативным университетским порядкам, согласился созвать жюри, чтобы обсудить десять глав моей докторской диссертации, включенных в настоящую книгу. Дружеское отношение и прозорливость этого историка, а также участие Клод Моссе (Mosse Cl.), Жана Пуйю (Pouilloux J.), ныне покойной Клер Прео (Préaux Cl.), вместе с ним входивших в состав жюри, и его председателя Ролана Мартена (Martin R.) — оказались неоценимыми для меня. У Луи Робе-ра (Robert L) я учился работе с эпиграфическими текстами. В течение последних двадцати лет я был читателем, а затем собеседником и другом Мозеса Финли и Жан-Пьера Вернана. Первый стал для меня «источником фактов», (об «источнике наслаждений» умолчу, чтобы не казаться чересчур неумеренным). Вернан был и остается для меня чем-то еще более важным. По воле случая моя первая статья «Время богов и время людей» была напечатана в том же номере журнала, что и его исследование, посвященное гесиодовскому мифу о поколениях. Благодаря этой работе я научился читать греческие тексты, еще большему я научился, видя перед собой, слушая и пытаясь понять Ж.-П. Вернана. Надо ли добавлять к сказанному, что с Луи Жерне (Gernet L.) я познакомился, когда тот уже завершал свой жизненный путь, и этой незабываемой встрече я вновь обязан Ж.-П. Вернану? Моя жена Женевьева сумела пережить появление на свет этих глав и «помогла им достичь тех безопасных мест, где я желал их видеть».
Мне остается поблагодарить — что я и делаю с большим удовольствием — Жанни Карлье, Вивиан Теро (Thérault V.) и Фредерик Пустыльников (Pustilnikov F.), помогавших в подготовке рукописи моей книги, в работе, которая требовала изобретательности, терпения и инициативы, а также моего старого друга Манолиса Папатомопулоса (Papathomopoulos M.), не раз перечитывавшего текст рукописи. Его знание греческого и французского позволило мне избежать многих ошибок. Наконец, хочу сказать слова благодарности в адрес всех моих коллег по Центру сравнительного изучения древних обществ, откуда (немного странное выражение) я веду свой рассказ.
П. Видаль-Накэ
Париж, январь 1980 г.
P.S. В примечаниях встречаются отдельные незначительные погрешности (например, отсутствие единства в употреблении римских и арабских цифр). Я прошу прощения у внимательного читателя за эти неточности.
Вместо введения. Цивилизация политического слова[64]
При написании истории цивилизации трудно избежать двойной опасности: либо из этой истории делают нечто вроде приложения с разделами по искусству, погребальному обряду, одежде и еде — одним словом, всему тому, что не относится ни к политической, ни к социально-экономической истории, ни к истории идей, либо, напротив, объявляют, что цивилизация — это все феномены (религиозные, культурные, социальные, экономические, психологические), касающиеся какой-либо определенной группы людей в какой-либо определенный период времени, и что все они «связаны между собой множеством прочных нитей в одно целое, напоминающее единый организм» (Marrou 1950: 327).
Разновидностью органической теории, под влияние которой часто попадают специалисты по истории Греции, является взгляд на цивилизацию как на нечто неподвижное, неизменное. Подобное мнение ведет к рассуждениям о том, что «индоевропейцы», пришедшие около 2200— 2100 гг. до н. э. на полуостров, который впоследствии получил название Эллада, и говорившие на диалекте, который лег в основу греческого классического и современного языка, будто бы уже тогда обладали качествами, сделавшими в дальнейшем возможным появление Гомера и Аристотеля. При таком подходе историю древнегреческой цивилизации следовало бы продолжить до наших дней: от микенских табличек до произведений Никоса Казандзакиса — непрерывный континуитет языка, от одного поколения к другому — сплошное взаимопонимание.
В настоящей книге «греческая цивилизация» соотнесена с рождением, становлением, расцветом и кризисом полиса — иными словами, с периодом от конца микенской до начала эллинистической эпох.
Рождение и становление полиса. К этому важному и сложному историческому явлению можно подходить с точки зрения экономики и общества, рассматривать его как предмет исторического повествования. Мы же взглянем на него как на событие-слово (evénement-discours). Полис жил и выражал себя с помощью логоса, да и сам был словом, звучавшим на агоре. Попытаемся проанализировать этот дискурс, сопоставив его одновременно с его собственным и нашим, сегодняшним, языком. Каждый феномен культуры определяется через сопоставление с природой, в каждой культуре используется своего рода шифровальная сетка, в которую занесены в закодированном виде боги, люди, звери, вещи. Часто эта сетка имеет неясные очертания, и ее дешифровкой обычно занимаются этнологи. Греческая же цивилизация (и в этом ее отличительная особенность) предоставляет в распоряжение исследователя ряды открытых, незашифрованных оппозиций. «Сырое» и «вареное» здесь просто сырое и вареное, и нет необходимости подразумевать под ними нечто еще[65].
Самые ранние образцы греческой литературы, гомеровские и гесиодовские поэмы, дают антропологическое и нормативное, основанное на критериях исключения (эксклюзивное) и включения (инклюзивное) определение понятия «человек». Согласно Гесиоду, человек исключен из времени богов, в котором он пребывал в золотом веке, и отныне живет земледельческим трудом, работая в составе семейного коллектива — ойкоса. Человек покончил с каннибализмом:
Ибо такой для людей установлен закон Громовержцем: Звери, крылатые птицы и рыбы, пощады не зная, Пусть поедают друг друга: сердца их не ведают правды. (Гесиод. Труды и дни. 276—278, пер. В. В. Вересаева)Похожее определение человеческого дано в «Одиссее». Одиссей, путешествуя за пределами мира людей, встречает на своем пути богов, умерших, людоедов, лотофагов, тогда как человек (разумеется, прежде всего эллин) — «тот, кто питается хлебом»[66].
Людей и богов объединяет и одновременно разделяет жертвоприношение. Мясная пища (основное жертвенное животное — тягловый бык) сопровождается возлиянием вина и символическим уничтожением зерна. Богам предназначается дым от сжигаемых жира и костей — боги вкушают ароматы, люди же делят между собой оставшуюся львиную долю мяса. Таким образом, человек в представлении греков — земледелец, скотовод, тот, кто готовит пищу (Detienne, Vernant 1979); и весь набор признаков, отделяющих культуру от дикости, заключен в жертвоприношении и в самом пантеоне. Божества ночи и подземного мира (например, Эвмениды) получали «чистые» продукты, а также подслащенные медом возлияния (без добавления вина), животные, приносимые им в жертву, сжигались полностью. Секты, отвергавшие кровавые жертвы, например пифагорейцы, ограничивались жертвоприношением чистых (не мясных) «натуральных» продуктов: молока, меда и ароматов. Напротив, культ Диониса, бога дикой природы, сопровождался омофагией — поеданием сырого мяса. Другая крайность состояла в том, что жертвоприношение быка, этого спутника и помощника человека, приравнивалось к убийству, и те, кто совершали его, должны были понести наказание. Во время афинского праздника буфоний в честь Зевса Полиэя жрец, убийца быка, и нож, орудие убийства, подлежали суду (Durand 1977). На примере дионисийской омофагии, которая могла, как в «Вакханках» Еврипида, закончиться убийством, видно, что всякое жертвоприношение имело своей крайностью человеческое жертвоприношение, означавшее возврат к дикости, нисхождение в первобытный мир инцеста. В конце IV в. до н. э. киники, проповедуя возврат к природе, станут осуждать употребление вареного мяса и одобрять инцест и людоедство.
Общение греков с дикой природой проходило во время охоты. Охотниками иногда являлись пастухи и земледельцы; пойманный на охоте зверь не мог быть принесен в жертву, за исключением редких случаев. Как показано в мифах и трагедиях, охотник, напрямую связанный с дикой природой, двулик. С одной стороны, охота свидетельствует о начале разрыва человека с миром дикости (все «культурные герои» греческих легенд являются охотниками, истребляющими диких зверей), с другой — охота подчеркивает дикое начало в человеке, и в мифах принесение в жертву добытого на охоте животного часто служит заменой человеческого жертвоприношения.
Эти архаические установления сохранялись на протяжении всей греческой истории, а с конца VI в. до н. э. проявились в бурных политических конфликтах, которые потрясли полисный мир. Тема золотого века, этого вегетарианского рая, была противопоставлена теме нищеты дикаря. Начало цивилизации стали связывать с полисом — так Афины через элевсинские мистерии приписали себе заслугу «открытия» земледелия. Кратким, но ярким эпизодом вошли в историю V в. до н. э. рассуждения (в духе Демокрита) о том, что своим освобождением от дикости человек обязан самому себе, однако эти идеи не имели длительного хождения[67].
Второе противопоставление (грек — варвар) отчасти вытекает из первого (культурный человек — дикарь): варвар — это не-грек или тот, кто не может говорить по-гречески, подобно тому как немец — «немой» для русского. У Гомера слово «варвар» обозначает лишь соседей карийцев. В V в. до н. э. Геродот выстраивает более сложную схему: Греция — страна, где благоприятные факторы сочетаются с бедностью, тогда как всякие излишества и чудеса, прежде всего золото, распределены по краю четырех сторон света. Продвижение к этим окраинам равнозначно продвижению к «нечеловеческому». Варвары «отделены» от греков противоположностью своих обычаев, как, например, в Египте: «Подобно тому как небо в Египте иное, чем где-либо в другом месте, и как река у них отличается иными природными свойствами, чем остальные реки, так и нравы и обычаи египтян почти во всех отношениях противоположны нравам и обычаям остальных народов» (Геродот. II. 35, пер. Г. А. Стратановского)[68].
Историк IV в. до н. э. Эфор (FGrH 70 F 42) различает два типа скифов — людоедов и вегетарианцев, две полярные разновидности «нечеловеческого». Являясь антиподами, варвары символизируют первоначало, истоки: согласно Геродоту, многие греческие боги происходят из Египта (Геродот. II. 49—58), а карийцам принадлежит идея гоплитского доспеха (там же. I. 171) (последнее утверждение скорее всего ошибочно)[69]. Впрочем, этот чисто мифологический взгляд был впоследствии преодолен. Сам Геродот в начале своего повествования высказывает намерение поведать о «великих и чудесных деяниях, совершенных как греками, так и варварами». Его дихотомия «грек — варвар», будучи не расовой, а культурной и социальной, противопоставляя рабов закона рабам деспота, не обязательно совпадает с противопоставлением Европа — Азия. Само понятие эллинизма явилось завоеванием поколения, участвовавшего в греко-персидских войнах. Прежде чем стать победителем Марафонской битвы, Мильтиад находился на службе у царя персов, и этот случай далеко не единичный. В IV в. до н. э. эллинизм еще оставался культурным понятием: греком считался тот, кто получил эллинское воспитание и образование, доступное и варвару по рождению. Но постепенно понятие эллинизма менялось, и уже Аристотель причислял к варварам тех, кто по природе создан для рабства. Эта культурная схема стала господствующей в эллинистическую эпоху.
Оппозиция господин — раб, хотя и имеет нечто общее с двумя предыдущими, представляется порождением исключительно полисной цивилизации. В гомеровском обществе встречались «рабы». Однако они обозначались в основном теми же самыми терминами, что и слуги, которые были скорее «свободными». Находясь в самом низу социальной пирамиды, рабы соседствовали с фетами — сельскими работниками, не связанными с ойкосом. По мере того как складывалось понятие «гражданин», формировалось понятие «раб», так что до VI в. до н. э. оно было не очень отчетливым. Солон вернул на родину соотечественников, проданных в рабство за долги, тем самым он противопоставил афинян, которым теперь запрещалось быть рабами, всем остальным. Отныне рабами могли стать лишь чужеземцы. В классическую эпоху рабство было повсеместным явлением, воспринимавшимся как естественный факт. В словаре V в. до н. э. еще нет четкого различия между рабами, купленными на рынке у заморских купцов (после захвата какого-либо города и т. д.), и зависимыми сельскими жителями. Однако разница между ними была очевидной уже хотя бы потому, что последние обладали некоторыми политическими правами, тогда как первые их вовсе не имели. Можно представить полис илотов: Мессена в IV в. до н. э. вновь стала полисом после того, как в течение трех столетий ее жители находились на положении илотов. Невозможно — даже в утопии — представить полис рабов. Начиная с IV в. до н. э. греческие мыслители стали осознавать эту разницу. Платон убежден: «Чтобы рабы лучше подчинялись, они не должны быть между собой соотечественниками, а, напротив, должны, по возможности, больше разниться по языку» (Платон. Законы. VI. 777d, пер. А. Н. Егунова); другими словами, предпочтительнее, чтобы раб был варваром. И здесь мы вновь возвращаемся к нашей второй оппозиции[70].
Пифагорейский список противоположностей[71] помещает женское начало в один ряд с бесконечным, четным, кратным, левым, темным, в конечном счете — с дикостью, тогда как мужское начало ассоциируется с цивилизацией. Данная оппозиция имела место до тех пор, пока существовал полис (Loraux 19786). В «Хоэфорах» Эсхила говорится:
Кто бы измерить мог Дерзость мужских затей? Кто б указал предел Дерзостной страсти женской, Ужасом и проклятьем Павшей на род людской? Любовь, если можно любовью назвать Безумной похоти женской власть, Опасней чудовищ, страшнее бури. (Эсхил. Хоэфоры. 592—600, пер. С. Апта)Греческий полис, этот «мужской клуб», выдумал, помимо прочих противоположностей, женское царство амазонок. Аристотель сравнивал в одном своем сочинении господство души над телом с господством хозяина над рабом, человека над животным, мужчины над женщиной, а в другом — уточнял: «И женщина бывает хорошая, и даже раб, хотя, быть может, первая и хуже [мужчины], а второй и вовсе худ» (Аристотель. Поэтика. 1454а. 19—20, пер. М. Л. Гаспарова; ср.: Он же. Политика. I. 1254b. 5—15). Платон выступал не за равенство мужчин и женщин, а по возможности за равное использование и тех, и других. Тем не менее, если в демократическом полисе так и не появилась легенда об управляемом рабами независимом городе-государстве, полисной фантазии все же хватило на создание утопии о царстве женщин. Причем у захвативших власть женщин (например, в аристофановских комедиях «Лисистрата» и «Женщины в народном собрании») имелись рабы. Отмечаемая нами разница в отношении к рабам, с одной стороны, в Афинах, с другой — на Крите, в Спарте и аграрных полисах, не менее четко проступает и в отношении к женщинам. Некоторые легенды (об основании Тарента или Локр Эпизефирийских) связывают власть рабов с властью женщин. В Гортине, на Крите, свободная женщина могла вступить в законный брак с рабом. Спартанские девушки участвовали наряду с юношами в тренировках и состязаниях. В отдельных случаях гражданин противопоставлялся женщине подобно тому, как его противопоставляли рабу или чужеземцу.
В «Законах» Платона детство и юность в жизни человека — этап дикости, которую надлежит укрощать, направляя ее энергию на благо коллектива. Старцы, стоящие во главе идеального полиса («ночной совет»), окружены толпой «скаутов», буйство которых они могут умерить с помощью заклинаний. «Принцип старшинства»[72] был типичен для эллинского мира. В Спарте верховная власть разделялась между царем, эфорами, народным собранием и советом старейшин — герусией. В Афинах членами буле могли быть мужчины не моложе тридцати лет, а в народном собрании право первого голоса имели старейшие — правило, соблюдавшееся греками еще при Гомере. Время между детством и зрелым возрастом — возрастом войны и политики — приходилось на период испытаний и инициации, хорошо знакомый «примитивным» обществам. Спартанские знатные юноши, участники криптий, прежде чем стать гоплитами, должны были, в соответствии с жестокими нравами своего общества, уходить зимой в горы, устраивать засады, похищать или убивать илотов. На Крите «стада» молодежи соперничали с «отрядами» взрослых. Согласно мифам, охота в одиночку или небольшой группой, умение перехитрить врага — испытание, через которое проходили молодые. Местом их подвигов был не город и не его сельская округа, а пограничная область. Имеется ряд сведений о поединках между юношами из соседних полисов где-нибудь на границе возле святилища. Афинского эфеба еще называли peripolos — «тот, кто обходит вокруг». Эфебия являлась гражданским вариантом воинской службы и проходила в течение двух лет в основном в пограничных гарнизонах. Она была реорганизована Ликургом лишь после Херонеи (338 г. до н. э.). Иногда эфеб в знак своего добровольного изгнания носил черный плащ. Кроме того, он не мог участвовать в суде ни как истец, ни как ответчик, за исключением тех случаев, когда речь шла о вступлении в наследство, женитьбе на девушке-epikleros — единственной наследнице в доме, а также о наследовании семейной жреческой должности. По Аристотелю (Аристотель. Афинская полития. 42. 5), это правило объясняется тем, что юноша не должен отвлекаться во время несения воинской службы. Данное объяснение неверно, если иметь в виду истоки рассматриваемой практики, но его сугубо гражданский, «светский» характер говорит о высокой степени рационализации жизни в Афинах[73]. В зените славы, накануне Сицилийской экспедиции (415 г. до н. э.), афинское народное собрание было свидетелем спора между Никием и Алкивиадом, которые выступали соответственно от имени отцов и детей (Фукидид. VI. 8—18). Подобный спор был бы невозможен в любом другом полисе — афинский пример снова выходит за рамки нашей общей схемы.
В мире, изображаемом Гомером, граница между цивилизацией и дикостью проходит не между городом и деревней, а между возделываемой территорией и девственной природой. Наличие полиса (укрепленного пункта) и демоса (небольшого коллектива, который я не осмелюсь назвать деревней) — здесь не столь значимый показатель, как неведомая циклопам работа в поле. Гесиодовский земледелец смотрит на город как на тридевятое царство, где сидят «цари — пожиратели даров». В полисном мире дикая местность, agros, существует лишь в виде окраины, пограничной территории, населенной дровосеками и бродячими пастухами. Ясно, что эфебия и криптий связаны именно с этой территорией — местом, где происходит спор между Дионисом и Гермесом. Последнее божество воплощает цивилизующие установки общества, прокладывающего дороги с межевыми знаками, это — бог пространства, которое открыто по сравнению с замкнутым пространством домашнего очага (hestia), символизируемого пританеем. Дионис, напротив, представляет неистовые силы дикой природы, время от времени наступающей на хлебные поля Деметры, о чем, в частности, повествует Еврипид в своих «Вакханках». В идеальном полисе различие между городом и деревней должно сходить на нет. Этот факт приводит Платона к выводу о том, что каждый гражданин обязан проживать одновременно в центре и на периферии. Но на практике в Спарте и Афинах данное положение реализовывалось по-разному, при том что встречались и промежуточные варианты. В Спарте город как таковой отсутствовал: городской центр там едва проступал, общественная земля (chora politike) была поделена на участки, принадлежавшие полноправным спартиатам, homoioi. Таким образом, основными в Спарте были противоречия не между городом и деревней, а между завоевателями и зависимыми земледельцами. Я не говорю уже об остальных полисах Лакедемона. В Аттике в классическую эпоху жители демов обрабатывали землю вместе с рабами, число которых было куда более внушительным, чем обычно принято считать. Сельские демы одновременно входили в состав главного города и копировавших его более мелких городов. Пелопоннесская война, в ходе которой сельская местность была оставлена на разграбление врага, и стратегия Перикла, направленная на укрепление и оборону города, привели к глубокому кризису в отношениях между городом и деревней, что отражено в комедиях Аристофана.
В IV в. до н. э. шло формирование нового типа городской застройки (подтверждением чему служат дома Олинфа), по мере того как жизнь приобретала все более частный характер. Парадоксально, но развитие флота и морской торговли способствовало как стабильности, так и нестабильности Афин. Стабильности — поскольку деревенский люд, включенный в полис Солоном и Клисфеном, составлял значительную часть экипажа флота, который кормился за счет поступлений в казну «империи»; нестабильности — поскольку в городе постепенно скапливались богатства. Множеству людей, оказавшихся «за бортом» в результате войн и политических потрясений, прежде всего наемникам, Исократ предлагал в качестве разрядки не новое переустройство полиса, а колониальный захват Азии. Именно это и случится чуть позже.
В XVIII песни «Илиады» Гефест выковывает на щите Ахилла сцены из жизни полиса во время мира и войны: с одной стороны — свадьбы, пиры, судебные споры, с другой — осады и нападения, причем осаждающие не знают, что им предпочесть: разрушить город и истребить его жителей или поделить между собой богатый выкуп. Древние греки часто сталкивались с этой дилеммой. Сама ее тема довольно старая — она встречается еще на «штандарте» из Ура III тыс. до н. э., но решили ее греки оригинально. «Гоплитская реформа» начала VII в. до н. э. была одновременно причиной и следствием глубоких политических перемен. «Первая конституция опиралась на воинов и даже, в самом начале, на всадников» (Аристотель. Политика. IV. 1297b. 17—20) — участвовавший в сражении гоплит становился участником политической жизни[74]. Военный фактор приобретал еще большее значение ввиду того, что война угрожала самому существованию полиса. Можно сказать, и в этом не будет сильного преувеличения, что для греков состояние войны было правилом, а мира — исключением. Действительно, большинство известных договоров, заключенных между греками до 386 г. до н. э., представляло собой временные соглашения о союзничестве: греческие полисы были либо союзниками, либо врагами. Война для греков — это мир, поддерживаемый «немирными» средствами. Греческие военные и гражданские учреждения сливались в одно целое.
Местом сражения служило хлебное поле, оно выбиралось по взаимному согласию обеих сторон. Вплоть до битвы Эпаминонда при Левктрах в 371 г. до н. э. элитные подразделения всегда помещались на правом фланге[75]. Бой сводился к столкновению двух передних рядов, после чего победитель, который не преследовал врага, сооружал трофей из захваченного оружия. Эти условия соблюдались даже во время войны с персами. Сплоченность воинов на передовой линии боя, где каждый защищал соседа своим щитом, демонстрировала полисную солидарность. Эти традиции были подорваны в ходе Пелопоннесской войны, когда горцы-партизаны внезапно нападали и истребляли отряды гоплитов. Противовесом тотальной войне служила идея «всеобщего мира», которую поддерживали вначале персидский царь (386 г. до н. э.), затем очередной полис-гегемон и, наконец, царь Македонии, объявленный общегреческим арбитром в Коринфе в 337 г. до н. э. За этот период полис изобрел новые формы ведения войны. Революция вроде той, что совершил Эпаминонд, атаковавший с левого фланга, свидетельствует как о победе над идеями о геометрическом пространстве с его иерархией сторон, так и о влиянии морского военного дела, довольно рано освободившегося от господства подобных представлений. Наемники афинского военачальника Ификрата открыли для себя основанную на хитрости и нападении из засады «черную» войну, которая в классический век гоплитов являлась занятием молодежи. Ксенофонт, ревнитель старины, тоже оказался в числе изобретателей-новаторов. Платон, стоявший перед выбором между войной с участием профессионалов и войной силами гражданского ополчения, склонялся не в пользу первой, которую он так ярко описал во второй книге «Государства». Но вопреки выбору философа эволюция военного дела продолжалась.
Противоречие между искусством, ремеслом (techne) и наукой (episteme) — одно из наиболее глубоких в истории греческой цивилизации. С точки зрения так называемой «человеческой истории природы»[76], то есть истории воздействия человека на природу, греческая цивилизация была цивилизацией мастеров. Когда Платон хочет поведать миф о сотворении мира, он обращается к образу демиурга-ремесленника. Ремесленник — скрытый герой греческой цивилизации. От афинского Керамика до строительной площадки Парфенона, от порта в Пирее до врачей гиппократовской школы — за всеми творениями и достижениями греков видна фигура ремесленника. Однако историки, исследующие социальные отношения, придерживаются другого мнения: для них категории «ремесленника» просто не существует[77]. На строительстве Эрехтейона вместе работали граждане, метеки и рабы, все они были ремесленниками, но с точки зрения социального историка то, что их разделяло, намного важнее того, что их объединяло. Гефест, покровитель ремесла, — хромоногий бог. Изобретательный Прометей, «хитроумный» герой, своей двойственностью (освободитель рода людского и враг Зевса) намекает на двойственность чувств, которые греки питали к своим «специалистам», остававшимся вне общества. Знаменитый хор из «Антигоны» славит изобретательного человека — мореплавателя, пахаря, укротителя животных, охотника. Но этот изобретатель и первопроходец должен еще помнить о земных законах и о справедливости богов, без чего он — apolis, вне полиса. Полис, будучи сугубо социальным феноменом, оставался за пределами производственной деятельности. Не удивительно, что в языке и мышлении древних греков отсутствует слово, передающее общее понятие «труд» (ср.: Aymard 1943; Vernant 1981в: 16—36; 37—43), и даже нет слова, которое бы четко обозначало понятие «работник». Ксенофонт (Ксенофонт. Домострой. VI. 6) противопоставляет профессионального ремесленника (technites) земледельцу (georgos), а в эллинистическую эпоху термином technites станут обозначать профессиональных актеров.
Впрочем, два рода «ремесла», земледелие и война, избежали характерного для techne исключения из социальной жизни. Но, строго говоря, земледелие для греков — ponos, тяжелый труд, а не techne. Земледелие, говорит Ксенофонт, это не вопрос знания — незнания или «изобретения хитроумных способов» (Ксенофонт. Домострой. XX. 2, 5), а вопрос добродетели и заботы. Парадокс заключается в том, что этот же автор, который был настоящим профессионалом в области военного искусства, ставит ратное дело в один ряд с занятием земледелием, поскольку считает, что оба рода деятельности занимают всех граждан полиса, тогда как другие занятия — удел «специалистов», а полис, как мы знаем, не признавал «специалистов» как таковых. Тем не менее в IV в. до н. э. эволюция военного дела имела драматические последствия, с которыми полис не сумел справиться. Спор Платона с софистами — яркий эпизод этой технологической драмы. Софисты стремятся быть не профессионалами-практиками, а учителями arete, гражданской добродетели, и риторики — этому практическому искусству они обучают граждан по той причине, что оно представляется полезным. Когда Гиппий из Элиды хвастается, что сам смастерил одежду, которая на нем, он выступает не сторонником обучения практическому ремеслу, а проповедником идеала самодостаточности (autarkeia)[78]. Это высказывание прямо противоположно принципу разделения труда, которое, судя по описаниям, если и существовало, то вовсе не как стимул к производству. Чтобы развенчать своих оппонентов, Платон низводит их до уровня ремесленников, называя в «Горгии» риторику софистов стряпней, а вовсе не лекарством.
Теории философов о полярных «образах жизни» в действительности восходят к поэтам архаической эпохи. Для спартанца Тиртея храбрость — единственное, что можно противопоставить всему остальному. В одном из фрагментов Пиндара слава противопоставляется богатству и духу предпринимательства, символом чего является морское делоь. Когда Ксенофан Колофонский, автор VI в. до н. э., говоря о победителях Олимпийских игр, замечает: «Наша мудрость (sophia) лучше силы мужей и коней» (Fr. 2 Diels), — он имеет в виду мудрость политическую. В эпоху кризиса полиса, а возможно, и раньше — после кризиса пифагорейской школы, стали противопоставлять созерцательной жизни (theoretikos) жизнь практическую, стремящуюся к наслаждению (apolaustikos), но никто так и не ввел, пусть даже с целью критики, понятие жизни «профессиональной». У Платона научное знание (episteme) того, кто размышляет об идее кровати, противопоставляется действию-подражанию (mimesis) того, кто кровать мастерит. Таким образом, и эта оппозиция оказывается неотделимой от истории полиса.
Греческая цивилизация — это цивилизация слова, прежде всего слова политического. Греческий разум, конструирующий ряды парных оппозиций, — это политический разум. Устное слово господствовало даже в письменном тексте, по крайней мере до V в. до н. э. С IV в. до н. э. начал преобладать канцелярский стиль, требующий лишь умения заполнять бланки. Политическое слово должно быть антитетическим, поскольку политические проблемы решаются с помощью четкого «да» или «нет». Возможно, именно этим объясняется склонность греческого мышления к альтернативам и противопоставлениям. Так, сочинение Фукидида делится на речи и описание событий, всякий раз в ходе своего повествования автор использует антитезу между logos (слово) и ergon (дело). Фукидид показывает, что gnome (разумное предвидение) находится в конфликте с tyche (слепой случай), той самой Тюхе, которая станет главной богиней эллинистических полисов. Мир сопряжен с gnome, а война — с tyche. В словах nomos (закон, договор, обычай) и physis (природа) также заключена антитеза. Людские установления относятся к разряду nomos. Калликл, персонаж «Горгия» Платона, ссылается на physis, чтобы оправдать произвол тирана. С другой стороны, автор относящегося к гиппократовскому корпусу трактата «О диете» (О диете. I. 11) полагает, что человек в процессе законотворчества копирует природу, и это происходит потому, что боги сотворили и упорядочили природу, которой люди подражают, сами того не сознавая. Итак, «природа» может быть источником хаоса и порядка одновременно (как, например, у ионийских и италийских «натурфилософов»). Этот факт свидетельствует о том, что греческая мысль могла выходить за рамки собственных оппозиций, в которые, как считают некоторые исследователи, она себя загоняла.
Дихотомия «dike» — «hybris», справедливость (богов) и дерзость, служит удачным примером из области морали. В качестве этической оппозиции это противопоставление занимает видное место в «Трудах и днях» Гесиода, особенно в его знаменитом мифе о пяти веках (Vernant. 1981б). Ко времени Солона и Анаксимандра dike и hybris пополняют полисный словарь, сфера их применения расширяется до описания устройства вселенной. Любой герой трагедии — Антигона, Креонт и другие — одержим hybris, дерзостью, противостоящей полисной уравновешенности. У Фукидида подобный антагонизм, кажется, отсутствует, хотя и считается, что этот автор открыто использовал в своем труде этические нормы трагедии. Его Алкивиад мог бы стать воплощением apate, обманчивого заблуждения, приписываемого hybris афинян (Corn-ford 1907), но Фукидид рационализирует этот факт, пытаясь дать реальное объяснение исторической драме.
Таково движение греческой мысли и цивилизации — не повторение, а открытие нового или обновление старого. В Афинах на фронтоне архаического храма Афины (около 560 г. до н. э.) изображен Геракл, культурный герой, который сражается с Тритоном под пристальным взором трехтелого чудовища. Примерно веком позже сцены дикости еще встречаются на метопах Парфенона, изображающих бой кентавров с лапифами, но на восточном фронтоне храма уже встает солнце и садится луна в соответствии с установленным космическим порядком, а на западном фронтоне спорящие Афина и Посейдон образуют центр композиции, обрамленной фигурами Диониса и Кефиса. Темы остались прежними, но в природе уже господствует порядок, а Дионис участвует в церемонии, которой руководит архонт-царь. Этот порядок, правда, продлится недолго. Вслед за Р. Ремондоном мы могли бы связать воедино два анекдота о Перикле, рассказанные Плутархом: «Развернув свой плащ между собой и солнцем, Перикл лишил затмение его иррациональной, внушающей страх силы, но во время болезни он не снимал амулет, который женщины повесили ему на шею» (Rémondon 1964: 146; ср.: Плутарх. Перикл. 35. 38).
I Пространство и время
1. Значение земли и жертвоприношения в религии и мифологии (по «Одиссее»)[79]
Здесь речь пойдет о земле, и, предваряя этот очерк, я позволю себе напомнить читателю некоторые данные, почерпнутые не у Гомера, а у Гесиода. И «Теогония», и «Труды и дни» проливают свет не только (как часто думают) на произведения, созданные позже этих поэм, но и на те, которые им предшествовали или относились примерно к тому же времени, как это могло быть в случае с «Одиссеей».
Из мифов о «поколениях» и о Пандоре в «Трудах и днях» и из мифа о Прометее в той же поэме и в «Теогонии» можно, я полагаю, вывести то, что может быть названо дефиницией человеческого предназначения. Это определение, антропологическое и в то же время нормативное, основано на критериях исключения (эксклюзивных) и включения (инклюзивных). Имеется в виду исключение двоякого рода: Гесиодов человек — человек железного века, а это означает прежде всего то, что он не человек века золотого — мифического времени, где люди «жили, как боги», не ведая старости и настоящей смерти. «Всего у них было вдоволь. Хлебодарная земля (ζείδωρος αρουρα) сама собой давала обильный и щедрый урожай, а они, в мире и радости, паслись на своих полях (εργ' ένέμοντο) среди неисчислимых богатств»[80]. Существенную противоположность (а есть и другие) между миром золотого века и нашим собственным я усматриваю здесь в оппозиции «не-труд» — «труд», разумеется, имеется в виду труд земледельческий[81]. По отношению к веку железному век золотой, век Кроноса, действительно предстает как абсолютный образец — другие века на это претендовать не могут. То, что «золотому» поколению ведомо при жизни, род героев, или, по крайней мере, некоторые его представители, познают после смерти; Зевс помещает их отдельно от людей (δίχ' ανθρώπων), отдельно и от богов, «под властью Кроноса», «у крайних пределов земли». Именно там
Сердцем ни дум, ни заботы не зная, они безмятежно Близ океанских пучин острова населяют блаженных. Трижды в году хлебодарная почва героям счастливым Сладостью равные меду плоды в изобилье приносит[82].Таким образом, за золотым веком во «времени» следует золотой век в «пространстве» — век островов Блаженных, также характеризующийся щедростью земли.
В то же время в мифе о Пандоре[83] Гесиод некоторым образом предвосхищает вывод, вытекающий из мифа о поколениях, говоря так:
В прежнее время людей племена на земле обитали, Горестей тяжких не зная, не зная их трудной работы (χαλεποίо πόνοιο), Ни вредоносных болезней, погибель несущих для смертных. Быстро стареют в страданьях для смерти рожденные люди[84].Будучи исключен из золотого века, человек, таким образом, не бог[85], но он и не животное. Второе исключение касается пожирания друг друга — аллелофагии (αλληλοφαγία), антропофагии [Гесиод. Труды и дни. 276-278):
Τονδε γαρ ανθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων Ίχθυσι μέν και θηρσι και ο'ιωνοΐς πετεηνοΐς εσθέμεν αλλήλους, έπει oυ δίκη έστι μετ'αυτοις. Ибо такой для людей установлен закон Громовержцем: Звери, крылатые птицы и рыбы, пощады не зная, Пусть поедают друг друга: сердца их не ведают правды.Итак, придерживаясь в своем поведении δίκη (правды, справедливости), человек может избежать участи животного. Человек — это тот, кто не пожирает себе подобного.
Критерии включения тесно связаны с критериями исключения, и связь эта дополнительна и обратно пропорциональна. Труд на пашне и все, что он предполагает: посадки деревьев и выращивание скота, в особенности для вспашки земли, — образуют самый сюжет «Трудов». Соблюдая δίκη, можно обрести если и не золотой век, ибо труд есть обязанность, то, по меньшей мере, плодородие и процветание «правосудных» людей, земли и стад:
Пищу обильную почва приносит им; горные дубы Желуди с веток дают и пчелиные соты из дупел. Еле их овцы бредут, отягченные шерстью густою. Жены детей им рожают, наружностью схожих с отцами. Всякие блага у них в изобильи. И в море пускаться Нужды им нет: получают плоды они с нив хлебодарных[86].Но сам этот человеческий труд зависит от достигнутого (благодаря Прометею) обладания огнем для приготовления пищи, некогда сокрытым по воле Зевса (Гесиод. Труды и дни. 47—50). Именно в отместку за кражу огня Гефест по приказу Зевса создал Пандору — землю и в то же время женщину[87]. Что имеется в виду в этих строках «Трудов», выясняется в «Теогонии». Описание ссоры богов и людей в Меконе представляет собой два строго параллельных эпизода[88]: один — первоначальное жертвоприношение быка и его несправедливый дележ, при котором богам достался дым, а людям мясо, что и повлекло за собой изъятие огня Зевсом и его похищение Прометеем; другой — вручение людям двусмысленного дара — женщины в качестве расплаты за то, что боги смирились с возникшим из-за Прометея положением вещей. Пашня, приготовление пищи, жертвоприношение, сексуальная и семейная жизнь под сенью ойкоса и даже, в конечном счете, политическая жизнь образуют единое целое, в котором ни один из элементов не может быть отделен от других. Так определяется положение человека между золотым веком и «аллелофагией» (взаимным пожиранием друг друга)[89].
Эта картина, набросанная Гесиодом с помощью штрихов, свойственных как ему, так и вообще кризису его времени, станет воспроизводиться снова и снова на всем протяжении истории греческой мысли. Особенно с конца VI в. эти схемы оказываются включенными в ожесточенные политические конфликты, сотрясавшие греческий мир и побуждавшие мыслителей принимать противоположные — «позитивную» или «негативную» — точки зрения на первобытного человека: золотой век противопоставлялся теме нищеты и убожества первых людей. Было искушение — и некоторые не преминули поддаться ему — возводить эти конфликты ко времени Гесиода, превращая того в противника прогресса[90]. Ничуть не больше оснований и для того, чтобы по примеру полезной хрестоматии делать из него одновременно приверженца «хронологического примитивизма» (коль скоро он начинает с золотого века), и противника «примитивизма культурного» (поскольку он противопоставляет цивилизованного человека людоеду) (Lovejoy, Boas 1936: 196). На самом деле это не две разных позиции, а одна. Рассматривать здесь послегесиодовскую литературу в мои планы не входит[91]. Я хотел бы только заметить (по причинам, которые вскоре станут понятны), что Гесиодов золотой век, век Кроноса, век, когда еще не существовало ни приготовления пищи, ни жертвоприношения, «вегетарианский» век, как рисуют нам его столько текстов[92], — это для части традиции также и век людоедства, и век человеческих жертвоприношений. Некоторые из текстов, где эти противоположности таким образом соединяются, могут показаться поздними[93]. Но не следует забывать, что начиная с IV в. киники разрабатывали идеи «природного» образа жизни, в котором сочетались осуждение поедания мяса и жареной пищи и оправдание пищи сырой, людоедства и кровосмешения (инцеста), что представляет собой главную противоположность культуре[94]. Однако было бы ошибкой видеть в этом только лишь воззрения отвлеченных мыслителей. Еврипидовы «Вакханки» тоже балансируют между атмосферой рая в начале рассказа вестника (Еврипид. Вакханки. 677 сл.) и безумством поедания себе подобных, выливающимся в почти инцестуальное убийство Пенфея его матерью. У Гесиода Кронос также предстает богом, пожирающим своих детей[95]. В определенном смысле в том же духе рассуждает Платон, когда он, как, впрочем, и автор мифа о поколениях, склоняется к описанию века Кроноса как времени, которому было неведомо взаимное пожирание (аллелофагия) (Платон. Политик, 271d—е)[96]. Наоборот, земледельческий труд и тепловая обработка пищи предстают взаимосвязанными, например, в гиппократовском трактате «О древней медицине», где показано, что возделывание злаков, идущее на смену потреблению сырых продуктов, — это, по преимуществу, получение продуктов, предназначенных для тепловой обработки (Гиппократ. О древней медицине. III). Ассоциативная связь — наподобие той, что присутствует в гесиодовских поэмах, — между земледелием, жизнью в семье и возникновением цивилизации обнаруживается, например, в афинских мифах о Кекропе, который предстает и свидетелем того, как Бу-зиг[97] изобрел пахоту, и основателем моногамной патриархальной семьи[98]. Данный очерк ставит своей целью выяснить, не встречаются ли такие ассоциации уже у Гомера.
Когда Одиссей убедился, что он наконец-то на Итаке, то первым делом «бросился он целовать плододарную землю отчизны», приветствуя родину следующими словами: Χαίρων η γαίη, κύσε δέ ζеίδωρον αρουραν[99]. При этом речь идет не только о жесте человека, который вновь обрел свою родину, но и о глубинной связи, которую, собственно, и надлежит проанализировать.
Но, обращаясь к «Одиссее», внутри этой эпической поэмы следует выделять, конечно, не те различные песни-«рапсодии», на которые делят ее «аналитики», исходя из критериев, которые меняются в зависимости от того или иного толкователя и неизбежно приводят к противоречивым и, увы, не поддающимся проверке результатам, а части, образующие единство и обладающие определенным смыслом в рамках поэмы в том виде, в каком она существует. То есть, выражаясь без обиняков, о Киклопе и Калипсо невозможно говорить так же, как о Несторе и Телемахе. Действительно, не раз было показано[100], что «реальный» мир «Одиссеи» (это, в первую очередь, Итака, а также Спарта и Пилос, где странствует Телемах), противопоставляется миру мифов, о котором, по большей части, повествуется в рассказах у Алкиноя. Так в «Буре» Шекспира противостоят друг другу Неаполь и Милан, с одной стороны, и волшебный остров Просперо, с другой[101].
Одиссей попадает в сказочный мир после своего пребывания у киконов — совершенно реального, известного еще Геродоту (Геродот. VII. 59, 108, 110) фракийского племени, где вместе со своими спутниками он пирует, сражается и грабит город так же, как мог бы делать это в Трое, и после десятидневной[102] бури, в которую он угодил, огибая мыс Малею — последний «реальный» пункт на пути своего затянувшегося возвращения на Итаку[103].
Релевантность этого противопоставления подтверждается самим текстом. Пути Телемаха и Одиссея в ходе их странствий никогда не пересекаются. Между двумя мирами есть всего две контактные зоны. Одна из них явно расположена в области сказочного: Менелай открывает сыну Одиссея, что Одиссей удерживается у Калипсо, Менелай узнал об этом в Египте, стране чудес, от «проницательного старца» Протея[104]. Другая — это страна феаков, профессиональных проводников-перевозчиков, стратегическое место которых на пересечении двух миров.
Это продемонстрировал Ч. П. Сигал[105]. Стоит ли повторяться? Странствия Одиссея не имеют отношения к географии. Географического правдоподобия куда больше в неправде, которую услышали от Одиссея Эвмей и Пенелопа[106], чем в «рассказах у Алкиноя»[107]. Крит, Египет и Эпир «реальны» настолько, что никто в этом не усомнится!
Выбраться из «мифического» мира для Одиссея означает выйти из мира «нечеловеческого» — то сверхчеловеческого, то недочеловеческого, — из мира, где у Калипсо ему будет предложено стать богом, а у Цирцеи он подвергнется риску впасть в состояние животного, но, чтобы вернуться к норме, этот мир нужно будет покинуть. И вся «Одиссея», в известном смысле, представляет собой рассказ о возвращении Одиссея к «нормальности», о согласии его принять участь человека[108].
Следовательно, нет ничего парадоксального в утверждении, что, начиная с лотофагов и вплоть до Калипсо, проходя через остров киклопов и царство мертвых, Одиссей не встречает ни единого человеческого существа в собственном смысле слова. Впрочем, порой возникают сомнения. Так, у лестригонов есть агора, признак политической жизни, но они похожи не на людей, а на великанов (Гомер. Одиссея. X. 114, 120).
Относительно Цирцеи можно задуматься, женщина она или богиня, но в конечном счете она, как и Калипсо, демонстрирует лишь видимость человеческого обличья, о ней говорится буквально следующее: δεινή θεος αύδήεσσα, «ужасная богиня, говорящая человеческим голосом» (Гомер. Одиссея. X. 136, 228; XI. 8; XII. 150, 449). Дважды Одиссей вопрошает, у каких «мужей, вкушающих хлеб», то есть людей, он находится, но находится он как раз не у людей, вкушающих хлеб, а у лото-фагов и лестригонов[109].
Из этого следует крайне важный вывод: все, что имеет отношение к земледелию, к самой пашне, поскольку та действительно возделывается, в «рассказах» решительно отсутствует[110]. Фракия киконов — последняя сельскохозяйственная страна на пути Одиссея: он там ест баранину и пьет вино, и даже запасается им; потом он будет этим вином угощать циклопа[111].
У Еврипида Одиссей, вступив на незнакомый берег, спрашивает Силена: «Но стены где ж и башни? Город где?» И получает ответ: «Их нет, о гость! Утесы эти дики»[112] (безлюдны). В это время городские укрепления были надежным свидетельством присутствия цивилизованного человечества. У Гомера же Одиссей ищет возделанные поля — примету человеческого труда[113]. Прибыв к Цирцее, ахейцы напрасно ищут εργα βροτών, «труды смертных», то есть сельскохозяйственные культуры; они видят только густые заросли и дремучий лес, δρυμά πυκνά καΐ υλην, где можно устроить охоту на оленя (там же. X. 147, 150, 197, 251). У лестригонов, где вид дыма может навести на мысль о домашнем очаге и присутствии человеческих существ[114], «не было видно нигде ни бьжов, ни работников в поле», ενθα μέν ουτε βοών ουτ' ανδρών φαίνετο εργαν (там же. Χ. 98). Сирены живут на лугу, как, впрочем, и боги[115]. Остров Калипсо покрыт лесом, там растет виноград, но он совсем не кажется культурным (там же. I. 51; V. 65. 66). И все же в мире рассказов присутствует одно типично человеческое дерево — маслина, из которой Одиссей сделал кровать, незыблемый центр своего жилища (там же. XXIII. 183, 184). Оно встречается не раз и даже обеспечивает спасение героя, но в движущемся виде: это кол, которым Одиссей пронзил глаз циклопу, это ручка инструмента, с помощью которого он смастерил себе лодку[116]. Да, у Эола, у Цирцеи, у Калипсо Одиссея обильно кормят, и, говоря об угощении у этой нимфы, поэт не преминет подчеркнуть, что пища человека сильно отличается от трапезы бога (там же. V. 196—199), но никто не сообщает, откуда берутся эти яства и кто их произвел.
Отсутствие обработанной земли влечет за собой отсутствие жертвенной трапезы, а у Гесиода мы видели, насколько они были взаимосвязаны. До известной степени можно распространить на весь мир рассказов шутливые слова, с которыми Гермес обращается к Калипсо, неожиданно появившись на ее острове (там же. V. 101—102):
Кто произвольно захочет измерить бесплодного моря Степь несказанную, где не увидишь жилищ человека, Жертвами чтущего нас, приносящего нам гекатомбы? Ουδέ τις όιγχί βροτών πόλις οι те θεοίσιν ιερα τε ρέζουσί και έξαίτους έκατόμβας.До известной степени... Принесение по наущению Цирцеи в жертву теням умерших ягнят, совершаемое в яме (βόθρος) возлияние, имеющее целью напоить мертвых кровью (там же. X. 516—521, 571—572; XI. 23—29), — полная противоположность жертвенной трапезе, предназначенной накормить живых. То же самое относится и к обещанию Одиссея, которое тот дает Тиресию: по возвращении принести в жертву яловую корову и черного барана (там же. X. 524—525; XI. 30—33).
У циклопа, именно по контрасту с обитателем пещеры, спутники Одиссея совершают жертвоприношение (έθύσαμεν — там же. IX. 231). В любом случае речь не идет о кровавой жертве, ибо поедают они сыры[117]. А жертву, которую они приносят на лежащем поблизости острове, — впрочем, это жертвоприношение не по правилам, ибо в жертву приносятся циклоповы бараны, а не животные, выращенные людьми, — Зевс отвергает (там же. IX. 552—555). Итак, даже когда человек приносит жертву, но при этом находится на «нечеловеческой» территории, это неправильное жертвоприношение.
Теперь пора разобрать по порядку (или почти по порядку) странствия Одиссея, рассмотрев под интересующим нас углом зрения разновидности «нечеловеческого», встретившиеся на его пути. Разумеется, подчеркивать отсутствие человеческого у Скиллы или у обитателей страны мертвых ни к чему. Ахилл выразил это незабываемыми словами (Гомер. Одиссея. XI. 488—491). Лотофаги вкушают не хлеб, а цветы. Пища, которой они угощают спутников Одиссея, лишает тех главного человеческого свойства — памяти (там же. IX. 84. 94—97). Одиссей же всегда, за исключением эпизода со Скиллой (там же. XII. 227), остается человеком, находящимся в полной памяти, на фоне погрузившихся в забытье спутников.
Куда более сложные вопросы ставит эпизод с циклопом. К элементам мифа, составляющим предмет настоящего исследования, здесь добавляется почти этнографическое описание пастушеских народов («нечеловеческое» — это также и иная, дикая, форма человеческого[118]), да еще неприкрытый и вполне реалистический призыв к колонизации. Если бы они умели плавать по морям,
Дикий тот остров могли обратить бы в цветущий циклопы; Он не бесплоден; там все бы роскошно рождалося к сроку; Сходят широкой отлогостью к морю луга там густые, Влажные, мягкие; много б везде разрослось винограда; Плугу легко покоряся, поля бы покрылись высокой Рожью, и жатва была бы на тучной земле изобильна. (Гомер. Одиссея. IX. 130-135)В ожидании такой перспективы, мир циклопов делится, напомним, на два географических сектора — это «островок», совершенно дикая земля, которой неведома охота и где спутники Одиссея устраивают достопамятную бойню (там же. IX. 116—120, 155—160), и земля циклопов-пастухов. Здесь заложена некая иерархия: 1) землепашцы, 2) охотники, 3) пастухи, и, быть может, нелишне будет заметить, что это именно та иерархия, которую предлагает Аристотель (Аристотель. Политика. I. 1256а 30 сл.). Но циклопы — не просто пребывающие в варварстве скотоводы, которые не ведают политических установлений и не способны сажать или сеять (Гомер. Одиссея. IX. 108—115), — в их распоряжении земля, которая в точности соответствует описанию золотого века у Гесиода:
...земля там Тучная щедро сама без паханья и сева дает им Рожь, и пшено, и ячмень, и роскошных кистей винограда Полные лозы, и сам их Кронион дождем оплождает[119]. (Гомер. Одиссея. IX. 122)У циклопов есть бараны и нет собственно тягловых животных:
Там не пасутся стада и земли не касаются плуги ουτ` αρα ποιμνησιν καταΐσχεται ουτ' άρότοισιν.Это именно так, даже если в другом месте иронически намекается на то, что вино золотого века — порядочная кислятина (там же. IX. 357— 359). Но картина золотого века как раз и уравновешивается людоедством[120]. Отдельные детали настолько своеобразны и необычны, что трудно избавиться от мысли, не сделано ли это сознательно: для приготовления ужина Полифем приносит дрова, но огонь этот ему ни к чему. Великан не похож на «мужа, вкушающего хлеб»; даже людей он пожирает, не поджарив на костре, как можно было бы ожидать. Подобно льву, он поедает сырыми «внутренности, мясо, костный мозг, не оставляя ничего»[121]; он не совершает никаких жестов, присущих жертвенной трапезе, и, прежде всего, не отделяет кости как долю, предназначенную богам. Впрочем, с богами у этого людоеда из золотого века отношения весьма амбивалентные. Поэт подчеркивает как доверие циклопов к бессмертным (πεττοιθότες άθανάτοισιν — там же. IX. 107), благодаря которому они избавлены от необходимости пахать и сеять (впоследствии Одиссею пришлось дорого заплатить за родство Циклопа с Посейдоном — там же. I. 68—73), так и полнейшее безразличие, с каким Полифем отвечал Одиссею, заклинавшему его именем Зевса Ксения (т. е. Гостеприимного):
Нам, циклопам, нет нужды ни в боге Зевесе, ни в прочих Ваших блаженных богах; мы породой их всех знаменитей; Страх громовержца Зевеса разгневать меня не принудит Вас пощадить; поступлю я, как мне самому то угодно. (Гомер. Одиссея. IX. 275-278)Остановимся здесь ненадолго: Гомеру, автору «Илиады», знакомы и в некотором смысле добрые, хорошие циклопы — abioi (т. е. лишенные пропитания), которые доят кобылиц и питаются молоком (галактофаги-молокоеды), они предстают как «справедливейшие из смертных» (Гомер. Илиада. XIII. 5—6). Под именем gabioi эти персонажи (скифы) вновь появляются у Эсхила в «Освобожденном Прометее»[122]. Они тоже «справедливейшие и самые гостеприимные из смертных. Нет у них ни плуга, ни мотыги, что измельчает почву и разрезает пашню. Нивы засеваются сами собой (αύτόσττοροι γύαι) и доставляют смертным неиссякаемую пищу». Теме образа жизни циклопов как удела «доброго дикаря» суждена была долгая жизнь и развитие у последователей Гомера[123]; но дело не только в литературной традиции. Когда Эфор противопоставляет, упоминая среди прочего и Гомеровых abioi, два типа скифов, из которых одни — людоеды, а другие — вегетарианцы (τους δε rai των άλλων ζώων άπέχεσθοα)[124], он рационализирует и вписывает в географическое пространство определенную мифологическую оппоцизию, которая в той же мере представляет собой и конъюнкцию (т. е. соединение): вегетарианец столь же далек от человека, как и каннибал[125].
Это иной тип «нечеловеческого», столь же классический, и его представляет остров Эола. Стоит задержаться на одной детали: речь идет о плавучем острове «с неприступною медной стеною». Разумеется, обрабатываемой земли здесь нет, хотя и имеется «полис», где постоянно пируют: но трапеза не имеет отношения к жертвоприношению, и бык, в шкуру которого будут заключены ветра, не приносился в жертву богам (Гомер. Одиссея. X. 3—19). Но самая значительная аномалия острова Эола, конечно, инцест. Никакого обмена женщинами между разными группами не происходит. Шесть дочерей Эола и его супруги отданы в жены шести их же сыновьям (там же. X. 6—7); Эолов мир замкнут: днем — трапеза, ночью — сон (там же. X. 11—12), это не ойкос человека.
В некоторых отношениях двойниками циклопов предстают лестригоны; только на этот раз мы имеем дело с метафорой рыбной ловли, а не охоты: прежде чем съесть греков, лестригоны забивают их камнями и нанизывают на колья, как крупную рыбу (там же. X. 120—124). У Цирцеи природа вначале предстает местом, предназначенным для охоты, Одиссей там забил чудовищного оленя[126]. «Нечеловеческое» выступает здесь сразу и в виде божества, и в виде животного, однако в последнем случае двояким образом: жертвы Цирцеи обращены в диких зверей, львов и волков, которые, впрочем, ведут себя, как послушные собаки (там же. X. 212—218). Яд Цирцея подмешала к хлебу[127], который она подает спутникам Одиссея. Путешественники превращаются в свиней, однако не теряют память (там же. X. 239—243). Этой участи Одиссей избежал, потому что имел при себе растение, знаменитое «моли» (μώλυ), превосходное выражение темы переворачивания: «корень был черный, подобен был цвет молоку белизною»[128]. Спутникам Одиссея удается вернуть прежний облик, а людям, превращенным в диких зверей, — нет. Таким образом четко устанавливается иерархия: 1) люди, 2) домашние животные, 3) дикие животные. Последние не могут привязаться к людям или волшебным образом вернуться в человеческое со-стояние[129].
Помещенные по соседству с царством мертвых киммерийцы, хотя у них имеются démos и polis, исключены из человечества в силу того, что им, как и мертвым, неведомо солнце (там же. XI. 14—16).
Сирены представляют собой в некотором роде хищную разновидность лотофагов. Их чары оказывают такое действие, что возвращение домой становится невозможным[130], но, как и с лотофагами, с ними можно справиться. Только эти этапы удается преодолеть действительно без потерь. Циклоп относился к человечеству, как сырое относится к вареному, сирены принадлежат к миру тлена: трупы их жертв не пожираются, а разлагаются, брошенные на лугу[131].
Помещенный в самом начале поэмы эпизод со стадами Солнца — Гелиоса[132] заслуживает большего внимания, Быки и бараны обладают бессмертием, иначе говоря, они избегают участи животного, предназначенного для пахоты и жертвоприношения. Подобно тому, как живые Цирцея или Калипсо кажутся людьми, а мертвые, на первый взгляд, могут сойти за существа из плоти и крови, животные Солнца кажутся домашними. Защищает их лишь провозглашенный запрет на всякую попытку приносить их в жертву. Пока Одиссею и его спутникам хватало хлеба и вина, этот запрет соблюдался (там же. XII. 329-330). Как только запасы иссякли, возник выбор: либо обратиться к дикой природе, т. е. промышлять охотой и рыбной ловлей, что и было правильным решением (его, впрочем, и выбрал Одиссей — Гомер. Одиссея. XII. 331— 333), либо учинить гекатомбу из запрещенных животных, что означало поступить с ними как с домашними, поймав их, однако, как если бы они были дикими. Это решение избрали спутники Одиссея (там же. XII. 344 сл.). Но весьма показательно Гомер подчеркивает, что у совершающих это жертвоприношение нет необходимого: ячменных зерен (ούλαι или ούλόχυται), которые нужно бросать перед собой прежде, чем перерезать горло жертвенному животному. Зерна заменяют дубовыми листьями[133], то есть вместо зерновой культуры используется дар природы. Соответственно и вино, предназначенное для жертвенных возлияний, заменяют просто водою[134]. Итак, само то, каким способом проводится жертвоприношение, превращает его в нечто противоположное. Сырое и жареное мясо принимается мычать (там же. XII. 395-396). Да и как могло бы быть иначе, коль скоро речь идет именно о бессмертных животных? Доля человека в жертвоприношении - мясо мертвого животного (остальное идет богам): следовательно, быков Солнца принести в жертву невозможно. Это святотатство спутникам Одиссея пережить не дано[135].
На последнем этапе своих странствий герой — теперь он один — попадает на остров Калипсо, «пуп моря» (там же. I. 50). Здесь Одиссею представляется возможность обрести бессмертие, вступив в брак с богиней (там же. V. 136; XXIII. 336); но именно остров Калипсо и есть то место (я уже напоминал об этом, см. выше: с. 53), где не происходит нормального общения между богами и людьми, т. е. жертвоприношения. Калипсо грезит о ненормальном соединении, но сама же вспоминает, что две предыдущие попытки: любовь Эос и охотника Ориона и любовь Деметры и земледельца Иасиона закончились катастрофически (там же. V. 121-125). Древние любители аллегорий (ср.: Buffière 1956: 461—463) видели в острове Калипсо символ тела и материи, от которой должна оторваться душа человека. Разумеется, в тексте имеется в виду вовсе не это: покидая Калипсо, Одиссей осознанно делает выбор в пользу человечества, отвергая все то, что ему чуждо (ср.: Segal. 1962).
На фоне того мира, который я только что обрисовал в общих чертах, Итака, Пилос и Спарта, бесспорно, принадлежат к миру «хлебодар-ной земли»[136]. Даже сама Итака, этот «козий остров», которому не под силу, как Спарте, прокормить коней (Гомер. Одиссея. IV. 605—606), все же представлена страной, где родится зерно и растет виноград:
...он жатву сторицей дает, и на нем винограда Много родится от частых дождей и от рос плодотворных; Пажитей много на нем для быков и для коз[137]...Как свидетельствует знаменитый — и архаизирующий — пассаж [138], именно ради царя черная земля приносит
Рожь, и ячмень, и пшено, тяготеют плодами деревья, Множится скот на полях и кипят многорыбием воды: Праведно властвует он, и его благоденствуют люди.Собственно говоря, предметом спора Одиссея с женихами были как Пенелопа, так и принадлежавшие ему пшеница, ячмень, вино и скот. Возвращение на Итаку оказывается, таким образом, возвращением в «хлебодарную страну»; и все же Итака еще недостаточно «земная». Перед смертью Одиссею придется отправиться «вдаль от моря», дальше Итаки, и идти в глубь суши до тех пор, пока встреченные им люди не примут весло за веялку (лопату для зерна)[139]; и тогда тройное жертвоприношение Посейдону положит конец его приключениям и неподвижность окончательно возьмет верх над зыбкостью.
Подчеркивать земледельческий и скотоводческий характер земли в Пилосе и Спарте[140], думаю, тоже нет необходимости. Впрочем, это не означает, что все три страны располагаются в одинаковой плоскости. Пилос — страна непрерывных жертвоприношений, образец благочестия. При появлении Телемаха Нестор совершает жертвоприношение Посейдону, приводятся все детали этого ритуала (Гомер. Одиссея. III, 5 сл.). Чуть позже жертвоприношения удостаивается и Афина[141]. Не так обстоит дело в Спарте, где встречаются отдельные признаки, указывающие на принадлежность страны отчасти и к сфере мифа. Дворец Менелая, украшенный золотом, слоновой костью и электром, в противоположность дворцу Одиссея, предстает жилищем, достойным Зевса (как и чертог Алкиноя)[142]. В Спарте, как и на Схерии, имеются вещи, сработанные богом Гефестом[143]. Жертвоприношение здесь носит характер ретроспекции: Менелай вспомнил о жертвоприношении, которое он должен был совершить во время своих скитаний, когда узнал о пребывании Одиссея у Калипсо, вступив тем самым в общение с миром мифов (там же. IV. 352, 478). Да и в будущем Менелаю уготована судьба, совершенно отличная от участи Одиссея, — это не смерть, а пребывание на Елисейских полях, в своего рода ином золотом веке[144].
Пилос и Спарта противопоставляются Итаке и в другом отношении. Они представляют собой упорядоченные царства, где правитель на своем месте, вместе с супругой, где казна не подвергается разграблению, и соблюдаются элементарные правила человеческого общежития. Когда Телемах прибывает в Спарту, Менелай как раз празднует свадьбу сына (там же. IV. 4 сл.). На Итаке, наоборот, перед нами вырисовывается общество в состоянии кризиса. Три поколения царской семьи предстают в образах старика — в удалении которого от трона кроется что-то таинственное, если сравнить его с Нестором, — женщины и юнца, изображаемого слегка отстающим в своем развитии[145]. В общем, общество в кризисе, на грани распада, и это выражается в бунте kouroi; общество, ожидающее восстановления порядка.
Жертвоприношение оказывается одновременно признаком кризиса и орудием его разрешения. Кто совершает жертвоприношения на Итаке? Если за критерий взять использование глаголов ιερεύω и σπένδω и родственных слов, то все — женихи, так же как Одиссей и его сторонники[146]. Если же, напротив, рассматривать тексты, где жертвоприношение точно адресуется богам, то приходится констатировать, что женихи жертвоприношений не совершают. Точнее, только один из них предлагает совершить возлияние богам, это Амфином, единственный из женихов, кого Одиссей пытается уберечь от предстоящей резни[147]. Да, Антиной обещает жертвоприношение Аполлону по всем правилам, со сжиганием бедер коз, но выполнить это не сможет[148]. Напротив, на стороне Одиссея жертвоприношение постоянно совершается наяву или воскрешается в памяти. Подчеркивается благочестие Евмея: Ούδε συβώτης λήθετ' αρ' αθανάτων * φρεσί γαρ κέχρητ' άγαθησιν — «свинопас не забыл о бессмертных; он был благонравен»[149]. Это сопоставление, во всяком случае, позволяет предполагать, что глагол ιερεύω подчас мог употребляться не в строго религиозном значении[150]. Но есть и более важный результат данного исследования: в двух случаях в «Одиссее» жертвоприношение играет роль критерия — при сопоставлении людей и «нелюдей» оно служит критерием человечности, а если сравнивать людей между собой, выступает как критерий социального и морального порядка.
Тем не менее и в этом человеческом мире Итаки существует, по меньшей мере, одно место, находящееся в прямом контакте с миром мифов: это комплекс, который образуют пристань Форка, названная так по имени деда того самого Циклопа[151], и грот, посвященный нимфам, т. е. божествам природы и вод. У грота этого, напомним, два входа: один — для богов, другой — для смертных (там же. XIII. 109—112). Совсем близко растет священная маслина, там Афина беседует с Одиссеем (Гомер. Одиссея. XIII. 122, 372). Именно сюда и доставили феаки Одиссея с его сокровищами.
Как убедительно показал Ч. П. Сигал, феаки располагаются «между двумя мирами»[152]: на пересечении мира рассказов и реального мира, их основная функция состоит в том, чтобы провести Одиссея из одного в другой.
Высадившись нагишом в стране феаков, совершив — почти целиком — возвращение «без помощи богов и смертных»[153], Одиссей находит приют под маслиной, и, что замечательно, маслина эта двойная: в одно и то же время дикая и привитая, маслина-дичок и олива (οο μεν φυλιης, ό δ' ελαίτης)[154]. Двойственна и сама земля острова феаков: отчасти ее можно сравнить с землей Итаки, Пилоса и Спарты, отчасти — с землей мира рассказов. Разумеется, страна феаков предъявляет весь набор характерных признаков греческого поселения эпохи колонизации в природном обрамлении «гор и лесов» (там же. V. 279—280): это пашня, некогда разделенная на участки основателем — έδάσσατ 'άρούρας[155]. Здешние поля — плод трудовых усилий людей: αγρούς και εργ' ανθρώπων (там же. VI, 259), то самое, что тщетно искал Одиссей в своих странствиях: укрепленный город выделяется здесь на фоне сельской местности - πολις και γαία[156]; страна изобилует вином, маслом и хлебом, у Алкиноя есть его собственный цветущий виноградник (там же. VI. 76-79, 99, 293). Короче говоря, феаки — люди среди людей, им знакомы «укрепленные города и тучнообильные пашни всех людей» (там же. VIII. 560—561). И, оказавшись на берегу их страны, Одиссей как раз и обретает свою собственную человечность: когда он является Навсикае, то похож на дикого горного льва, грозу скота и диких оленей, когда же он покидает эту страну, чтобы вернуться к себе на родину, он словно усталый пахарь, бредущий домой (там же. VI. 130-133; XIII. 31-35).
Однако земля страны феаков также противопоставляется земле Итаки: сад Алкиноя[157] — волшебный сад, где нет времен года и веет вечный Зефир; виноградная лоза являет там сразу свои цветы, кисти незрелого винограда и спелые гроздья; т. е. речь идет не просто о саде, это именно островок золотого века в сердце страны феаков. Напротив, в саду Лаэрта нет ничего необычного: «Каждая лоза плодоносит в свое время, и грозди здесь всех оттенков, сообразно смене Зевесовых времен года»[158]. С одной стороны — век Кроноса, с другой — век Зевса[159]. Это сравнение можно бы провести и дальше. Охраняющие дом Алкиноя собаки из золота и серебра (творение Гефеста) бессмертны и, естественно, наделены вечной молодостью; напротив, всем известен эпизод с собакой Аргусом, век которой в точности отмерен длительностью отсутствия Одиссея[160].
А как же обстоит дело с жертвоприношениями? В стране феаков их совершают почти так же, как в Пилосе или на Итаке: θεοΐσι ρέξομεν Ιερά καλά — «богам принесем мы прекрасные жертвы»[161], утверждает Алкиной. Перед отплытием Одиссея в жертву по всем правилам при носят быка[162], а когда феакам стала грозить гибель, уготованная им Посейдоном с согласия Зевса, судьба их зависела от результатов жертвоприношения, которым Алкиной решил умилостивить богов: έτοιμάσσαντο δε ταύρους — «и быков приготовили» (Гомер. Одиссея. XIII. 184). Это последнее, что делают феаки в поэме, и неизвестно, что им было суждено, — уникальный случай, когда решение участи осталось в подвешенном состоянии. Однако даже в этом отношении феаки не были обычными людьми. Алкиной мог говорить:
Ибо всегда нам открыто являются боги, когда мы, Их призывая, богатые им гекатомбы приносим; С нами они пировать без чинов за трапезу садятся[163].Такие общие трапезы не имеют ничего общего с нормальным жертвоприношением, которое, напротив, отделяет людей от богов[164]. Конечно, феаки — люди; Алкиной и Одиссей напоминают друг другу о том, что оба смертны[165], и именно бренность человеческого существования суждено феакам изведать во время их последнего появления в поэме, — но они также и άγχιθεοι, «родные богам»; и этот эпитет не просто дань вежливости — у Гомера он используется всего два раза и только по поводу феаков (там же. V. 35; XIX. 279). Эти люди, некогда жившие по соседству с грабившими их циклопами, были поселены Навси-фоем «вдали от людей, поедающих хлеб», εκας ανδρών άλφηστάων[166]. В определенном смысле они, как уже было сказано, предстают циклопами наоборот (Segal 1962: 33). Все человеческие добродетели — гостеприимство[167], благочестие, искусство одарять и пировать — составляют полную противоположность варварству циклопов. Но даже больше того: в былой близости и нынешней удаленности феаков от циклопов видны более сложные отношения. «Мы близки богам, — говорит Алкиной, — как циклопы и дикие племена гигантов» (ώσπερ Κύκλωπες· те και άγρια φύλα Γιγάντων — Гомер. Одиссея. VII. 205—206), гигантам же в другом месте уподобляются лестригоны (там же. X. 120). Близость и родство приглашают искать в стране феаков одновременно лицевую и оборотную сторону мира рассказов.
Высадившись на берег в стране Алкиноя, Одиссей встречает девушку у места, где стирали белье, и та приглашает его пойти к ее отцу и матери (там же. VII. 296—315). В другом эпизоде он уже встречал деву, черпавшую воду из источника, и она предлагала ему то же самое - это была дочь царя лестригонов. Как и в царстве людоедов, у гостеприимных феаков Одиссей тоже увидел царицу прежде царя (там же. X. 103— 115). Навсикая — дева или богиня?[168] При всей банальности такого вопроса необходимо заметить, что Навсикая — дева, которая «видом подобна богине», тогда как Цирцея или Калипсо были богинями с внешностью дев[169]. Матримониальные планы, которые строит Алкиной насчет Одиссея и украдкой лелеет сама Навсикая (Гомер. Одиссея. VI, 244—245; VII, 313), напоминают о тех замыслах, что с куда большей решительностью высказывали обе богини. Сирены, эти соблазнительницы, будто аэды, поют о Троянской войне (там же. XII, 184—191) так же, как Демодок при дворе Алкиноя, пением своим вызвавший у Одиссея слезы[170]. Одни воплощают опасную, другие — благотворную сторону поэтического слова[171].
Конечно, мне возразят, что число ситуаций, в которых может оказаться человек вроде Одиссея, не может быть бесконечным, и это действительно так. Но вот что, быть может, более странно: прежде чем найти действительных перевозчиков в лице феаков, Одиссей уже встречал одного перевозчика, который доставил его совсем близко к Итаке, — то был Эол, повелитель ветров (там же. X. 21), проводивший свою жизнь в пирах, как и феаки. Во время обоих «возвращений» Одиссей погружается в сон, и сон этот на пути от Эола приводит к катастрофе, а после остановки на Схерии оказывается благотворным[172]. В семье Эола, напомним, практикуется кровосмешение, но то же относится и к царской чете феаков, если следовать начальным строкам, в которых излагается генеалогия Ареты и Алкиноя, «рожденных от одних родителей» (там же. VII. 54—55):
Άρητη δ' ονομ' εστίν έπώνυμον, έκ δε τοκήων των αυτών οϊπερ τέκον Άλκίνοον βασιλήα Имя царицы Арета; она от одних происходит Предков с высоким супругом своим Алкиноем.Продолжение зафиксированного традицией текста, правда, вносит изменения в то первое впечатление, которое не могло не сложиться у слушателя: Арета оказывается не сестрой Алкиноя, а его племянницей — однако здесь может быть не лишено оснований и объяснение с помощью интерполяции[173].
И все же то, что мы назвали «реальным миром», присутствует на Схерии в ничуть не меньшей степени, чем мифический мир странствий.
Это было уже доказано в отношении земли и жертвоприношения, но может быть распространено и на организацию общества в целом. В стране феаков наличествуют те же социальные установления, что и в Пилосе, Спарте и, в особенности, на Итаке[174], а отдельные детали устройства дворца у Одиссея на Итаке и у Алкиноя совпадают. Случайность ли это? У Одиссея полсотни служанок, и у Алкиноя столько же (Гомер. Одиссея. XXII. 421; VII. 103), и все остальное соответствует[175]. Вот только эти одинаковые персонажи не дают в результате двух одинаковых обществ. Так, на Схерии действительно был по крайней мере один «разгневанный молодой человек» — Евриал, оскорбивший Одиссея, - но его заставили повиниться (там же. VIII. 131, 132, 396—412). Тщетно мы стали бы искать в стране феаков свинопаса, погонщика быков, козовода. А на Итаке напрасно было бы искать умелых мореходов, которые ведут корабли без кормчего, этих «безопасных провожатых» из страны феаков (там же. VII. 318-320; VIII. 558, 566; XVI. 227-228). Итака -остров, мужи которого некогда уплыли на корабле, но это ни в коей мере не край мореходов, пусть даже Одиссей и приобрел необходимые навыки. Едва причалив к родному берегу, он находит совершенно земное применение снастям своего корабля, веля повесить неверных рабынь на его причальном канате (там же. XXII. 465—470).
Напротив, страна феаков — общество идеальное и невозможное. В разгар кризиса, переживаемого царской властью, Гомер рисует нам царя, умеющего восстановить мир, царя, который управляет дюжиной подчиненных и повинующихся ему царей, послушными сыновьями, женой (единственная роль которой, что бы там ни говорили, сводится к заступничеству)[176], стариками (роль которых ограничивается подачей советов[177], а их самих не удаляют, как Лаэрта, не оскорбляют, как Египтия[178]). Дворец Алкиноя в определенном смысле представляет собой совершенный, но, повторюсь, невозможный ойкос; феакам неведомо физическое единоборство (Гомер. Одиссея. VIII. 246), а также совсем неизвестна борьба политическая: достаточно сравнить шумную агору Итаки, во второй песни, с агорой феаков (там же. VIII. 25 сл.). Даже столь неопытный юнец, как Телемах, выступает так, что его считают hypsagorês (ύψαγόρης - «говорящий свысока»), витийствующим на агоре (там же. I. 385; II. 85), и нет никакого сомнения, что здесь мы прямо соприкасаемся с исторической реальностью. Пилос тоже, возразят нам, избежал кризиса царской власти, равно как и Спарта Менелая. Оба города представляют собой благоустроенные государства, где все в порядке, а историческая реальность кризиса появляется только там, где того требует логика повествования. Кризис бушует на Итаке, но не обязательно повсюду в мире людей[179]. Где же тогда проходит различие между страной феаков, с одной стороны, и Пилосом и Спартой, с другой? Ответ не вызывает никаких сомнений: оно заключается в сухопутном, по существу, характере Пилоса и Спарты. Вот в чем парадокс: как раз в тот самый момент, когда греческие города, приступая к колонизации Запада, пускаются в морские приключения, поэт — автор «Одиссеи» изображает город мореходов как совершенную утопию. В определенном смысле то, что Одиссей желал бы восстановить на Итаке, — это именно порядки наподобие тех, что царят у феаков, но это ему не удастся: непрерывные пиры хозяев Схерии, с участием богов или без оного, ему устраивать не под силу, и в двадцать четвертой песни ему придется пройти через примирение с семьями перебитых женихов. Феаки вернули его в мир людей, и вслед за их исчезновением развеиваются и те миражи «нечеловеческого», что встречались Одиссею на всем протяжении его странствий. Можно рассматривать Схерию как первую утопию в греческой литературе (см.: Finley 1965а: 123—125), но здесь мы пока еще не достигли того момента, когда политическая утопия выделится из представлений о золотом веке[180], который все еще присутствует в стране феаков, что, собственно, и отличает это «идеальное» общество от другого представления о совершенном государстве — того, что в виде мирного или воюющего города изобразил Гефест на щите Ахилла в восемнадцатой песни «Илиады»: все детали этого описания, от засады до судебной тяжбы, заимствованы из реального мира. Но золотой век обречен на исчезновение, и путешествие Одиссея — это возвращение на Итаку[181].
2. Время богов и время людей[182]
«Для греков [...] время течет циклически — по кругу, а не по прямой. Придерживаясь идеала умопостигаемости, уподобляющего подлинное и полное бытие тому, что заключено в себе и остается тождественным самому себе; тому, что вечно и неизменно, они полагают движение и становление низшими ступенями реальности, тогда как распознать ее наилучшим образом возможно лишь в стабильной и постоянной форме, в соответствии с законом повторяемости».
Так Анри Шарль Пюеш (H.-Ch. Pueсh) (Puech 19516: 34)[183] резюмировал теорию традиционную, но тем не менее все еще сохраняющую определенную долю истины. Поэтому на этих страницах мы не собираемся сражаться с данной интерпретацией и лишать иудео-христианскую мысль, разработавшую представление об историчности человека, этой чести. Но в том виде, как она формулируется в общем виде, огрубленно, эта истина рискует не учесть всех фактов[184]. И даже там, где она верна, излагается она зачастую поверхностно и поспешно. Когда утверждают, что древние «знали» только круговое, циклическое, т. е. космическое[185] время, значит ли это, что они не ведали никакой иной формы времени или что они отвергали ее со знанием дела? Доказать это можно лишь проведя хорошо продуманное широкое исследование. Вот почему необходимо обращаться как к текстам эпических поэм, трагедий, исторических сочинений и даже речей[186], так и к собственно философским текстам.
Если и вправду вся греческая античность жила в «страхе истории» (Мирча Элиаде), то это должно быть видно повсюду. Однако достаточно открыть, к примеру, сборник надписей, чтобы убедиться, что это совсем не так. Коль скоро в Дельфах греческие полисы напоминают о своих победах в Греко-персидских войнах (Meiggs, Lewis 1969: № 27), Павсаний - о том, как он командовал греческим войском при Платеях[187], а афиняне, прославляя Эйонскую победу, связывают свое настоящее с далеким прошлым[188], невозможно говорить, что «человеческие поступки лишены собственного, "самостоятельного" значения» (Eliade 1949: 18). В этих надписях-посвящениях мы не обнаружим того «теократического» понимания истории, что было характерно для древнего Востока и которое так хорошо проанализировал Р. Дж. Коллингвуд (Collingwood 1946: 14)[189]. Полис с помощью надписей утверждает свою власть над временем. Заметим, наконец, что суть спора подменяется, если говорить о «вечном возвращении» по всякому поводу. Вечное возвращение в точном смысле слова - это совершенно особое учение, занимавшее в греческой мысли реальное, но ограниченное место. Не вполне ясно даже, действительно ли вся дискуссия вращается, как сказал бы молодой Паскаль, вокруг «прямых и окружностей»: в настоящем очерке[190] речь идет не столько о противопоставлении циклического и линейного времени, сколько о том, какие именно отношения устанавливались между временем богов и временем людей в период от Гомера до Платона[191].
Пожелай гомеровский герой иметь полностью циклическое понимание времени, у него не нашлось бы для этого средств. Его астрономические познания не выходили за рамки некоторых в высшей степени смутных понятий, даже, как утверждают, более примитивных, чем у многих первобытных людей[192]. Поэтому попытки применить к гомеровскому миру традиционные схемы, даже если при этом удается избежать простейших ошибок, очевидно, не учитывают самое важное, т. е. человеческие деяния[193].
Однако уже с самых первых строк «Илиады» мы предупреждены: к Музе обращен призыв поведать историю с самого ее начала (τα πρώτα), и в объяснение этой истории приводится лишь «Зевсова воля» (Гомер. Илиада. I. 5-6).
Чума в лагере ахейцев - это воплощение решения, принятого богами, но известно это только жрецу Хрису, прорицателю Калхасу и самому поэту. Так противопоставляются время божественное, мифическое, и время человеческое, непосредственно проживаемое.
Впоследствии музы считались дочерями Памяти, но уже у Гомера они дают поэту возможность возвыситься, по образу богов, над сумятицей человеческого времени и пространства:
Ныне поведайте, Музы, живущие в сенях Олимпа: Вы, божества, — вездесущи и знаете все в поднебесной; Мы ничего не знаем, молву мы единую слышим: Вы мне поведайте, кто и вожди и владыки данаев (Гомер. Илиада. II. 484-487)и в другом месте:
Ныне поведайте мне, на Олимпе живущие Музы, Кто меж ахейцами первый корысти кровавые добыл В битве, на сторону их преклоненной царем Посейдоном?[194] (Там же. XIV. 508-510)[195]Действительно, человеческому взгляду время представляется полным сумбуром. Ахилл обнажает свой меч, потом снова вкладывает его в ножны, при том что присутствующие не понимают смысла этих последовательно сменяющихся во времени событий. На самом же деле, Афина, оставаясь невидимой для других, обратилась к нему с речью и эта ее речь, по словам Р. Шерера (Schaerer R.), «приоткрывает перед ним перспективу времени» (Schaerer 1958: 17):
Злыми словами язви, но рукою меча не касайся. Я предрекаю, и оное скоро исполнено будет: Скоро трикраты тебе знаменитыми столько ж дарами Здесь за обиду заплатят: смирися и нам повинуйся. (Гомер. Илиада. I. 211-214)Таким образом, найти причину и объяснить сумятицу времени людей можно порядком, установленным во времени богов. «В этом мире у людей на уме то, что каждое утро посылает Отец людей и богов» (Гомер. Одиссея, XVIII, 136-137)[196], - конечно, это сложный порядок, да к тому же и сам он представляет собой результат «компромисса» (Robert 1950: 110, 111) между разными силами, которые правят миром. И все же это порядок, и он позволяет Гомеру представить, как Зевс взвешивает на своих золотых весах «жребии смерти» (κήρε) Ахилла и Гектора, и провозгласить, что перевесил «роковой день» (αίσιμον ήμαρ) Гектора (Гомер. Илиада. XXII. 208-211)[197]. В пределах этого компромисса боги могут сколько угодно жонглировать временем людей, - например, Афина делает Одиссея то молодым, то стариком (Гомер. Одиссея. XIII. 429 сл.)
Итак, у истоков греческой литературы друг другу противопоставлены два типа времени, в отношении которых уже возможно использовать определения «ощущаемое» («воспринимаемое чувствами») и «умопостигаемое». До какой же степени в дальнейшем суждено было выйти за рамки этой оппозиции?[198]
Действительно, стоит только обратиться к гесиодовским поэмам, картина заметно меняется. Если в «Теогонии» время богов имеет прямолинейную направленность, то «труды и дни» людей организуются как придется, постепенно, подчиняясь ритму смены времен года. Для нашей темы «Теогония» едва ли не главное произведение[199]. Ведь в ней впервые мир греческих богов был представлен в форме «исторического» мифа[200]. Впрочем, миф этот сложный, и он распадается на два, а то и на три «слоя»[201], отражающих столько же типов мышления. Сначала (если рассматривать текст по порядку) гесиодовский мир предстает миром без создателя, где природные стихии выделяются попарно из Хаоса и Ночи, как в классических древневосточных космогониях. В некотором смысле, события эти разворачиваются в прямолинейном времени, но стоит приглядеться получше, и становится ясно, что генеалогическая и хронологическая схемы накладываются здесь на что-то иное. Так, нет никакой связи между потомством Хаоса и Геи; впрочем, большую часть своих детей последняя производит на свет без всякого «мужского» участия (Philippson 1936: 10, 11). То же самое касается Ночи. И наоборот, от этой первостихии, Геи, берет начало род богов, целиком выстроенный во времени (и время это прямолинейное): цепочка, состоящая из Урана и его потомков Крона и Зевса[202], принадлежит к области династической истории. У цепочки этой есть цель: победа Зевса и его окончательное утверждение на небесном престоле. Эта победа одерживается во времени, т. е. в условиях неопределенности, и в рассказе о последней битве - схватке с гигантом Тифоном - Гесиод не преминул сообщить нам, что не все было предрешено[203]. Наконец, Зевсова победа бросает отблеск и на прошлое: воля громовержца исполняется еще до его рождения[204].
Итак, у истории богов есть «направление», «смысл»; существует и время богов, доступ к которому, как и у Гомера, открыт лишь ученикам Муз. Но не лишит ли это время, направление которому задано волей и по воле Зевса, всякого смысла и даже самого существования времени людей? Большинство гомеровских героев связаны родственными узами с богами: «сын Зевса» - это почти формула вежливости! Миф о поколениях, наоборот, создает непреодолимое препятствие между богами и людьми, даже «золотое» поколение не рождено бессмертными богами, а сделано ими (Гесиод. Труды и дни. 109), и между первыми людьми и нами происходит бесповоротный «упадок», прерываемый только четвертым поколением, поколением героев, - единственным, которое обладает историческим характером[205]. Собственно, сущность железного поколения в том и состоит, чтобы жить во времени, тяжко страдая:
Землю теперь населяют железные люди. Не будет Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя, И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им. (Гесиод. Труды и дни. 176—178)От такого положения поэма Гесиода предлагает спасаться одним средством: монотонным повторением полевых работ. Здесь впервые в греческой литературе циклическое, круговое время проявляется как время людей. Впрочем, как и во всех первобытных календарях, это не слишком правильный цикл; у каждого месяца, у каждого дня имеются свои собственные достоинства и недостатки, и те и другие божественного происхождения, ибо дни - «от Зевса» ("Ηματα Διόθεν)[206].
Однако для лирических поэтов, оторванных от земли, эти средства оказываются бессильными. Зло само по себе остается все тем же. Человек определяется как «эфемерный» не потому, что его жизнь коротка, а потому, что его участь связана со временем[207]. Само время - не что иное, как череда непредвиденных случайностей жизни. Именно об этом напоминает знаменитый стих Архилоха: γίγνωσκε δ oîoç ρυομός ανθρώπους εχει («Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт»)[208] , эхом отзывающийся у Вакхилида:
Легковейные заботы им зыблют дух, И не дольше их честь, чем жизнь (όντινα κουφόταται, θυμόν δονέουσί μέριμναι, όσον άν £ώη χρόνον, τόν δ'ελαχεν)[209].Из этого падшего времени лирические поэты взывают ко времени более величественному, Солонову «времени мщения»[210], которое восстановит справедливость; к тому, о котором великолепно сказал Пиндар:
И тот, кто единый выводит пытанную истину, — Бог — время... ( ο τ' έξελέγχων μόνος άλάθειαν έτήτυμον χρόνος·...)[211],которое одним лишь тем, что оно миновало, и создало историю. Кроме времени Пиндар упоминает о вечности:[212] именно у него впервые говорится о череде из трех жизней, позволяющей мудрецу вырваться из времени людей.
У Софокла один из персонажей говорит:
Все мы, Все, что землею вскормлены, не боле Как легкий призрак и пустая тень. (Софокл. Аякс. 125—126, пер. Ф.Ф. Зелинского)Как и человек у лирических поэтов, трагический герой ввергнут в мир, которого не понимает.
Ты видишь сам: все счастье человека Дня одного добыча или дар. (Там же. 131)[213]В любой из трагедий Софокла рассказывается именно о таком дне; расследование Эдипа, разворачивающееся в течение одного дня (Софокл. Царь Эдип. 438), приводит к победе неожиданного следователя -времени:
Но Время все знало, и раскрыло все: Предстал пред ним тот, кому и брак не в брак, И кем рожден, от той родил. (Софокл. Царь Эдип. 1213 сл.)Время людей, которому хор в «Трахинянках» (129 сл.) дает такое определение:
И Медведицы вращенье Круговое (κυκλουσιν) с горем радость Чередует для людей, —включается тем самым в более широкую сферу: это « всесильное время» (παγκρατης χρόνος) (Софокл. Эдип в Колоне. 609), возводимое в ранг божества.
Согласно одному сообщению, совершенно неправдоподобному, но показательному для характеристики изменившегося мышления, Фалес Милетский предсказал солнечное затмение; в другом случае, воспользовавшись своими познаниями о небесных явлениях, он загодя взял внаем маслобойни и с выгодой пропустил через них весь богатый урожай маслин[214]. Размышления над астрономией позволили милетской школе выстроить время в космологии строго циклически. У Анаксимандра начала вещей «выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды (= ущерба) в назначенный срок времени»[215]. Это представление, «происходящее из столкновения [...] зноя и влаги в круговороте времен года» (Cornford 1952: 168), рожденное также полисом с его идеалом справедливости[216] распространяется таким образом и на возникновение всего мира в целом, которое повторяется бессчетное число раз[217]. Пары противоположностей из «Теогонии» обращаются таким образом по одному и тому же кругу. Время богов превратилось в космическое время. Критика Гесиода, подспудно присутствующая у Анаксимандра, становится явной у Гераклита. Эфесец, провозглашающий тождество противоположностей[218] на некоем более высоком уровне, утверждает, что «совместны у (окружности) круга начало и конец»[219], упрекает Гесиода, который «не знал (даже] дня и ночи! Ведь они суть одно»[220] и различал хорошие и плохие дни несмотря на их принципиальную равноценность[221].
Если добавить, что, согласно доксографической традиции, Гераклит рассчитал продолжительность «великого», или космического, года[222], то станет ясно, что во взглядах философа из Эфеса нашли свое выражение основные признаки так называемой «эллинской» концепции времени[223].
В рамках именно такой концепции, должно быть, и сложилось учение о «вечном возвращении» в точном смысле этого понятия. Но у нас слишком мало данных для того, чтобы установить момент его возникновения. Единственное свидетельство, в котором упоминается о его происхождении знаменитый фрагмент Евдема: «Повторяется ли то же самое время или нет — вот вопрос. [...] А если поверить пифагорейцам, [...] то и я буду рассказывать вам с палочкой в руках, (как сегодня], и вы будете сидеть вот так, и все остальное будет точно таким же, и в таком случае логично считать, что (повторится] то же самое время. Ибо у одного и того же движения, равно как и у многих тех же самых (движений], «раньше» и «позже» тождественны, а стало быть, они тождественны нумерически. Следовательно, (повторится] все то же самое, а значит, и время»[224]. Вполне вероятно, что некая философская школа, которая интересовалась одновременно и проблемами души и циклами обращения звезд, могла подняться до этого всеобщего закона. Но когда и как? Какую роль сыграли рассуждения о палингенесии, которые, несомненно, восходят к древности? Ничто из того, что известно нам о древнем пифагореизме, не дает оснований определенно приписывать такое видение мира именно ему[225]. Как бы там ни было, даже если и можно вместе с Корнфордом очень далеко прослеживать влияние «примитивной» мысли Анаксимандра (Cornford 1952: 168), ограничиться этим было бы ошибкой. Не говоря уже об отличии в деталях и о страстном отрицании божественного времени у элеатов, точно известно, что спустя более ста лет Демокрит мыслил совершенно иным образом. Идея множественности миров сама по себе несовместима с цикличностью времени[226]. Да и сам Демокрит и его современники софисты отныне, видимо, стали делать упор на собственно человеческие проблемы.
По правде говоря, руководствовались они уже довольно древней традицией.
Боги отнюдь не открыли смертным всего изначально, Но постепенно, ища, лучшее изобретают[227].Бог Ксенофана выброшен куда-то вне времени, в трансцендентность;[228] идея цикла (круга) полностью сохраняет значение с точки зрения космологии[229], но наряду с этим у мира людей есть своя собственная история, и не случайно открытие это сопровождается критикой Гомера и Гесиода[230] во имя человеческой морали.
Намеченная таким образом проблема приобретает огромную популярность во второй половине V в. до н. э. и выливается в форму темы «первооткрывателей». Технические новшества более не считаются даром богов и даже результатом «Прометеевой кражи», напротив, они представляются как поступательные и датированные завоевания человечества. Эта тема почти навязчиво то и дело возникает у Геродота, но более всего искали себе предшественников в человеческом прошлом софисты, сами занимавшиеся изобретением или обучением technai: Горгий воздает хвалу Паламеду, царю изобретателей[231]. Критиев Сизиф идет гораздо дальше: «Было время, когда жизнь людей была еще неустроенной»[232] . В начинающемся с этих слов отрывке из трагедии повествуется ни много ни мало о том, как люди одновременно изобрели устои общества и богов. Трудно вообразить себе более полную противоположность гесиодовскому миру[233].
Побуждает нас обратиться к историкам тот факт, что история занимала достойное место в греческой мысли V в. до н. э. Они тоже говорят и мыслят как «изобретатели». Пожалуй, первым признаком рождения истории было именно появление имени историка в начале сочинений Гекатея, Геродота и Фукидида[234]. Следовательно, для нашего исследования это более важно, чем то, как именно историки представляли себе время[235]. «Именно Поликрат, насколько мы знаем, — говорит Геродот, — первым из эллинов, если не считать Миноса, кносского царя, и тех, кто в прежнее время еще до него господствовал на море, задумал стать владыкой на море, первым во времена, которые зовутся временем людей» (της δε άνθρωπηίης λεγομένης γενεής)[236]. Человеческая история, таким образом, противопоставляется мифологии[237], которая изгоняется начиная уже с введения, где Геродот приводит объяснения причин конфликта между греками и народами Востока, дававшиеся различными традициями, и заявляет, что сам он начнет с того «человека, который, как мне самому известно, положил начало враждебным действиям против эллинов» (Геродот. I. 5). С другой стороны, время людей - растяжимое понятие; если Минос отправлен в область мифологии, то Египет предстает в качестве парадигмы человеческой истории. На протяжении 11 340 лет здесь не случалось появления богов в человеческом образе. Солнце четырежды всходило не на своем обычном месте, а поколения людей продолжали сменять друг друга (там же. II. 142). Очень хорошо иллюстрирует эту перспективу эпизод, в котором Геродот выводит на сцену своего предшественника Гекатея: тот хвастается перед египетскими жрецами, что в шестнадцатом поколении происходит от бога, а его собеседники в ответ показывают ему ряд из трехсот сорока пяти статуй своих предшественников: люди сменяли людей, и на место отца заступал сын[238]. Человеческое время — это неопределенность и свобода, и наиболее типична в этом отношении сцена накануне Марафонской битвы, когда Мильтиад обращается к Каллимаху с такими словами: «В твоих руках, Каллимах (èv σοι νυν... έστι), сделать афинян рабами или же, освободив их, воздвигнуть себе памятник навеки, пока будут жить люди, какого не воздвигали себе даже Гармодий и Аристогитон. [...] Если мы сразимся с врагом, прежде чем кого-либо из афинян затронет разложение, то мы способны одержать верх в битве, коль скоро боги воздают по справедливости»[239]. Так вправе ли мы при этом говорить о циклическом времени[240] применительно к Геродоту? Конечно, историк упоминает учение о «круговороте рождений», но лишь как об изобретении египтян, а вовсе не потому, что сам его придерживается[241]. В действительности, у Геродота архаична не столько концепция времени, сколько то, как она применяется в историческом сочинении. Персонажи перекликаются между собой вне времени. Во многом Крез предстает как первый вариант Ксеркса. Повествование не строится по времени: X. Френкель имел основания писать, что «для Геродота время - не единственная координата кривой жизни, а, наоборот, функция описываемого события. Оно течет, пока разворачивается событие; останавливается, когда приводится описание; поворачивает вспять, когда после рассказа о сыне речь заходит об отце» (Frankel 1924: 85)[242]. Точнее говоря, как убедительно показал Дж. Л. Майрс (Myres 1953: 79), композиция сочинения Геродота напоминает скорее скульптурный фронтон, нежели фриз. И тем не менее в главных своих чертах Ιστορία (буквально: «исследование») не имеет отношения к «мифу о вечном возвращении».
Вспоминая в известном тексте о настроениях в Греции после кровавой междоусобицы на Керкире, Фукидид пишет: «Вследствие внутренних раздоров на города обрушилось множество тяжких бедствий, которые, конечно, возникали и прежде и всегда будут в большей или меньшей степени возникать, пока человеческая природа останется той же самой, различаясь лишь по своему характеру в зависимости от изменений (μεταβολαί) в обстоятельствах»[243]. Таким образом, время у Фукидида колеблется между понятиями «всегда» и «изменение» и, если неправильно усматривать в этом тексте доказательство чисто циклического понимания истории[244], то еще менее верно и противоположное мнение. Когда Фукидид сам дает определение своему труду, то характеризует его как подспорье для того, кто захочет «исследовать достоверность прошлых и возможность будущих событий (могущих когда-нибудь повториться по свойству человеческой природы в том же или сходном виде)[245]. Таков смысл пресловутого κτήμα ες αιει («достояние навеки»). Видимо, здесь можно привести сформулированное Гольдшмидтом совсем по иному поводу различие между логическим временем и противостоящим ему временем историческим (Goldschmidt 1953). Своеобразие Фукидида было в том, что он знал и то и другое. Фукидид - преемник и приверженец греческой медицины, а одной из первых задач врача, согласно одному из гиппократовских трактатов, было «заниматься предсказаниями, узнавая заранее и предсказывая на основании наблюдений за больными нынешние, прошлые и будущие события»[246]. Таким образом можно объяснить немало мест в сочинении Фукидида, видимо, связанных с циклической концепцией времени. Повторение одного и того же рассуждения и общий закон империализма позволяют сделать из Ми-носа предтечу, прототип афинского империализма, а из Агамемнона — полководца, командующего союзным войском, сравнимым с армией Брасида и Гилиппа[247]. Анализ, проведенный Ж. де Ромийи (Romilly J. de), показал, что время повествования у Фукидида логически выверено вплоть до самых мельчайших деталей. Довольно часто попадаются моменты, где «простое хронологическое наслоение образует (...] связную и понятную череду (событий]» (Romilly 1956: 46). Нередко также разворачивающиеся во времени цепочки пересекаются, выстраиваются, чтобы «показать в происходящем взаимосвязи, которые для самих действующих лиц оставались непонятными» (Romilly 1956: 58). Эти замечания приобретают смысл, только если помнить, что у Фукидида историческое время всегда тесно связано с логическим, Т. е. одни и те же факты могут быть истолкованы двояко. Если книга I в некотором отношении предстает перед нами как собрание фактов прошлого, предвосхищающих будущее, Фукидид тем не менее в первых же строках утверждает, что Пелопоннесская война «стала величайшим потрясением (κίνηση) для эллинов и части варваров» (Фукидид. I. 2), а значит, уникальным событием, с которым ничто в прошлом сравниться не может. Да и в самих рассказах, представляющих логику в действии, больше всего значения придается каждому отдельному мгновению, выигранному или упущенному кем-то из противников[248]. Подобная двойственность у Фукидида - не просто стилистическая особенность; можно без труда показать, как в его сочинении она связана с главными противоречиями, характерными для его понимания истории — это оппозиция между γνώμη и τύχη, когда-то выявленная Корнфордом (Cornford 1907); между словом и делом, между законом и природой и, может быть, даже между миром и войной[249]. Давний диалог порядка и беспорядка во времени, появляющийся еще у Гомера, находит таким образом у Фукидида совершенно новое выражение[250].
Именно в свете всего этого и следует теперь обрисовать, в каком виде проблема времени вставала перед людьми IV в. Если мир Платона и Исократа в целом представляет собой противоположность миру Геродота и софистов, поскольку между ними пролег страшный кризис, описанный Фукидидом, то именно в сравнении с тем, другим, и определяет себя этот мир. Теоретические рассуждения о времени в IV в. могли принимать совершенно новую форму, но тем не менее обязательно включали в себя, пусть даже с полностью измененным смыслом, то, что было выработано предшествующим поколением. Игнорировать время и историю не мог даже Платон. Равным образом обращение к истории постоянно присутствует у писателей IV в., и прежде всего у ораторов. Но имеется в виду именно обращение, призыв; прошлое становится источником парадигм. Такой человек, как Исократ, делает вид, будто не знает никакого различия между мифическим и историческим временем. Больше того, прошлое вновь превращается во время богов, божественных даров[251]. В разнообразных речах, произносимых во славу Афин, накапливаются воспоминания и мифы. В V в. Перикл в известном надгробном слове (у Фукидида) не углублялся дальше поколения Греко-персидских войн. В IV в. прошлое - больше не прошлое, а настоящее, каким его желали бы видеть, это то, что можно противопоставить неотвратимости развития[252]. Нет ничего более типичного, чем постоянная апелляция Демосфена к «бойцам Марафонским»[253]. Пожалуй, единственный оратор, дерзнувший покуситься на миф о великих предках, — это его противник Эсхин, тот самый, кто, перечисляя перемены, происшедшие в мире во время Александра, произнес эту потрясающую фразу: «На самом деле, мы прожили не человеческую жизнь»[254]. В таких условиях Время, к которому взывает надгробная надпись на памятнике павшим в битве при Херонее, — единственное божество, названное там, - это не историческое время, а «божество, которое следит за всем у смертных»[255].
В платоновской философии первый опыт времени связан с временем прямолинейным. Когда во второй гипотезе «Парменида» заходит речь о том, чтобы подвергнуть формулу «если существует единое» (εν εί εστίν) проверке временем, это время, которое «идет вперед» и определяется просто переходом из «прежде» к «потом», может быть только прямолинейным[256]. Также и в «Теэтете» из утверждения Протагора, что «знание есть ощущение», вытекает, что «все движется», иначе говоря, получается возникновение, о котором писал Гераклит, но без вмешательства логоса[257]. Как и у Гераклита, возникновение - это череда противоположностей. «Все, чему присуще возникновение», подчиняется этому закону[258], истинность которого Сократ постигает в тюрьме, когда, освободившись от своих оков, он поочередно испытывает то мучительное, то приятное ощущение. «Вместе разом они в человеке не уживаются, но, если кто гонится за одним и его настигает, он чуть ли не против воли получает и второе: они словно срослись в одной вершине»[259] . Однако невозможно положить это чередование в основу знания. Единое, причастное времени в «Пармениде», перестает двигаться в тот момент, когда оно «становится и моложе и старше себя»[260]. Неся в себе все противоречия и будучи причастным времени, а значит и изменяясь, оно может делать это только в «странном по своей природе "вдруг" (ή εξαίφνης αϋτη φύσις άτοπος), находясь совершенно вне времени»[261]. Таким образом, рассмотрение линейного времени приводит к этой одновременности противоположностей, к той «неопределенной двоице большого и малого», которая для Платона тождественна материи[262], т. е. непознаваемому. Линейное время — это смерть времени. Платон прямо заявляет об этом: «Если бы возникающие противоположности не уравновешивали постоянно одна другую, словно описывая круг, если бы возникновение шло по прямой линии (ευθεία τις εϊη ή γένεσις), только в одном направлении и никогда не поворачивало вспять, в противоположную сторону, — ты сам понимаешь, что все в конце концов приняло бы один и тот же образ, приобрело одни и те же свойства, и возникновение прекратилось бы»[263]. В действительности, потребность в циклическом времени появляется на уровне ощущений. В «Федоне» именно пока беседа не вышла за рамки рассуждений об идеях, пока надежда на бессмертие души не более чем аргумент в споре и опирается лишь на «заклинания» и «древние учения» (в данном случае пифагорейские), Сократ утверждает, что непременно существует «вечное возмещение поколений, нечто вроде их круговорота»[264]. Именно этот постулат вселяет уверенность в философа и законодателя. Философ сможет убедить себе подобных, будь то в этой жизни или в другой. «Ненадолго же ты загадываешь!» — скажут ему с иронией. «Это ничтожный срок в сравнении с вечностью» (είς ούδεν μεν ουν ωe γε προς τον άπαντα)[265]. Слова мудреца, обращенные к тому, кто не верит в существование богов: «Дитя, ты еще молод. С течением времени (προΐών ό χρόνος) тебе придется изменить многие из твоих теперешних взглядов на противоположные»[266] , — следует понимать не только в свете «лагерей вразумления» (σωφρονιστήρια)[267], но еще и в контексте великого мифа, описывающего вечное «изменение живых существ согласно закону и распорядку судьбы»[268]. И даже смертная казнь, предусматриваемая для упорствующих в отрицании богов[269], не может стать «высшей мерой наказания». Мир, созданный из правильного чередования противоположностей, предстает таким образом как очевидная данность платоновского сознания, но, как и всякую данность, ее можно оценить лишь через сущность. Лишь тогда круговорот великих эсхатологических мифов превратится в поступь мира. Всякое возникновение — «ради сущности» (ουσίας ένεκα)[270]. При таком характере возникновения цикл времен года представляет собой «возникновение, нацеленное на сущность» (γενεσις εις ούσίαν)[271]. Так обстоит дело и со временем в собственном смысле слова, определение которому дается в знаменитом пассаже из «Тимея»[272]. Время — результат акта творения, т. е. смесь; оно «рождается» от радости, испытываемой демиургом при виде мира, который он создал и решает еще больше уподобить его образцу. Так возникает — вместе с небом — «некое движущееся подобие вечности, [...] бегущее по кругу согласно (законам] числа». Время — это то, посредством чего γενεσις (возникновение) может приблизиться к миру идей. Онтологически время происходит от мировой души, самодвижущегося начала, и, следовательно, оно есть движение, но движение это подлежит измерению и, в силу этого, отрицанию[273]. Планеты созданы, дабы определять числа времени. Впрочем, время это множественно. Каждое светило есть показатель времени, у каждого рода «свой цикл круговращения, [...] внутри которого он движется»[274]. Но множественность эта иерархична. По мере нисхождения по лестнице живых существ доля материи возрастает, а круговращение душ испытывает «всевозможные расстройства и нарушения, и их вращение может продолжаться с трудом»[275]. Так что время выбивается из своей колеи. Наконец, эту иерархию венчает общая мера, великий год, который завершен тогда, когда все круги одновременно пришли к исходной точке своего движения и движение, следовательно, уничтожено[276]. Таким образом можно объяснять то, что кажется связанным с линейным временем как во вселенной, так и в человеческой жизни Мир одновременно очень стар и очень молод, поскольку периодическое отклонение планет от своих орбит вызывает катастрофы[277]. Если старики разумнее, чем дети, то потому, что круговое движение тождественного у них преобладает над круговращением иного[278]. Но этот прогресс происходит «со временем» (έπιόντος του χρόνου), т. е. путем уподобления вечности. В смеси — каковую представляет собой человек, как и всякое живое существо, — время будет циклическим ровно в той степени, в какой божественное возобладает над материальным. Это с полной ясностью проявляется в «Законах». Разговор трех стариков — из них философ только один, но он не говорит этого, однако возраст делает их близкими к божеству — разворачивается по спирали, копирующей повторы идеальной «музыки»[279]. Самое высокое понятие, до которого могут подняться не-философы полиса магнетов — это мировая душа, отсеченная от идеального образца, как показал Ж. Моро (Moreau 1939: 68), но остающаяся источником космического времени. «Ведь род человеческий тесно слит с совокупным временем, он следует за ним и будет следовать на всем его протяжении. Таким образом род человеческий бессмертен, ибо, оставляя по себе детей и внуков, род человеческий благодаря таким порождениям остается вечно тождественным и причастным к бессмертию»[280]. Эта причастность должна быть упорядочена. В полисе, сконструированном Платоном в «Законах», космическое время вписано в государственное устройство, в религиозную жизнь и начертано на самой земле, словно на гробнице воинов, павших у Херонеи. Граждане разделяются на двенадцать фил, распределенных между двенадцатью главными богами; земля поделена на двенадцать частей, как в городе, так и на его сельской территории. В году должно быть не менее трехсот шестидесяти пяти празднеств. Наконец, высшим культом призван стать культ звездных тел[281]. Между круговращением космоса и беспорядочным движением материи история у Платона выстраивается строго параллельно времени. На первый взгляд, время истории — лишь случайность и хаос. Платон утверждает, что «все пошло вразброд» (φερόμενα όρώντα πάντη πάντως), «государства неизбежно то и дело меняют формы правления, становясь то тираниями, то олигархиями, то демократиями, и нет этим переменам конца»[282]. Время, полное противоречий, порождает худшее из них — вечную войну[283]. Но ни случай, ни историю нельзя положить в основу философии истории. Ошибаются натурфилософы, преемники Крития, Демокрита и Протагора, которые считают, что мир обязан своим возникновением природе и случаю, а законодательство людей — человеческому искусству, т. е. изобретению[284]. Узники пещеры упражняются в том, чтобы «наблюдать текущие мимо предметы и лучше других запоминать, что обычно появлялось сперва, что после, а что и одновременно» и на этом основании считают себя способными предсказывать грядущее[285]. Итак, среди теней словно царит Фукидид. Равным образом и Геродоту отведено его место. История безмерна, но это циклическая история, и ритм ей задают периодически происходящие катастрофы, коих избегает Египет, не потому что он более всего воплощает в себе человеческое, а потому, что среди прочих ближе всех стоит к божеству[286]. Для того, кто обнимает взглядом «безграничную, неизмеримую» продолжительность времени, очевидно, что «тысячи государств возникали в этот промежуток времени одно за другим и соответственно не меньшее количество их погибало. К тому же они повсюду проходили через самые различные формы государственного устройства, то становясь большими из меньших, то меньшими из больших или худшими из лучших и лучшими из худших»[287]. Таков общий фон, на котором разворачивается платоновская история. С внутренней точки зрения, это и не история блага — прогресс, и не история зла — упадок. Если в VIII и IX книгах «Государства» эволюция идеального полиса к тирании рисуется в духе Гесиода, если в мифе из «Политика» утверждается, что в царствование Зевса (новый намек на Гесиода) люди движутся в «пучину неподобного»[288], тексты эти можно понять, лишь поместив их в контекст. Упадок идеального государства соответствует его созданию, которое происходит вне времени. Абсолютное благо сменяется абсолютным злом. Цикл Зевса соответствует циклу Кроноса, еще одного символа вечности[289]. И в том, и в другом случае время истории распадается на части, перестает быть смесью[290]. Ряд государственных форм подчинен порядку, но это не исторический порядок[291]. Однако даже в рамках собственно человеческой истории философ волен оставаться собой, и не стоит доискиваться у Платона смысла истории, коль скоро история не принадлежит к сфере того, что обладает смыслом. Это положение вещей превосходно иллюстрирует III книга «Законов». Здесь снова возникают великие темы гуманистической истории, разрабатывавшиеся софистами V в., и в частности тема прогресса в технике и в государственном правлении, тема человеческих изобретений[292]. Платон даже снова проводит различие между мифическим и историческим временем, затуманенное Исократом[293]. Прогресс механически ведет человечество от семьи и рода к поселку, от поселка к городу, от города к народу (как только появляется полис, а вместе с ним и φρόνησις, разум); таким образом возникла «великая испорченность, но и великая добродетель»[294]. Здесь Платон предоставляет своим персонажам возможность в любой момент с помощью — доброй или злой — τύχη (судьбы) выбрать путь, ведущий к благу или к злу. Благо — это спартанское государственное устройство, трижды получавшее исторический шанс: от парной царской власти, от Ликурга и от учредителя эфората[295]. Зло — это выбор, сделанный царями Аргоса и Мессены в пользу государственного устройства, обращенного только на войну, т. е. такого, какое, по словами критянина Клиния и спартанца Мегилла, как раз и существовало в Спарте и на Крите[296]. Двойственный облик одной и той же реальности! «Исторический» экскурс в «Законах» завершается решением построить идеальный полис. Так что время людей может обрести смысл лишь в той — весьма маловероятной — степени, в какой оно увенчается созданием полиса, сконструированного целиком и полностью вокруг времени богов. И все же — в этом заключена главная особенность поздней платоновской философии — созданное временем сакрально. То, что длительно, по-своему продвигается к вечности. «Только переход, осуществляющийся незаметно, мало-помалу и в течение долгого времени»[297], позволяет избежать катастрофы, какой могло бы стать для старого полиса возвращение на круги противоположностей, в бездну противоречий.
Итак, от Гомера и до Платона боги и люди не прекращали разыгрывать исключительно сложную игру. Была ли то игра бесполезная, сама по себе лишенная смысла? Этот вопрос стоит того, чтобы ему посвятить еще одно исследование, более развернутое и сложное, чем настоящая работа. Самое поразительное, на наш взгляд, — это разделение, происходящее в V в. между «наукой» и «историей». С одной стороны, утверждается такая космогония, которая, дабы учесть изменчивое, могла принять лишь циклическую форму; с другой — чувствуется, что человечество понемногу духовно и материально вырывается из детства. Случайно ли, что это чувство совпадает по времени с самым блестящим периодом греческой цивилизации? Уже у Фукидида ощущается пессимизм. Именно вместе с ним в истории снова появляется идея повторяемости. Будучи современником кризиса полиса — сова Минервы вылетает только по ночам — Платон подвел итоги и дополнил вклад своих предшественников, решительно реагируя на все в духе архаики. Но если философия Платона и знаменует некий поворот, это не конец пути.
3. Эпаминонд-пифагореец, или Проблема правого и левого фланга[298]
Эпаминонд — муж, знаменитый своей образованностью и познаниями в философии.
Плутарх. Агесилай. 27
Антоний. Октавий, ты веди свои войска,
Не торопясь, налево по равнине. Октавий.
Направо поведу, а ты налево. Антоний.
Зачем перечишь мне в такое время?
Октавий. Я не перечу, просто так хочу.
Шекспир. Юлий Цезарь. Пер. М. Зенкевича
Если две победы, одержанные Эпаминондом в битвах при Левктрах (371 г. до н. э.) и Мантинее (362 г. до н. э.), все еще ставят сложные вопросы, оставляя авторам комментариев простор для догадок и разночтений, то один факт представляется настолько ясным, что вряд ли может давать повод для дискуссии. Своим успехом фиванский полководец был обязан двум революционным переворотам в военной тактике: во-первых, применению боевого построения «косым клином» (λοξή φάλαγξ) и, во-вторых, наступлению левым крылом фаланги. В изучение и объяснение второго из этих нововведений нам и хотелось бы внести свою лепту[299].
В битве при Левктрах, где противник имел значительный численный перевес, Эпаминонд сосредоточил лучшую свою пехоту против неприятельского правого фланга, которым командовал спартанский царь Клеомброт[300]. Плутарх одной-единственной фразой превосходно передает общий смысл сообщений и Ксенофонта и Диодора: «Когда битва началась, Эпаминонд вытянул свое левое крыло по косой линии» (την φάλαγγαλοζήν επι το εύώνυμον)[301]. Этот маневр, совершенно неслыханный в греческой военной традиции, принес ему победу.
В битве при Мантинее, где еще больше, чем при Левктрах, проявилась изобретательность фиванского полководца в тактике, участвовали силы союзников, и это столкновение носило более сложный характер — отсюда и расхождения в рассказах древних авторов о ней[302]. Однако в том, что касается интересующего нас вопроса, сообщения Диодора и Ксенофонта согласуются друг с другом. Описание Диодора, который, несомненно, следовал Эфору, сводится к схеме битвы при Левктрах. Наиболее боеспособные части армии Эпаминонда (фиванцы, усиленные аркадцами) были поставлены на левом фланге против правого фланга неприятеля, который, по традиции, состоял из отборных войск союзников (спартанцев и мантинейцев). Конечно, у Ксенофонта рассказ менее подробный — это самые последние страницы «Греческой истории», и автор повествования уже явно выдыхается. Тем не менее когда он упоминает о левом фланге союзников, помещая там афинян, то именно для того, чтобы сообщить, что против них Эпаминонд выставил лишь небольшой заслон, в то время как сам он вместе со своим сильнейшим крылом атаковал правый фланг противника[303]. Скорее всего, во время этого победоносного натиска левого фланга, в котором роль ударной силы играла конница, Эпаминонда и настигла смерть[304].
Стоит повторить, что концентрация лучших войск на левом фланге была настоящей революцией в тактике боя и полным разрывом с традицией. Действительно, до Эпаминонда отборные войска[305] под началом главнокомандующего[306] всегда занимали правый фланг; в случае, если в битве участвовало союзное войско, на правом фланге располагались силы либо полиса-гегемона, либо полиса, в наибольшей степени заинтересованного в исходе сражения[307]. Например, в Марафонской битве единственным неафинским контингентом были платейцы, и они сражались на левом фланге (Геродот. VI. 111). В битве при Платеях афиняне, вынужденные принять спартанское командование, заняли левый фланг (Геродот. IX. 28)[308]. В сражении у Делия (424 г.) фиванцы, как и следовало, стояли на правом крыле (Фукидид. IV. 93). Во время первой битвы при Мантинее (418 г.) мантинейцы находились на правом фланге, аргосцы — в центре, а афиняне — на левом фланге. Фукидид объясняет, что «правое крыло занимали мантинейцы, так как сражение происходило на их земле»[309]. Конечно, до Эпаминонда только правое крыло и играло главную роль в наступлении[310]. Подобное построение столь естественно для греческого ума, что при описании «идеального» сражения, т. е. битвы Кира с Крезом (в начале седьмой книги «Киропедии»), Ксенофонт, немало почерпнув у фиванского военачальника, соблюдает принцип превосходства правого крыла[311]. Впрочем, смелость Эпаминонда именно в этом отношении не получила немедленного развития. Начиная с битвы при Гранине и кончая сражением при Гидаспе, сколько бы ни применял Александр тактических нововведений в духе фиванского полководца, в регулярных сражениях сам он неизменно командовал правым крылом[312].
Действовал ли этот обычный для сражений на суше порядок и в морских битвах? Ответить на такой вопрос тем более сложно, что в течение V в. до н. э., за время, прошедшее между сражениями при Ладе и при Аргинусах, тактика морского боя претерпела гораздо более быстрые и глубокие изменения, чем сухопутная. Нам ничего не известно о порядке построения ионийцев в сражении при Ладе, в связи с которым впервые упоминается о попытке совершить διέκπλους (проход сквозь строй кораблей)[313]. В Саламинской битве, также как у Платей и у мыса Микале, спартанцы занимали правый фланг, а афиняне — левый (Геродот. VIII. 84—85)[314]. Однако в битве у островов, называемых Сиботами (433 г.), на правом фланге керкирян, стояли как раз афиняне, до поры не вмешиваясь в ход сражения, а против них, на левом крыле противника, — коринфяне с самыми быстроходными кораблями (Фукидид. I. 48)[315]. В этом сражении нет больше ничего от традиционного порядка, однако Фукидид подчеркивает старомодность применяемой тактики (там же. 49)[316]. Следовательно, не имеет большого значения то, что в битве у Навпакта лучшие пелопоннесские корабли располагались на правом фланге (Фукидид. II. 90). Мог ли Эпаминонд применить на суше тактику морского боя? Если бы ответ на этот вопрос был положительным, то пришлось бы усматривать не просто метафору, а нечто большее в знаменитых словах Ксенофонта о том, что при Мантинее Эпаминонд «двигал войско вперед узкой частью, как военный корабль» (о Se то στράτευμα άντιπρωρον ώσπερ τριήρη προσήγε)[317]. Однако, несмотря на поход 363 г., во время которого, впрочем, насколько нам известно, Эпаминонд не дал ни одного собственно морского сражения, серьезного опыта сражений на море у него, кажется, не было. Так что прежде чем объяснять дерзость его нововведения, мы должны рассмотреть истоки и обоснование традиционной тактики.
Приступая к этой проблеме мы сразу же сталкиваемся со знаменитым текстом Фукидида, в котором приводится вполне удовлетворительное, по мнению большинства ученых, объяснение[318]. Объясняя распоряжения спартанского царя Агиса по поводу перестроения его войска во время первой битвы при Мантинее (418 г.), Фукидид пишет: «Обычно все армии при наступлении удлиняют свое правое крыло, причем каждая стремится охватить своим правым крылом левое крыло противника. Ведь каждый воин, опасаясь за свою незащищенную сторону, старается сколь возможно прикрыться щитом своего товарища справа и думает, что чем плотнее сомкнуты ряды, тем безопаснее его положение. Первый повод к этому дает правофланговый воин первого ряда. Он всегда напирает вправо, чтобы отвернуть свою незащищенную сторону от врага, и затем тот же страх заставляет и остальных воинов следовать его примеру»[319]. При более внимательном прочтении становится очевидно, что это механистическое рассуждение, впрочем, удивительно последовательное, дает объяснение только собственно механическим аспектам боя у греков, но никоим образом не позволяет понять, почему в той же самой битве Агис из предосторожности распорядился поставить небольшое число спартанцев на крайнем правом фланге шеренги (Фукидид. V. 67. I)[320]. В общем, это объяснение учитывает движение войск, но не обосновывает построение боевой линии. Тем не менее допустим (хотя это едва ли так), что Фукидид стремился дать всеобъемлющее объяснение. Подобный «рационализм» с его стороны удивления не вызывает, особенно если поместить сам этот отрывок в его контекст. И действительно, незадолго до этого историк предлагал не менее рациональное объяснение спартанского обычая идти в атаку на врага под звуки флейт: «Это заведено у них не по религиозному обычаю, а для того, чтобы в такт музыке маршировать в ногу и чтобы не ломался боевой строй (как обычно случается при наступлении больших армий)»[321]. Если даже это соображение и годилось во времена Фукидида, то для того, чтобы объяснить происхождение описываемого обычая, его явно недостаточно[322]. А не могло ли так же обстоять дело и с первым объяснением?
С нашей точки зрения, определиться с ответом на этот вопрос позволяет другой пассаж Фукидида. Во время осады Платей в 427 г. некоторые платейцы смогли спастись бегством в странном одеянии: «На них было легкое вооружение, и только левая нога обута, чтобы безопаснее ступать по грязи» (Фукидид. III. 22. 2, пер. Г. А. Стратановского).
Чего же стоит фукидидовское объяснение здесь? Помогает ли босая, как утверждают одни, или обутая, как считают другие, нога не увязнуть в грязи?[323] В действительности же, развивая одну из идей Фрэзера (Frazer 1922: 259), В. Деонна (Deonna W.) показал, что в скульптуре, как и «в жизни», одна разутая нога была связана с ритуалом, свойственным хтоническим божествам, а пассаж Фукидида можно понять только при сопоставлении с весьма многочисленными примерами людей, обутых на одну ногу — monokrêpides[324]. Таким образом, проявив чрезмерный рационализм, наш историк попался — да позволят нам это выражение! — на месте преступления[325]. На самом деле то же самое относится и к слишком долго принимавшемуся на веру объяснению превосходства правой стороны при построении и передвижениях войск у греков до Эпаминонда. От технического объяснения следует перейти к социологическому.
Существует общее согласие в признании преобладающей роли коллективных представлений в оппозиции правого и левого, которая чаще всего соответствует оппозиции священного и профанного[326]. Отталкиваясь от «почти не имеющей значения асимметрии тела»[327] человеческие сообщества развили глубоко асимметричное представление о пространстве. Ранняя Греция прекрасно иллюстрирует этот факт[328] (который, впрочем, выходит далеко за рамки античности)[329]. Так, у Гомера с правым всегда связаны активная сила и жизнь, а с левым — пассивная слабость и смерть. Справа исходят жизнеутверждающие и благотворные силы, тогда как слева — лишь пагубные воздействия и силы, угнетающие дух. Все это выявил Ж. Куйяндр (Cuillandre J.), долго и тщательно изучая гомеровские поэмы; хотя его анализ порой и уводит в чрезмерные тонкости, в целом он все же убедителен (Cuillandre 1944)[330].
С Гомером Куйяндр справедливо сопоставлял древних пифагорецев. Действительно, то, что в «Илиаде» и «Одиссее» находилось в разрозненном виде, пифагорейцы систематизировали[331]. В «Метафизике» Аристотеля[332] приводится таблица противоположностей (знаменитая systoichia), составленная из десяти главных оппозиций, в которые «некоторые пифагорейцы» укладывали всю действительность. Пара правое/левое присутствует здесь наряду с парами конец/бесконечное, четное/нечетное, единое/множество, хорошее/дурное, квадратное/продолговатое. С точки зрения Аристотеля, эта таблица, несомненно, была древней, поскольку он отмечает, что она была заимствована либо пифагорейцами у Алкмеона Кротонского, либо самим Алкмеоном у пифагорейцев[333]. Космос также подчиняется этому всеобщему разделению сущностей. Согласно аристотелевскому трактату «De Caelo» («О небе»), пифагорейцы рассматривали небо как тело, имеющее право и лево: «Поскольку же некоторые утверждают, что у Неба есть право и лево, — я имею в виду так называемых пифагорейцев, так как именно им принадлежит это учение»[334]. Объясняя этот пассаж в своем комментарии к «De Caelo», Симпликий приводит такое замечание, почерпнутое из утраченного трактата Аристотеля: «Действительно, право они (пифагорейцы] называли также и верхом, и передом, и добром, а лево — и низом, и тылом, и злом, как сообщает сам же Аристотель в "Своде пифагорейских мнений"»[335].
Именно с этим превосходством правого связаны некоторые обычаи, практиковавшиеся акусматиками: например, два правила, из которых одно требовало заходить в храм справа, другое — всегда начинать обуваться с правой ноги (при том, что к обратным действиям приступали начиная слева)[336].
Подобная качественная топография обнаруживается и в подземном мире, как представляли его себе некоторые секты «орфической» или пифагорейской направленности. Именно это заключено в символике буквы «ипсилон» (Y): «На перекрестке (triodos) Аида восседают судьи человеческих душ. Они направляют направо тех, кто за свои заслуги удостоились чести попасть на Елисейские поля; по дороге налево они гонят злонравных, которые должны быть низвергнуты в Тартар»[337].
Дуализм левого и правого, столь четко обозначенный у пифагорейцев, в действительности пронизывает всю греческую философскую мысль V в. до н. э. Например, согласно традиции, к которой принадлежат Парменид, Анаксагор и Эмпедокл, а также какой-то из медиков гиппократовской школы, зачатие мальчика происходит в правой части матки, а девочки — в левой[338]. Впрочем, у врачей классической эпохи это было не единственное поверье. Считалось, что правый глаз зорче, а правая грудь сильнее, чем соответствующие левые части тела;[339] что у беременной женщины устанавливается связь между мужским зародышем и правой грудью;[340] что «опасно прижигать или делать надрез справа: ведь чем крепче правая сторона, тем сильнее и поражающие ее недуги»[341]. Тексты эти тем более поразительны, что датируются они, вероятно, началом IV в. до н. э. (Bourgey 1953: 33—41), а мы знаем, сколь большое место отводилось медицине в греческой образованности (paideia) в классическую эпоху[342].
Таким образом, мы имеем дело с традицией настолько мощной, что ее одной, на наш взгляд, достаточно, чтобы объяснить, почему древние греки имели обыкновение идти в наступление правым крылом войска[343]. Однако от Фукидида мы удалились меньше, чем может показаться, поскольку совершенно «нормально» то, что в правой руке держат копье, а в левой — оборонительное оружие, щит[344].
При таких обстоятельствах потребовалась настоящая революция, чтобы в V в., в эпоху «просвещения», которым характеризовался «век Перикла»[345], бросить вызов традиции, которая все еще была столь жизненной. Критика традиции велась с трех направлений: с точки зрения technê (мастерства, которое могло требовать использования обеих рук)[346], на основе изучения анатомии и в рамках теоретических рассуждений о пространстве в геометрии. Применительно по крайней мере к первым двум из этих направлений, особое место в развитии критического мышления принадлежало греческим врачам. Когда Диоген из Аполлонии описывает систему вен[347] (не упоминая при этом большинство артерий), он конструирует целую сеть сосудов, которая совершенно симметрична и основывается на последовательном разделении — без какого-либо предпочтения — на правое и левое[348]. Со своей стороны «позитивно» мыслящий автор трактата «О кабинете врача» провозглашает[349], что необходимо «вырабатывать привычку делать все каждой рукой отдельно и обеими руками вместе; ведь на самом деле они подобны»[350].
Теми же доводами, почерпнутыми в области техники, в особенности военной, обосновывает необходимость пользоваться обеими руками Платон в VII книге «Законов»: «Здесь никто почти не отдает себе отчета в установившемся положении Считают, будто правая и левая рука у нас от природы употребляются для различных действий. Между тем ясно, что ноги и вообще нижние конечности вовсе не различаются в смысле работы. Что же касается рук, то здесь каждый из нас может стать калекой по неразумению кормилиц и матерей. В самом деле: природа почти уравновесила те и другие конечности, и уже мы сами, путем привычки, сделали их различными, пользуясь ими ненадлежащим образом»[351]. Платон старается показать, насколько это предубеждение, достаточно опасное и в обыденной жизни, становится пагубным, когда заходит речь о военных упражнениях и обращении с оружием[352].
Между 450 и 430 гг. до н. э. (Michel 1950: 247) Гиппократ из Хиоса первым публикует «Элементы геометрии». Если эта работа в понимании греков и предполагала однородное пространство, сам он вполне мог и не формулировать внятно этот постулат. Действительно, насколько мы знаем, раньше других утверждение о единстве и однородности пространства скорее всего высказал пифагореец Филолай из Кротона[353], первым из приверженцев этой школы обнародовавший пифагорейское учение в своих сочинениях[354] и, по словам Плутарха, определивший геометрию как «начало и метрополию всех наук» — άρχή και μητρόπολις... των άλλων (μαθημάθων)[355].
Именно это и следует из текста, который Стобей считал отрывком из «Вакханок» Филолая:[356] «Космос один. Он начал возникать до (заполнения?] середины, а от середины [возникал] равномерно вверх и вниз, <и> то, что кверху от середины, расположено напротив того, что снизу. Ибо для нижних [=антиподов] самая нижняя часть — как самая верхняя; с прочими точно так же: и та и другая одинаково расположены относительно середины, но только перевернуты» ( О κόσμος είς έστιν, ήρξατο δε γίγνεσθαι από του μέσου και άπό του μέσου άς το άνω δια των αυτών τοις κάτω έστι γαρ τα άνω του μέσου ύπεναντίως κείμενα τοίς κάτω τοίς γαρ κατωτάτω τα μέσα εστίν ώσπερ τα άνωτάτω και τα αλλα ωσαύτως· προς γαρ τό μέσον κατά ταύτα έστιν εκάτερα, όσα μή μετενηνεκται)[357]. Здесь Филолай проявляет себя отступником от пифагорейского учения[358], потому что придерживается релятивизма по отношению к концепциям верха и низа. Очевидно, правое и левое лишь предполагаются здесь выражением «то же и для всего остального» (και τα αλλα ώσαύτος). Однако если мы вспомним, что пифагорейцы связывали правое с верхом (идентифицируя его с добром), а левое — с низом (идентифицируя его со злом), то процитированный выше пассаж ставит вопрос о целостном понимании вселенной, поляризованной по моральным критериям[359].
Этот фрагмент Филолая неизбежно вызывает в памяти пассаж из платоновского «Тимея». Вот что Платон вкладывает в уста Тимея, другого «италийского» философа: «Дело в том, что представление, согласно которому и впрямь от природы существуют две противоположные области, разделяющие надвое Вселенную, — низ, куда устремляется все, наделенное телесной массой, и верх, куда любая вещь может направиться лишь по принуждению, — оказывается неправильным. Ведь коль скоро небо в своей целостности имеет вид сферы, значит, все крайние точки, равно удаленные от центра, по своей природе одинаково крайние, между тем как центр, на одну и ту же меру отстоящий от них, должен считаться пребывающим прямо напротив каждой из них. Но если космос действительно имеет такую природу, какую же из этих точек можно назвать верхом или низом, не навлекая на себя справедливой укоризны за неуместное употребление слов?»[360] Затем следует длинное рассуждение, в котором Тимей опровергает теорию «естественных» мест[361] и из которого мы обязаны процитировать по крайней мере следующие строки: «Да, поскольку целое, как только что было сказано, имеет вид сферы, значит, обозначать одно место как верх, а другое как низ не имеет смысла» (Платон. Тимей. 63а).
Едва ли возможно найти диалог, в котором Платон «пифагорействует» больше, нежели в «Тимее»;[362] мы можем добавить к нашей теме, что древние связывали «Тимея» с именем Филолая[363]. В нескольких источниках, совершенно различных по происхождению и несущих на себе следы позднего влияния[364], содержится рассказ о пребывании Платона на Сицилии. Философ покупает одну или несколько книг то ли у самого Филолая, то ли у одного из его родственников либо учеников[365] — книг, которые сделали возможным написание «Тимея»[366]. Мы с готовностью принимаем точку зрения о том, что подобные завистливые слухи вполне могли распространять недруги Платона, в частности Аристоксен[367]. Подчеркнутое нами сопоставление может помочь выявить источник подобных нападок.
На рубеже V и IV в. традиционная концепция правого и левого подверглась жесткой критике. В IV в. Платон обращает внимание как на навыки (techne) воина, который должен был уметь держать оружие и правой и левой рукой, так и на геометрическое пространство. На основе этих соображений Платон разгромил традиционную точку зрения, как он полагал, без надежды на ее восстановление в дальнейшем. В тот же период времени Эпаминонд ошеломил своих советников, разрушив предпочтение, которое традиционно отдавалось правому флангу боевого построения. Вряд ли можно усомниться в том, что эти факты взаимосвязаны, и наши знания о положении в Фивах около 400 г. предоставляют еще более точные свидетельства существования подобной взаимосвязи.
Вскоре после заговора Килона община пифагорейцев была изгнана из Метапонта и постепенно рассеялась. Среди изгнанных был и Филолай, который переехал в Среднюю Грецию и ненадолго поселился в Фивах. Известный пассаж из «Федона»[368] сообщает, что фиванцы Симмий и Кебет, которые были еще молоды во время смерти Сократа, были учениками Филолая[369]. В дополнение этого существует достоверная традиция, что Эпаминонд был преданным учеником пифагорейца Лисида;[370] последний скрывался в Фивах как беглец, и пассаж из Плутарха описывает Лисида как товарища Филолая по несчастью[371]. Существует еще одно свидетельство, слишком позднее, чтобы быть уверенным в его достоверности[372], которое прямо представляет Филолая в качестве наставника победителя при Левктрах, «который приобрел лучшее в этой битве оттого, что был учеником пифагорейца Филолая»[373]. Действительно ли сведения Нонна точны или это всего лишь ошибка, проистекшая от непонимания, разве невероятно предположение о том, что молодой человек, который находил удовольствие «слушая философов и размышляя над услышанным»[374], принял участие в интеллектуальном проекте великого пифагорейца?[375] Древние не сомневались в том, что фиванский герой вел войну как философ. Его современник Алкидам из Элей заметил, что возрождение Фив совпадает с переходом власти к правителям-философам: «В Фивах благосостояние города совпадало с временем, когда его правителями были философы»[376]. Шестью столетиями позже Элиан риторически вопрошал, «могут ли философы быть опытными в военном искусстве»[377], и ответ был положительным, причем среди прочих приводился пример Эпаминонда. Если мы воспользуемся нашей гипотезой, то можем заключить, что Эпаминонд показал себя выдающимся полководцем не вопреки своим философским взглядам, а благодаря им[378].
Дополнение 1980 г.
Только что прочитанный текст, не считая нескольких незначительных деталей[379], был написан в 1958 г. и опубликован в 1960 г. Для Пьера Левека и меня самого это исследование ознаменовало начало изучения связей между пространством и политическими и военными институтами, что позже привело нас к совместной работе над книгой «Клисфен Афинский» (Lévêque, Vidal-Naquet 1983). По согласованию с Пьером Левеком я добавляю к нашему совместному тексту дискуссию, цель которой — привести его в соответствие с современным уровнем научных исследований, дополнить, где необходимо, и показать, как я теперь смотрю на проблемы, которые были подняты в нашем исследовании более двадцати лет назад. Нет необходимости повторять, что мы не включили бы это исследование в настоящий том, если бы не были по-прежнему уверены в том, что наши выводы верны в главном.
Сделанные уточнения будут следовать порядку статьи.
Недавние работы о Левктрах и Мантинее — важные сами по себе как дающие сбалансированное понимание сообщений об этих двух битвах — не внесли, однако, изменений в наши знания об Эпаминонде и наступлении фиванцев левым флангом[380]. Более того, никто не смог подсказать нам прецедент, который бы умалил оригинальность тактики фиванского лидера. Нельзя рассматривать как подобный прецедент сражение при Ольпе (426 г.), в котором афиняне под руководством Демосфена в союзе с мессенцами и частью ахарнян сражались против пелопоннесцев и амбракиотов[381]. С афинской стороны, согласно обычной практике, Демосфен вместе с мессенцами и частью афинского контингента занимал правый фланг. Хотя сообщение Фукидида и не является в данном случае образцом ясности, он тем не менее указывает, что амбракиоты из Ольпы, «лучшие воины этой области», занимали правый фланг, что также соответствовало общепринятым нормам, поскольку сражение происходило на их территории, кроме того, они были распределены между контингентами пелопоннесцев. Тот факт, что командовавший спартанцами Еврилох вместе с несколькими отборными отрядами занимал левый фланг, не может рассматриваться как отступление от обычного порядка построения войска. Сражение было выиграно — вполне традиционно — в результате победы правого крыла афинского войска (Фукидид. III. 106-108)[382].
Что касается странного бегства платейцев с одной обутой ногой, то Ивон Гарлан отметил, «что ни одно из объяснений, даже если они и действительно будут предложены, не может быть исчерпывающим» (Garlan 19746: 121). Следуя за Брелихом (Brelich 1955-1957: 473-474), можно пойти гораздо дальше, чем мы предполагали[383]. В греческой мифологии надевание одной сандалии является несомненной характеристикой героев, совершающих успешный переход от дикости к полису. Так было в случае с молодым Ясоном (в четвертой Пифийской песни Пиндара), возвращающимся в родной Иолк, чтобы изгнать узурпатора Пелия; последний
И вмиг застыл,
Пораженный предведомым убором,
Обувшим правую, только правую ногу гостя.
(Пиндар. Пифийские песни. IV. 95—97, пер. М. Л. Гаспарова)
Каким же образом этот обычай эфебов (а весь портрет Ясона выдает эфеба: Пиндар. Пифийские песни. IV. 96)[384] может помочь понять рассказ Фукидида? Осажденные платейцы, которые пытались бежать из города, были конечно же взрослыми, гоплитами. Однако, совершая побег ночью, вне контекста гоплитского сражения, они, естественно, вновь использовали снаряжение их юношеских обрядов. У них были кинжалы и маленькие щиты, а не тяжелое гоплитское вооружение. Конечно, Фукидид не мог рассуждать подобным образом, и за исключением «абсурдной» детали с одной сандалией, все, написанное им, было рациональным или прекрасно поддавалось рационализации. Тем не менее он честно сохранил для нас эту, с его точки зрения, необъяснимую деталь, что позволяет нам оспорить его выводы.
Посмертная слава Роберта Гертца продолжает расти, и в современных работах, посвященных символическому миру человеческих сообществ, его исследование о роли правого и левого теперь воспринимается как труд первопроходца[385]. Следуя за ним, многие ученые исследуют оппозицию (по крайней мере, различие) правого и левого в различных обществах. К примеру, подобная оппозиция в Южной Индии составляет один из элементов кастовой символики (Zimmerman 1974).
Расширился и круг источников по всему греческому миру. В дополнение к орфическим табличкам, которые уже упоминались выше[386], в настоящее время известна золотая табличка из музея Гетти (Малибу, Калифорния): умершему предлагается выпить за вечную весну «справа, где стоит белый кипарис» (έπι δεξια λευκη κυπάρισσος) (Breslin 1978: 8—9). Более того, в своем исследовании «полярности (противоположности?)» и «аналогии» как типов аргументации в греческой философии Дж. Э. Р. Ллойд должен был затронуть оппозицию между правым и левым наряду с такими парами, как сухое/влажное, холодное/горячее, мужское/женское и некоторыми другими[387].
Мы пытались продемонстрировать, что достижения Эпаминонда в военном искусстве предполагают интеллектуальный прорыв, или, говоря словами К. Касториадиса, сдвиг в самосознании общества (в восприятии обществом самого себя: Castoriadis 1975). Это по-прежнему представляется мне очевидным, даже несмотря на сомнение относительно особой роли в этом процессе пифагорейского философа Филолая. Откровенно говоря, роль Филолая представляется мне, в сущности, символической — мы предложили имя, которое должно было обозначить «интеллектуальную революцию» — открытие для полиса геометрического пространства. То, что это действительно имело место, выглядит не подлежащим сомнению. Сейчас, однако, это событие представляется мне гораздо более сложным и менее однозначным, чем мне казалось двадцать лет назад. Поразительно, что Аристотель, например, может быть и идеологом «естественного места (среды?)» и одновременно философом, который подвергает пифагорейцев критике, показывая относительность понятий «правого» и «левого» (Аристотель. О небе. 284b — 285b).
Дальнейшее развитие получила дискуссия о подлинных и предполагаемых сочинениях Филолая[388]. К примеру, по мнению Дж. Э. Р. Ллойда, именно Филолая критиковал автор трактата из гиппократовского корпуса «О древней медицине» (Lloyd 1963). Что можно сказать о пассаже из «Вакханок»? Мы воспроизвели прочтение из «Досократиков» Дильса-Кранца (Diels 1954), по ошибке сочтя исправления Дильса не вызывающими сомнений. В третьем предложении мы предлагали следующее восстановление: Tόίς γαρ κάτω то κατωτάτω (μέρος) εστίν ώσπετρ τα άωτάτω και τα αλλα ώσαύτης", и такой перевод: «Что касается того, что расположено ниже, самая нижняя часть этого — такая же, как и самая верхняя; все это справедливо и для остальных (частей)». Ввиду этого следующее утверждение должно означать: «Поэтому обе части (самая верхняя и самая нижняя) находятся в одном и том же положении по отношению к середине, за исключением того случая, когда они меняются местами». Все это не меняет основного значения пассажа. Что остается под вопросом — так это его место в философской системе Филолая. Его принадлежность этому автору отвергается некоторыми исследователями, которые, однако, признают подлинность большинства других фрагментов; другие исследователи тем не менее признают его аутентичность[389]. Я не собираюсь вновь приводить все аргументы, но для всех исследователей — включая и меня самого — это является совершенно внешней по отношению к самому тексту фрагмента гипотезой, и именно сам текст фрагмента дает ответ[390]. Сейчас все эти споры вокруг фрагмента представляются мне не столь уж важными.
Был ли Эпаминонд пифагорейцем, и если был, то в каком смысле? Последние исследования подтверждают это, в большей или меньшей степени, но никто не задавался вопросом о связях между философией и военной стратегией[391]. Тем не менее это сопоставление требует внимания, если мы допускаем, что наши источники сообщают нам сведения, отличные от них самих. До какой степени была воспринята наша гипотеза 1960 года? Этот вопрос требует ответа, поскольку наш очерк имел определенное значение как для специалистов по военной тактике, так и для историков философии; он также мог вызвать интерес этнологов и социологов. Что касается последних, то наши выводы были с готовностью восприняты ими[392], то же самое можно сказать о некоторых историках философии (Schul 1960; Lloyd 1973: 186; Goldschmidt 1979: 233), хотя и не обо всех. Курт фон Фритц (Fritz К. von) обратил внимание только на одно предложение, в котором было высказано предположение, cum grano salis, что если можно доверять очень позднему свидетельству Нонна, то Эпаминонд был учеником Филолая. Против этого возражал фон Фритц; в результате этот пассаж не включен в последние сборники свидетельств (testimonia) (Fritz 1973: 456).
По-прежнему существуют историки греческой кавалерии и пехоты. Однако лишь У. К. Притчетт (Pritchett W.) действительно озаботился прочитать наш труд и обратил серьезное внимание на то, что мы хотели сказать о роли двух флангов в военной тактике. Он, однако, не высказал своего собственного мнения на то, что он назвал «социологическими или философскими началами отождествления правого фланга с лучшей частью войска» (Pritchett 1979/2: 190—192). Обращаясь к Фукидиду (Фукидид. V. 71), он полагает, что военная тактика требует разъяснения из военной сферы. Дж. К. Андерсон (Anderson J. К.) дружески отметил: «Я не верю, что Эпаминонд усилил свой левый фланг в результате каких-то метафизических причин, но смотри работу Пьера Левека и Пьера Видаль-Накэ» (Anderson 1970: 322). Пространство — социальная конструкция (если когда-либо таковая существовала) и конечно же оно должно зависеть от метафизики «Для факта военной истории существует только военная причина», — тот, кто говорит так, говорит, придерживаясь идеи наших средневековых предшественников, что на подобное может воздействовать только подобное — идеи, от которой мы должны были освободиться, благодаря интеллектуальному развитию.
Для тех, кто считает, что подобный тип аргументации позволяет до конца понять причинно-следственные связи, Фукидид может быть слишком сложен, поскольку афинский историк обращается к феномену, который в узком смысле не является ни техническим, ни военным — к страху, который каждый воин испытывает, увидев свою правую часть открытой[393]. Один из критиков нашел превосходное решение, материалистическое и военное одновременно: «Если боевой порядок греческих войск отклонялся вправо, то это можно объяснить тем простым фактом, что каждый воин фаланги нес "большой, тяжелый щит"» (Woodhouse 1916—1918: 72). Готовность принимать подобные объяснения, столь простые и «самоочевидные», приводит к возрастанию боязни рассмотреть объяснения любого другого типа. Поэтому Г. Кокуэлл (Cawkwell G.) в недавнем серьезном исследовании отмечает «революционное изменение» (Cawkwell 1972: 261), которое мы пытались отметить, но на грани его объяснения он отступает и ничего не говорит. В действительности, все это — хороший пример ментальных привычек, которые — и это должно быть наконец сказано — укоренились в нашей сфере знания. «История, знание греческой литературы и социологии могут предоставить ряд связанных между собой объяснений; событие в военной сфере — это результат ряда "причин", не все из которых относятся к технической или военной области», — легко так сказать, но гораздо труднее признать это внутри того участка, где каждый думает, что он имеет какую-то собственность, которую он должен защищать против вторжения. Скрещивание сфер исследования, что мы и постарались сделать, провоцирует защитные реакции, которые мы должны были предвидеть. В 1949 г. Жорж Дюмезиль (Dumézil С), пробивая гораздо более значимый проект, чем наш, описал незабываемыми словами этот феномен. Противопоставляя латинистов и ориенталистов, причем последние представляли сферу знания, более открытую для перемен, Дюмезиль писал: «К сожалению, эти ученые (латинисты) по причинам, восходящим как к истории их науки, так и к современному ее состоянию, не дали ответ на прогресс в методологиях компаративистики с той гибкостью, с той свободой, как это сделали ориенталисты разных областей» (Dumézil 1949: 247). Исследователи древней Греции могли бы также немного поупражняться в гибкости.
II Юноши и воины
1. Традиция афинской гоплитии[394]
В начале своей книги «Кадм и спарты» Ф. Виан (Vian 1963) высказал замечание, которое, на мой взгляд, удачно резюмирует недавние работы о «воинской функции» в греческих полисах: «Как это ни парадоксально, можно утверждать, что социальная организация классической Греции не знала категории войны: хотя полисы естественным образом и имели военные институты, в них, за исключением Спарты, отсутствовали группы, специализировавшиеся на этом виде деятельности. Первоначально право обеспечивать национальную оборону принадлежало, наряду с другими привилегиями, знати; затем, в том числе в демократических режимах, эта задача была постепенно разделена между всеми гражданами» (Vian 1963:[395]).
Эта формулировка несколько преувеличена, в ней можно исправить два аспекта. В Спарте на самом деле имелась группа, специализировавшаяся на военном деле, но эта группа, состоявшая из одинаковых (или равноценных)[396], смешивалась пусть и не со сложным конгломератом жителей Лакедемона, но, во всяком случае, с общиной спартиатов: спартанская agoge создала одновременно полноправного гражданина и воина.
Напротив, когда «знатные» обладали «привилегией», на которую указал Ф. Виан, их «знатность», как мне кажется, была совершенно неотделима от статуса воинов.
Несмотря на эти оговорки, совершенно очевидно, что в Афинах, и особенно в классическую эпоху, военная организация смешивалась с организацией гражданской: гражданин управлял полисом не постольку, поскольку он является воином, напротив, афинянин вел войну постольку, поскольку он являлся гражданином. Возможно, было время, о котором говорит М. Детьен[397], когда народное собрание было, прежде всего, собранием воинов, созывавшимся, например, для раздела добычи. Долгое время предпринимались попытки найти «пережитки» этой эпохи, но эти попытки оказались тщетными[398]. Воинская деятельность, конечно, была когда-то моделью, но в классическую эпоху, в первом приближении, она ею уже не являлась. К. Моссе привела достаточное количество примеров, которые вполне убедительно доказывают, что именно полис являлся моделью для армий и флотов греческих городов[399]. Это очевидно, например, в случае битвы у Саламина, когда не флот спас полис, а полис обосновался на кораблях, под защитой знаменитых «деревянных стен» оракула; это справедливо и для смешанного войска Никия в Сицилии, в котором собственно афиняне не составляли большинства. Более того, как показано в «Анабасисе» Ксенофонта, — наемники весьма пестрого состава после убийства набравших их военачальников сами выбирали стратегов, обсуждали свои дела в собрании, словом, вели себя, по выражению Тэна (Taine), как «путешествующая республика». В этом случае речь шла об отличительной черте классического полиса, которая, замечу мимоходом, в значительной степени сохранялась и в эллинистическую эпоху, не только на Родосе, но и во множестве мелких городков, в надписях которых, относящихся к периоду между III и I вв. до н. э., отражается та гордость, с которой они содержали свои гражданские ополчения. Но даже там, где, как в Афинах IV в. до н. э., воин-гражданин постепенно становился чем-то вроде архаизирующей мечты, принцип остается очевидным, даже слишком очевидным.
Поскольку мы обсуждаем здесь Афины, начнем с афинских гоплитов, этого костяка войска, представлявшего собой основную силу всей гражданской армии. Исследователи, начиная от Аристотеля и «Афинской политии» и до современных авторов обобщающих работ, общих или специализированных находили удовольствие в создании гармонических описаний этой тяжелой пехоты и ее организации. По правде сказать, современные авторы далеко не всегда избегают искушения — неизвестного Аристотелю, описывавшему то, что он имел перед глазами, — безнадежно смешивать примерно два-века исторического развития и обсуждать армию, выигравшую Марафонскую битву, основываясь на свидетельствах авторов конца V или даже конца IV в. до н. э. Таким образом, историческая реальность оказывается упрощенной и недопустимым образом гармонизированной.
В эпоху Аристотеля годные к военной службе афиняне (ничто не отличает в данном случае гоплитов от тех, кто служил в других родах войск) составляли сорок два возрастных класса, поскольку они были военнообязанными с начала девятнадцатого до конца шестидесятого года жизни (Аристотель. Афинская полития. 53. 4, 7). Достаточно простые сопоставления сведений, подтвержденные современными источниками и схолиями[400], позволяют выделить среди этих сорока двух классов два первых, относящихся к neotatoi или эфебам, и десять последних, относящихся к presbytatoi. Остальные составляли основную часть контингента.
Это различие, вне всякого сомнения, древнее, поскольку оно было известно уже Фукидиду, но он относил его только к тем афинянам, которые служили в качестве гоплитов[401].
В эпоху Аристотеля в Афинах действовал весьма изобретательный механизм: у каждого из сорока двух классов был собственный герой-эпоним; эти герои использовались не только для наименования «призывных классов», но также для обозначения государственных арбитров (diaitetai). В самом деле, эти магистраты, которые появились в 403— 402 гг. до н. э., набирались из афинян, которым шел шестидесятый год. В конце этого года они переходили в группу стариков и для них завершался сорокадвухлетний цикл службы: их эпоним отныне освобождался и мог использоваться для эфебов, входивших в девятнадцатый год жизни[402]. Нам неизвестна дата появления этой системы, однако Аристотель говорил о ней как об уже действующем механизме. Нам также плохо известен список этих героев, который мог бы быть очень интересным[403]. Лишь имя одного из них было точно определено[404].
Но кем же были афинские воины, воины-граждане? В эпоху Аристотеля гражданство и запись в войсковые реестры было одной и той же процедурой. В самом деле, признание гражданских прав было обеспечено лишь юношам, которые были «внесены в число демотов в возрасте восемнадцати лет» (Аристотель. Афинская полития. 42. 1). Хотя Аристотель не использовал этот термин, обычно предполагалось, что они вносились в lexiarchikon grammateion, список, который вел каждый дем[405]. В то время этот список касался всех будущих граждан, всех эфебов. Но можно ли возводить ту же ситуацию от эпохи Аристотеля к периоду великой реформы, реформы Клисфена, создавшей демократические Афины в конце VI в. до н. э.? Афинский историк, или идеолог, составивший в IV в. до н. э. «Декрет Фемистокла», копия которого была обнаружена в Трезене, не сомневался в этом[406]. Описывая подготовку полиса к Саламинскому сражению, он уточнял, что афиняне были мобилизованы для службы во флоте в соответствии с lexiarchikon grammateion. Но в данном случае мы имеем дело отчасти с реконструкцией, на которую невозможно целиком полагаться[407].
Можно ли идти противоположным путем и предполагать, что lexiarchikon grammateion был первоначально ограничен одними гоплитами, а затем постепенно был расширен и стал включать всех афинян, подлежащих мобилизации, даже фетов? Когда-то я считал именно так, вслед за такими учеными, как И. Топфер (Toepffer J. 1895) и Хр. Хабихт (Habicht 1961: 5—6.), однако теперь мое мнение изменилось. Современные теории, касающиеся этого института, на самом деле пока что отражают лишь безнадежную разрозненность и противоречивость древних источников[408]. Самый ранний источник — надпись, относящаяся к эпохе Архидамовой войны[409], — слишком поврежден, чтобы на его основании можно было бы делать надежные выводы.
Однако остается еще одна категория источников: погребальные списки V в. до н. э., т. е. списки воинов, павших за Афины. Разумеется, это не прозрачные документы, которые непосредственно вводят нас в контакт с социальными реалиями V в. до н. э., но, по крайней мере, они позволяют, как показала Н. Лоро, лучше очертить проблему афинской идентичности[410]. Ничто не позволяет утверждать, что феты были исключены из этих списков. Слово «гоплит» упоминается лишь единожды;[411] списки, напротив, включают некоторые маргинальные категории: рабов, «исотелов», просто иностранцев и даже лучников, пеших и конных, были ли они афинянами или «варварами». В последнем случае имеется противопоставление не только между гражданами и иностранцами. Создается впечатление, что в списках сохранилось нечто от древнего противопоставления между лучником и воином регулярной армии, об этом противопоставлении свидетельствует ряд текстов и его подчеркивают вазы[412]. Оно отразилось также и в институтах: лучники, эти «бедняги» (Hiller von Gaertringen 1919: 668), не платили взносы в соответствии с процедурой, которой следовали другие воины[413]. В одной надписи даже выделены в отдельную рубрику жители Элевтер, пограничной крепости, статус которой по отношению к афинском полису не вполне ясен;[414] здесь вспоминается обычай, о котором сообщал Аристотель (Аристотель. Политика. VII. 1330а. 20) и согласно которому граждане, жившие по соседству с границей, не имели права выступать при обсуждении дел, касавшихся отношений с соседним полисом.
Кем же были эти «афиняне», погибавшие за Афины? Тот же вопрос вставал и перед Фукидидом, когда он перечислял потери в битве при Делии (424 г. до н. э.); слово «афиняне» употребляется здесь в двух значениях: оно обозначает всех воинов, выступавших на стороне Афин, если противопоставляется беотийцам, или только гоплитов, если противопоставляется легковооруженным (psiloi)[415]. Именно гоплиты составляют твердую сердцевину гражданской армии.
В любом случае остается несомненным то, что сама гоплитская служба до Пелопоннесской войны не была обязательной для всех. Какова бы ни была точная функция lexiarchicon grammateion, именно список гоплитов информировал полис о количестве тех, кого он мог призвать в подразделения тяжеловооруженной пехоты. При этом было твердо установлено, что каждый воин снаряжался за свой счет[416]. Процедура, с помощью которой эти воины мобилизовались, очень проста и относительно хорошо известна. Декрет о призыве вывешивался перед памятником эпонимов, построенным в последней четверти V в. до н. э.[417] Мобилизация могла быть полной или частичной в зависимости от ситуации: аристофановский крестьянин жалуется, что его имя в сопровождении отметки, которую мы решимся назвать лаконичной: Αυριον δ` εστ' ήξοδος («Завтра выступление в поход») (Аристофан. Мир. 1181), слишком часто повторяется в списках. Он проклинает своего начальника, «ненавистного богам таксиарха» (там же. 1171). В принципе же, в первую очередь должны были призываться граждане, еще не участвовавшие в походе (Лисий. Речь в защиту солдата. 15).
Начиная с эпохи Клисфена Афины были полисом, состоящим из десяти фил, и это фундаментальное разделение находило свое отражение и в армии: «Вооруженный народ всегда останется чем-то вроде образа клисфеновского полиса» (Glotz, Cohen 1928а: 342). Десятью корпусами гоплитов командовали сначала стратеги, а затем таксиархи; каждый из корпусов в 431 г. до н. э. включал тринадцать сотен воинов (Фукидид. II. 13). Десять taxeis, в свою очередь, подразделялись на lochoi (возможно, соответствующие триттиям). Во время сражений воины выстраивались по филам в соответствии с порядком, который не был случайным; надгробные речи над воинами, павшими за родину, произносились над десятью кипарисовыми гробами (Фукидид. II. 34); в списках павших, очевидно, обращают самое серьезное внимание на принадлежность гражданина к его филе[418]. Таким образом, вырисовывается идеальная схема республики гоплитов. Напомню вкратце несколько существенных черт этой картины.
Афинские гоплиты — это мужчины, которые сами оплачивали, а значит, были в состоянии оплачивать свое тяжелое вооружение, настолько тяжелое, что они нуждались в сопровождающем их оруженосце; они принадлежали к трем первым классам солоновской иерархии. Они составляли армию мелких собственников: республика гоплитов — это республика крестьян. Этот тип войска, также как и войско спартанское, был хорошо приспособлен лишь к одному типу сражения: к сражению на равнине (фаланга против фаланги), причем место сражения выбиралось на основании взаимного согласия сторон. Эта последняя черта характерна, впрочем, для всего греческого мира эпохи греко-персидских войн: перс Мардоний у Геродота удивлялся этому: «Как я слышал, греки по невежеству и глупости воюют самым безрассудным образом. Так, объявив друг другу войну, они ищут прекрасное и гладкое поле битвы и там сражаются. Поэтому даже победители возвращаются с большим уроном. О побежденных я даже вообще не хочу говорить, потому что они окончательно уничтожены» (Геродот. VII. 9, пер. Г. А. Стратановского)[419]. Наконец, война, для которой создана такая армия, — это война сезонная: кампания открывалась весной и закрывалась осенью.
Напротив, такая армия, была хуже всего приспособлена к преследованию врага, к осаде (гоплиты, осуществлявшие осаду Потидеи, надолго затянули ее[420]), к войне в горах (гоплиты под командованием Демосфена были перебиты в Этолии проворными легковооруженными воинами (Фукидид. III. 96-98)).
Все эти черты характеризуют также армии других больших греческих полисов, превративших подразделения гоплитов в основной инструмент ведения войны. Все же Афины выделялись замечательной особенностью, которую идеология непрофессионализма нигде не воплотила с такой полнотой. Это то, что утверждал Перикл в своей знаменитой речи в труде Фукидида: «В военных попечениях мы руководствуемся иными правилами, нежели наши противники. [...] Мы полагаемся главным образом не столько на военные приготовления и хитрости, как на наше личное мужество. Между тем как наши противники при их способе воспитания стремятся с раннего детства жестокой дисциплиной закалить отвагу юношей, мы живем свободно, без такой суровости, и тем не менее ведем отважную борьбу с равным нам противником. [...] Если мы готовы встречать опасности скорее по свойственной нам живости, нежели в силу привычки к тягостным упражнениям, и полагаемся при этом не на предписание закона, а на врожденную отвагу, — то в этом наше преимущество. Нас не тревожит заранее мысль о грядущих опасностях, а испытывая их, мы проявляем не меньше мужества, чем те, кто постоянно подвергается изнурительным трудам» (Фукидид. II. 39, пер. Г. А. Стратановского)[421]. Ощущается крайняя заносчивость этого текста, а также и то, насколько глубоко он подрывает идеал республики гоплитов. Опираясь именно на такие документы, Виламовиц (Wilamowitz) восставал против самой мысли о том, что обязательная военная служба могла быть введена в Афинах до эпохи Ликурга: «Этот институт самым явным образом противоречил eleutheria, parrhesia, ζην ώς αν τις βούληται, которой афинские демагоги так гордились. Для того, кто перед лицом такого института сразу же не покачает (отрицательно) головой, афинские жизнь и мышление остались совершенно чуждыми, даже если он написал на эту тему толстые тома» (Wilamowitz 1893/I: 191).
Не впадая в эту крайность, позволительно все же задаться вопросом, когда же существовала эта армия из десяти фил, эта республика гоплитов и крестьян, созданная реформой Клисфена, когда же корпус гоплитов действительно был доминирующей военной силой в Афинах? Мне кажется, что ответ на этот вопрос прост и ясен, а античная традиция единодушна: Афины были действительно верны только что описанной идеальной схеме в первый, и, быть может, в последний раз, во время Марафонской битвы, в 490 г. до н. э., семнадцатью годами позже великой реформы.
Я сказал, что античная традиция единодушна, однако это, разумеется, не означает, что ее не следует критиковать.
В IV в. до н. э. Платон, убежденный сторонник гоплитской армии и сражений на суше, противопоставил в своеобразном диптихе позор Саламина и славу Марафона и Платей (Платон. Законы. IV. 707а—d).
Одно из самых значительных достижений современных исследований состоит в доказательстве того, что в V в. до н. э. очень сходная полемика противопоставила поклонников Первой и Второй Персидских войн. Одна из так называемых Марафонских эпиграмм, та, что превозносит мужей с недрогнувшим сердцем (' Εν άρα τοις άδάμας eν στέθεσι θυμός), которые выстроились в боевые линии против мириад врагов перед воротами города (ποτ ' αιχμέν στεσαμ πρόσθε πυλον άντία μυριάσιν), была, вне всякого сомнения, выбита в эпоху Кимона, около 465 г. до н. э., в период возвеличивания аристократических ценностей, после текста, который, подразумевая, очевидно, Вторую Персидскую войну, прославляет тех, кто «на суше и на быстрых кораблях не позволил, чтобы вся Греция увидела день рабства»[422].
Говоря о Марафонской битве, мы, следовательно, частично находимся в плену традиции, которая, весьма вероятно, резко подчеркивала определенные черты сражения. Но эта традиция сама по себе — важнейшее древнее историческое свидетельство. Именно в этом качестве, и совершенно сознательно, мы будем здесь ей верны.
Итак, Марафон предстает перед нами как образцовая битва[423]. С афинской стороны Марафон был битвой чистых гоплитов, «с копьем и щитом, воин возле воина»[424]. Конница, чудесным образом отсутствовавшая у персидской стороны[425], отсутствовала также и в афинском лагере. Афинские hippeis сражались в пешем порядке. До Клисфена в Афинах как будто бы существовал корпус из девяноста шести всадников, по два на навкрарию (Поллукс. VIII. 108). Если этот корпус в самом деле существовал, он не участвовал в сражении. Не участвовали в ней и легковооруженные, и их отсутствие иногда казалось подозрительным (Beloch 1914—1916). В то же время Павсаний сообщил о присутствии предварительно освобожденных рабов рядом с афинскими и платейскими гоплитами; погибшие из их числа были похоронены вместе с пла-тейцами[426]. Неизвестно, какую роль они играли: возможно, это были простые оруженосцы, в последний момент облаченные в гоплитское вооружение для того, чтобы усилить центр афинской фаланги (Labarbe 1957: 170).
Ход сражения самым строгим образом подчинялся правилам битв архаической и классической эпохи. Номинальный командующий афинской армии находился, конечно, на правом фланге: «В то время у афинян существовал закон, согласно которому полемарх должен был занимать правый фланг» (Геродот. VI. 111)[427]. Плутарх нам сообщает еще одну любопытную деталь (Плутарх. Моралии. 628а—629а). Правый фланг боевых порядков занимала фила Эантида; объяснение, которое предлагает Плутарх — то, что эта фила исполняла пританию в момент «декрета Мильтиада». К сожалению, этот декрет явно сфабрикован в IV в. до н. э., и к тому же притания начала упоминаться на заглавиях декретов лишь значительно позже[428]. Если это указание достоверно, более чем достаточным объяснением может быть то, что Эантида была филой полемарха Каллимаха из Афидны, а также и то, что Марафон находился именно на ее территории (Pritchett 1960: 147—148).
Полная упорядоченность битвы скрывала, однако же, глубокую потерю равновесия, которую выдал уже тот факт, что в последний момент в армию были включены рабы. В Марафонском сражении участвовало 9000 афинян, к которым присоединилась 1000 платейцев[429]. Эти девять тысяч афинян составляли, по всей вероятности, весь наличный контингент воинов от 18 до 60 лет в рамках гоплитского ценза, т. е. трех первых классов солоновской иерархии (Labarbe 1957: 172). В то же время принятая в 507 г. до н. э. клисфеновская конституция, в принципе, подразумевала мобилизацию всех сил, что и придало афинской истории V в. до н. э. ее поразительно «современные» черты. С другой стороны, можно предположить, что афинское население того времени (впрочем, переживавшее бурный рост) насчитывало примерно тридцать тысяч граждан. В 483 г. до н. э., в момент принятия «морского закона» Фемистокла, сорок тысяч совершеннолетних афинян мужского пола могли претендовать на участие в дележе обнаруженных в Лаврионе сокровищ (Labarbe 1957: 199—211), что составляло в любом случае более тридцати тысяч возможных воинов (совершеннолетие достигалось в шестнадцатилетнем возрасте). Перед лицом страшной опасности, угрожавшей самому существованию полиса, молодая афинская демократия, таким образом, «мобилизовала» лишь менее одной трети имевшихся в ее распоряжении сил: поразительная расточительность!
Афинская история V и IV вв. до н. э. состояла, в контексте череды дестабилизаций, составлявших всю ее интригу и интерес, сначала в полном использовании своих гражданских ресурсов, затем в выходе далеко за их пределы, поскольку войско, предпринявшее Сицилийский поход, было, в сущности, примерно настолько же афинским, насколько «Великая армия» Наполеона была французской. В IV в. до н. э. воин-гражданин окончательно был заменен наемником. Республика гоплитов (Ферамен), или крестьян (Формисий)[430] была политической программой, победившей в 411 г. до н. э. «Пять тысяч» гоплитов 411 г. до н. э. в действительности, как нам сообщили (Лисий. Речь в защиту Полистрата. 13), были девятью тысячами; любопытно, что здесь повторяется число воинов при Марафоне. Но эта программа, соблазнившая интеллектуалов вроде Еврипида и позже Исократа, Платона, Ксенофонта и Аристотеля[431], была создана в противовес практике демократии.
Здесь невозможно подробно распространяться о тех изменениях, которые афинская военная организация пережила между Марафоном и кануном Херонеи; я напомню лишь о самом главном. Афины применят свой человеческий потенциал, столь неполно использованный при Марафоне, главным образом не в армии, а на флоте. В афинском флоте, участвовавшем в битве при Артемисии, было занято более тридцати шести тысяч человек, из которых более тридцати четырех тысяч были афиняне; согласно расчетам Ж. Лабарба (Labarbe J.) из них лишь 1734 составляли гоплиты, сражавшиеся как таковые (Labarbe 1957: 182). Аналогичны и цифры, касающиеся битвы при Саламине (Labarbe 1957: 188). «Морской закон» Фемистокла объясним именно в рамках этого использования сил, остававшихся до тех пор без применения. Однако не следует считать, что это была единственная возможность. При Платеях Спарта, как считается, вооружила легким вооружением тридцать пять тысяч илотов, и получила таким образом армию в сорок пять тысяч воинов — огромная цифра по сравнению с афинянами, которые, в очередной раз мобилизовав, по всей вероятности, всех наличных гоплитов, выставили лишь восемь тысяч воинов[432]. Таким образом, не произошло никакого изменения структуры сухопутных войск.
Эти изменения, однако, произошли позже, начиная, в первую очередь, с Пелопоннесской войны; их причины тем более сложны, что Афины были не одиноки и что военное искусство развивалось более или менее параллельно во всех греческих полисах. Мне хотелось бы все же подчеркнуть влияние одного фактора, а именно морской модели и новой техники, которую морская тактика представляла и предлагала для подражания. Морская тактика, вначале вдохновлявшаяся сухопутной, быстро стала гораздо более утонченной с изобретением таких новшеств, как diekplous и periplous, и во время Пелопоннесской войны традиционное первенство правого фланга исчезло[433]. Когда Ксенофонт сравнивал ударный отряд армии Эпаминонда при Мантинее с «тараном триеры» (Ксенофонт. Греческая история. VII. 5. 23), возможно, здесь кроется нечто большее, чем банальный образ. Обе сферы кажутся, однако, четко разделенными: Перикл рассчитывал взять верх над пелопоннесцами, потому что все «связанное с морским делом есть сфера ремесла» (το δε ναυτικόν τέχνης εστίν) (Фукидид. I. 142), a techne, также как сами афиняне, которые его в высшей степени воплощали, в том числе и в глазах их противников, подразумевало постоянное новаторство[434]. Еще в IV в. до н. э. Исократ, с сожалением оправдывая выбор Афин при Фемистокле, пояснял, что отличает сухопутную державу от морской: первая подразумевает eutaxia (порядок), моральную дисциплину (sophrosyne), послушание (peitharchia); вторая связана с различными technai (Исократ. Панафинейская речь. 116). Тем не менее сам Перикл напоминал афинянам: «Мы больше приобрели в сухопутной сфере, основываясь на нашем морском опыте, чем наши противники в морской сфере, основываясь на своем сухопутном опыте» (Фукидид. I. 142). Не будем забывать о том, что уже не было, или, точнее, становилось все меньше тех, кто служил или на море, или в сухопутных войсках, все больше становилось служивших иногда на суше, а иногда матросами. Флот был одновременно образцом и фактором дестабилизации, разрушения старой организации. Он позволял использовать фетов, оставшихся без применения при Марафоне, но парадоксальным образом также мобилизовал и высший класс. Часть тех, кто обычно служил в качестве гоплитов, несла обязанность триерархии.
В каком направлении происходили наиболее существенные изменения? С точки зрения использования людских ресурсов примеру, поданному флотом, последовали достаточно поздно, под давлением настоятельной военной необходимости, но все же последовали. Наиболее существенным новшеством было, очевидно, включение фетов в число гоплитов, что предполагало снабжение их оружием за счет государства, аналогично тому, как государство предоставляло триерархам корпуса кораблей и основные снасти. В сущности, нам очень мало известно об этом нововведении, однако феты-эпибаты (гоплиты, посаженные на корабли) участвовали в Сицилийской экспедиции (Фукидид. VI. 43)[435].
Метеки представляли гораздо меньшую проблему, чем можно было бы предположить: в V в. до н. э. они были афинянами низкого ранга: это «отруби», тогда как граждане — «отборные зерна», а иностранцы — «мякина»[436]. Поэтому вполне естественно, что по отношению к гоплитской службе они, в принципе, приравнивались к юношам, еще не допущенным к участию в народном собрании (neotatoi), и к старикам, не способным более к активной службе (presbytatoi), и, следовательно, предназначенным для несения службы[437] гарнизонной. В случае необходимости, они, однако, участвовали в отдаленных походах, и уже во время кампании при Делии в 424 г. до н. э. афинский стратег Гиппократ имел под своим командованием метеков, а также «тех иностранцев, которые присутствовали» (Фукидид. IV. 90, 94)[438]. Использование рабов, вопреки примеру Марафона, было гораздо более редким. Наиболее ясный пример в V в. до н. э. касается не сухопутной армии, а флота при Аргинусах;[439] все же афиняне включали рабов в армию, в том числе и после Херонеи[440].
Это всего лишь один аспект диверсификации афинской армии; были и другие. Однако остережемся их преувеличения, поскольку консервативная тенденция оставалась, вопреки всему, очень сильной. Ограничимся здесь тем, что в нескольких словах отметим развитие корпуса лучников[441] и вообще легковооруженных войск, которое было крайне медленным[442], отметим не менее медленное развитие некоторых видов специализированных войск, в основном заимствованных за границей[443], а также конницы[444].
Во время последней фазы Пелопоннесской войны, и тем более в IV в. до н. э., эволюция становилась более заметной: развивался профессионализм как на уровне полководцев[445], так и на уровне рядовых воинов (наряду с возрождением наемничества)[446]. Сражения выигрывались большей ценой, поскольку агонистический дух уступал воле к уничтожению, хотя война налетов, «коммандос», «герильи», основными действующими лицами которой были пелтасты, составляла конкуренцию организованным сражениям. Дионисий Старший, широко использовавший инженеров осадной техники[447], Ификрат, Эпаминонд в разной степени иллюстрировали эти изменения, которые увенчивали деятельность Филиппа Македонского. Контраст с прошлым настолько резок, что Демосфен, обычно не очень чувствительный к исторической эволюции, в одном захватывающем тексте говорил о контрасте между войной прошлого, сезонной и ведшийся по правилам, и современной, круглогодичной и использовавшей все средства (Демосфен. Третья Филиппика. 47—50). Короткий трактат Энея «Тактика» иллюстрирует на свой манер этот мир насилия IV в. до н. э.
Таким образом, в великую эпоху воина-гражданина «воинская функция» не исчезла: в конечном счете она распространилась на весь полис, сражался он на суше или на море. Если мы подразумеваем под идеологией воинской функции форму политической мысли, которая отводит определенным специализированным группам функцию защиты полиса, поразительно то, что эта идеология вновь появляется во всем великолепии во время Пелопоннесской войны, причем гоплит не обязательно занимает первое место в этой реставрации (как это, видимо, произошло в 411 г.). Так, существовало нечто вроде мифа о коннице, которому благоприятствовала долгая аристократическая традиция, но также и усилия демократии по созданию конницы, роль которой не ограничивалась бы лишь репрезентативными функциями. Удивительная пара-баса «Всадников» Аристофана (424 г. до н. э.), направленная против Клеона, против гоплитов и воюющей демократии, смешав почти все и упомянув и Марафон, и Саламин, завершается хвалой всаднику как воину и человеку: «Что касается нас, мы намереваемся защитить полис бесплатно и благородно, как государственные боги. Мы не просим для себя ничего, ничего, кроме одной маленькой милости, единственной: если когда-нибудь вернется мир и положит конец нашим страданиям, не завидуйте нам за наши длинные волосы и члены, выскобленные стригалем» (Аристофан. Всадники. 576—580). Ксенофонт унаследовал эту традицию.
Четвертый век до н. э. пошел гораздо дальше, и я ограничусь здесь лишь несколькими словами о Платоне. В «Лахете», одном из его «сократических» диалогов, два стратега, один из которых, Никий, хорошо известный политик, а второй, Лахет, уже профессиональный воин, обсуждают достоинства и недостатки гопломахии (фехтования) и искусства владения оружием вообще. Никий объявил себя их сторонником во имя концепции диверсификации военного дела, которое включает не только сражение в боевых порядках, но также и индивидуальный бой. Лахет осудил их, опираясь на пример лаконцев, т. е. на полностью социализированную концепцию воинской доблести, отвергающую всякое techne. Он защищал традиционный гоплитский бой и, чтобы лучшим образом превратить его в образец любого боя, даже тщательно избегал давать ему имя (Платон. Лахет. 181 е—184с). Вмешательство Сократа состояло в том, что он вдребезги разбил оба представления, опровергая как традиционную концепцию, так и более «научные» и «технические» определения доблести[448]. Так, когда Лахет определял смелого человека как того, кто сражается с врагом, не покидая свой ряд, что составляло древний, начиная с Тиртея, спартанский идеал[449], Сократ ему отвечал, приводя «пример скифов», которые «сражаются, как говорят, одинаково хорошо отступая и преследуя» врага, а когда этот пример отвергался как относящийся к негреческому оружию и нравам, привел пример самих спартанцев, которые совершили тактический отход при Платеях[450]. Этот текст важен потому, что вся критика традиционной концепции доблести и военной жизни, которая так подробно развита в последнем сочинении Платона, в первых трех книгах «Законов», в сущности, уже намечена здесь.
Мы касаемся здесь одного из узлов платоновской драмы. Первоначально techne представлялась как характеристика прежде всего морской войны, и в этом качестве Платон ее решительно отвергал во имя тех самых традиционных ценностей, острую критику которых он давал в «Лахете» и в «Законах». Имея в виду морскую судьбу афинян, он писал: «...B государствах, обязанных своими силами флоту, почести достаются вовсе не лучшему из воинов: ведь там, где победа зависит от кормчих, пентеконтархов и гребцов, то есть от людей различных и не слишком дельных, вряд ли кто-нибудь сможет надлежащим образом распределить почести» (Платон. Законы. IV. 706b—с, пер. А. Н. Егунова). И именно потому, что морские победы были одержаны благодаря technai, Платон их осуждает (там же. 707а—b).
В то же время сама война на суше также стала занятием специалистов, и Платон знал об этом лучше, чем любой другой. Именно констатация этого факта заставляет перейти от «элементарного полиса» второй книги «Государства» к «идеальному» полису, полису воинов, а затем философов. «Решили же мы, если ты помнишь, что невозможно одному человеку с успехом владеть многими искусствами. [...] Разве, по-твоему, военные действия не требуют искусства? [...] А разве не важно хорошее выполнение всего, что относится к военному делу? Или оно настолько легко, что земледелец, сапожник, любой другой ремесленник может быть вместе с тем и воином? [...] Неужели же стоит только взять щит или другое оружие и запастись военным снаряжением — и сразу станешь способен сражаться, будь то в рядах гоплитов или других воинов?» (Платон. Законы. II. 374а—d, пер. А. Н. Егунова)[451]. Так как же примирить гражданскую армию, которая принадлежала традиции всех греческих полисов и эту реальность techne, которая, вопреки внешнему впечатлению, обрекала на исчезновение лакедемонского гоплита ничуть не меньше, чем афинского? Платоновское «решение» — это все «Государство», т. е. единый в основе полис, но разделенный на три касты, причем центральной является каста воинов, но власть принадлежит философу, который, впрочем, является продуктом воинского воспитания. Платон «спартанизировал» это представление в прологе «Тимея» и в «Критии», где он символизировал акрополь изначальных Афин в виде отряда воинов, образ жизни которых не подвержен изменениям (Платон. Критий. 112b)[452]. И все же, когда в конце жизни ему потребовалось выбрать между военной techne и традиционной концепцией полиса, Платон отказался от технического радикализма «Государства» и в «Законах», на свой манер, присоединился к схеме «крестьянской республики». Забота о techne теперь проявлялась лишь в некоторых формах воспитания будущего гоплита-гражданина. В противоположность традиционному гоплиту, гоплит полиса магнесийцев должен был уметь одинаково владеть обеими руками, как скифский лучник (Платон. Законы. VII. 794d-795d)[453].
Вскоре после того, как Платон отказался от идеи воина-профессионала, Афины вновь, в атмосфере «моральной и интеллектуальной реформы», характеризовавшей канун Херонеи и правление Ликурга, вернулись к идеалу воина-гражданина, выдвинув на первый план институт, который, вне всякого сомнения, уходил своими корнями в архаические формы «воинской функции»: эфебию. Относительно эфебии существует дискуссия, которая кажется совершенно бесплодной. Утверждать вслед за Виламовицем[454], что эфебия была совершенно искусственным институтом, созданным в 336—335 гг. до н. э., более нет никаких оснований, да никогда и не было[455]. Тем не менее смешивать институт, описанный в сорок второй главе «Афинской политии» и известный по определенному числу надписей, современных ей или несколько более ранних[456], которые свидетельствуют о сознательной политической воле, с весьма плохо известной эфебией предшествующей эпохи, с neotatoi, о которых говорил Фукидид и даже с «эфебами», среди которых около 372 г. до н. э. был молодой Эсхин[457], — почти столь же опасно.
Архаичность «присяги эфебов», один из официальных текстов которой нам стал известен благодаря выдающейся эпиграфической находке[458], сама по себе не подлежит сомнению: присяга приносилась в святилище Аглаура, древнего куротрофного божества[459]; организация эфебии может напоминать об эпохе, когда возрастные классы определяли людские группы внутри полиса[460]. Но речь здесь идет в лучшем случае именно о напоминании. Даже официальный документ вроде «присяги эфебов» должен изучаться не только в контексте даты его создания, реальной или предполагаемой, но также в контексте его публикации, в данном случае произошедшей попечением дема Ахарны в эпоху Ликурга. В то же время этот документ выгравирован на той же стеле, что и так называемая «присяга Платей», и нам известно, что такой оратор, как Эсхин охотно упоминал ее вместе с «декретом» Мильтиада и «декретом» Фемистокла, недавно обнаруженном в Трезене[461]. Таким образом, в эфебии трудно отличить то, что является архаичным, от того, что является архаизирующим.
В любом случае, аристотелевская эфебия касалась всех граждан и представляла собой подготовку к гоплитской службе[462]. Оружие, которое им выдавало государство и которое упоминалось в «стеле присяг», а именно копье и круглый щит (Аристотель. Афинская полития. 42. 4), входили в гоплитское снаряжение. Это означает, что эфебию в той форме, которую она приняла, а это практически единственная известная нам ее форма, невозможно вообразить без упомянутых выше нововведений и, прежде всего, включения фетов в корпус гоплитов и предоставления им оружия государством[463].
Следует предположить, я думаю, что некоторые архаические черты эфебии последней трети IV в. до н. э. были возрождены и получили более широкое распространение. Они в самом деле существовали, но, чтобы продвинуться в решении проблемы, следует ее обсуждать на другом уровне, как это сделал X. Пелекидис.
Согласно Аристотелю, в течение двух лет, проведенных в гарнизоне и на службе, эфебы «не могут участвовать в суде ни как защитники, ни как истцы, за исключением случаев, когда речь идет о получении наследства, дочери-наследнице или семейном жречестве» (Аристотель. Афинская полития. 42. 5). Эти два года изоляции были вполне убедительно сопоставлены с латентным периодом, который подразумевал переход от детства к взрослости в ряде обществ[464]. Но в Афинах этот латентный период, который может быть, таким образом, сопоставлен с лакедемонской криптией, был как бы удвоен. Эфеб (в гражданском плане: юноша, достигший восемнадцати лет) это также мальчик, достигший hebe, зрелости. В то же время в Афинах в раннюю эпоху существовало легальное совершеннолетие, половая зрелость, которая позволяла афинянам среди прочего участвовать в распределении серебра, добытого в Лаврионе: «они получали сумму из расчета по десять драхм на половозрелого мужчину» (Геродот. VII. 144)[465], т. е. достигшего шестнадцати лет. Поэтому выражение epi diètes hebesai, «достигнуть зрелости, hebe, два года назад» означало «достигнуть 18 лет», т. е. «быть эфебом» (Labarbe 1957; Pélékidis 1962: 51-60). В этом возрасте юноша входил в новый переходный период — парадоксальный, поскольку с возраста восемнадцати лет он был совершеннолетним, — который завершался, по окончании «воинской службы», получением доступа ко всей полноте гражданских прав. При этом кажется, как указал X. Пелекидис, что это частично двойное совершеннолетие соответствует двум разным гражданским спискам, существовавшим с эпохи Клисфена: списку дема, о котором мы уже говорили, и списку фратрии[466].
Фратрия нам известна очень плохо[467]; о ней часто пишут, что, после создания демов Клисфеном, она стала, в некотором смысле, застывшим институтом, избыточным в государственных структурах (Guarducci 1937— 1938: 17). В этом, однако, нет никакой уверенности. Напротив, фратрии, видимо, были реорганизованы в эпоху Перикла одновременно с принятием знаменитого закона, устанавливавшего права гражданства[468]. Фратрия продолжала развиваться, и трудно сказать, оказывал ли на нее влияние институт дема или нет. Единственный источник, который позволяет нам судить о функционировании фратрии в первой половине IV в. до н. э., так называемая «Надпись демотионидов»[469], предусматривает годичный срок ожидания при приеме по крайней мере некоторых новых членов, т. е. латентную фазу, сходную с той, что существовала в эфебии; этот срок разделяет приношение koureion во время Апатурий и голосование членов фратрии: «Пусть отныне решение о приеме выносится через год после приношения koureion (κόρεον) в день Куреотида Апатурий»[470].
О koureotis много спорили, но сейчас можно считать установленным, что приношение koureion, т. е. волос подростка, соответствовало совершеннолетию[471]. Именно будущие эфебы (οι μέλλοντες έφηβεύειν) в праздник Oinisteria, перед тем как пожертвовать свои волосы, жертвовали Гераклу одну меру вина[472]. Но указание на волосы (πριν άποκείρασθαι), видимо, показывает, что здесь идет речь не о гражданской эфебии, которая начинается в восемнадцатилетнем возрасте, а о традиционном совершеннолетии, которое признается в рамках фратрии в шестнадцатилетнем возрасте[473].
Апатурии были праздником фратрий, и именно во время этого праздника новые эфебы вносились в списки, а их отцы клялись, что они действительно афиняне, дети афинян[474]. Фратрия, когда она появилась на исторической арене, имеет военное значение: Нестор выстраивал своих воинов по фратриям[475]. Более того, этиологический миф, который должен был объяснять происхождение Апатурий — это пограничный поединок между афинским царем Тимоитом, которого потом замещает Меланф, предок Кодридов, и беотийским царем Ксанфом, в котором участвует Дионис Меланайгид, носитель apate, одно присутствие которого привело к поражению беотийца[476].
В следующей главе я обращусь к значению этого мифа. А. Жанмэр без труда различил здесь «тему прихода к власти», поскольку Меланф, воин Тимоита, благодаря своей победе получал право наследовать ему (Labarbe 1953: 382), и, согласно мифу, он был отцом Кодра, последнего царя Афин. Я ограничусь здесь лишь тем, что отмечу пограничную локализацию этого рассказа. Известно, что в своей присяге эфебы говорили о «границах родины, пшенице, ячмене, виноградниках, оливковых деревьях и смоковницах»[477], что в классическую эпоху они проводили свою «военную службу», главным образом, в пограничных фортах, и что один источник, правда, поздний (128 г. до н. э.) говорит о том, что они приносили жертвы аттическим богам на границах[478]. Возможно, что это указание позволяет укрепить интерпретацию, согласно которой древняя эфебия, эта инициация в воинскую жизнь, была периодом жизни, во время которого юноша готовился к вступлению во фратрию, а классическая эфебия была адаптацией архаического института. Как бы то ни было, в IV в. до н. э. возвращение к идеологии воинской функции, как оно проявлялось в реорганизации эфебии, в меньшей степени относилось к древним пережиткам, чем к кризису афинского полиса именно в качестве системы организации военного дела[479].
2. Черный охотник и происхождение афинской эфебии[480]
Дискуссия об афинской эфебии началась еще до открытия «Афинской политии» Аристотеля и усилилась после этого. Была ли эта двухлетняя «военная служба», описанная Аристотелем в сорок второй главе его сочинения, совершенно искусственным порождением политики Ликурга (мнение Виламовица) или, напротив, древним, весьма архаическим институтом, который исследователи XIX века сравнивали с криптиями?
Эта дискуссия сейчас уже устарела и, после открытий и исследований последних тридцати лет, согласие достигнуто в двух пунктах[481].
1. Эфебия эпохи Ликурга не является древним институтом во всех своих деталях. Афинский политик упорядочил и рационализировал то, что могло существовать до его времени.
2. Эфебия уходила своими корнями в древнюю практику подготовки молодых людей к их будущей роли граждан и отцов семейств, другими словами, членов общины. Вряд ли необходимо напоминать о той роли, которую сыграла в этом открытии сравнительная антропология древних инициации. Уже в 1913 г. А. Жанмэр опирался именно на нее (Jeanmaire 1913). Немного позже П. Руссель прокомментировал одно указание Аристотеля. Известно, что эфебы «не могут участвовать в суде ни как защитники, ни как истцы, за исключением случаев, когда речь идет о получении наследства, дочери-наследнице или семейном жречестве». Объяснение Аристотеля простое, однако оно было действительно лишь для его собственной эпохи: эфебы не должны были отвлекаться от военной службы. Руссель писал: «Эфебия — это вовсе не время военной службы. Это период перехода от детства к полному участию в общественной жизни. [...] Жизнь молодых людей в изоляции в период, предшествующий их окончательному допуску в общественную группу, — факт, настолько хорошо засвидетельствованный в различных обществах (а в Греции у спартанцев), что вполне естественно видеть здесь его следы»[482].
«Окончательный допуск» молодого гражданина имел две основных формы: женитьба и участие в фаланге гоплитов, в армии и на флоте. До тех пор, пока эти два условия (и особенно второе) не выполнены в классических Афинах, в положении молодого человека по отношению к полису остается некоторая двойственность: он и член, и не член полиса. Эта двойственность поразительным образом иллюстрировалась тем положением, которое занимал эфеб в пространстве полиса, учитывая то, что символическое пространство не всегда совпадало с реальным. Когда Эсхин говорил о поколении эфебов около 370 г., к которому он принадлежал, он уточнял, что два года после того, как вышел из детского возраста[483], служил «периполом этой территории». Peripolos этимологически означает того, кто кружит вокруг (города). Когда Платон в своих «Законах» имитировал институт эфебии, он заставлял своих агрономов совершать обход вокруг полиса, в его пограничных районах, сначала в одну, а затем в другую сторону[484]. В IV в. до н. э. эфебы peripoloi[485] обычно расквартировывались в пограничных крепостях (Панакт, Децелия, Рамонт и др.). Можно было бы сказать, что это нормальная служба для легковооруженных юношей[486], которых лишь в исключительных случаях отправляли в поход[487] и которые в этом случае естественным образом выполняли роль патрульных (так слово «перипол» тоже может быть переведено). Пусть так, но эти юноши выступали рядом с иностранцами и недавними афинянами. Эсхин служил в корпусе периполов, а затем, уже будучи neos, участвовал в походе за пределы государства вместе с юношами своего возраста и наемниками[488]. Фукидид дважды упоминал периполов: первый раз в описании засады у Нисеи в 425 г. до н. э., в которой они участвовали совместно с платейцами, т. е. недавними афинянами, а во второй, упоминая, что убийца Фриниха (411 г. до н. э.) был периполом, а его сообщник — аргосцем. Впрочем, согласно другим источникам, оба убийцы Фриниха были иностранцами[489]. Одно и то же слово могло, следовательно, обозначать афинских юношей и иностранцев, состоявших на службе у афинян. И те, и другие находились на периферии полиса, но маргинальность эфебов, конечно, была временной. Их отношения с пограничным миром были сложны. В качестве молодых воинов они занимали пограничную зону полиса, имевшую реальное выражение в укреплениях. На Крите ситуация была аналогичной: надписи (например, клятва дрерийцев) показывают, что здесь существовало четкое разграничение между юношами, занимавшими phrouria, oureia, т. е. пограничную зону, и полноправными гражданами[490]. Принося клятву, которая превратит их в гоплитов, они упоминали «пограничные знаки», которые отделяли город от его соседей, и с этими границами были связаны пшеница, ячмень, виноградники, оливковые деревья, смоковницы, т. е. мир обрабатываемой земли.
Краткое отступление, касающееся одного неафинского поэтического текста, возможно, позволит лучше понять проблему. Вероятно, одно из лучших описаний греческого эфеба как двойственного персонажа — образ Ясона из IV Пифийской оды Пиндара. Пелий, старый царь Иолка, «знал из оракула, что он должен погибнуть от руки благородных сыновей Эола или от их неодолимых хитростей» (Пиндар. Пифийские оды. 126—129)[491]. Он был предупрежден, что ему следует «опасаться прежде всего человека, обутого на одну ногу», который перейдет «из труднодоступного убежища» в «хорошо видимую землю», «будь он иностранец или горожанин» (Пиндар. Пифийские оды. 138). И в самом деле, Ясон пришел из далеких краев, где его воспитал среди дикой природы кентавр Хирон и его дочери. Он был, следовательно, иностранцем и воспринимался как таковой, но одновременно он был и гражданином, обращавшимся к своим согражданам именно в этом качестве (там же. 207—208). Этот законченный двадцатилетний эфеб был двойственным человеком; он нес два дротика и был одет одновременно и в одежду, характерную для магнесийцев, и в шкуру пантеры, как дикарь:
έσθάς· δ' αμφότερα νιν εχει α τε Μαγνητών έπιχώριος άρμόζοισα θαητοΐσι γυίος, άμφι δε παρδαλέα στέγετο φρίσσοντας ομβρους (там же. 140—144)Волосы, которые афинский эфеб состригал в знак достижения возраста мужчины, еще покрывали его спину (там же. 145—148). Он задержался в подростковом возрасте; но речь идет не о социальной реальности, а о мифе.
В Афинах эта двойственность статуса эфебов, на этот раз являющаяся социальной реальностью, в некотором смысле удвоена. Как правильно указал Ж. Лабарб[492], на периферии официальной эфебии, включенной в полисные структуры, сохранялась более архаичная эфебия, представлявшая собой процедуру включения во фратрию. Отсюда происходит выражение επι διετές ήβήσαι, которое означает одновременно «быть эфебом» в гражданском смысле слова, т. е. быть восемнадцатилетним, и, как на то указывают слова выражения, «достичь hebe»; короче говоря, «быть эфебом в течение двух лет». Ж. Лабарб убедительно доказал, что эта первая эфебия в возрасте шестнадцати лет освящалась жертвоприношением koureion, жертвой животного, сопровождавшейся приношением волос. Я добавлю к этому, что, по меньшей мере, в одном случае, о котором нам известно из «Уложения демотионидов»[493], прием во фратрию осуществлялся лишь после годичного периода ожидания, следовавшего за приношением волос.
Это жертвоприношение происходило во время Куреотиды, т. е. в третий день большого праздника фратрий ионийского мира, Апатурий, в месяц пианепсий (октябрь), на который приходилась целая серия праздников. Эти праздники были определены, в том числе Жанмэром, как праздники возвращения юношей из летних походов.
Именно изучая этиологический миф праздника Апатурий, я смог сформулировать те размышления, которые составляют объект этого исследования.
Этот миф известен по очень большому числу текстов, с V в. до н. э. до Пселла и Цеца, которые, разумеется, лишь повторяют более древние источники. Как правило, эти тексты не принадлежат ни к большой истории, ни к большой литературе. Кроме упоминаний у Павсания и Страбона, мы находим этот миф у Конона, малоизвестного мифографа эпохи Августа, у Полиена и у Фронтина, а также в схолиях и в леммах словарей[494]. При нынешнем состоянии текстов невозможно разделить древнюю и позднюю версии и восстановить историю мифа. Поэтому я перескажу сюжет, разделяя основные варианты.
Действие происходило на границе Аттики и Беотии, в eschatia, одном из тех «краев света», гористых и труднодоступных землях, которые прилегали к границам греческих полисов, районов охотников и пастухов, пограничных зон, служивших предметом постоянных конфликтов[495]. Существование этих территорий было необходимо греческому полису уже для того, чтобы тренировать молодых воинов в сражениях, ритуальный характер которых показал А. Брелих (Brelich 1961). Между афинянами и беотийцами возник конфликт. Его предметом называется иногда Ойноя и Панакт, иногда Мелайны (пограничный дем). Эфор, которого цитирует Гарпократион, говорил, что конфликт был «за район, называемый Меланией». По поводу Панакта я замечу лишь, что по случаю Апатурий там совершалось ежегодное жертвоприношение[496]. Царем беотийцев был Ксанф или Ксанфий, т. е. Белый, царем афинян — Тимоит, последний Тесеид. Оба пришли к выводу, что нужно решить проблему посредством мономахии, т. е. поединка. Но Тимоит отказался сражаться (потому что он был слишком стар, уточняет схолиаст аристофановского «Мира» и Элия Аристида). Участвовать в поединке вызвался другой афинский герой по имени Мелант (или Метантий), которому за это обещали, согласно некоторым текстам, право наследовать престол. Черный, следовательно, должен был сражаться с Белым.
Когда поединок начался, Мелантий вдруг закричал: «Ксанф, ты не соблюдаешь правил: рядом с тобой кто-то сражается». Удивленный Ксанф обернулся, а Мелантий воспользовался этим, чтобы его убить. Что же произошло? Свидетельства текстов по этому поводу расходятся. Одни (Полиен, Фронтин) говорят, что это была чистая хитрость, которую Холлидей (Halliday 1926: 179) сравнивает с хитростью Тома Сойера у Марка Твена, закричавшего: «Посмотри за собой, тетушка» и избежавшего тем самым розог, которыми она собиралась его наказать. Согласно другому тексту (Lexicon Seguieranum), Мелантий обратился с молитвой к Зевсу Апатенору; большинство авторов заставляет вмешаться Диониса, точнее, ночного Диониса с черной кожей и волосами (nykterinos kai melanaigis), на которого, кажется, намекал Плутарх и культ которого, по легенде, был основан в Элевтере, в той же пограничной зоне[497]. Затем победитель Мелантий стал царем Афин.
Во всех случаях праздник Апатурий объясняется этимологической игрой слов. Он был установлен в честь этой apate, хитрости, которая приписывалась Дионису, Зевсу или Мелантию[498], хотя в то же время схолиаст «Ахарнян» (и грамматик, которому следует Суда) знали более или менее правильное объяснение слова: Άπατούρια = Όμοπατόρια. Что касается нас, то мы считаем начальную а слова Απατούρια a copulativum и, следовательно, толкуем Апатурии как праздник тех, у кого общий отец, другими словами, праздник фратрий.
Понятно, что уже давно предпринимались попытки объяснить этот миф. Поначалу, разумеется, предлагались исторические объяснения. Они сменяли друг друга от книги Тепфера «Аттическая генеалогия» (Toepffer 1889: 225—241) до большого комментария афинских историков Ф. Якоби. Предполагали, что Мелант может считаться историческим персонажем. Это Нелеид, отец Кодра, который благодаря другой apate (переодеванию в крестьянина), сумел добиться того, чтобы его самого убил враг, и тем самым обеспечил, согласно оракулу, спасение Афин. Мелант, таким образом, был «предком» фратрии Медонтидов. Предпринимались попытки уточнить дату, когда этот рассказ мог родиться. Виламовиц писал в 1886 г., что не раньше 508 г. до н. э., поскольку аттическо-беотийская граница установилась только в это время (Wilamowitz 1886: 112). Якоби, не отрицая мифический характер рассказа, тоже допускал возможность того, что в его основе лежит стычка на границе (FGrH ΙΙΙb, II. Р. 50).
Первым, кто попытался объяснить весь миф, был X. Узенер (Usener Η.), рассуждение которого было близко строю мысли Маннхардта (Mannhardt), Дж. Г. Фрезера или Дж. Харрисон (Harmon J.)[499]. Этот поединок, отметил X. Узенер, являлся сражением между Черным и Белым. Некоторые древние авторы обращали на это внимание. Так, Полиен процитировал или придумал оракул, предшествовавший стычке: τω Ξάμθω τεύζας о Μέλας φόνον εσχε Μέλαινας. Лишь убив Белого, Черный завладел Мелайнай, черной страной. Узенер, следовательно, превращает это сражение в представление, в ритуальное сражение зимы и лета. Это толкование, которое было принято Фарнеллом (Farnell L. R.), Куком [Cook А. B.), Роузом (Rose H. J.) и другими[500], однако, не объясняет то, что следовало объяснить: связь между этим сражением и праздником Апатурий. Так же обстоит дело и с вариантом той же теории, предложенным Нильсоном (Nilsson M.), который превратил этот agon, связанный с культом Диониса, в одну из ранних форм трагедии (Nilsson 1911: 674—677). Много позже Анри Жанмэр предложил совершенно иное толкование этого мифа[501]. Он видел в поединке Меланфа и Ксанфа прежде всего ритуальное действо, за которым, возможно, следовала процессия (имя Меланфа у Павсания заменено на имя Андропомпа, главы процессии), посредством которой кандидат на царскую власть утверждал свое господство над территорией. В самом деле, совершенно аналогичным образом, с помощью поединка и apate, практически идентичной нашей, царь Эниан Фемий доказал, согласно Плутарху[502], свое право на долину Инаха. Можно напомнить также и знаменитый легендарный поединок Питтака и Фринона во время Сигейской войны между афинянами и митиленцами[503].
Однако, насколько мне известно, только А. Брелих на страницах уже упомянутой мною книги попытался объяснить связь между этим мифом и праздником Апатурий, праздником фратрий, во время которого эфебы, принеся в жертву свои волосы, записывались во фратрии. Он указал, в частности, на частоту сражений юношей в пограничных пунктах и напомнил, что Дионис Агеней (безбородый), которого он отождествлял с Дионисом Меланайгидом, в другом месте характеризуется как hebon (подросток). Однако он остановился на этом[504].
Мое внимание привлекли три факта, которые необходимо объяснить.
1. Пограничная локализация рассказа, соответствовавшая пограничной локализации территории афинских эфебов, которые в своей клятве говорили о границах родины.
2. Место, которое занимает в рассказе арate. Как объяснить, что эфебам предлагалась в качестве некого образца модель поведения, совершенно отличная от той, которой их обязывает следовать клятва? С одной стороны — поединок и хитрость, с другой — честное гоплитское сражение. Попутно упомяну, что само имя Меланфа могло быть для читателя Гомера очень красноречивым. Так же, как Долон был хитрым волком в «Илиаде»[505], Мелантий или Мелантией в «Одиссее» был козопасом-предателем, а его сестра Меланто — служанкой-предательницей. Отца их звали Долий, хитрец[506].
3. Наконец, меня поразила черная доминанта этого рассказа: имя Меланфа, место сражения, которое некоторые тексты называют Мелайнай, эпитет Диониса Меланайтид. Этот цвет мифического рассказа находил свое институциональное соответствие в жизни афинских эфебов. Они носили, по крайней мере в некоторых торжественных случаях, черные хламиды, которые во II в. н. э. были заменены белыми одеждами[507] благодаря щедрости Герода Аттика. Сам этот щедрый дар доказывал, что обряд был уже непонятен. П. Руссель, объясняя надпись IG 112, 3606, показал, что черные хламиды считались напоминанием об «упущении» Тесея, эфеба par excellence, который забыл сменить черный парус своего корабля (Roussel 1941), возвращаясь с Крита. Этиология не является объяснением, и Дж. Томсон (Tomson G.) объяснил эту одежду как одежду ритуального затворничества (Tomson 1941: 107).
В этой черной доминанте есть нечто очень странное. Достаточно, например, обратиться к добросовестно составленному Г. Радке (Radke G.) каталогу (Radke 1936) для того, чтобы убедиться, насколько должна удивлять и шокировать ритуальная победа черной стороны в празднике, отмечающем включение юношей в общину.
Чтобы попытаться лучше сформулировать эту проблему, я сделаю отступление, касающееся института лакедемонских криптий, который частью сопоставлялся с афинской эфебией и который во многих отношениях действительно был ей параллелен, хотя и затрагивал гораздо меньшее число юношей. Источники, содержащие информацию об этом институте, как известно, немногочисленны[508]. Схолиаст Платона прямо говорил, что криптия была подготовкой к военной жизни. Тот факт, что эта подготовка была сопоставима с той, которую получали афинские peripoloi, уже в прошлом веке было показано Кехли (Koechly) и еще лучше Вахсмутом (Wachsmuth), причем последний проницательно заметил, что эта военная подготовка приняла особую форму охоты на илотов[509]. Уже в 1913 г. А. Жанмэр в своей великолепной статье, основываясь на сопоставлениях с африканскими обществами, показал, что основные черты криптии (изоляция, которой подвергаются определенные группы молодых людей в момент созревания, жизнь в лесу, сами убийства, жертвами которых становятся илоты) характерны для обрядов инициации и тайных обществ (люди-волки и люди-пантеры) черной Африки. Но в таком случае как обстояло дело с военной ролью криптий? Ответ Жанмэра ясен: «Вся военная история Спарты восстает против предположения о том, что спартанский гоплит ползал в зарослях и карабкался по скалам и стенам». Он остроумно добавляет, что если бы криптия со своими ночными пребываниями в горах действительно была подготовкой к военной жизни, то тропинку, которой воспользовался Эфиальт во время сражения при Фермопилах, спартанцы заметили бы и охраняли (Jeanmaire 1913: 142).
Я думаю, что Жанмэр был глубоко прав, но и глубоко ошибался. Он не заметил того, что криптия отнюдь не была чужда жизни гоплита: этот институт симметричен и противоположен гоплитии. В самом деле, сведем воедино то, о чем нам говорят источники. Вооруженному с головы до ног гоплиту противостоял участник криптии, который определялся как gymnos, т. е. безоружный (схолий Платона) или вооруженный лишь коротким кинжалом (Плутарх). Члену фаланги противостоял изолированный боец или член маленькой группы; юноше, бегавшему в горах, — боец, сражавшийся на равнине; участнику криптии, которая проходила в разгар зимы (Платон), — гоплит, воин теплого времени года — лета, по Фукидиду; хитрому убийце илотов — честный боец, воспетый Тиртеем; юноше, действовавшему ночью, — мужчина, сражавшийся при свете дня. Участник криптии, — говорил схолиаст, — ел то, что мог, наудачу, вероятно, не находя времени заниматься приготовлением пищи, а гоплит — прежде всего член сисситий. Добавлю наконец, что участники криптий посещали такие места, которые стали в некотором смысле границами вражеских территорий, поскольку эфоры в рамках обряда, аналогичного тому, что совершали римские фециалы, объявили войну илотам[510].
Короче говоря, все, что для гоплита — порядок, taxis[511], для участника криптии — хитрость, apate, беспорядок, безрассудство. Используя выражения Леви-Стросса, я бы сказал, что гоплит находился со стороны культуры, вареного, а участник криптий — со стороны природы, сырого, учитывая, что эта «природа», эта «дикая» сторона сама организована[512]. Это замечание можно расширить. На Крите agelai юношей, т. е. «стада животных, которые ведут», если процитировать объяснение этого слова, данное П. Шантреном (Chantraîne 19566: 32), противостоят hetaireiai, содружествам совершеннолетних мужчин. Сопоставление может быть продолжено, но я сказал уже достаточно для того, чтобы показать, каким образом криптия с помощью инверсии, которую К. Леви-Стросс счел бы логичной, драматизирует момент, когда молодой спартанский выходец из элиты окончательно расстается с детством.
В своей книге «Полярность и аналогия» (Lloyd 1966) Дж. Ллойд блестяще показал, что принцип полярности играл фундаментальную роль в рассуждениях греческих мыслителей архаической эпохи. Впрочем, я полагаю, что выводы этой книги легко могли бы быть перенесены и на классическую эпоху. Как можно понять, например, Фукидида, не прибегая к понятию полярности? В милетской космологии рациональное решение (gnome) противостоит судьбе (tyche), а речь — действию, так, как тепло противостоит холоду или влажность — сухости.
Моя цель, как уже можно было догадаться, — отыскать признаки полярности уже не в мышлении, находящем свое выражение в форме текстов, а в социальных институтах. В мои задачи не входит обсуждение вопроса о том, являлись ли «мышление» и «институты» в действительности одной и той же реальностью, выражением «человеческого духа», как считает К. Леви-Стросс.
На мой взгляд, можно расширить и обобщить уже достигнутые, благодаря анализу криптий, результаты. Мне кажется, следует предположить, что в Афинах и во многих других районах греческого мира, например, в Спарте и на Крите, где очень архаичные институты сохранялись вплоть до эллинистической эпохи, переход от детства к зрелому возрасту, возрасту войны и брака, драматизировался как в ритуале, так и мифе, с помощью закона, который можно было назвать законом симметричной инверсии. Многие факты этого рода уже были изучены в связи с «обрядами инициации», определенными ван Геннепом (van Gennep) в его книге 1909 г.[513]
Напомню, что в Аргосе, например, девушки перед вступлением в брак привязывали себе бороды, а в Спарте в момент свадьбы девушку «передавали женщине, называемой nympheutria, которая коротко обрезала ей волосы, одевала и обувала ее в мужскую одежду и обувь и укладывала в одиночестве и темноте на соломенный тюфяк» (Плутарх. О доблестях женщин. 245f; Он же. Ликург. 15. 5). Полная параллельность этих фактов становится ясной, если вспомнить, что, согласно Геродоту (Геродот. I. 82), взрослые аргосцы должны были чисто выбритыми, а взрослые спартанцы — отпустить длинные волосы. Таким образом, речь идет как бы о двойной инверсии.
Но вернемся в Афины, к празднику «возвращения», отмечавшемуся в месяц пианепсий, в котором эфебы играли столь важную роль и который тем более существен для нас, что он отмечал как раз завершение периода обучения. Вероятно, именно во время этого праздника эфебы приносили свою знаменитую присягу в аглаурии и получали оружие. В дату, очень близкую к Апатуриям, седьмого числа месяца пианепсия, происходил часто изучавшийся праздник Осхофорий[514]. Праздник Осхофорий тем более интересен для нас, что этиологический миф, на который он опирается, это именно миф о возвращении Тезея после его победы над Минотавром и о противоречивой ситуации, в которой он оказался, счастливый своей победой, но опечаленный смертью отца (Плутарх. Тесей. 22. 4). Напомню, что черная хламида эфебов должна была напоминать именно об этой смерти. Однако, анализируя в целом традицию, связанную с этим праздником, которая очень разнообразна[515], я хотел бы остановиться на некоторых фактах, которыми часто пренебрегали.
1. В Осхофориях существенную роль играл маргинальный, пограничный genos «саламиниев», живших в Афинах. Среди прочего, именно этот genos выставлял носителей лоз винограда с гроздями, Осхофоров[516].
2. Праздник включал прежде всего parapompe, процессию, участники которой направлялись из Афин в святилище Афины Скирас на Фалере. Слово skiron обозначает заизвесткованную неплодородную землю, гипс. Якоби показал[517], что имена Скирас, Скирос, Скирон обычно относятся к маргинальным территориям, которые играли роль границ. Так, Скирас — одно из имен Саламина, Скирон находился на древней границе Афин и Мегары, и т. д. Процессия к святилищу Афины Скирас состояла из paides, а во главе ее шли двое мальчиков, переодетых в девочек, двое paides amphithaleis[518], и носители oschoi. Плутарх объясняет этот травестизм тем, что среди семи «девушек», увезенных Тезеем на Крит, на самом деле было двое мальчиков, переодетых в девушек[519]. Я воздержусь здесь от того, чтобы касаться очень сложных проблем, которые поднимают связанные с Афиной Скирас праздники: Осхофории, но также и Скиры и Скирофории. Состояние традиции таково, что трудно распределить свидетельства источников между разными праздниками. Отмечу просто, что Афина Скирас оказывается фундаментальным образом связанной с костюмом травести. В аристофановских «Женщинах в народном собрании» (Аристофан. 18—25, 38)[520] именно во время Скир Праксагора и ее подруги решают переодеться в мужчин и надеть накладные бороды, причем муж одной из этих женщин — не кто иной, как саламинец. Кроме того, Плутарх рассказывает (Плутарх. Солон. 8—9), как афиняне завладели Саламином (иначе Скирас) с помощью женщины-травести, в память чего совершалась ежегодная церемония на мысу Скирадион.
Кроме parapompe и травестизма paides, которые тоже несли oschoi, Осхофории включали также бег, agon или hamillos эфебов, по поводу которого нас информирует прежде всего Прокл[521] и который отправлялся от храма Диониса и финишировал на Фалере. В этом состязании между собой соревновались или два представителя каждой фратрии, или же по два представителя каждой фратрии состязались все вместе. Победитель пил Pentaploa, смесь масла, вина, меда, сыра и муки. После церемоний на Фалере, которые включали среди прочего обряды затворничества и дейпнофории, а также возлияние, komos возвращался в Афины. Вестник, как сообщал Плутарх, не был увенчан венком — им увенчивался его посох; крики радости «Eleleu» перемежались с траурными криками «Iou, iou», в память смерти Эгея[522]. Осхофории, следовательно, основывались на серии антитез. Самая очевидная — противопоставление мужественности и женственности. Она проявлялась в процессии, но также противопоставляла процессию, в которую входили переодетые в девочек мальчики, состязанию в беге эфебов.
Состязание в беге, в самом деле, по преимуществу относилось к сфере мужественности. На Крите dromeus — зрелый мужчина;[523] в Лато выход из agela детей и превращение в мужчину обозначалось глаголом έγδραμεΐν — «выбегать»[524]. Apodromos, согласно Аристофану Византийскому[525], — это мальчик, который еще не участвовал в коллективных состязаниях в беге. Наконец, соревнование в беге Осхофорий находит параллель в Стафилодромиях спартанского праздника Карней (праздник фратрий), состязании, в котором участвовали по пять неженатых юношей от каждой фратрии[526]. Наконец, радость противостояла трауру, как о том свидетельствует текст Плутарха, который ошибочно, как мне кажется, пытались истолковать как позднюю интерпретацию.
Кроме того, хорошо известно, что переодевание в женщину, пример которого мы находим в процессии Осхофорий, для греческих архаических обществ, как, впрочем, и для других обществ, был способом драматизировать доступ юноши к мужественности и к брачному возрасту. Классический пример в греческой мифологии — пребывание Ахилла на Скиросе: он был переодет в девушку, но не смог устоять, увидев оружие[527]. Однако можно полагать, что в данном случае важен не столько сам факт травестизма, а антитеза, которую он выявляет. Противопоставление светлое — темное, например, весьма важно. Еще не повзрослевшие юноши иногда называются skotioi (темные)[528], тогда как neaniai Осхофорий именуются eskiatraphomenoi («те, кого кормят в темноте»)[529]. На Крите церемонии инициации в класс мужчин включали, видимо, как в Малле, так и в Дрере, обряд, связанный с обнаженностью, который предшествовал получению оружия гоплита. Юноши накануне включения в класс взрослых именуются azostoi («невооруженные», согласно объяснению Гесихия), panazostoi («совершенно безоружные») в Дрере, egdyomenoi в Малле и Дрере[530], т. е. «раздетые» (в смысле невооруженные). Кроме того, в Фесте существовал праздник Экдисий, этиологической легендой которого был рассказ о девочке, ставшей мальчиком, что устанавливает связь между парами девочка — мальчик и обнаженный — вооруженный[531].
Вероятно, небесполезно, наконец, напомнить, что сексуальная инверсия юноши в момент его превращения во взрослого, вне всякого сомнения, была связана с проанализированными фактами. Достаточно упомянуть знаменитый текст Эфора[532] о harpage молодого критянина, которого любовник на два месяца уводит в дикую местность, где они занимаются охотой и отдыхают. Именно после своего возвращения в город юноша получает оружие, которое делает из него гоплита.
Я подхожу к теме охоты, которая фигурирует в названии этой главы и этой книги, теперь мне остается объяснить и, если возможно, обосновать эти названия.
Охота, как напомнил П. Шантрен (Chantraine 1933: 40), тесно связана с agros, т. е. с пространством за пределами возделанных полей, с eschatiai, которые окружают греческие полисы. Платоновский эфеб — это agronomos, тот, кто защищал пограничные районы (Платон. Законы. VI. 760е—761а). Охота — это, кроме того, занятие героев, служивших образцами для эфебов, в такой мере, что Ф. Орт (Orth F.), автор статьи «Охота» в энциклопедии Паули-Виссова (Pauly-Wissowa) (RE)[533], мог написать, что само собой разумеется, что все герои — охотники, а все охотники — герои. С одной стороны, охота целиком находилась со стороны дикого, сырого, ночи[534], техника лакедемонских криптов — техника охоты, но это лишь с одной стороны, поскольку следует немедленно остановиться и на различиях.
Начну со знаменитого текста Платона о воспитании, который находится в конце его «Законов» (Платон. Законы. VI. 822d—824а). Платон, следуя испытанной технике «Софиста», ввел целую серию различений. Каждый раз он указывал левую сторону, сторону зла, и правую. Поскольку при рыбной ловле используются сети, она целиком находится слева. Следовательно, следует ограничиться охотой и ловлей (thereusis te kai agra — там же. 824а) ходящих животных. Но и здесь возникает необходимость в различении: следует исключить ночную охоту, охоту, использующую сети и западни. Единственный допустимый вид охоты — это охота, соответствующая духу всадника и гоплита, псовая охота или охота с рогатиной, где охотник действует собственными руками (птицеловство, однако, допускается вне возделываемых полей и в горах, en agrois). «Но пусть никто не позволяет нигде охотиться ночному охотнику, который полагается лишь на сети и силки...» (Платон. Законы. 824b). Разумеется, говоря об этом тексте, следует иметь в виду платоновскую технику дихотомий и свойственное Платону морализаторство. Возможно, следует также иметь в виду морализаторство Пиндара (Пиндар. Немейская песнь. III. 51 сл.), когда он говорит, что Ахилл убивал оленей без помощи собак, не прибегая к хитростям или силкам потому, что бегал быстрее их, хотя это напоминает нам о критском dromeus.
В самом деле, многие тексты противопоставляют охоту взрослых, в которой используются не силки, а рогатина, дневную, часто коллективную охоту, в которой проявляется гоплитский дух, охоте подростков, ночной, черной, использовавшей главным образом силки. Героический прототип коллективной охоты — это, разумеется, Калидонская охота на знаменитого черного кабана. Как уже отмечалось, «использование сетей не засвидетельствовано ни в изобразительной традиции, относящейся к Калидонской охоте»[535], ни, разумеется, в литературной традиции. Это объясняется, очевидно, тем, что на эту охоту собрались греческие герои. Далее, согласно македонскому обычаю, о котором сообщает Гегесандр (Афиши. Пирующие софисты. I. 18а), никто не мог обедать лежа до тех пор, пока не убивал кабана без помощи сетей. Бедный Кассандр, хотя и был заслуженным охотником, должен был ждать тридцатипятилетнего возраста, чтобы получить доступ к этой привилегии. Другими словами, юноша не мог в полной мере участвовать в этих коллективных трапезах, столь характерных для греческих архаических или периферийных обществ, до тех пор, пока не совершал подвиг.
Обращаясь к Спарте, отмечу две черты, которые показывают, насколько охота была включена в гоплитскую идеологию. Согласно Плутарху (Плутарх. Ликург. XII. 4), каждый участник коллективных трапез должен был посылать к общему столу начатки жертвы, если он совершал жертвоприношение, или часть дичи, если он был на охоте. Можно было поужинать дома, если жертвоприношение или охота кончались слишком поздно, но следовало, чтобы другие, в некотором смысле, присутствовали (tous d'allous edei pareinai). Ксенофонт, со своей стороны (Ксенофонт. Лакедемонская полития. 6. 3—4), говорит, что охотничьи собаки и кони содержались сообща и что неиспользованную провизию было необходимо спрятать в определенных местах, чтобы ею смогли воспользоваться припозднившиеся охотники.
В противоположность этим героическим подвигам и коллективным обычаям, одиночная охота и охота с сетями часто оказывалась характерной для подростков.
Тексты довольно многочисленны. Некоторые из них, правда, очень поздние. Ипполит, прототип неженатого юноши, который отказывается от брака, был также, согласно Оппиану (Оппиан. Об охоте. II. 25), изобретателем силков. Первое испытание, которое было предложено молодому Филию[536], состояло в том, чтобы убить льва, не используя железо. Он его убил, хотя и не с помощью сети, но благодаря типичной apate: напоил его допьяна. Возможно, исходя из этого рассуждения, можно объяснить, почему на знаменитом памятнике коринфского искусства, ольпе Киджи (из виллы Джулии), фриз, изображающий пластунов в зарослях, противопоставляется как тому, что изображает всадников, так и тому, на котором изображен ряд гоплитов. Исходя из той же оппозиции, можно понять, почему Нестор в «Илиаде» дважды начинает свою воинскую деятельность: сначала как легковооруженный юноша, участвовавший в ночном набеге с целью похищения коров, а затем как взрослый в тяжелом вооружении[537].
Но сейчас пришло время назвать персонаж, из истории которого я хочу заимствовать документы, самые важные для выяснения роли охоты на разных этапах жизни молодого грека, поскольку этот персонаж как раз и есть «черный охотник», Меланий.
В «Лисистрате», в стихах 781—796, хор старцев поет такую песню: «Вот история, которую я хочу вам рассказать и которую я слышал сам, когда был ребенком. Жил-был юноша (neaniskos), некий Меланий, который сбежал в горы, чтобы не жениться. Он жил в горах и ловил зайцев в силки, которые плел сам. И никогда больше он не вернулся домой, так он ненавидел женщин».
Меланий предстает здесь как эфеб, но эфеб, потерпевший неудачу, в некотором смысле Ипполит, как отметил Виламовиц в своем комментарии (Wilamowitz 1927: 169—170). Если следовать этой песни, можно было бы счесть, что перед нами разновидность столь распространенного мифа об одиноком угрюмом охотнике, пытающемся изнасиловать Артемиду, или о женоненавистнике, что в обоих случаях означает нарушение правил социального и сексуального поведения. Этот тип хорошо известен; к нему принадлежит, например, охотник Орион, бывший как раз, согласно Оппиану, изобретателем ночной охоты[538].
Но, разумеется, не стоит ограничиваться этой песней. Поместим ее в мифологический контекст. История Мелания составляет пару с историей одной девушки, аркадской Аталанты, охотницы и бегуньи. Легенда помещает ее у пограничных между Арголидой и Аркадией гор Парфений. Ближайшая деревня называлась, согласно Павсанию (Павсаний. VIII. 6. 4), Мелангея. Как и Меланий, Аталанта выросла в горах и была вскормлена медведицей, животным Артемиды. Еврипид приписывал ей ненависть к Киприде, что составляло социальный проступок, параллельный проступку Мелания. У Феогнида о ней говорится: «светловолосая Аталанта, которая ходила по высоким пикам гор, избегая услад брака». В одном гесиодовском фрагменте речь идет о легконогой Аталанте, а в рассказе Аполлодора этой девушке удалось избежать насилия со стороны кентавров. Элиан знал лишь о ее девственности, как аристофановская песня знала о Мелании лишь то, что он отказался жениться. Вернувшись домой, она, согласно знаменитому рассказу Аполлодора, вызвала женихов на состязание в беге, в котором сама же участвовала вооруженная. Таким образом, она снова дважды вторгалась в мужской мир. Согласно Ксенофонту, именно охотничьи таланты Мелания позволили ему стать супругом Аталанты. Широко распространенные мифологические традиции (Аполлодор) рассказывают, что он победил Аталанту в беге и получил ее руку благодаря женской apate (уронив одно за другим три яблока Афродиты). Оба были изображены на ларце Кипсела из Олимпии[539]. Оба участвовали, и это был в некотором смысле безгрешный период их жизни, в Калидонской охоте. Пара изображена на «вазе Франсуа». Она изображена светлой, он — темной краской, а белая собака на той же вазе готовится прыгнуть на черного кабана. Их сын носит характерное имя Партенопей[540]. Они вновь нарушают правила сексуального поведения, совокупившись в храме Зевса и Кибелы. За это боги превращают их во львов, поскольку, как считалось, львы не могут совокупляться[541].
Афинский эфеб, с одной стороны, — настоящий наследник черного охотника. Черный охотник — это, в сущности, эфеб, потерпевший неудачу и который может потерпеть неудачу в каждый ответственный момент[542]. Многие аттические вазы изображают молодого эфеба, уходящего из дома со своей собакой, возможно — переход к жизни юноши.
Рис. 1. Всадники и охотники. Кувшин из Киджги, ок. 625 г. до н. э. (Рим, Вилла Джулия, № 2279)
Пора подвести итог. В Греции исторического времени, т. е. в архаическую и классическую эпоху, эфеб — это пред-гоплит и, тем самым, благодаря символической драматизации, характерной для обрядов инициации, анти-гоплит, иногда черный, иногда женственный, иногда хитрый охотник. В любом случае нет ничего удивительного в том, что миф, подобный мифу о Мелантии, служит ему образцом[543]. С технической точки зрения эфеб — легковооруженный воин, и именно этот антигоплит обеспечил сохранение, долгое время скрываемое, пред- и анти-гоплитских форм войны, которые вновь появились на свет во время Пелопоннесской войны и в IV в. до н. э.[544] Человек пограничных территорий, eschatiai, он говорил в своей гоплитской присяге[545] о границах родины, которые ассоциировались с возделанными полями, пшеницей, ячменем, оливковыми деревьями, виноградниками, смоковницами.
В более дальней перспективе этот анализ эфебии, возможно, приведет нас к размышлениям о том, чем была воинская функция в мифологической традиции греков. Задолго до гоплитской реформы в Греции и Риме воинская функция у индоевропейцев представала в двух видах: упорядоченном, который когда-нибудь разовьется в фалангу и легион, и неупорядоченном, включая индивидуальные подвиги[546]. Сам этот индивидуальный подвиг, благодаря которому молодой воин заслуживал право стать просто воином, как справедливо на том настаивал Ж. Дюмезиль, в самом деле связан с furor, lyssa, celeritas, menos. Но подвиги ирландского Кухулаина, подвиги, которые сделали его возвращение от границ столь сложным и столь опасным, были также и хитростями[547], и именно хитростью Гораций победил трех Куриациев в рассказе Тита Ливия — подвиг, из-за которого Геродот (Геродот. I. 68) дал нам любопытную параллель в рассказе о сражении за пограничную Тиреатиду трехсот спартанцев и трехсот аргосцев. Таким образом, Гораций — это, может быть, дальний родственник «черного охотника».
3. Сырое, греческий ребенок и вареное[548]
Я ненавижу путешествия и путешественников.
Клод Леви-Стросс
В 1724 г. в Париже вышла книга, написанная иезуитом Жозефом Франсуа Лафито (Lafitau J.-К) под заголовком «Обычаи американских дикарей в сравнении с обычаями первобытных времен»[549]. Под этим скромным названием скрывалось событие в историографии древности. Лафито был миссионером, родившимся в 1670 г. в Бордо в семье богатых купцов и банкиров. С 1712 по 1717 г. он жил в Канаде вместе с П. Гарнье (Gamier Р.), который хорошо знал индейские племена алгонкинов, гуронов и ирокезов. Как этнолог-практик Лафито не был конечно же ни первым миссионером, ни первым европейцем, который поделился с продолжавшим завоевания Западом приобретенными в Новом Свете знаниями. Рефлексия и открытие новых земель шли рука об руку. В сущности, уже с XVI в. этнология утвердилась как наука, изучающая общества варваров, рассматриваемые отныне как неподвижные, по сравнению с миром, вовлеченным в исторический поток. Оригинальность Лафито состояла в ином[550], и ее удачно определил Арнальдо Момильяно: книга Лафито «открыла миру простую истину, что и греки когда-то были дикарями» (Momigliano 1966а: 141). Откровенно говоря, Фукидид писал примерно то же самое: «Можно доказать многими свидетельствами, что мир древней Эллады жил так же, как современные варвары» (Фукидид. I. 6. 6). Но Фукидид был забыт, и, осуждая результаты завоевания Америки, Монтень, который, однако же, был порой так близок к историческому релятивизму, писал: «Какая жалость, что это столь благородное приобретение не было сделано при Александре или при древних греках и римлянах, и столь великие преобразования и перемены в судьбе стольких царств и народов не произошли при тех, кто мог бы бережно смягчить и сгладить все, что тут было дикого, и вместе с тем поддержать и вырастить добрые семена, не столько привнося в обработку земли и украшение городов искусство Старого Света, но также привнося в добродетели туземцев добродетели греческие и римские!» (Монтень. Опыты. Кн. 3. Гл. б, пер. А. С. Бобовича). На самом деле Лафито пошел дальше, чем Фукидид, сравнивая с миром дикарей не только далекое прошлое греков, но и саму классическую Грецию. На свой манер иезуит подвел черту в дебатах между учеными древности и учеными его времени. Греки, римляне — и даже в некоторой мере, что еще несколько существеннее, и древние евреи — потеряли культурную привилегию, которая была им дарована учеными эпохи Возрождения и XVII в. «Признаюсь, — писал он с необычайной смелостью, — что если древние авторы помогли мне обосновать некоторые удачные предположения относительно дикарей, то обычаи дикарей просветили меня и помогли мне понять и объяснить многие детали в трудах древних авторов». Утверждая это, Лафито занимает противоположную позицию по отношению к другому отцу — основателю антропологии, испанскому иезуиту Хосе де Акоста (José de Acosta), автору «Естественной и моральной истории Индий», опубликованной в Севилье в 1590 г. (Acosta 1954) и почти сразу же переведенной на французский и английский языки. Для де Акосты незыблем эпистемологический закон: за исключением вопросов религии, греко-римский мир остался единственной цивилизацией. Правда, Лафито, как полагается ученому миссионеру, вполне в классическом духе нашел себе патрона: «Наука о манерах и обычаях различных народов столь полезна и интересна, что Гомер счел необходимым посвятить ей целую поэму. Ее цель — восславить мудрость ее героя Одиссея, который, обнаружив, что после осады Трои из-за гнева Нептуна все более удаляется от родной Итаки, воспользовался различными ошибками своих плаваний, чтобы познакомиться с нравами народов, с которыми злоба ветров заставила его соприкоснуться, и получить от каждого из них все, что было у них хорошего и достохвального» (Lafitau 1724). Но эти народы — не только воображаемые племена, которые Одиссей описывал во дворце Алкиноя, но и сами греки, рассматриваемые одновременно как творцы и как объекты науки.
Рис. 2. Историк и Время среди языческих символов и христианских сцен.
Фронтиспис книги Лафито (рис. 2) — это эмблематичная гравюра. Как он сам ее интерпретировал?[551] Писатель (видимо, женщина) сидит за письменным столом в античной одежде. Она занимается «сравнением нескольких древних памятников, пирамид, обелисков, пантеев (статуй, сочетающих атрибуты нескольких богов), медальонов, древних авторов с несколькими описаниями, картами, путешествиями и другими достопримечательностями Америки, среди которых она восседает» (в частности, на земле можно заметить, среди прочего, Артемиду Эфесскую, лежащую как поверженный идол). Два гения помогают ей в этом. Один из них держит в левой руке кадуцей Гермеса, а в правой — красную индейскую дудку. Другой держит ирокезскую «черепаху» и ромб или систр, украшавшие статуэтки эллинистического Востока. Выше, над Адамом и Евой, воскресший Христос и Дева Мария после Успения, окруженные ангелами[552], сами обрамляют алтарь, на котором находится сияющая жертва. Наконец, Время обращает писательницу назад «к источнику всего» и заставляет ее «как будто бы ощупывать связь между всеми этими памятниками и происхождением человека, между ними и основой нашей Религии». Я не знаю, считал ли Лафито Время, с его крыльями и косой, античным образом; теперь мы достоверно знаем, что это не так (Panofsky 1967: 69—93). «Старец-Время», восходящий к древнему Сатурну и средневековой Смерти, появился лишь в эпоху Возрождения: он современник Великих географических открытий. Иллюстратор книги подчеркнул скорее его мощь, а не разрушительный аспект (коса не действует). Монах-иезуит не видел противоречия между действием времени и сопоставлениями — как бы мы сказали сейчас, «диахронией» и «синхронией».
Сравнение обычаев индейцев и греков совершенно законно, потому что и индейцы, и греки происходят от Адама и Евы. Фигуры и символы иудео-христианского мифа придают единство этой сцене. Более того, Лафито предпринял свою собственную попытку придать историзм мифу, делая индейцев дальними родственниками как греков, так и их варварских соседей. (Здесь вновь его точка зрения отличается от взглядов де Акосты, который хотя и считал, что индейцы пришли в Америку из Старого Света, — он догадывался о существовании Берингова пролива, — но настаивал, что их предки вряд ли могли быть кем-либо кроме «дикарей и охотников, а не изысканным и цивилизованным обществом»;[553] «дикари и охотники» — характерна сама избыточность этого выражения.) Но Лафито не мог знать (и на самом деле не знал), что еще до его эпохи, и особенно после Великих географических открытий, обсуждалась возможность существования другого Адама, или нескольких других Адамов, иногда для того, чтобы оправдать порабощение индейцев, а иногда для того, чтобы, наоборот, утверждать, что они были свободны от первородного греха[554]. Тема смерти Бога, столь близкая творчеству Лафито, хотя и отрезает верх картины, оставляет все как есть. Поэтому имеем ли мы сейчас право сравнивать, то есть некоторым образом упразднить «Старца-Время»?
Эволюционная теория XIX в., по-своему структуралистская, впервые секуляризировала схему Лафито. В 1861 г. в Штуттгарте Иоганн Якоб Бахофен (Bachofen J. J.) опубликовал «Материнское право». В самом начале своего труда швейцарский ученый опирался на знаменитый пассаж Геродота (Геродот. I. 173): в Ликии люди получали имя не по отцу, а по матери — именно так, как и многие другие народы, поступали и ирокезы. Лафито знал этот текст; более того, он собрал все доступные свидетельства о том, что мы после него называем «матриархатом» и «матрилинейностью». «Гинекократия, власть женщин, — отмечал он, — была очень широко распространена» (там же. I. 71). Его первой реакцией на сопоставление ликийцев, ирокезов и гуронов было предположение, что американские индейцы происходят от ликийцев (там же. I. 64). Предполагаемая универсальная распространенность матриархата в древности заставила его колебаться, однако он не мог предложить никакого другого решения. Поэтому, в конце концов, он заключил, что «большая часть обитателей Америки происходит от тех варваров, которые жили в материковой Греции и на островах» (там же. I. 82—83) до прихода греков. Бахофен не нуждался в подобной гипотезе. Согласно его взглядам, все человечество прошло стадию матриархата, стадию теплых отношений с природой, которую воплощает материнская грудь и которая предшествует культурному разрыву, привнесенному патриархатом. Еще до Бахофена и, видимо, не зная о книге Лафито, Льюис Морган (Morgan L.)также сопоставил ликийцев с ирокезами, когда в 1877 г. для него пришло время опубликовать обобщающий труд «Древнее общество» (Morgan 1877). Бог, непрестанно упоминаемый Лафито, появляется лишь на последней странице труда Моргана, когда автор отдает должное этим «дикарям» и «варварам», чей терпеливый и тяжкий труд был «частью плана Высшего Разума, который привел к превращению дикарей в варваров, а затем — в цивилизованных людей». Присутствие Бога скромное, но, однако, на свой манер необходимое, поскольку параллелизм социальной эволюции объясняется, по крайней мере, частично, присутствием во всех людях если не следа первоначального Откровения, то хотя бы «ростков идей», которым переход от одной стадии общественной эволюции к другой позволяет расцвести (Morgan 1877: 4). Секуляризированная Энгельсом («Происхождение семьи, частной собственности и государства», опубликовано в 1884 г.), схема Моргана делает сопоставление как законным, так и ясным. Для того чтобы сравнить два общества, необходимо и достаточно определить их координаты на оси социального развития. Ирокезы находились на низшей стадии развития варварства, высшая стадия которого представлена гомеровской Грецией. Хорошо, но как быть тогда с теми бесчисленными институтами, о которых Лафито прекрасно знал, что они могут существовать в совершенно различных обществах? Должны ли мы, к примеру, отказаться от сопоставления воинских порядков средневекового Запада и гомеровского общества на том основании, что одно из них, по терминологии Маркса и Энгельса, принадлежит к «рабовладельческой» общественной формации, а другое относится к «феодальному» периоду? Даже если мы и принесем эту жертву, решение проблемы не сдвинется с места. Ибо мы должны сделать выбор: или мы допускаем, в частности, вместе с советской версией марксизма, что все человеческие общества прошли или пройдут через одни и те же стадии развития (что оказывается совершенно противоположным действительности)[555] , или мы, например, ограничиваем существование «феодализма» исключительно средневековой Западной Европой и Японией, что влечет за собой чрезмерные ограничения для сравнительного анализа — такие, которые исключат из области исследования целую серию изысканий, доказавших, однако, самим своим существованием недопустимость такой процедуры.
Хотя я и процитировал Льюиса Моргана, к сожалению, формировал взгляд антропологов на греческий мир не его труд, труд человека, который получил двойное воспитание — ирокезское и американское — и который, несмотря на это или, возможно, вследствие этого, настаивал на единстве рода человеческого. За шесть лет до «Древнего общества», в 1871 г., вышло в свет первое издание книги Эдварда Б. Тайлора (Edward В. Туlor) «Первобытная культура» (в 1876 г. была переведена на французский язык). Именно через Тайлора и его последователей, в том числе Эндрю Лэнга (1844—1912) и Дж. Г. Фрэзера (1854—1941), на изучение древней Греции решительно повлияли работы антропологов[556], после того как была развенчана «сравнительная мифология» Макса Мюллера (Müller M.)[557]. Конечно, между теориями Моргана и Тейлора существовало много точек соприкосновения, но по сути они были различными. Главное противопоставление, на котором основывался Тайлор, одновременно выражая большие сомнения по поводу существования добрых дикарей, состоит именно в оппозиции дикости и цивилизации — то есть, конечно, цивилизации империалистического Запада. Но сравнительный анализ оправдывается существованием пережитков (Тайлор был ярым популяризатором этого понятия): «Отберите те вещи, которые мало изменились за долгие столетия, и вы получите картину, в которой английский земледелец ни на волос не будет отличаться от негра Центральной Африки»[558]. Между низшими классами в западном мире и низшими расами остального мира существует фундаментальная общность, которой нет в высших классах; во времена Тайлора английскую королевскую фамилию еще невозможно было сравнивать с африканскими вождями. Более того, Тайлор пишет фразу, которая стоит у истоков многих теорий тотемизма: «Представление о радикальном различии психического состояния человека и животного, господствующее в цивилизованном мире, редко встречается у низших рас» (Tylor 1871/I: 469).
Каким было место греческого мира в перспективе XIX в., пропитанного эволюционизмом? Оно с полной ясностью было определено Эндрю Лэнгом, ключевой фигурой той эпохи. Он был одновременно журналистом, историком «большой» и «малой» истории и ведущим антропологом. Бесспорно, весь греческий мир со времени Гомера принадлежал к цивилизации. Разве там не было царских династий? Но, с другой стороны, не менее бесспорно, что греки осознавали то, что раньше были дикарями. Их ритуалы и мифы включают немало темных элементов, от человеческих жертвоприношений до каннибализма. Здесь понятие пережитка, как и эволюции, играет ключевую роль: греки были дикарями прежде, но больше ими не являлись; их мифы — пережитки прошлого[559], и мифология рассказывает, о том, что их предки делали. Таким образом, сравнительный анализ мог совмещаться с иерархичностью.
Обобщения романтической и позитивистской эпох к настоящему времени рухнули или измельчали до неузнаваемости. Давайте бросим взгляд на немного более поздний период, когда королями антропологии были Фрэзер, с одной стороны, и Малиновский (Malinowski) — с другой. Чем в то время историк мог обосновать свое право на сравнительные исследования? С одной стороны — Фрэзер, собиратель фактов, который, основываясь на материалах о греко-римском мире, а знал он его просто замечательно, неутомимо заполнял лакуны Павсания и Овидия, но никогда не объяснял при этом, что позволило ему сопоставить царя-жреца из Неми, которого убил его преемник, распятого на кресте Христа и царя-бога фараоновского Египта. С другой — Малиновский, который предпринимал беспрецедентные в то время усилия по объяснению того, как функционировало одно меланезийское общество, чрезмерно поспешно отождествленное со всеми дикарями[560]. Выбор, предоставлявшийся историку, справедливо мог показаться разрушительным. Тем не менее, во Франции и в других странах, со времени Саломона Рейнака (Reinach S.) вплоть до наших дней, из них двоих, несомненно, именно Фрэзер был гораздо более влиятельным. Основная концепция Малиновского — развитая его последователями, прежде всего Рэдклифф-Брауном (Radcliffe-Brown), — концепция «социальной функции», за редким исключением (среди которых — книга Мозеса Финли «Мир Одиссея»), практически не использовалась историками древности. Конечно, это понятие не было ясным и четким, и совершенно справедливо было отмечено, что термин «функция» имел для Малиновского два смысла. Первый «органистический» (соотносящийся с органом целого организма): институт — это элемент, имеющий определенную функцию, роль в социальном целом (обществе); второй, логистический и «символический»: институт имеет символическую функцию мифологии в формализации социальных отношений (Panoff 1972: 109). Однако здесь была возможность, которую никто не использовал. Об этом можно было бы сожалеть в то время, когда антропология вновь раскололась на много разных направлений. «Структурализм» — только одно из них, но такое, которое, несмотря на все влияние моды, привлекает многих историков наиболее сильно.
В какое положение мы теперь поставлены? Последние исследования отнюдь не облегчили историку выбор, а сделали его еще более болезненным. Теперь каждый историк знает, что то, что он изучает, собственно говоря, не уникально и не универсально — даже если универсализм «общечеловеческого мышления» пришел на смену эмпирическому универсализму Фрэзера. Каждый историк знает, что правда об истории одной бретонской деревни не может быть обнаружена просто в истории единственной бретонской деревни, а также, что все разнообразные метаистории, которые окружают его, — от более или менее осовремененного марксизма до психоанализа, от философии кривой цен до философии универсальной логики — никогда не освободят его от необходимости вернуться к нашей деревне.
Структурная антропология — одна из таких метаисторий, один из соблазнов историка, причем из самых провоцирующих и стимулирующих, поскольку, предпочитая синхронистическое диахронистическому, по образцу соссюровской лингвистики, она бросает наиболее полный вызов даже самой науке, которая полагает, что время есть категория, за пределы которой не следует смотреть, разве что лишь затем, чтобы для риторических и педагогических нужд нарисовать, по терминологии авторов диссертаций, «таблицу». Тем не менее этот вызов не освобождает от всего того, что было предложено предшествующими поколениями, но только дополняет их. Ибо недостаточно утверждать, и даже доказывать, как не без успеха пытается делать структурализм, что «человеческий дух» является универсальным логическим инструментом, позволяющим историку обрести утраченную уверенность, которую, как можно надеяться, он никогда не обретет вновь. Ведь «человеческий дух» сам по себе не является объектом истории, и, во всяком случае, этнологи, которые постулируют это и даже доказывают его универсальность, не утверждают, что он таковым является, если в самом деле целью их усилий является «реинтеграция культуры в природу и, в конечном счете, жизни во всю совокупность физико-химических условий» (Lévi-Strauss 1962а: 237). «Логика существования», которая также является логикой самих вещей[561], не открывает исторический смысл, который создает, а не создается, и который снова и снова творит собственные области применения, свои «сценарии» (Veyne 1971).
Но и наоборот, находить убежище в «будем любить то, что никогда не увидим дважды» во имя — не есть позиция, в которой может самоизолироваться историк, поскольку отдельный случай не может быть понят, если он не включен в некоторый ряд. Бретонская деревня находится в Бретани, Франции, Западной Европе; она также находится и в кельтском мире, и изучение ее фольклора может заставить нас изучить ирландский или валлийский фольклор, но совсем небесполезно может оказаться и обращение к фольклору Оверни или Прованса[562]. В любом случае историк обречен в каждую секунду определять контекст, и контекст контекста, и его определения — всегда предварительные: «греческая культура» — это контекст, но потенциально иллюзорный контекст, если греческий мир изолировать от фракийского или иллирийского, не говоря уже о средиземноморском. Историк вынужден оперировать одновременно пространственной и временной осями, и если он временно возьмет на вооружение «универсальные» категории — такие, как «сырое» или «вареное», — то только для того, чтобы привести их в движение.
По-своему Лафито понимал и предвидел эту дилемму: «Обычаи и нравы народов могут привести нас к лучшему знанию путем взаимного сопоставления этих нравов и обычаев. Однако некоторые из них являются всеобщими, установленными на основе первоначальных идей, которые отцы народов передавали своим детям и которые среди большинства сохранились почти без искажений, либо по меньшей мере без слишком сильных искажений, несмотря на их разделенность в пространстве и отсутствие связей. Таковы идеи, связанные с большинством обычаев коллективной жизни. Из них, несомненно, невозможно сделать никаких заключений. Делая подходящие сопоставления, я буду с чистой совестью рассказывать об обычаях любых народов, без претензий на какой-либо вывод, кроме того, что эти обычаи связаны с обычаями ранней древности. Поэтому я буду приводить только некоторые отличительные и характерные черты новооткрытых народов, в сопоставлении с теми древними народами, о которых историки донесли до нас определенные сведения. Можно рискнуть сделать некоторые предположения, сопоставив эти отличительные черты и сравнив их одни с другими» (Lafitau 1724/1: 44-45). Конечно, со времени иезуитского миссионера «общее», как и «отличительное», претерпело некоторые изменения. Однако достойно восхищения то, что такой текст мог бы быть эпиграфом к труду как Жоржа Дюмезиля, так и Клода Леви-Стросса.
Среди всех прочих человеческих институтов, взаимоотношения между которыми пытался установить Лафито, есть один, и ему этнографические исследования уделяли особое внимание. Речь идет об инициации, то есть, если воспроизвести современное определение, о «комплексе обрядов и устных учений, с помощью которых производится радикальное преобразование (модификация) религиозного и социального статуса человека или группы людей, подлежащих инициации. В философском смысле инициация является эквивалентом онтологического преобразования экзистенциального режима. Инициируемый приобретает в результате своего испытания совершенно другое бытие: он становится иным» (Eliade 1971: 222-223). Еще до Лафито были обнаружены и идентифицированы те обряды, которые и сейчас лучше всего известны и изучены, с их помощью молодой «дикарь» вступает в общество взрослых. Так, Роберт Беверли (Beverley R.), автор «Истории и современного состояния штата Виргиния» перечисляет ритуалы, которые проходили молодые индейцы: «Они должны были забыть само употребление их языков, как будто они не могут ни говорить, ни понимать что-либо из сказанного другими, до тех пор, пока они не научатся снова. Они начинают жить после того, как были в некотором смысле мертвыми... Таким образом они покидают прежнюю жизнь и превращаются в мужчин посредством того, что забывают, что когда-либо были мальчиками» (Beverley 1707: 39—41).
Но Лафито усовершенствовал эту первоначальную интерпретацию по двум направлениям. Он отнес к инициации не только допуск в общину, но и прием в малые группы (секретные общества), религиозные, шаманские инициации и т. п. С другой стороны, вполне в духе общей программы своего исследования, он сравнивал индейские инициации с подобными им античными — элевсинскими мистериями, спартанской и критской системами воспитания, и даже со средневековыми, поскольку рассматривал ритуал посвящения в рыцари как инициацию — еще одно дерзкое прозрение (Lafitau 1724/1: 201-256; Lafitau 1724/2: 283-288).
Только с выходом в свет книги Арнольда ван Геннепа «Обряды перехода» (Gennep 1909) в 1909 г. эти рамки еще более расширились и была предпринята первая попытка формализации: французский фольклорист продемонстрировал, что огромное число таких ритуалов можно разделить на три группы: ритуалы отделения, ритуалы исключения и ритуалы включения в коллектив.
Ясно, что такое преобразование предполагает, прежде всего, разграничение времени и пространства, свойственное для «обрядов перехода». Времени — в первую очередь. Его ритм — это не ритм введенного математиками континуума. «Равномерность времени не составляет неотъемлемую часть природы: это понятие, созданное человеком, которое мы проецируем на наше окружение для целей, которые нам свойственны»[563]. Время в ритуалах смены статуса тоже создано людьми: год разделен ритуалами, и ритуал сам по себе заставляет испытуемого перейти из обыденного в исключительное состояние, а затем опять в обыденное, но теперь уже восприняв его своим сознанием. Чтобы ритуал вписывался и в пространство, это пространство должно быть также разделено: на «человеческое» пространство социальной жизни и, наоборот, на «маргинальное» пространство, которое может быть символической сакральной территорией: «зарослями» (реальными или символическими), лесом, горами[564] — не важно, лишь бы оно воспринималось как иное. «Огонь» и «вода» в детской игре в «классики» представляют здесь прекрасный пример. Таким образом, время и пространство являются «бинарными», тогда как ритм ритуала, согласно определению ван Геннепа, является тернарным (трехчастным). Эдмунд Лич (Leach Ε.) определял три вида ролей, которые люди исполняют при ритуальном поведении: формализм, маскарад и инверсия ролей (Leach 1961: 135). К примеру, в контексте инициации молодого человека и введения его в жизнь воина эти три категории могли быть представлены военной униформой, переодеванием (бесчисленные вариации которого относились ко времени пребывания в маргинальном пространстве) и инверсией, которая на время превращала мужчину в женщину и которая заставляла его вести себя совершенно противоположным образом по сравнению с тем, как он должен был вести себя в «нормальной» жизни.
Можно было бы привести примеры такого ритма из жизни австралийских аборигенов, африканцев, американских индейцев, но пока мы остаемся на этом обобщенном уровне, мы не находимся в сфере «исторического», или «подлунного», если использовать термин Поля Вейна (Veyne Р.), заимствованный из аристотелизма.
Давайте посмотрим, во что превращаются эти понятия — а речь идет о понятиях — в конкретном историческом обществе: архаической и классической Греции.
Недавние раскопки швейцарских археологов на месте древнегреческого города Эретрия на Эвбее открыли — среди многих других находок — небольшой некрополь, окружающий гробницу правителя и царя. Некрополь датируется концом VIII или началом VII в. до н. э. — как раз периодом зарождения архаического полиса[565]. Раскопанные захоронения делятся на две группы: в западной мы находим только трупосожжения, в восточной — трупоположения. Речь не идет о смене моды, поскольку обе группы захоронений одновременны, причиной не может быть и конкуренция двух обычаев, как это было в других местах — например, на афинском Керамике в IX в. до н. э. Здесь мы столкнулись с сознательной и значимой оппозицией на символическом уровне: в земле хоронили останки детей, а кремировали взрослых. Оба пола представлены в обеих группах, и их противопоставление в группе кремированных проявляется в том, что в мужских погребениях находят оружие, а в женских - украшения. Автор раскопок Клод Берар констатировал: «В Эретрии трупоположение было распространено для детей до юношеского возраста, трупосожжение — для девушек брачного возраста и замужних женщин, а также для юношей и мужчин, способных носить оружие и принимать участие в сражениях»[566]. Стремясь определить возраст, с которого менялась погребальная практика, Берар предположил, что в Эретрии, и, возможно, в других местах, он составлял примерно шестнадцать лет[567]. Простое изложение археологических данных (но бывает ли когда-нибудь изложение совершенно «невинным»?) приводит нас к изучению ритуала перехода, который для греческих юношей и девушек драматизировал переход от природы к цивилизации, или, если угодно, от сырого к вареному, в самом прямом смысле. Этот ритуал сравнительно хорошо известен; как отмечает Клод Берар, в Афинах в архаический и классический периоды он определяется как прием во фратрию. Церемония инициации проводилась в третий день ионийского праздника Апатурий (праздник «тех, кто имеет одного отца» — то есть, по этнографической классификации, — братьев, день Koureotis, название которого происходит от стрижки (koura) овец и людей, и, который, возможно, имеет также коннотацию с молодым воином (kouros). В Афинах приношение в жертву koureion, которое знаменовало принятие эфеба во фратрию, устраивалось в возрасте шестнадцати лет[568].
Одна деталь, однако, напоминает нам, что мы не должны игнорировать «диахронный» аспект. Оппозиция между кремацией и захоронением человеческих останков, которая использовалась в Эретрии и в других местах для того, чтобы подчеркнуть оппозицию между детством и взрослым возрастом, не могла возникнуть раньше начала использования в Греции кремации для погребения, что произошло после исчезновения микенской цивилизации.
Тем не менее открытие Лафито параллелей между ритуалами инициации в Греции и такими же ритуалами в первобытных обществах стимулировало, особенно в двадцатом столетии, появление многочисленных работ, которые были недавно синтезированы итальянским историком Анджело Брелихом (Brelich 1969)[569]. Жан-Пьер Вернан, использовав, в первую очередь, свидетельства мифологической традиции и проанализировав различные религиозные праздники, подвел следующий итог этих исследований: «Если для мальчика значение обрядов перехода заключалось в доступе к состоянию воина, то для девочек, которые вместе с ними принимали участие в одних и тех же ритуалах и которые часто также в течение некоторого времени находились в изоляции, процессы инициации имели значение подготовки к браку. Здесь вновь важно отметить как взаимосвязь, так и полярную оппозицию между двумя типами институтов: войной и браком. Замужество для девочки играло ту же роль, что и война для мальчика: для каждого из них это отмечало осуществление собственной природы, появлявшейся из состояния, когда каждый из них разделял природу другого (противоположного пола)»[570]. Это объясняет, к примеру, тот факт, что афинские эфебы надевали «черную хламиду» — если не всегда, то, по крайней мере, по торжественному случаю участия в элевсинской процессии[571], прежде чем облачиться в гоплитские доспехи после произнесения клятвы[572]. Это также объясняет, почему очень часто в религиозных церемониях и мифах переход молодых людей из юности во взрослый возраст сопровождался переодеванием в женские одежды, а для девушек — мужским травестизмом[573]. Здесь конечно же нам необходимо вспомнить три термина Лича: формализм, маскарад и инверсия.
В частности, мужские ритуалы эфебии позволяют нам определить двухчастную структуру: с одной стороны — гоплит, который сражался при свете дня, в боевом строю, поддерживая своих товарищей, лицом к лицу с неприятелем, с соблюдением правил, на равнине; с другой стороны — эфеб (или спартанский крипт), который сражался ночью, в одиночку, используя уловки, несовместимые с гоплитской или гражданской системой ценностей, скитался на границах, — во всем и в каждой детали действуя совершенно противоположным образом по сравнению с тем, как должен действовать, когда будет интегрирован в полис[574]. Разве здесь мы не имеем дело, с одной стороны, с культурой, а с другой — с природой; дикостью (женским началом), с одной стороны, цивилизацией — с другой. Подобно многим другим греческим мыслителям Платон определял детство как период дикости в человеческой жизни (Платон. Тимей. 44а—b; Он же. Законы. II. 653d—е, 666а—с). Греки, сделавшие принцип полярности одним из краеугольных камней своего способа изображения мира[575], были в состоянии не хуже нас выразить оппозиции, которые структурировали их мир, в форме таблицы с двумя колонками. Так, пифагорейцы, согласно Аристотелю, «утверждают, что имеется десять начал, расположенных попарно:
предел - беспредельное
нечетное - четное
единое - множество
правое - левое
мужское - женское
покоящееся - движущееся
прямое - кривое
свет - тьма
хорошее - дурное
квадратное - продолговатое
(Аристотель. Метафизика. I. 5. 986а. 22—26, пер. под ред. В. Ф. Асмуса)Можно легко продолжить этот список, обратившись к различным аспектам греческой культуры: хозяин — раб, грек — варвар, гражданин — чужестранец, и даже, если угодно, Аполлон — Дионис. В этом древние мыслители также были предвестниками современного структурного анализа: вспомним, например, Аристотеля, который спрашивал себя, насколько совпадают пары взрослый — ребенок, мужчина — женщина, хозяин — раб, владелец мастерской — ремесленник, и в каких смыслах они не совпадают (Аристотель. Политика. I. 1259а. 37 сл.). И нуждаемся ли мы в напоминании о том, как ловко софисты, авторы трагедий и философы сопоставляли, противопоставляли и сравнивали фюсис (природу) и номос (закон, обычай)?
Эти и другие пары могут считаться канвой греческого дискурса, но структурный антрополог и историк не стали бы исследовать их одинаково. Например, если мы рассмотрим оппозицию между эфебами и гоплитами, между только что оперившимися и взрослыми воинами, то компаративист, опираясь на труды Жоржа Дюмезиля, отметит, что оппозиция между нагим (легковооруженным) воином, т. е. эфебом, воевавшим в одиночку, и воином, сражавшимся в рядах какой-то группы и полностью вооруженным, намного древнее, чем оппозиция эфеб — гоплит, поскольку гоплитская тактика появилась в Греции лишь в начале VII в. до н. э., а эта оппозиция прослеживается и в других частях индоевропейского мира. Оппозиция остается той же, а слова, которыми она описывается, — другие. Так, в индийском эпосе «тяжеловооруженный воин» — это лучник, а в Греции лук ассоциируется с дикостью[576]. Можно возразить, что индоевропейцы, или, по меньшей мере, их понятия, принадлежат истории, но тот же Дюмезиль, анализируя ритуал инициации воинов в Риме, использует не только индоиранские или ирландские источники, но и свидетельства о канадских краснокожих:
«Район Британской Колумбии и западного побережья Канады благодаря совпадению, объяснение которого от нас ускользает, лучше всего проясняет значение индоиранских легенд о трехглавом драконе» (Dumézil 1942: 128; выделение добавлено мной). Объяснение этому, если такое возможно, фатально неисторическое: ни один историк не может постулировать некое единство, которое включало бы одновременно краснокожих индейцев, индоиранцев и римлян, но, точнее, таким единством является не что иное, как человечество в целом или, лучше, «человеческий дух». С другой стороны, исследователь истории древней Греции интересуется той хорошо датированной реальностью, которая называется «гоплитом», и другой датированной реальностью — институтом, первое упоминание которого в надписях относится к 361/0 г. до н. э., и функционирование которого было объяснено Аристотелем примерно через тридцать пять лет после этого. Я имею в виду институт, получивший в Афинах название «эфебии», и его соответствия в остальном греческом мире.
Для истории древней Греции, с тех пор как о ней появились сведения, была характерна поразительная неравномерность развития, столь далеко зашедшая, что для афинянина V в. некоторые несомненно греческие племена представлялись «дикарями» (ср.: Фукидид. III. 94) почти так же, как бразильские индейцы — европейским конкистадорам XVI в. Следуя за Фукидидом, современные историки рассматривают оппозицию между Спартой и Афинами, между образцом консерватизма и отказа от исторического развития, с одной стороны, и полисом, который, напротив, выбирал для себя в V в. отождествление с самим процессом исторического развития, с другой, как один из важнейших фактов классической эпохи. Посмотрим, какую интерпретацию мужских и женских инициациий здесь можно предложить. Другими словами, как варьируются две пары: молодой — взрослый и девочка — мальчик (или: женщина — мужчина) ?
Описанная Аристотелем эфебия являлась военной службой граждан полиса[577]. В том виде, как ее описывает философ, двухлетний период военной службы никоим образом не являлся временем изоляции, подготавливавшей принятие в сообщество граждан: Аристотель указывал, что включение молодого человека в список дема предшествовало эфебии. Лишь одна деталь свидетельствовала о чем-то ином, нежели просто об исполнении воинского долга: «В течение этих двух лет гарнизонной службы они носят хламиду и освобождены от имущественных обязательств; они не могут быть привлечены к суду ни в качестве защитника, ни в качестве обвинителя, поэтому у них нет оправдания для отлучек. Единственными исключениями являются случаи, связанные с наследованием либо с девушкой-наследницей, или когда человек должен исполнять жреческие обязанности, наследственные для его семьи» (Аристотель. Афинская полития. 42. 5). Под хламидой понималась в данном случае не одежда для ритуального уединения, а нечто подобное военной униформе наших дней. Что касается запрета выступать в суде, Аристотель объяснял его чисто светскими терминами, и, конечно, очень важно, что он мог вполне естественным образом воспринимать вещи именно так. Вопрос о происхождении эфебии — другая проблема. Уже давно было отмечено, что «изоляция молодых людей в период, предшествующий их окончательному включению в социальную группу — факт, настолько хорошо засвидетельствованный в разных обществах, в том числе в Греции, и в Спарте, что и здесь естественно обнаруживать его след»[578]. Пусть так, но что следует подразумевать под словом «след»? Можно ли функцию института в обществе смешивать с его происхождением! Объясняется ли наш бакалавриат его средневековым происхождением? Конечно же нет, так же как комедия Аристофана не может объясняться сезонным ритуалом плодородия, как это делала кембриджская школа[579]. Конечно, в обществе существуют инерция и повторы, но оно не живет в прошлом. Прошлое влияет на настоящее только в той степени, в которой оно присутствует в ментальности, привычках и интерпретациях. Возвращаясь к эфебии, мы видим, что во время Аристотеля пребывание эфебов в пограничных крепостях воспринималось как обычная гарнизонная служба, а не как изоляция молодого человека, предшествовавшая его вступлению или возвращению в полис. Фукидид походя упоминает (Фукидид. IV. 67), что peripoloi (буквально: «те, кто ходят вокруг»), т. е. эфебы, приняли участие в ночной засаде около Нисеи в 423 г. вместе с новыми гражданами (которые были платейцами). Этот факт, конечно, подразумевает, что эфебы не были еще такими же гражданами, как другие, и что они ассоциировались с необычными методами ведения войны, но еще следовало бы доказать, что такая интерпретация была современной этим событиям. В любом случае, очевидно, что во время Аристотеля она уже не была таковой.
Анализ исторического процесса позволяет понять, что примерно произошло. Древнейшая эфебия существовала в рамках фратрии, архаического института, который хотя и мог быть реанимирован в V в., но чья роль существенно уменьшилась в пользу дема после клисфеновских реформ 508 г. до н. э. Эфебом в гражданском и военном значении становились в восемнадцать лет, а эфебом во фратрии — в шестнадцать. Именно внутри фратрии осуществлялись ритуалы перехода, которые отмечали вступление во взрослый возраст, и наиболее важным из них являлось принесение в жертву длинных волос[580]. Мифы, комедии, религиозные праздники, труды такого философа, как Платон, и даже, как я стремился показать, целая комедия Софокла «Филок-тет»[581] сохранили иное — «следы» ритуала инициации, в ходе которого молодой человек, коварный «черный» охотник, посылался в пограничную область до тех пор, пока он не совершит «подвиг», который символически требовался от молодых людей в архаических обществах. Ритуалы подобного типа были вполне реальны на Крите, где даже в эллинистический период в официальной лексике такого города, как Дрерос, проводилось различие между городом, сельской округой и пограничными укреплениями и где воспитательные институты противопоставляли «стада» (agelai) подростков товариществам (hetaireiai) взрослых, т. е. природу — культуре. Но в Афинах эти ритуалы существовали внутри глубоко рационализированной, если не сказать секуляризированной гражданской жизни. Можно сказать, что Брелих, которого трудно заподозрить в пренебрежении сопоставлениями с «архаическими» обществами, свое обсуждение афинской эфебии закончил словами: «элементы, связанные по происхождению с инициация-ми, которые здесь можно обнаружить, лишены первоначального функционального единства» (Brelich 1969: 227). Принцип «выслуги лет», конечно, сохранялся. В афинском народном собрании старики имели право выступать первыми. В ходе, пожалуй, наиболее драматических дебатов в истории афинского народного собрания по вопросу о том, стоит ли отправлять почти все военные силы города в Сицилийскую экспедицию (415 г.), Никий взывал к людям старшего поколения, чтобы они воспротивились безумным проектам Алкивиада и поддерживавшей его молодежи, пытаясь таким образом привести в действие традиционный механизм возрастных классов. Алкивиад же просил афинян не бояться его молодости: город состоит из молодых и из стариков, и только вместе они могут победить (Фукидид. VI. 13, 17, 18). Алкивиад одержал верх, кстати, к несчастью для афинян; тем не менее его речь подразумевала, что полис — это именно единство, включавшее и даже в значительной степени снимавшее оппозицию между возрастными классами.
«Старый» Никий считал полис, в котором «молодые» были бы у власти, в той или иной степени «миром наоборот». Комедиограф Аристофан, описывая в «Лисистрате» или в «Женщинах в народном собрании» утопию, в которой все перевернуто с ног на голову, передал афинским женщинам инструменты власти и принятия политических решений. В «Лисистрате» (411 г. до н. э.) хор женщин, желая обосновать гражданскую роль, которую себе присвоили жены афинян, решившиеся на сексуальную забастовку, если не будет заключен мир, используя лексику заседаний народного собрания, объявляет:
К вам теперь слова мои, Граждане афинские: В честь земли нам родной, Что в свободе и в веселье с детства воспитала нас. Семь годков было мне, В сумке шерсть я несла. В десять лет зерно молола для владычицы святой[582]. В платье алом, во Бравроне, я медведицей была. Дочь отцовская, Потом я шла с корзиной, Спелых смокв гроздь неся. (Аристофан. Лисистрата. Строки 660—670, пер. А. Пиотровского)На первый взгляд эта декларация выглядит как список многоступенчатых женских инициации, подобный системе, существовавшей в Спарте для мальчиков[583]. Однако же ничего подобного в действительности не существовало, и мы должны воспринимать эту речь как идеологическую: афинские женщины не были, собственного говоря, гражданками, и девушки не были будущими гражданками, которых полис должен был проводить через последовательные стадии воспитательных инициации. Афинский полис основывался на исключении женщин из общественной жизни, также, как в других отношениях, он основывался на исключении иностранцев и рабов. Единственная гражданская роль женщин состояла в том, чтобы рождать граждан; их статус определялся законом Перикла о гражданстве 451 г. Хор в «Лисистрате» рассуждает так, как будто бы афинянки в самом деле составляли полис. И стадии (инициации), на которые он ссылается, составляют псевдоцикл. Большинство из них не имеют ничего или имеют мало общего с ритуалами перехода: существовали только две аррефоры («хранительницы тайных знаков»), выбранные из девушек аристократического происхождения. Их главной обязанностью было ткать пеплос богини, и они играли ключевую роль в весьма тайном ритуале Аррефорий (или Арретофорий)[584]. Что касается «молотилыциц зерна», они готовили муку и хлеб для жертвоприношений при отправлении культа Афины; канефоры несли корзины во время торжественной Панафинейской процессии. Короче говоря, здесь упомянуты функции, которые молодые девушки исполняли на службе общины, и даже если некоторые черты ритуалов инициации, как, например, специальное одеяние и временная изоляция девушек-аррефор, здесь и прослеживаются, не нужно считать, что они затрагивают возрастные классы[585], хотя Аристофан представлял дело именно так, но с комическими целями, которые были плохо поняты. По случаю каждого праздника именно полис возобновлял свой контракт с божеством, а вовсе не афинянки преодолевали новый жизненный этап.
Случай маленьких «медведиц» святилища Артемиды Бравронской — совсем иной и гораздо сложнее. Само имя животного, которое изображали девушки, имя Артемиды, богини дикой природы, указания схолиастов об этом культе и других святилищах Артемиды в Аттике, как и археологические свидетельства, восходящие к первой половине V в. до н. э.[586], не оставляют никаких сомнений относительно характера ритуала: он включал в себя уединение, которое предшествовало и, что весьма существенно, обусловливало вступление в брак. Схолиаст Гарпократион, к примеру, сообщает нам, что девушки должны были перед свадьбой «становиться медведицами для Артемиды Мунихийской или Артемиды Бравронской». Этиологические легенды объясняют эту обязанность, ссылаясь на древнее убийство медведицы некими юношами, возмещением которого было сначала человеческое жертвоприношение, а затем — заменяющий ритуал, разыгрываемый девушками-«медведицами»[587]. Каковы бы ни были варианты, этот миф легко интерпретировать: в обмен на само развитие культуры, предполагающее убийство диких животных, — прогресс, за который человек несет ответственность, — девушки должны были перед браком и даже перед достижением половой зрелости пройти период ритуальной «дикости». Исследования керамики из Браврона показывают, что ритуалы в честь богини включали в себя (последовательно?) наготу и ношение специальной одежды («крокус» — желто-шафрановое одеяние) — возможно, как средство драматизации перехода от дикости к цивилизации. Однако очевидно, что только немногие афинские девушки могли изображать «медведиц»: размер святилища не оставляет никаких сомнений по этому поводу. Тот же схолий к Аристофану, который является наиболее точным нашим источником, сообщает о том, что «медведицами» были «избранные», и о том, что в момент возникновения ритуала богиня запретила афинским девушкам соединяться с мужчиной, пока они не послужат у нее «медведицей»[588]. Поэтому мы должны допустить, что даже если маленькие «медведицы» представляли сообщество афинских женщин в том смысле, как Совет представлял весь полис, они составляли элиту, «избранных», и инициацию проходили лишь они. Более того, подобное явление хорошо известно этнологам: это — «секретное общество», маленькая группа, которая исполняла определенную функцию для общего блага и для вхождения в которую был предусмотрен особый уровень инициации.
Если вспомнить фразу, которую мы повторили за Вернаном («брак для девочки — то же, что война для мальчика»), то эта формулировка может применяться к самым разным обществам. Мы теперь можем наблюдать то, что произошло в Афинах. Что касается мальчиков, эфебия как ритуал вхождения в отрочество отделилась от эфебии как обязательной для всех военной службы: на этом уровне уже не было групп, привилегированных по рождению, богатству или принадлежности к какому-либо жреческому роду. Более того, соображения семейного порядка — получение наследства, спасение ойкоса от превращения в выморочное имущество путем женитьбы на наследнице-эпиклере — могли послужить основанием для приостановления этой обязанности. В зависимости от своего благосостояния молодой афинский гражданин мог в дальнейшем служить гребцом на флоте, всадником или гоплитом, но в каждом из этих случаев он должен был предварительно послужить в качестве эфеба и принести клятву, основанную на гоплитской этике: «Я не покину товарища, который стоит рядом со мной в боевом строю». Собственно ритуалы инициации в определенной степени отделились от процедуры гражданской инициации. Очевидно, что ничего похожего не существовало для девушек. Конечно, замужество включало известные ритуалы перехода (перенесение невесты женихом через порог дома) и давало право принимать участие в специфически женских гражданских церемониях, какими были Фесмофории[589] — единственное собрание, которое собирало женщин вместе именно в качестве гражданок Афин для единственного вида политической активности (если его можно так обозначить), дозволенной им. Но инициация в собственном смысле, если когда-то и охватывала всех девушек, эволюционировала в направлении, противоположном соответствующим мужским институтам: она охватывала только незначительную группу посвящаемых, которые представляли полис только посредством метонимии.
Образ Спарты, донесенный до нас древними авторами, особенно афинского происхождения, — это образ общества, отрицавшего исторические перемены и утвердившего свою неизменность в рамках «конституции Ликурга» (Tigerstedt 1965; Rawson 1969). Те современные исследователи, которые не капитулировали перед «спартанским миражом», стремились «нормализовать» спартанское исключение, которое Арнольд Тойнби (Toynbee А.) сделал одной из своих «цивилизаций». «Нормализация» — это то, что делает, например, Жанмэр в своих «Куросах и куретах» (Jeanmaire 1939), где он «под маской Ликурга» открывает общество, сопоставимое с африканскими, или Мозес Финли, когда показывает, что три «кита», на которых держалось классическое спартанское общество, — аграрная инфраструктура с иерархией гомойой (равных), периэков (свободных не-спартиатов) и илотов; правительственная и военная система; цепь, состоявшая из обрядов инициации, воспитания (агоге), возрастных классов, коллективных трапез и т. д. — не сразу создалась вся целиком, и что «революция шестого века», которая придала Спарте классического периода ее характерные черты, была сложным процессом внедрения новых черт, трансформации и возрождения явлений и институтов, которые, на первый взгляд, кажутся переданными, неизменными и пришедшими из глубины веков (Tigerstedt 1965; Rawson 1969).
Утверждение, справедливое по отношению к афинскому эфебу на уровне мифа, справедливо по отношению к спартанскому крипту на уровне практики: крипт в любом отношении представляется как анти-гоплит. Участниками криптии были молодые люди, «нагие» (то есть без тяжелого вооружения), которые покинули «город» для тайных скитаний в уединении, ушли в горы и сельскую местность, спрятались, питались подножным кормом и убивали под покровом ночи илотов, которым эфоры каждый год объявляли войну, чтобы подчеркнуть, что эти убийства не влекли за собой ритуальной скверны. Согласно схолиасту к «Законам» Платона (Платон. Законы. 633b), период изоляции юношей длился целый год, хотя сам Платон утверждал, что он приходился на зиму. Достаточно «перевернуть» этот текст, чтобы обнаружить правила, которые руководили образом жизни, социальным и моральным поведением гоплитов, добродетели которых в Спарте уважались более, чем в любом другом месте: совместная жизнь и трапезы, открытая битва в теплое время года днем на равнине, основанная на противостоянии фаланг лицом к лицу. И вновь, точно так же, как лишь незначительная часть афинских девушек играла роль «медведиц», только незначительная часть спартиатов следовала тому образу жизни, который Жанмэр сравнивал с «ликантропией» (охотой на людей), известной, в частности, в Африке (Jeanmaire 1939: 540—569). Плутарх уточнял, что именно «самые ловкие» — tous malista noun echein dokountas (Плутарх. Ликург. 28. 2) — молодые спартиаты специально отбирались для этого ритуала перехода, и, вполне вероятно, что именно крипты, когда они становились взрослыми и полноправными воинами, составляли отборное формирование из трехсот всадников (в действительности, пехотинцев), которое выполняло, помимо всего прочего, и полицейские функции (Jeanmaire 1939: 542—545). В самом деле, невозможно отделить криптию от той реальной роли, которую она играла в спартанском обществе, роли, которую она должна была выполнять главным образом с VIII в. до н. э., времени завоевания Мессении: поддерживать всеми возможными способами репрессивный режим, подавлять постоянные восстания порабощенного населения Мессении и самой Лаконии. Крипт, как и эфеб афинского мифа, — это коварный охотник; но он охотился на илотов[590]. Временная «дикость» криптов — в высшей степени социализированная или даже политизированная дикость; ее непосредственное предназначение — поддержание политического и социального порядка.
На первый взгляд, система воспитания (агоге), которая была непременным условием для вступления спартиата в число полноправных граждан, кажется системой обрядов инициации весьма «древнего» типа, которые функционировали в полном объеме в классический период и даже после него. Действительно, Спарта — это единственный греческий полис, в котором нам, по крайней мере, известны названия различных возрастных классов, соответствовавших детству, юности и отрочеству[591]. Римский историк писал: «Подростков Ликург велел водить не на форум, а в поле, чтобы они свою юность проводили бы не в неге, а в работе и трудах. Он постановил, чтобы подростки, ложась спать, ничего под себя не подстилали, обходились без мясного приварка и возвращались в город не раньше, чем станут мужами» (Юстин. III. 3. 6—7, пер. А. А. Донского и М. И. Рижского). «Заросли» против города, детство против взрослости — эти оппозиции кажутся очевидными. Но если посмотреть внимательнее, ясности станет меньше. Прежде всего, одна удивительная деталь, на которую обычно не обращают внимания: очень трудно, даже невозможно определить точный момент, с которого молодой спартиат становился взрослым[592]. Конечно, нам известно о том, что в возрасте двадцати или двадцати одного года спартиат-ирен (т. е. эфеб) превращается в сферея («игрока в мяч») (Павсаний. III. 14. 6). Но этот переход, как кажется, не был отмечен специально, ничего в Спарте не напоминало клятву афинских эфебов, становившихся гоплитами, хотя подобная клятва и существовала в других обществах, по многим параметрам более близких к Спарте, чем к Афинам, — например, на Крите. Свидетельство Ксенофонта, которое иногда использовалось для доказательства существования этого обряда (Brelich 1969: 125), в действительности не говорит ничего подобного: «Как знак уважения к тем, кто прошел через юношеский возраст и отныне готов выполнять даже самую высокую общественную обязанность, другие греческие полисы не настаивают на том, что они обязаны поддерживать свои физические кондиции, но тем не менее накладывают на них обязательство выступать в военный поход; Ликург же, с другой стороны, постановил, что для мужчин этого возраста охота — наилучшее занятие, поскольку она не мешает другим общественным обязанностям и потому, что мужчины смогут выдерживать тяжесть военных походов не хуже, чем те, которые находятся в расцвете юности» (Ксенофонт. Лакедемонская полития. 4. 7). Трудно сказать, был ли период взрослого возраста в Спарте продленным детством, детство было скорее ранней подготовкой к взрослой жизни — жизни воина. В любом случае, в противоположность тому, что можно наблюдать в других местах, например на Крите, брак в Спарте никоим образом не завершал период отрочества: в течение нескольких лет после брака муж продолжал жить в казарме и встречался с женой только тайно (Ксенофонт. Лакедемонская полития. 1. 5; Плутарх. Ликург. 15). Более того, в то время как в других греческих полисах принесение в жертву длинных волос отмечало окончание отрочества, в Спарте длинные волосы обычно носили и взрослые мужчины (Геродот. I. 82; Плутарх. Ликург. 1). Приношение волос — это ритуал изменения статуса, потому что он включал понятия «до» и «после»; иначе дело обстоит с сохранением длинных волос, поскольку оно не может быть отмечено какой-нибудь церемонией. Конечно, исследователи пытались найти в череде испытаний, которым подвергались молодые спартиаты (самое известное — кража сыра, осуществляемая под ударами у алтаря Артемиды Орфии), остатки древних инициаций и обряда фиктивной смерти, однако ни одно из этих испытаний не играло решающей роли для перехода в статус взрослого мужчины[593].
Напротив, внимательное чтение текстов, которые описывают спартанскую систему воспитания (агоге), — «Лакедемонской политии» Ксенофонта и плутарховой биографии Ликурга — открывает один поразительный факт: детство в Спарте имело две коннотации — «дикости» и гоплитской культуры, поскольку мальчик одновременно и звереныш, и «пред-гоплит». Это показывает, до какой степени собственно военные институты «переварили» спартанскую систему воспитания. Очень характерна лексика, в той мере, в какой мы имеем к ней прямой доступ. Для обозначения группы молодых людей древние используют два слова: агела (стадо) и слово ила, которое обозначает, скорее, отряд солдат[594]. Описание Ксенофонта особенно показательно: дети одновременно как участники криптий приучались к хитрости, воровству и ночной активности, но также смешивались со взрослыми на сисситиях, совместных трапезах (Ксенофонт. Лакедемонская полития. 2. 5—8; Плутарх. Ликург. 12). Один ритуал требует специального внимания: время от времени два батальона (moirai = moral, термин, использовавшийся в спартанском войске) «эфебов» встречались у Платаниста (леса платанов) в Спарте. Битва была одновременно гоплитской и «дикой», поскольку сражавшимся было разрешено прибегать к некоторым приемам, обычно запрещенным (например, кусаться). Этому предшествовало принесение в жертву Эниалию, божеству дикой схватки, двух собак, наиболее одомашненных животных, или, точнее, двух щенков (Плутарх. Моралии. 290d). Перед этим также устраивали бой между двумя кабанами — животными, в высшей степени дикими, но в данном случае et hades, т. е. прирученными. Победа кабана, принадлежавшего одной из групп, обычно обеспечивала победу и этой группе молодежи[595]. Все это выглядит так, как будто бы «дикость» и «культура» предстают здесь не антагонистами, чья противоположность должна быть подчеркнута, а двумя противоположными принципами, которые следовало бы, насколько возможно, совместить[596]. Подчеркивание этой оппозиции закреплено за одними лишь криптами.
Уже Лафито отметил, что статус спартанских женщин сильно отличался от статуса женщин в других греческих полисах, и он даже использует в этой связи слово «гинекократия» (Lafitau 1724: 73). В целом можно утверждать, что в наиболее архаичных и «архаизирующих» греческих государствах оппозиция между полами была выражена менее сильно, чем в демократических, например, в Афинах. Там власть женщин относилась к области комедии или утопии; в Спарте, Локриде или в других архаичных обществах она была включена в историко-легендарную традицию, связанную к тому же с захватом власти рабами (см. ниже: «Рабство и гинекократия в традиции, мифе и утопии»). Как обстояло дело в частном случае Спарты с тем, что нам известно о «женских инициациях»?[597] Конечно, спартанская женщина переживала при вступлении в брак обряд инверсии, сравнимый с подобными ритуалами в других частях греческого мира. Девушку «принимала так называемая "подружка" (nympheutria), коротко стригла ей волосы и, нарядив в мужской плащ, обув на ноги сандалии, укладывала одну на подстилку из листьев в темной комнате» (Плутарх. О доблестях женщин. Моралии. 245 сл.; Он же. Ликург. 15, пер. С. П. Маркиша). Но в целом, то, что мы знаем о детстве и отрочестве девушек, дает меньше оснований говорить о приготовлении к браку, очерченном ритуалами, чем о некоей имитации институтов и обрядов для юношей. Спартанская женщина, конечно, не готовила себя к войне, подобно гражданкам платоновского «Государства» и «Законов», единственной ее функцией было — производить здоровое потомство. Спартанская семья едва ли являлась полисным институтом; напротив, государство стремилось свести семейную жизнь к необходимому минимуму.
В любом случае, впечатление от чтения немногих находящихся в нашем распоряжении древних текстов, говорит, скорее, не о параллелизме в воспитании девочек и мальчиков[598], а о прямом копировании: у девочек, также как и у мальчиков, существовали «стада» (agelai) (Пиндар. Fr. 112 Snell), нагота при исполнении некоторых церемоний была обязательной как для девочек, так и для мальчиков (Плутарх. Ликург. 14—15), физические упражнения и состязания были общими для обоих полов (Ксенофонт. Лакедемонская полития. I. 4), и это перечисление можно было бы продолжить. Естественно, копирование не было полным: девочки и девушки не были организованы по возрастным классам, роль девочек в исполнении многих культов отличалась от роли мальчиков, только мальчиков подвергали испытаниям для проверки их мужества (таких, как на алтаре Артемиды Орфии), да и криптии были чисто мужским институтом, как и все собственно политические институты древней Спарты. Девушка-спартанка была в подлинном смысле неудавшимся (manque) мальчиком.
Теперь, возможно, становится ясным, куда нас привело сопоставление Афин и Спарты, — это игра, которой вслед за столь многими мы дали себя увлечь. В каждом греческом полисе слова, лежащие в основе языка инициации, видимо, одни и те же, и достаточно легко обнаружить в нем те пары оппозиций, которые современная антропология приучает нас отыскивать. Но их соединение в фразы совершенно различно — настолько, что так и хочется признать, что противоположность между Афинами и Спартой на уровне практики почти столь же резка, как в речах из «Истории» Фукидида. Тем не менее эта противоположность, очевидно, является следствием исторического развития, которое усиливало различия вместо того, чтобы уменьшать их. Без сомнения, греческое общество является «историческим». Как известно, можно противопоставить «холодные и горячие общества; первые стремятся, посредством установленных ими самими институтов, почти автоматически уничтожить возможное влияние исторических факторов на свое равновесие; вторые решительно вводят исторический процесс в свою внутреннюю жизнь и делают этот процесс движущим фактором своего развития» (Lévi-Strauss 1962а: 309—310). Однако Спарта являлась типичным примером общества, которое отказывалось «допустить» историю в свою внутреннюю жизнь, и, по сравнению с другими греческими полисами, она была продуктом сложной исторической эволюции. В таком случае встает вопрос, не должны ли мы, заимствовав у этнологов те методы исследования, которые они сами заимствовали у структурной лингвистики, в свою очередь потребовать от них той же степени холизма, которую они совершенно справедливо требуют от нас, т. е. придания оси диахронизма того же значения, что и синхронистической таблице?[599] До тех пор, пока мы не выдвинем это требование, какое значение может иметь система знаков, в которую мы заключаем исследуемые общества — не говоря, конечно, об их значении для науки, которое является транс-историческим и даже транс-этнологическим — кроме того, что это: остаток или след, оставленный каждым из этих обществ по пути в форме текстов, объектов искусства или архитектурных остатков? Эдгар Морин (Morin Ε.) прекрасно говорит о том странном мире, который составляют туристические путеводители: «Это нечто вроде обширного Луна-парка — музея. Страна лишена своей социологии и истории, в пользу своей этнологии, археологии, фольклора и своих курьезов» (Morin 1965: 223). Восхитительная работа древних и современных этнологов бесконечно расширила поле деятельности историков, но разве этнология без истории была бы чем-нибудь другим, как не туризмом повышенного класса?
III. Женщины, рабы и ремесленники
1. Существовал ли класс рабов в древней Греции?[600]
Существовал ли в древнегреческом обществе класс рабов? Вопрос этот не столь прост, как может показаться, и требует от сформулировавшего его специалиста по истории древней Греции некоторых пояснений.
Современные представления о классе как социальном феномене связаны, на мой взгляд, с тремя основными положениями, которые я приведу здесь не обязательно в строгом порядке.
1. Класс — группа людей, занимающая четко определенное место в социальной иерархии. Обычно, мы именно это имеем в виду, когда говорим о «крупной» или «мелкой буржуазии», о так называемом «среднем классе» или о «низших слоях». Известно, как тщательно и тонко англосаксонские авторы разрабатывают и используют данные понятия. По-видимому, не случайно именно английскому историку Дж. Хиллу принадлежит книга «Римский средний класс» (Hill 1952), посвященная римским всадникам, которые, как показал в своей диссертации К. Николе (Nicolet 1966—1974), вплоть до эпохи Августа были не классом, а сословием.
2. Общественному классу принадлежит строго определенное место в отношениях производства. Отметим принципиальный вклад марксизма в разработку этой проблемы и этим ограничимся.
3. У класса предполагается наличие общих интересов и способов самовыражения, а также единство и согласованность действий в политическом и социальном процессах. Этим теоретическим положением мы тоже обязаны Марксу — достаточно вспомнить знаменитый отрывок из его работы «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», посвященный французским парцеллярным крестьянам, «составляющим громадную массу, члены которой живут в одинаковых условиях, не вступая, однако, в разнообразные отношения друг к другу». Маркс, используя две стороны понятия «класс», приходит к следующему выводу: «Поскольку миллионы семей живут в экономических условиях, отличающих и враждебно противопоставляющих их образ жизни, интересы и образование образу жизни, интересам и образованию других классов, — они образуют класс. Поскольку между парцеллярными крестьянами существует лишь местная связь, поскольку тождество их интересов не создает между ними никакой общности, никакой национальной связи, никакой политической организации, — они не образуют класса»[601].
Кажется, было бы просто взять эти три понятия — статус, производственные отношения и самосознание — и рассмотреть их применительно к рабам в классической Греции. Но прежде чем приступить к этой нехитрой процедуре, сделаем одно отступление, которое, возможно, лишит ее всякого смысла. Мой первый тезис следующий: мы привыкли рассматривать античное общество как общество господ и рабов — именно так говорил о нем Маркс во введении к «Манифесту Коммунистической партии». Однако следует помнить, что, во-первых, так было не всегда, во-вторых, даже в классическую эпоху в Греции сосуществовали два типа общества, из которых, строго говоря, лишь один можно рассматривать как «рабовладельческий».
По-гречески «раб» — doulos, данный термин появляется уже в микенских табличках (в форме doero), но его присутствие там вовсе не означает, что микенское общество действительно знало четкое и последовательное деление на свободных и рабов. Термин doero имеет несколько значений. Различают просто doero и doero богов, иногда проводятся еще более тонкие различия: например, об одной женщине сказано, что ее отец — doero, а мать — из сословия горшечников. Картина столь запутанная, что советский историк Я. А. Ленцман, убежденный сторонник идеи о «рабовладельческом» характере общества микенской Греции, которое, следовательно, должно было состоять из двух полярных групп — свободных и рабов, писал относительно doero, что, если бы не собственно сам термин, у нас бы не было серьезных причин рассматривать doero как раба (Ленцман 1963: 181). Помня об этом, пойдем дальше.
В так называемом (не скажу, что удачно) «гомеровском обществе», или, если быть более точным, в обществе, которое изображено в поэмах Гомера, естественно, были рабы: захваченные женщины, военнопленные, рабы, приобретенные в результате примитивного обмена. Однако они были не единственными, кто занимал нижнюю ступень социальной лестницы, и их положение нельзя считать наихудшим. Неоднократно отмечалось (лучше всех это показал М. Финли)[602], что самым несчастным был не раб, а земледелец, зарабатывавший исключительно своим трудом, не имевший прочных связей с крупным ой косом, работник-фет. В гомеровском обществе, как и в обществе микенском, мы наблюдаем наличие промежуточных ступеней между свободой и рабством.
Теперь пропустим несколько столетий и обратимся к классической эпохе. Здесь мы имеем две модели, которые противостояли друг другу как в теории, так и на практике, — афинскую и спартанскую. Конечно, такое разделение очень условное и грубое, поскольку ряд признаков не позволяет относить Спарту к чисто олигархическим государствам, и, тем не менее, можно с уверенностью говорить: то, что справедливо в отношении Спарты, в конечном счете, справедливо в отношении Фессалии и Крита.
С Афинами все ясно и понятно еще со школы — там были граждане, метеки и рабы; внутри каждой из этих групп наблюдались имущественные и, добавил бы я, возрастные (афинская «конституция» противопоставляет «молодых» и «стариков») антагонизмы, а также различия, обусловленные местом жительства (город и деревня).
Совершенно очевидно, что среди рабов отсутствовало равенство. Совсем не одно и то же быть стражником, городским слугой, рудокопом, держать лавку или трудиться в поле. Но и юридически, с точки зрения личного статуса, эти различия, по крайней мере, в V в. до н. э. были несущественными. Лучшее подтверждение тому — в процедуре, через которую прошел не один афинянин. Представим: некий человек заявляет, что он — гражданин, но его статус оспаривается. Вначале он предстает перед судом на собрании своего дема. Если здесь его права гражданина не подтвердятся, он будет понижен до положения метека, которое еще гарантирует личную свободу. Однако истец может не согласиться с таким решением и, воспользовавшись правом апелляции (ephesis), обратиться к гелиэе — суду народного собрания. Если он и здесь проиграет свое дело, то будет продан в рабство. Напротив, освобожденный раб, прежде чем получить статус гражданина, довольствуется статусом метека. Одним словом, механизм подобных процедур был предельно четким и ясным; одновременно он свидетельствует о том, что три категории афинского общества — граждане, пришлые и рабы, эти абсолютные чужаки, или «аутсайдеры», как называет их М. Финли, — вовсе не абстракция.
Вряд ли необходимо доказывать, что ни одна из этих трех категорий не удовлетворяет ни одному из трех вышеперечисленных признаков понятия «класс». Это положение остается в силе, даже если мы примем вслед за К. Моссе утверждение о том, что в Греции в IV в. сформировалась прослойка богатых людей, в которую входили как граждане, так и натурализованные чужеземцы, включая бывших рабов (Mossé 1967: 27-28).
Школьные учебники также говорят о трех группах общества Спарты — «равных» (homoioi), периэках и илотах, но спартанское деление не имеет ничего общего с афинским. Илот и homoios — два полюса, но из этого вовсе не следует, что «равные» были абсолютно свободными, а илоты — абсолютными рабами. Оставим в стороне периэков, о которых почти ничего не известно, за исключением того, что они являлись гражданами полисов, присоединенных к Лакедемонскому государству. Несмотря на свое название, homoioi даже в V в. до н. э. не были однородным социальным коллективом. Внутри него существовало несколько специализированных групп, таких как: cryptes — молодые люди, отправлявшиеся в поисках приключений на периферию[603], триста hippeis (всадников) под предводительством hippagretai (вопреки титулу, спартанские «всадники» выступали в поход пешими), agathoergoi — их, согласно Геродоту (Геродот. I. 67), ежегодно выбирали по пять человек из «всадников» для выполнения различных секретных поручений. Каждый молодой спартиат, пройдя школу воспитания (agoge), мог стать «равным», но не каждый им становился. В V в. до н. э. наблюдалось увеличение количества промежуточных социальных групп, отдельные из которых, возможно, появились в более раннее время. Это касается, например, hypomeiones, спартиатов, не имевших клеров — наследственных наделов земли, или тех, кто, не выдержав военных испытаний, попал в число так называемых tresantes — «дезертиров, трусов»[604]. Не было единообразия и среди илотов. Илот мог быть «мотоном» (mоthon, mothax) — так античные источники называют воспитанного в хозяйском доме раба или илота, выросшего в кругу спартиатов и вместе с ними прошедшего школу подготовки «равных». Отпущенный на волю илот становился неодамодом, новым членом дамоса, правда, не входя при этом в коллектив «равных». Одним словом, спартанский общественный строй характеризовался целым набором промежуточных социальных статусов, которые не позволяют проводить четкую границу между свободными и рабами, и при внимательном рассмотрении напрашивается вывод о том, что в Спарте даже «равные» не были свободными в «афинском» смысле этого слова. С теми или иными модификациями данная картина подходила к другим аграрным общинам, в первую очередь, к критскому обществу. Здесь мы вновь сталкиваемся с удивительным множеством понятий, обозначающих как зависимые категории населения, так и «полноправных» граждан. Таким образом, нас не должен вводить в заблуждение тот факт, что в V в. до н. э. одним и тем же термином douleia называли афинских рабов и спартанских илотов (ср.: Фукидид. V. 23).
Рассмотрим теперь эти социальные группы в динамике. Какую роль играли рабы в исключительно острых, особенно в IV в. до н. э., социальных конфликтах, которые расшатывали и Афины, и Спарту? Самое оригинальное описание социальной борьбы в классической Греции дано у Платона в VII, VIII и начале IX книг «Государства». Будучи «поклонником» Спарты, Платон, тем не менее, опирается, по преимуществу, на сведения из истории Афин и Сицилии. На Сицилии он познакомился с опытом военной тирании, а для описания последовательного перехода своего идеального государства к тимократии, олигархии, демократии и тирании философ заимствовал материал в одной из переработанных им версий греческой истории V—IV вв. до н. э. Какая роль во всех этих событиях отводится рабам? Ничтожная, если не сказать — никакой. Как Платон ведет себя в решительный, на наш взгляд, момент, когда требуется объяснить установление демократии? Он обращается к военной тематике. Философ говорит о полной неспособности олигархов вести войну: вооружив народ, они будут вынуждены бояться его больше, чем врага, в противном случае во время сражения им придется убедиться в том, что они на самом деле oligoi, т. е. малочисленны. В «Государстве» есть потрясающий отрывок (Платон. Государство. VIII. 556d), повествующий об участии в бою — бок о бок - бледного, рыхлого богача и загорелого, поджарого бедняка, который думает про себя: «Вот люди, обязанные своим богатством лишь малодушию других». Демократия, по словам Платона, возникает, «когда бедные, победив своих врагов, истребляют одних, изгоняют других, а с оставшимися делят поровну власть и должности». О рабах здесь не говорится ни слова. Свои рассуждения о рабстве Платон переводит в метафорическую плоскость. Говоря о трех составных человеческой личности — уме, храбрости и низменном желании, он поясняет, что в демократическом обществе первые два — рабы последнего. Демос же, по мнению философа, состоит из земледельцев (земельных собственников — autourgoi), бездельников (apragmones) и зажиточных людей; как видим, и в этой схеме нет места рабам. Они появляются позже — с приходом тирании. На этом этапе, считает Платон, тиран отбирает рабов у господ и дарует рабам свободу, уравнивая их с гражданами, чей статус в итоге понижается до рабского уровня (Платон. Государство. VIII. 569а—с). В действительности речь идет о редко практиковавшемся политическом приеме, ставшем темой одного недавнего исследования[605].
Описание Платона целиком подтверждается фактами из истории Афин, за исключением, быть может, эпохи зарождения демократии в VI в. до н. э., когда пропасть между свободными и рабами не была столь глубокой, как с конца VI в. до н. э. Выдвигали ли рабы коллективные требования — иными словами, являлись ли они классом исходя из третьего признака понятия «класс»? Нет, даже в самые острые моменты, такие как, например, во время бегства двадцати тысяч рабов (в основном ремесленников, cheirotechnai, тех, кто «работает руками», и рудокопов), воспользовавшихся спартанской оккупацией Декелеи (Фукидид. VII. 27), они ничего не требовали — ни допуска к управлению Афинами, ни прав гражданства. Те из них, кто был эллином, разумеется, добивались своих исконных гражданских прав, и все, что вполне естественно, требовали личной свободы, но никто не стремился стать стратегом или архонтом. Правда, в IV в. до н. э. отдельные рабы иногда выступали с подобными притязаниями, но мы не можем рассматривать это как коллективные требования группы рабов.
Значит ли это, что рабы не играли существенной роли? По сути, именно благодаря рабу статус гражданина кажется четким и легко определимым. Классический пример — Хиос, полис, где, начиная с VI в. до н. э., впервые в греческой истории появились демократические институты и где в то же время, как свидетельствует Феопомп, стали впервые покупать чужеземных рабов (FGrH 115 F 122). Действительно, прав М. Финли, которому принадлежит крылатая фраза: «Одна из важнейших черт греческой истории — совместная, плечо к плечу, поступь свободы и рабства» (Finley 1959: 164).
Раб оказывал влияние на социальную историю не потому, что он был главным участником процесса материального производства (это как раз не соответствует истине), а потому, что его статус негражданина и «чужака» позволял сформироваться статусу гражданина. Торговля рабами, как любая торговля и денежная экономика вообще, способствовала превращению очень многих афинян в граждан. Замечу, что моя точка зрения диаметрально противоположна той, которую в XIX в. защищали Анри Валлон (Wallon H.) и Фюстель де Куланж (Coulanges F. dé). Даже в XX в. выдающийся историк Коррадо Барбагалло (Barbagallo С.) в своей знаменитой книге (Barbagallo 1927) писал, что существование рабства подрывало и отравляло отношения между различными социальными группами. Думаю, все обстояло как раз наоборот. Да, я согласен с тем, что противоречие между господином и рабом — одно из фундаментальных противоречий античного мира, но в повседневной общественной жизни хозяева и рабы напрямую не вступали в конфликт друг с другом. Чтобы пояснить свою мысль, приведу один пример, правда, не из античной истории. Во Флоренции XIV в., и вообще в итальянских средневековых городах, основной антагонизм наблюдался между городом и его сельской округой — contado. За городскими воротами начинался другой мир, и деревенский житель, contadino, не был флорентийским гражданином. Нет сомнений, что Флоренция отчасти жила за счет эксплуатации своей сельской округи, над которой доминировала, однако данный антагонизм не может заслонить того факта, что основными участниками социальной борьбы во Флоренции XIV в. являлись преимущественно горожане.
Обратимся теперь к аграрным обществам Спарты, Фессалии и Крита. Здесь совсем иная картина. В качестве иллюстрации приведу один простой пример. Во время Второй Греко-персидской войны Афины и Спарта мобилизовали значительную часть своих людских и материальных ресурсов. Афины набрали во флот более тридцати тысяч граждан, Спарта поставила в войско, участвовавшее в битве при Платеях, пять тысяч гоплитов из числа homoioi, столько же периэков и тридцать пять тысяч илотов. Эти цифры свидетельствуют о фундаментальном различии между двумя полисными системами. В Афинах почти не рассматривался, за исключением крайне редких случаев, вопрос о мобилизации рабов, а те рабы, которые попадали в армию, подлежали освобождению. Как ни были далеки илоты от полноправных спартиатов, они играли огромную роль в политической жизни Лакедемона. Политическая борьба илотов в Спарте была вполне возможна, политическое движение рабов в Афинах — вещь немыслимая.
В Спарте прослеживалось два направления этой борьбы: или отделение, о котором мечтали мессенские илоты и которое стало реальностью после похода Эпаминонда, открывшего дорогу к восстановлению Мессены, или вхождение на равных в Спартанское государство. Примеры IV в. до н. э. хорошо известны, я же остановлюсь на одном эпизоде времен Пелопоннесской войны, рассказанном Фукидидом (Фукидид. IV. 80). Эфоры однажды решили выявить тех илотов, которые считали, что оказали большие услуги Спарте, пообещав им свободу. Откликнулись самые храбрые и достойные, как того хотели эфоры. Было отобрано две тысячи человек, им даровали свободу и украсили их головы венками, но впоследствии все эти илоты бесследно исчезли. Приведенный пример, полагаю, хорошо показывает и силу требований илотов, и жестокость репрессий против них, поскольку во время плотских восстаний Спарта рисковала самим своим существованием. Бегство одного афинского раба — сущий пустяк, бегство во время Декелейской войны двадцати тысяч рабов — катастрофа, но их место заняли вновь купленные рабы. В Спарте же не могло быть и речи о покупке новых илотов, так как илот не являлся объектом купли-продажи, вот почему борьба илотов угрожала всему спартанскому строю. В конце III — начале II в. до н. э. тиран Набис попытался по-своему решить этот больной для Спарты вопрос. В беседе с Фламинием он так говорит по этому поводу: «Наш... законодатель... не хотел, чтобы государство стало достоянием немногих, тех, что у вас зовутся сенатом, не хотел, чтобы одно или другое сословие первенствовало в государстве; он стремился уравнять людей в достоянии и в положении и тем дать отечеству больше защитников» (Тит Ливий. XXXIV. 31. 18, пер. Г. С. Кнабе)[606]. Поистине громкое заявление! Реформы «в духе Ликурга», проводимые Набисом, в действительности являлись не чем иным, как преобразованиями, которые были проведены в Афинах еще в VI в. до н. э. Набис безнадежно опоздал, ему не хватило как раз того, что сделало успешным афинские реформы, — рабов.
Теперь мы видим, что один и тот же термин, в данном случае doulos, мог относиться к совершенно разным социальным реалиям. Удивительно, но сами греки стали осознавать эту разницу чересчур поздно. Когда это случилось? Ответ известен: в IV в. до н. э., когда начали приходить в упадок общества спартанского, критского или фессалийского типа. Тогда же появились и теоретики, подобно Платону или представителям школы Аристотеля исследующие необычные обстоятельства, которые обусловили появление форм зависимости «между свободой и рабством»[607]. В то же самое время, когда классическое, или товарное, рабство, по-видимому, достигло наивысшего расцвета, сложились новые условия и возникли новые проблемы. В эллинистическом мире основная рабочая сила, на которую опирались и греческие полисы, и монархии, была представлена не рабами, как в классических Афинах, а зависимыми земледельцами Египта и Востока. Именно их Аристотель называл «рабами по природе».
Я не буду поднимать здесь все эти проблемы, ограничусь лишь кратким замечанием. Феномен рабских восстаний II — начала I в. до н. э. не должен приводить к мысли, что мы имеем дело с консолидированным классом рабов в современном понимании этого слова. Так, сицилийское восстание 139—133 гг. до н. э. следует, в первую очередь, рассматривать как бунт вооруженных пастухов, вспыхнувший в регионе, где длительное время существовал традиционный конфликт между земледельцами и скотоводами, где латифундии трансформировались в огромные скотоводческие хозяйства. Я думаю, это восстание ничем не отличается от тех, что проанализировал в своей книге Э. Хобсбаум (Hobsbawm 1965). Ни о каком идеале бесклассового общества здесь не может быть и речи. Предводитель восставших рабов объявил себя царем Антиохом и стал чеканить монеты с изображением древней сицилийской богини Деметры Эннийской. Если бы его правление продолжалось долго, то у восставших, без сомнения, появились бы свои собственные рабы[608]. В тех случаях, когда рабы эллинистическо-римской эпохи не были социально разобщены, как в классическом полисе, пределом их активности могла стать организация самого полиса. Об этом достаточно хорошо свидетельствует относящийся к эллинистическому времени эмоциональный рассказ историка Нимфодора Сиракузского, который я приведу в заключение этой главы[609]. Место действия — Хиос, полис, где зародилось товарное рабство. Рабы здесь устроили побег; среди них был человек по имени Дримак, чем-то напоминающий Робин Гуда. После серии подвигов Дримак предложил хиосцам следующие условия. Он заключает с ними перемирие с проведением частичных «репараций». Всякая лавка, подвергшаяся ограблению, должна быть опечатана, чтобы не случилось ее повторного разграбления. Из беглых рабов следует вернуть тех, кто бежал без видимой причины. «Если они имели веские основания для бегства, — говорит разбойник, — я их оставлю у себя, если нет — я их вам верну». После этого рабы стали убегать реже. Те же, кто остался у Дримака, были по-военному дисциплинированы и боялись своего вожака больше, чем прежних хозяев. Впрочем, Дримак, за голову которого хиосцы установили большую сумму, был настолько справедлив и благороден, что, когда состарился, попросил своего лучшего друга отрезать ему голову, чтобы тот смог получить обещанное вознаграждение. В итоге жители острова сделали из разбойника героя, чей призрак появлялся всякий раз, когда на Хиосе начинались волнения среди рабов.
Эта история умалчивает, уподобился ли Дримак герою «Скотного двора» Джорджа Оруэлла и повесил ли на воротах своего лагеря изречение, которое, в слегка перефразированном виде, должно было гласить: «Все рабы равны, но некоторые рабы равнее»[610].
2. Древнегреческие историки о рабстве[611]
Шестая книга «Пира мудрецов» Афинея — настоящий клад для тех, кто интересуется терминологией и историей древнегреческого рабства[612]. Афиней цитирует хиосского историка Феопомпа; в последние годы данный отрывок является предметом дискуссии о рабстве: «После фессалийцев и лакедемонян первыми из греков, кто стал использовать рабский труд, были хиосцы, которые, правда, приобретали рабов совсем другим способом. Лакедемоняне и фессалийцы учредили, как известно, сословие рабов (douleia) из греков, проживавших в прежние времена на землях, которые сегодня занимают эти два народа: лакедемоняне — территорию ахейцев, фессалийцы — области перребов и магнетов. В первом случае попавших в рабство греков называют илотами, во втором — пенестами. Что касается жителей Хиоса, то они сделали своими рабами (oiketai) купленных за деньги варваров»[613].
Почему именно этот отрывок из XVII книги «Филиппик» находится в центре современных споров о рабстве? Сопоставив его с надписью, известной под названием «Хиосская конституция»[614], М. Финли пришел к своему знаменитому выводу: «Одна из важнейших черт греческой истории — совместная, плечо к плечу, поступь свободы и рабства»[615].
К тому же в рассматриваемом отрывке четко противопоставляются два типа «рабства», знакомые грекам: «илотия» и «товарное рабство» (l'esclavage marchandise французских и chattel-slavery английских авторов). Противопоставление Феопомпа основано на ряде оппозиций:
1. В области хронологии: до — «древнее» рабство (а еще раньше — вообще никакого рабства), после — «новое» рабство.
2. В этнической сфере: «древние» рабы — греки, «новые» рабы — варвары.
3. В способах приобретения: «древние» рабы завоевывались, «новые» — покупались на рынке.
После выхода в свет в 1959 г. книги Д. Лотце (Lotze Ζ).), название которой заимствовано у александрийского грамматика Поллукса, давшего определение тем, кто находился «между свободными и рабами»[616], основная дискуссия как раз оказалась связанной с интерпретацией двух типов «рабства», различаемых Феопомпом[617]. Исследования на данную тему хорошо известны[618]. Участвуя в дискуссии, я пошел по двум направлениям. Во-первых, опираясь на выводы К. Моссе (Mossé 1961), я попытался показать, что две группы рабов значительно отличались одна от другой в том, что касалось их участия в политической борьбе[619]. С одной стороны — полная политическая пассивность «товарных» рабов, даже если они были сконцентрированы в большом количестве в одном месте, как, например, в Лаврионских рудниках Аттики, с другой — заметная политическая активность илотов, пенестов и др. Невозможно представить союз рудокопов Лавриона с афинскими фетами, направленный на установление более радикальной демократии, но мы знаем, что в 397 г. до н. э. Кинадон пытался организовать низшие слои спартанского общества на борьбу против гомеев, которым один из осведомителей эфоров донес, что «руководители заговора посвятили в свои планы лишь немногих, и притом лишь самых надежных людей, но они хорошо знают, что их замыслы совпадают со стремлениями всех гелотов, неодамодов, гипомейонов и периэков: ведь когда среди них заходит разговор о спартиатах, то никто не может скрыть, что он с удовольствием съел бы их живьем» (Ксенофонт. Греческая история. III. 4. 4—11, пер. С. Я. Лурье). Это различие в поведении обеих групп представляется мне фундаментальным. Поэтому всякий раз, когда речь заходит о волнениях или восстаниях рабов в классическую эпоху, в ходе которых, помимо требований личной свободы, выдвигались еще и политические требования, можно с уверенностью относить их участников к типу «древних» рабов по классификации Феопомпа, хотя порой источники и не говорят об этом открыто[620]. Активность одних и пассивность других прекрасно видны на таком примере: если илоты служили в спартанской армии, то афинских рабов могли завербовать на военную службу лишь в исключительных случаях, при этом завербованные рабы подлежали освобождению[621].
Второе направление моего исследования было совсем другим, оно касалось мифа, легендарной традиции и утопии[622]. Известно, что из жизни греческого полиса напрочь исключались женщины, рабы, чужеземцы и (временно) юные граждане; я предпринял попытку ответить на вопрос: какую роль женщины и рабы играли в «перевернутом мире» вымысла и утопии, в какой-то мере являвшемся изнанкой «нормального мира»? Когда речь идет о Спарте, Аргосе или Локрах, — словом, о тех местах, где господствовали отношения илотии, то «перевернутый мир» управляется женщинами и рабами. Напротив, афинянин Аристофан в комедии «Женщины в народном собрании» изображает общество, где женщины властвуют, а рабы продолжают трудиться в поле; аналогичным образом в «Лисистрате» ни одна чужеземка или рабыня не участвует в захвате Акрополя — о власти рабов здесь нет и не может быть речи[623].
В настоящей статье я пойду по третьему пути и проверю на «прочность» оппозицию «илоты — товарные рабы» на примере древнегреческой историографии. Текст Феопомпа датируется знаменательным временем — концом правления Филиппа и началом похода Александра[624]. Это было время, когда в Греции часто говорили об обращении в рабство (разумеется, не эллинов, а варваров), когда Аристотель, покинувший Академию в 347 г. до н. э., разрабатывал теорию о «рабах по природе» и обращался к теме спартанских илотов и критских «периэков». Можно легко выявить последователей Феопомпа. Поколением позже Тимей писал о том, что «купленные за деньги» рабы впервые появились в эпоху архаики, правда, не на Хиосе, а у локрийцев и фокидян, где они якобы заменили не столько порабощенных греков, сколько молодых людей, выполнявших домашнюю работу[625]. Шестая книга Афинея тоже свидетельствует о повышенном интересе эллинистических историков и филологов — современников Аристофана Византийского — ко всяким курьезам и анахронизмам из истории рабства во всех его разновидностях[626]. Более сложная задача — найти предшественников Феопомпа.
Тем не менее имеется ряд признаков, указывающих на то, что во времена Феопомпа хотя и отсутствовало серьезное историческое исследование о рабстве, но были популярны дискуссии о наилучших его формах и, как результат, нередко проводились сравнения между илотией и chattel-slavery. Пожалуй, самое четкое изложение этой темы мы найдем в «Законах» Платона — его последнем сочинении, появившемся в 347 г. до н. э. уже после смерти философа[627]. «Вопрос о рабах, — говорит Платон, — труден во всех отношениях» (τα δε δή των οίκετών χαλεπά πάντη) (Платон. Законы. VI. 776с, пер. Α. Η. Егунова). Речь не идет о трудности чисто умозрительной, о том, что вообще тяжело владеть людьми, превращенными в скот (там же. 777Ъ). «Чуть ли не всем эллинам лакедемонская илотия доставила бы величайшее затруднение и возбудила бы споры: по мнению одних, это хорошее учреждение, по мнению других — плохое. Меньше споров было бы о рабском положении мариандинов, порабощенных гераклейцами, а также о фессалийском племени пенестов» (там же. 776с—d). Этот спор имеет еще и практическую сторону, о чем ясно говорит Платон: непрерывные восстания мессенцев показывают, каким «подарком» для полиса могут стать рабы, объединенные общностью происхождения и к тому же говорящие на одном языке (там же. 777с—d). В целях успешной эксплуатации рабов необходимо, чтобы те были разобщены, т. е. чтобы среди них не было ни соплеменников, ни носителей одного языка (Платон. Законы. 777d). Иначе говоря, они должны быть чужеземцами[628] и происходить из разных мест — тогда этническая связь между ними будет совершенно исключена. Таким образом, выбор Платона сделан в пользу «товарного рабства». В конечном счете, в «Законах» Платон развивает мысль, которую он сформулировал еще в «Государстве»: эллинов нельзя обращать в рабство (Платон. Государство. V. 469с). Данное суждение встречается у многих, но автор «Законов» демонстрирует и здесь свою оригинальность, проводя с характерной для всего произведения точностью сравнение между илотами и рабами, купленными на рынке. Позже разницу окончательно сформулирует Феопомп. Аристотель лишь повторит эту мысль[629] и посоветует воздерживаться от приобретения рабов, которые образуют однородную группу, поскольку это грозит опасностью восстаний, таких, как в Спарте или Фессалии.
На мой взгляд, никто до Феопомпа не рассматривал данную проблему в ее историческом развитии: вначале илоты и пенесты, а затем рабы, приобретенные за деньги.
Вернемся к его тексту, содержащему, если внимательно присмотреться, ряд особенностей. Феопомп, как мы видим, идентифицирует «купленного» раба с варваром, а «древнего» раба — с греком. Само собой разумеется, такая идентификация заставляет усомниться в ее правильности. Последние исследования показали, что большие массы рабов, как, например, в Лаврионе, действительно в основном состояли не из греков[630], но неверно утверждать, что торговля была единственным способом их приобретения — воспитание, пиратство и война играли не меньшую роль. Более того, многие греки (в том числе и сам Платон) не рассматривали рабство как нечто для себя невозможное. Если обратиться к V в. до н. э. и в первую очередь — к авторам трагедий, можно констатировать, что рабство, будучи вовсе не обязательно связанным с такими понятиями, как рынок или варварское происхождение, представлялось личной катастрофой, угрожавшей всякому: и греку, и варвару[631]. Акцент Феопомпа и его последователей на идее покупки объясняется рядом общих и вполне понятных причин. Назовем здесь рост, хотя и весьма относительный, экономической активности населения, нацеленной на получение выгоды («хрематистики», по определению Аристотеля), и прочие перемены IV в. до н. э., которые совпали с началом эпохи эллинизма с характерным для нее расширением источников и форм рабского труда, вышедших за пределы собственно эллинского мира.
Чтобы не впадать в общие рассуждения, обратимся к вопросу о том, как до Феопомпа греки представляли источники рабства[632]. На него, полагаю, можно ответить, показав, что для тех полисов, где рабство действительно играло важную роль, проблема источников рассматривалась в таких понятиях, как до и после, причем до приходилось не на реальное историческое прошлое, как у Феопомпа, а на легендарное доисторическое время.
Самое раннее свидетельство восходит к началам греческой историографии — спору Геродота, опиравшегося на афинскую традицию, с Гекатеем Милетским[633]. В данном случае речь идет о причинах ухода пеласгов из Аттики на Лемнос. Согласно Гекатею, пеласги были несправедливо изгнаны с территории, полученной ими от афинян в награду за постройку древних стен Акрополя. Афинская версия, основанная на уникальном материале фольклорной традиции, другая, она гласит: «Пеласги, жившие у подошвы Гиметта, оттуда причиняли оскорбления афинянам. Их женщины и дети[634] постоянно ходили за водой к источнику Эннеакрунос (ведь в те времена у афинян и прочих эллинов еще не было рабов (oiketai)). Всякий раз, когда они приходили за водой, пеласги с заносчивым пренебрежением оскорбляли их» (Геродот. VI. 137, пер. Г. А. Стратановского)[635]. По мнению Тимея, труду рабов предшествовал труд младших сородичей. В данном отрывке Геродот относит женский и детский труд к мифическому до. И в самом деле, не существовало реальной исторической эпохи, когда труд был уделом только женщин и детей[636]. Утверждать, что такая эпоха существовала, означает приравнивать к рабам всех остальных исключенных из полисной жизни людей, в том числе женщин и детей, и с помощью мифа обосновывать социальную иерархию[637], а не исследовать историю. Аналогичный пример мы найдем у современника Аристофана комедиографа Ферекрата. У Афинея сохранилось четыре стиха из комедии Ферекрата «Дикари», где говорится о примитивной жизни до цивилизации:[638] «В те времена ни у кого не было раба — ни Манеса, ни Секис[639], и женщинам приходилось самим выполнять работу по дому. Они с рассвета до заката мололи зерно, и шум жерновов их мельниц стоял на всю деревню». Упоминание деревни (kome) свидетельствует о том, что речь идет о дополисном до.
Перенесемся еще дальше в глубь мифических времен, к гесиодовскому золотому веку, часто упоминаемому аттическими комедиографами, о чем говорит сам Афиней: «Поэты старой комедии, повествуя о жизни в давние времена (περι τον αρχαίου βίου), сообщают, что тогда не было потребности в рабах» (VI. 267е). Затем он приводит ряд интересных цитат, например, из «Ploutoi» («Богатые») Кратина: «Давным давно над ними царствовал Кронос, и они, бывало, играли хлебами» (F 165 Kock = Афиней. VI. 267е). Вряд ли этот хлеб пекли рабы. А вот еще одна не менее любопытная цитата из «Амфиктионов» Телеклида, повествующая о стране с молочными реками и кисельными берегами, где рабы не трудились, а «играли в кости вульвами свиней и прочими лакомыми кусочками» (F 1 Kock = Афиней. VI. 268b—с). Часто можно услышать (я и сам писал об этом[640]), что греческая утопия не предполагает отмену рабства. Это утверждение правильно, коль скоро утопия представляет собой критику существующих порядков и описание общества, которое стремится быть совершенным, даже если это стремление абсурдно, как, например, в «Женщинах в народном собрании». И наоборот, утверждение неверно, если утопия — просто перенос в будущее представлений о золотом веке. Что касается последнего случая, то у Афинея имеется соответствующая цитата, которая, хоть и переносит нас в фантастическое будущее, справедливо причислена автором к описаниям золотого века. Два персонажа из «Диких зверей» Кратета беседуют о будущем: «А: Ни у кого не будет ни рабов, ни рабынь. Б: Неужели старикам придется самим обслуживать себя? А: Вовсе нет, ведь все, что я сотворю, будет само двигаться», и далее говорится, что теплая морская вода сама притечет к месту для умываний (F 14 Kock = Афиней. VI. 267е—f). Пока еще далеко до предсказаний Фурье о превращении морской воды в лимонад, но наш текст, имея что-то общее с фольклорной темой «скатерти-самобранки», уже предвосхищает известный отрывок Аристотеля: «Если бы каждое орудие могло выполнять свойственную ему работу само, по данному ему приказанию или даже его предвосхищая, и уподоблялось бы статуям Дедала или треножникам Гефеста, о которых поэт говорит, что они сами собой входили в собрание богов; если бы ткацкие челноки сами ткали, а плектры сами играли на кифаре, тогда и зодчие не нуждались бы в работниках, а господам не нужны были бы рабы» (Аристотель. Политика. I. 1253b. 32-38, пер. С. А. Жебелева)[641].
В любом случае, обращаемся ли мы к прошлому или переносимся в будущее, для рабовладельческого полиса время, когда нет рабов, находится вне истории; оно — либо в дополисном до, либо в послеполисном после, или, в более широком плане, — до или после цивилизации. Весьма примечательно, что единственная серьезная попытка рациональной реконструкции греческого прошлого, предпринятая в «Истории» Фукидида, не содержит каких-либо упоминаний о происхождении рабства. Данный факт еще раз подчеркивает оригинальность и новизну поднятой Феопомпом проблемы, но он же побуждает нас рассмотреть вопрос о том, не свидетельствуют ли рассуждения относительно другого типа рабства о кризисе, современником которого был Феопомп.
Происхождение илотов и пенестов хиосский историк объясняет завоеванием. Эта теория близка идеям, которые высказывались в том или ином виде (цитаты Афинея здесь не всегда ясны или точны) многими авторами IV в. до н. э. и эллинистической эпохи, писавшими о Спарте, Фессалии, Крите и Гераклее Понтийской[642]. Так, эвбеец Архемах рассказывал, что, когда древние беотийцы, теснимые фессалийскими племенами, вознамерились перебраться на территорию будущей Беотии, часть их решила остаться на прежнем месте и заключила договор (homologia) с фессалийцами. По этому договору беотийцы обязывались быть рабами фессалийцев при условии, что те их не убьют или не прогонят с родных мест. Существовали различные версии этой своего рода теории изначального договора о рабстве. Например, Посидоний из Апамеи писал вслед за более ранними авторами, что мариандины согласились стать «рабами» гераклеотов с условием, что не будут изгнаны или проданы на чужбину[643].
Эта теория имела успех, и не удивительно, что современные историки именно так представляют себе истоки илотии. Разумеется, они не принимают за чистую правду анекдот о договоре относительно рабства, но большинство все же считает, что илоты, пенесты, клароты и т. д. - потомки до-дорийских народов. В этом отношении современные историки — последователи Феопомпа, Эфора и некоторых других античных авторов. Наиболее многочисленные сведения касаются Спарты, поэтому я буду говорить о возникновении спартанской илотии, причем так, как этот вопрос трактовался самими греками. Я не собираюсь всесторонне рассматривать эту проблему и возвращаться к спору Карштедта (Kührstedt) и Эренберга (Ehrenberg) — Анри Жанмэр засчитал им ничью своей блестящей книгой (Jeanmaire 1939). Несмотря на все усилия Ф. Кихле (Kiechle 1963), я очень сомневаюсь, что когда-нибудь удастся решить эту проблему. По справедливому замечанию П. Русселя, «безуспешны любые попытки доказать, что периэки не были дорийцами и что рабство илотов являлось результатом лишь захвата территории вторгшимися племенами»[644]. Ни один из до-дорийских элементов, дошедших в разговорном или письменном языке лакедемонян, нельзя напрямую связывать с илотами — этого достаточно для утверждения о том, что проблема в принципе неразрешима. А. Дж. Тойнби (Toynbee A. J.) однажды тонко заметил: «Существует по крайней мере четыре различных и несовместимых версии о времени и обстоятельствах происхождения илотии. Это позволяет говорить, что все четыре версии — гипотезы и что в этом вопросе мы не сможем опереться на достоверную традицию» (Toynbee 1969: 195).
Но даже если проблему невозможно решить, дискуссия об истоках рабства сама по себе заслуживает внимания и должна быть рассмотрена со всех точек зрения, включая те, которые, как мне кажется, не имеют ничего общего с действительностью[645]. Сформулируем основные посылки, из которых первая касается истории вообще, а не только историографии.
1. Афинянину IV в. до н. э. ситуация, когда зависимыми были греки — илоты или пенесты, казалась необычной. Наша же реакция должна быть другой: удивления, даже изумления достойна — применительно к истории античного Средиземноморья — не зависимость, а свобода, которой добились при Солоне афинские крестьяне. Всякий раз, пытаясь понять смысл сказанного греческими авторами, мы должны помнить об этом уникальном событии, заложившем основы идей свободы и освобождения.
2. Интереса и внимания также заслуживает вопрос, почему греческие историки обращались в тот или иной период истории Эллады к теме происхождения илотии.
3. Спартанское общество делилось на илотов, периэков и гомеев; для древних это такая же данность, какой она остается для нас. Пытаясь понять и исторически объяснить картину спартанского строя, греки находились в той же ситуации, что и мы. Правда, по сравнению с ними у нас есть преимущество — материалы археологии, но на сегодняшний день их явно недостаточно для прояснения социальной истории илотов. Если не считать этого несущественного отличия, греческие авторы, как и мы теперь, строили свои аргументы на признании того факта, что илоты и периэки - реально существовавшие категории.
Итак, пора задавать вопросы, ответы на которые вряд ли будут исчерпывающими. По правде говоря, проблема в действительности сложнее, чем я здесь обозначил, поскольку греческие авторы должны были помнить о двух типах илотов: илотах Лаконии и илотах Мессении. Последние находились в постоянной борьбе за «восстановление» Мессены, тогда как первые выступали за радикальные преобразования во всем спартанском обществе. Кроме того, греки должны были учитывать и традицию, древнейшим памятником которой можно считать поэмы Тиртея. Согласно этой традиции, образование Спарты — результат вторжения дорийцев под предводительством Гераклидов на изначально ахейскую территорию со столицей в Амиклах.
Отталкиваясь от схемы о двух типах рабства, античные историки рассуждали примерно в том же духе, что и их коллеги сегодня. Так, современный исследователь Ф. Гшнитцер (Gschnitzer F.) решает проблему происхождения периэков альтернативным образом: периэки — либо спартиаты, лишившиеся своих прав и привилегий, либо не-спартиаты, оказавшиеся в специфических условиях Лакедемонского государства (Gschnitzer 1958: 146—150). Но разве историческая реальность всегда подчиняется законам логики взаимоисключений?
Какие решения спартанской проблемы мы можем предложить, исходя из сформулированных выше положений?
1. Вообще не строить никаких предположений.
2. Предположить, что разделение спартанского общества на три группы — проблема внутреннего характера, результат исторической эволюции или каких-то драматических событий, повлекших за собой издание соответствующих законов.
3. Допустить, что периэки и илоты были потомками завоеванных племен, но не распространять это допущение на всех илотов, поскольку жители Мессении составляли особую группу.
4. Согласиться, что периэки и илоты имели разное происхождение и что одна из этих групп связана со спартанской проблемой, а другая — нет.
Естественно, я упрощаю картину, которую при желании легко усложнить[646], в целом же все вышеперечисленные варианты ответов можно найти у древнегреческих историков[647].
Вновь обратимся к Геродоту. В его представлении дорийцы — странствующий народ, которому историк, повинуясь чувству «эллинской солидарности», противопоставляет ионийцев Афин, разумеется, автохтонов, но не греков, а эллинизованных пеласгов (Геродот. I. 56). Дорийцы вынудили эмигрировать все проживавшие на Пелопоннесе народы, за исключением трех: аркадцы остались на месте (Он же. II. 171; VIII. 73); ахейцы покинули Лаконию и осели в той части Пелопоннеса, которая получила название Ахайя (они вытеснили оттуда ионийские племена) (там же. VIII. 73; ср.: там же. I. 145; VII. 94); кинурии, проживавшие на границе Арголиды и Лаконии, смешались с дорийцами (там же. VIII. 73). Помимо дорийцев, у которых было «много славных городов», Пелопоннес заселили этолийцы Элиды, дриопы Гермионы и Асины, лемносцы, или парореаты, — обитатели западного побережья полуострова (там же. VIII. 73). Геродот также упоминает мессенцев, которые, по его мнению (правда, не совсем четко высказанному), были такими же дорийцами, как и лакедемоняне. Вместе они в ходе завоевания Пелопоннеса основали две царские династии, когда родились близнецы Эврисфен и Прокл (там же. VI. 52). Геродот часто ссылается на так называемую Третью Мессенскую войну и изображает ее как почти непрерывный конфликт, продолжавшийся с момента окончания Греко-персидских войн (там же. III. 47; V. 49; IX. 35, 64). При этом историк никогда не смешивает мессенцев с илотами, и о статусе илотов говорит как о чем-то очевидном, абсолютно не интересуясь их происхождением[648].
У Фукидида несколько другой подход. Он тоже пишет о мессенцах, отмечая, что они говорят не просто на дорийском диалекте, а на одном с лакедемонянами языке (Фукидид. III. 112. 4; IV. 3. 3). Упоминая о восстании 465 (?) г. до н. э., приписываемом илотам и периэкам из Фурии и Эфеи, Фукидид заявляет, что «большинство илотов были потомками порабощенных некогда спартанцами древних мессенян, и поэтому все илоты назывались мессенянами» (там же. I. 101. 2, пер. Г. А. Стратановского). Что касается илотов не из Мессении, то историк вообще не ставит вопрос об их недорийском происхождении. Спартанцы отказали в доверии не илотам, а афинянам по причине «чужеродства» последних — именно этим объясняется отправка назад отряда, посланного Афинами против мятежников на горе Ифоме (там же. I. 102. 3). При этом Фукидид, хотя и не задается вопросом о происхождении немессенских илотов, не раз упоминает о них в связи с организованной за ними тотальной слежкой[649].
Тем не менее в V в. до н. э. стали появляться первые теории о происхождении спартанских илотов; их авторы придерживались порой абсолютно противоположных взглядов.
Так, Антиох Сиракузский, считавший началом илотии время Первой Мессенской войны, писал по этому поводу следующее: «Те из лакедемонян, кто не участвовал в походе (против мессенцев), были объявлены рабами и получили прозвище илотов»[650]. Согласно этой версии, часть населения Лакедемона оказалась со временем низведенной до положения, сопоставимого с положением «дезертиров» (tresantes) классической эпохи, обреченных из-за собственной трусости на презренное существование[651].
Другую гипотезу о происхождении илотов, на этот раз связанную с идеей захвата, мы найдем — в виде небольшой цитаты из Гелланика Лесбосского — в словаре Гарпократиона: «Илоты — рабы лакедемонян, но рабы не по рождению; они были жителями Гелоса и первыми, кто попал в плен»[652]. Таким образом, «теория захвата» основана на созвучии названия лакедемонского города Гелос термину илот. Свидетельство Гелланика — единственный для V в. до н. э. пример этой теории, но столетием позже она, вероятно, стала весьма популярной. Так, Феопомп, повествуя о дорийском завоевании, заимствовал фантастический рассказ о Гелосе. Что касается его современника и тоже ученика Исократа — Эфора, то он приводит следующий рассказ, сохранившийся у Страбона[653]. Во время дорийского вторжения большинство ахейцев покинуло Лаконию, которая была разделена на шесть частей (они соответствуют шести mores спартанской армии в классическую эпоху). Одна из них, Амиклы, была отдана ахейцу Филоному, который вынудил эмигрировать ее прежнего правителя (ср.: Страбон. VIII. 5. 4—5). Спарта стала столицей государства, а местные царьки были назначены правителями областей. Вследствие малочисленности населения (leipandria) Гераклиды разрешили царькам предоставлять статус синойков всем чужеземцам, которые об этом попросят. Эти чужеземцы, называемые плотами[654], хотя и были периэками и подчиненными спартиатов (υπακούοντας δ' απαντάς τους περιοίκους Σπαρτιατών), имели с ними равные права гражданства и доступ к государственным должностям. Однако позже царь Агис лишил илотов этих прав и обложил их данью. Смирились все, кроме жителей Гелоса, которые восстали, но были покорены и обращены в рабство с той оговоркой, что их хозяева не смогут ни освободить их, ни продать на чужбину. Так, согласно этой теории, зародилось «договорное рабство». Созданный Эфором исторический миф имеет одно несомненное достоинство: в нем речь идет как об илотах, так и о периэках. И те, и другие — «чужеземцы», вначале на равных включенные в состав лакедемонского полиса, а впоследствии низведенные до более низкого уровня. Не исключено, что в своей теории Эфор пытался соединить две традиции: одну, которая видела в илотах и периэках жертв завоевания, и другую, представлявшую их как «разжалованных» спартиатов. Остается уточнить, кого Эфор подразумевал под «чужеземцами». Только что пересказанный мною фрагмент 117 не дает на этот счет никакой дополнительной информации, к тому же, если ему следовать, вовсе не обязательно видеть под «чужеземцами» ахейцев[655]. Однако фрагмент 116, касающийся мессенцев, снимает все сомнения. Захватив Мессению, Кресфонт «разделил ее на пять городов; таким образом, Стениклар, расположенный в центре этой страны, он сделал своей столицей, а в остальные города — Пилос, Рион, Месолу и Гиамитис — послал царей, уравняв всех мессенцев в правах с дорийцами; но так как эти меры вызвали недовольство дорийцев, то он, отменив свое решение, объявил городом только один Стениклар и собрал туда всех дорийцев» (Страбон. VIII. 4. 7, пер. Г. А. Стратановского). Безусловно, под «чужеземцами» подразумевались недорийские народы, исконно обитавшие в этих краях, ибо трудно представить, что порядки, установившиеся в Мессении, отличались от спартанских порядков.
Версия Эфора в ее различных вариантах, вероятно, имела успех. Например, сходной точки зрения придерживался Павсаний, полагавший, что илотия возникла несколько поколений спустя после Агиса — при царе Алкамене (Павсаний. III. 2. 7; ср.: там же. 20. 6)[656]. «Последователем» Павсания можно считать Ф. Кихле, который также склонен удлинять период дорийского завоевания.
Однако в IV в. до н. э. подобной интерпретации, авторство которой неверно приписывать Эфору, придерживались далеко не все. Платон, говоря в «Государстве» (т. е. еще до Эфора) о превращении идеального полиса в «тимократическое» государство лакедемонского типа, следующим образом характеризует спартанский строй: «После стольких конфликтов и борьбы спартиаты приняли решение о разделе и присвоении земли и жилья, а своих сограждан из низших слоев, кого они прежде считали свободными людьми и своими друзьями и кормильцами, обратили в рабство, сделав их периэками и слугами (oiketai), тогда как сами продолжали заниматься войной и надзирать за остальными» (Платон. Государство. VIII. 547b—с)[657]. Здесь нет ни малейшего намека на «ахейское» происхождение периэков или илотов. Ничего такого мы не найдем и в третьей книге «Законов», где Платон пишет о становлении трех дорийских полисов: Спарты, Мессены и Аргоса. Согласно философу, единственное объяснение успеха Спарты и быстрого упадка двух других полисов — их внутренняя эволюция (Платон. Законы. III. 683а сл.).
Если мы обратимся к Исократу, то найдем у него несколько совершенно разных — в зависимости от целей и аргументации той или иной речи — трактовок. В «Архидаме» (366 г. до н. э.) слово предоставлено спартанскому царевичу, который признает в мессенцах дорийцев, чьи предки должны были подчиняться Лакедемону в наказание за убийство первого царя Кресфонта. В то же время Архидам отказывается отождествлять «мессенцев», недавно освобожденных Эпаминондом, с древнейшими мессенцами. Первые — «на самом деле илоты, посаженные на наших границах» (Исократ. Архидам. 16, 28, 87). Если эта версия не противоречит теории захвата, то в «Панафинейской» речи, датируемой 342—339 гг. до н. э., т. е. временем после сочинения Эфора, Исократ излагает совсем другую историю, которая не согласуется с рассказом Платона в «Законах». В отличие от Мессены и Аргоса, эволюционировавших, подобно другим греческим полисам, от олигархии к демократии, Спарта пребывала в неизменном состоянии. Вместо того чтобы включить рядовых соплеменников в состав общины, спартиаты сделали их периэками: Τον δήμον περιοίκους ποιήσασθαι, καταδουλέυσα μένους αυτών τας ψυχας ουδέν ήττον ή τας τών οίκετών — «они превратили простой народ в периэков, поработив их души не меньше, чем души рабов»[658]. Каков смысл заключительной части этой фразы? К чему слова о порабощении «народной души» и сравнение с рабами? Вряд ли речь идет об одних лишь периэках, поскольку Исократ говорит, что спартиаты присвоили себе право без суда приговаривать этих людей к смерти — мера, применяемая лишь к илотам. Текст становится понятным, если допустить, что автор объединяет в одну группу периэков и илотов и что он, возможно, намекает на наличие в Спарте (скорее всего в IV в. до н. э.) рабов классического типа[659].
Итак, я привел здесь несколько исторических трактовок илотии. Видно, что все они существенно отличаются от концепции Феопомпа о происхождении рабства. Во всех случаях, независимо от различия тех или иных версий, илотия предстает как институт, возникший не до, но во время истории. Какова бы ни была та или иная трактовка, об илотах всегда говорится как о некогда свободных людях. Не случайно Феопомп, рассказав о том, как жертвы дорийского нашествия стали илотами, поведал также историю о так называемых эпевнактах — илотах, заменивших на поле брани павших спартанских гомеев во время одной из Мессенских войн[660]. В данном случае мы имеем дело с порабощением как с обратимым феноменом. Илот когда-то был свободным и мог вновь им стать, он никогда не был рабом по природе. В отличие от свободных людей, рабы, которых не знала доисторическая эпоха, покупаются и продаются, их статут необратим.
Греческая историография начала формироваться в рамках полиса с конца VI в. до н. э., и именно полис стал для нее отправным пунктом. Илоты занимали в этой истории вполне определенное место, поскольку участвовали — пусть и минимально — в жизни Спартанского государства; товарные же рабы были частной собственностью (даже в тех случаях, когда ими владел полис), и поэтому им было гораздо труднее попасть в анналы истории. Творчество Феопомпа — чья основная работа, «История Филиппа», была связана, как указывает ее название, с личностью македонского царя — стало вехой в этом процессе.
Надо ли добавлять, что илоты и им подобные были греками, тогда как остальные рабы — варварами (по крайней мере, в представлении греческих историков)? Впрочем, можно было бы возразить, приведя пример с мариандинами; попытаемся теперь разобраться с ним.
Начнем с гипотезы. Не следует ли в качестве одного из факторов эллинизации варваров в классическую эпоху особо выделить порабощение части местного сельского населения? Самый ранний пример — киллирии из Сиракуз, согласно Геродоту (Геродот. VII. 155), выступившие в союзе с демосом незадолго до захвата власти Гелоном и изгнавшие из полиса олигархов-гаморов. Думаю, мы не найдем ни одного свидетельства в пользу подобного союза между демосом греческого полиса и свободными сикулами. Но, возможно, самый яркий пример связан с мариандинами Гераклеи Понтийской — о них нам сравнительно хорошо известно во многом благодаря тому, что тиран Гераклеи Клеарх был учеником Платона и Исократа[661].
В V в. до н. э. о мариандинах знали как о контролировавшем пещеру Цербера варварском вифинском или пафлагонском народе, на чьей территории гераклеоты основали свой полис[662]. Хотя мариандинов, как правило, изображали варварами, можно сказать, что это были «свои» варвары, подобно карийцам во времена Гомера[663]. О «варварстве» мариандинов писали и позже[664], и они еще долго продолжали считаться варварами[665], хотя, по правде говоря, уже Страбон не знал, кто они на самом деле: кавконы — исчезнувший народ, о котором писал Гомер, или же вифинцы, от которых мариандины не отличались ни языком, ни своим этническим происхождением (Страбон. XII. 3. 2—9). Страбон имел лишь косвенные сведения о том, что мариандины обрабатывали землю, принадлежавшую гражданам Гераклеи.
Историки IV в. до н. э., как мы уже видели, помещали мариандинов в один ряд с илотами и пенестами, и Феопомп, вероятно, отводил им место среди народов, попавших в рабство «по договору»[666]. Не свидетельствует ли данная классификация о том, что мариандины были в значительной мере эллинизованы? В пользу такого предположения можно привести две группы фактов. В классическую эпоху история Гераклеи изобиловала конфликтами, о чем часто упоминает Аристотель (Аристотель. Политика. V. 1304b. 31; 1305b. 4; 1305b. Зб)[667]. Примечательной особенностью гераклейского полиса было то, что он, несмотря на малочисленность своих граждан, содержал внушительный флот; по словам Аристотеля, это стало возможным благодаря тому, что значительную часть населения составляли «периэки и земледельцы (georgoi)», т. е. мариандины (там же. VII. 1327b. 10—15)[668]. Наблюдалась ли данная картина на протяжении всего IV в. до н. э.? Отрывок из Энея Тактика (Эней Тактик. XI. 10—11), на который обратил внимание Д. М. Пиппиди (Pippidi 1969), показывает, что в Гераклее была проведена радикальная конституционная реформа, наподобие клисфеновской. Рядовые граждане, желая установить контроль над богатой верхушкой, настояли на преобразовании трех дорийских фил, каждая из которых состояла из двенадцати сотен (hekatostyes), в шестьдесят сотен, вероятно, составивших десять фил. Нельзя ли предположить, что эта реформа сопровождалась расширением гражданского коллектива, поскольку в противном случае она теряла всякий смысл? По крайней мере, можно выдвинуть данное предположение в качестве гипотезы. В 364 г. до н. э. тиран Клеарх захватил власть с помощью демоса. Он провел передел земли, освободил рабов и женил их на дочерях их бывших хозяев-богачей[669]. Кто были эти рабы? Скорее всего, мариандины, часть которых получила освобождение именно таким путем[670]. Эпизод с принудительными браками показателен: данный топос относится лишь к тем полисам, где имелось зависимое сельское население[671]. Не были ли рабы, которых женили на гераклеотских девушках, эллинизованными варварами? Думаю, этот вопрос по-прежнему остается открытым.
К данной проблеме можно подойти и с другой стороны. Начиная с Геродора (V в. до н. э.) и до эллинистическо-римской эпохи, представленной именами Проматида,, Амфитея, Нимфиса, Домиция-Каллистрата и Мемнона, в Гераклее существовала собственная школа историков и мифографов[672]. Фрагменты их произведений сохранились главным образом в схолиях к «Аргонавтике» Аполлония Родосского — поэме, один из эпизодов которой происходит в стране мариандинов.
Все эти авторы ничего не говорят о мариандинах как о зависимых сельских жителях, однако в целом дошедшая до нас информация не менее интересна. Аргонавты, высадившиеся на малоазийском побережье, столкнулись с двумя группами варваров: с откровенно враждебными к ним бебриками из Мисии, с одной стороны, а с другой — с дружелюбно настроенными мариандинами, которые были врагами бебриков. Греческие герои в храме Согласия заключили мирный договор с царем мариандинов Ликом (Аполлоний Родосский. Аргонавтика. ΙΙ. 352 сл., 722 сл.) — возможно, это отзвуки переложенного на миф изначального договора о рабстве. Тема «доброго варвара» достаточно широко известна (вспомним легенду об основании Массилии); более интересна причина теплой встречи греков: царь Лик по своему отцу Даскилу приходился внуком Танталу и, соответственно, племянником фригийскому царю Пелопу, в честь которого и был устроен радушный прием аргонавтов[673]. В эллинистическую эпоху родство с греческими богами и героями, бесспорно, считалось одной из форм проявления эллинизации[674], поэтому царя Лика можно рассматривать как мифического героя эллинизованных мариандинов.
Если это так, то пример с мариандинами не является исключением, и мы можем рассматривать их в одном ряду с илотами и пенестами. Обращению этих людей в рабство давалось историческое объяснение, поскольку такое рабство не мыслилось как вечная категория — по крайней мере считалось, что какая-то часть людей была в состоянии из него выйти.
Теперь напрашиваются общие выводы, и мне остается лишь сформулировать их. Исторический взгляд на проблему илотии послужил Феопомпу моделью для его рассуждений о происхождении «товарного рабства» (chattel-slavery), поскольку последнее не имело прецедентов.
Причины подобной «первичности» илотии лежат на поверхности. Напрасно искать хоть малейший признак кризиса рабовладения в классическую эпоху[675]. С другой стороны, следует отметить, что не прекращавшийся кризис «древних» (сельских) форм зависимости — характерная черта греческой истории, начиная с архаической эпохи. Восстания мессенских илотов V в. до н. э. не были новостью для греческого мира[676]. В конце того же столетия начали свою борьбу пенесты Фессалии[677]. В IV в. до н. э. было нарушено социальное и политическое равновесие внутри главного «архаического» полиса — Спарты. Восстановление Мессены, задуманное и осуществленное после 369 г. до н. э. — событие, всколыхнувшее всех греков, особенно представителей мессенской диаспоры, рассеянной от Навпакта до Сицилии, — безусловно, заставило историков задуматься о судьбе илотов. Даже Крит перестал казаться тихим святилищем, каким казался прежде. Аристотель, связывавший прежнее спокойствие на Крите с его островным положением, писал: «у критян периэки остаются спокойными, между тем как илоты восстают часто», — и тут же добавлял, что «критяне не имеют владений вне своего острова, и лишь в недавнее время до них дошла чужеземная война, которая ясно обнаружила слабость тамошних законов» (Аристотель. Политика. ΙΙ. 1272b. 15—23, пер. С. А. Жебелева)[678].
Таким образом, греческая историография проблемы илотов — результат системного кризиса, и этот вывод можно развить еще дальше. Зависимое сельское население, с которым греки столкнулись в Азии и благодаря которому обогатились их полисы и царства[679], в сущности не отличалось от хорошо знакомого грекам мира илотов и пенестов. Было бы интересно проследить, в какой мере эллинистические завоевания являлись делом рук тех самых греческих крестьян, получивших свободу в результате перемен IV в. до н. э. и оказавшихся за пределами привычной для них социальной среды[680]. Вспомним, например, критских лучников. Именно сейчас было бы уместно задаться вопросом, не являлось ли порабощение варваров — «рабов по природе», согласно Аристотелю, — следствием освобождения той самой массы греков.
Но это уже совсем другая история.
3. Бессмертные рабыни Афины Илионской[681]
В 1911 г. Адольф Вильхельм (Wilhelm А.) издал и подробно прокомментировал надпись, открытую в 1895 г. близ Витриницы (Эантиды) в Западной Локриде. С тех пор памятник известен как die Lokrische Mädcheninschrift — «надпись локридских девушек»[682]. Этот документ, датируемый первой третью III в. до н. э.[683], широко известен; он представляет собой договор между городом Нарика (Восточная Локрида) и Эантиями (потомки Эанта-Аякса, сына Оилея)[684] с одной стороны и локрийцами — с другой. В тексте надписи упоминается о засвидетельствованном многими литературными источниками обычае локрийцев посылать девушек в храм Афины Илионской в Троаде[685] для искупления вины за преступление, совершенное Аяксом, сыном Оилея: во время захвата Трои герой пытался изнасиловать Кассандру, дочь Приама, вещую жрицу Аполлона. Надпись изображает древний обряд как обычную литургию, если говорить о нем словами гражданского языка. Эантии и город Нарика поставляют девушек, а взамен получают определенный набор привилегий, включая право внеочередного обращения в суд, освобождение от необходимости внесения залога и др. Родителям девушек выдается пособие на одежду и еду (κόσμον και τροφάν, строка 10). Как это часто бывает, текст испорчен в самом интересном месте. Какую информацию об этой странной дани предоставляет собственно надпись без учета сведений литературной традиции? В строках 1 и 9 говорится просто о «девушках» (τάς κόρας, ταν κοράν), а из строк 10 и 23, где встречается дуальное число (κόραιν), следует, что посылались две девушки, причем как «теперь» (строка 10), так и «прежде» — в строке 23 сказано, что по мере возможности надлежит воздать должное и прежним парам девушек (έτπδικήσοα τοιν πρόσθ[ε]ν κατ то δυν[ατόν]). К сожалению, в строке 10, где наверняка указывался срок служения посланниц Афине Илионской, камень поврежден, и мы можем прочитать лишь, что «каждой из двух девушек причитается на одежду и еду по 15 мин вплоть до...» (και τοΐν κόραιν έκατεραι. πεντεκαίδεκα μνας èv κόσμον και τροφάν παρεχειν, εντε κα...)[686]. В нашем случае остается смириться с этой лакуной и надеяться, что когда-нибудь в Локриде или где-либо в другом месте будет найдена копия этого декрета.
Но нельзя ли заполнить лакуну, опираясь на данные чрезвычайно богатой литературной традиции, представленной поэтами, историками, хронистами, географами, авторами специальных трактатов, мифографами и схолиастами?[687]
Цель моей работы — вовсе не интерпретация этого достаточно хорошо изученного материала. Литературная традиция повествует о событиях, которые, естественно, не упоминаются в надписи (официальном документе по своей природе): о преступлении Аякса и его последствиях, о тысячелетнем наказании, наложенном на локрийцев, которых приравняли к соучастникам преступления. Самое древнее прямое свидетельство — Энея Тактика — восходит к середине IV в. до н. э. и указывает на уже сформировавшуюся традицию, согласно которой между локрийцами и жителями Илиона существовало некое подобие агона. Если первые делали все, чтобы их девушки попали в святилище Афины (согласно Энею, им всегда это удавалось), то вторые всячески старались им помешать. Многие авторы (Тимей, Ликофрон и его схолиасты, Плутарх, Псевдо-Аполлодор, Элиан, Цец, чей рассказ почти совпадает с рассказом Псевдо-Аполлодора) особо подчеркивают незавидную долю локрийских посланниц, чудом избегавших казни и становившихся рабынями Афины Илионской, их жалкую жизнь и смерть, а Иероним ограничивается ремаркой, что целомудрие девушек не дает повода даже для малейшего упрека в их адрес.
Древние авторы по-разному описывают происхождение и характер службы локриянок в Илионе, здесь я не собираюсь вдаваться во все детали этой полемики. Когда возник этот покаянный ритуал? По мнению большинства авторов, в конце Троянской войны. Однако Страбон обращает внимание на спорность данного вопроса и, опираясь на сведения ученых мужей из Троады, пишет, что появление ритуала не следует возводить ко времени до персидского вторжения. Какие полисы и социальные коллективы поставляли девушек? Все ли локрийцы посредством жребия (точка зрения Ликофрона, Каллимаха, Псевдо-Аполлодора, анонимного схолиаста «Илиады») или сто знатных семейств, бросавших жребий между собой (версия Полибия)?[688] А может, это была область, где правил Аякс, как сообщает Сервий со ссылкой на Аннея Планида? Во всяком случае, его утверждение согласуется с информацией нашей надписи. Не стану вновь поднимать эти проблемы, тем более — рассматривать «историческую» и «археологическую» стороны этого обычая[689]. Я ставлю перед собой более скромную цель — исследовать вопрос о продолжительности служения локрийских девушек в Трое. Надпись из Витриницы, как мы уже видели, этот вопрос не проясняет, а классическая традиция (и этот факт давно известен) трактует его двояко[690]. Одна группа текстов гласит, что юные локриянки должны были служить богине до самой смерти. Так, в «Александре» Ликофро-на[691] Кассандра вещает:
1150 И вы, весь дом Ила, потомки Годойдака, Всем вам из-за моего нечестивого брака Придется, чтобы умилостивить гигейскую богиню Агриску[692], Тысячу лет платить дань незамужними девами, Обрекая здесь на старость тех, кому выпадет этот жребий! 1155 Им, чужеземкам в чужой стране, будет уготовано погребение без почестей, Жалкая могила на песчаном берегу, которую волны смоют Прежде, чем на голых стволах Гефест охватит их тела своим огнем И развеет над морем прах Той, кого сбросят с круч Трарона! 1160 Другие придут во мраке ночи, Равные числом тем, кто умрет...[693]Псевдо-Аполлодор в своей «Эпитоме» добавляет любопытную деталь: «Локрийцы, не без труда вернувшиеся на родину, через три года, когда мор обрушился на Локриду, получили указание оракула регулярно в течение тысячи лет посылать в Илион двух девушек-просительниц, чтобы умилостивить Афину. Вначале жребий пал на Перибею и Клеопатру. (...] После их смерти локрийцы послали других девушек; и те проникли в город[694] ночью, поскольку боялись, что их убьют, если схватят за стенами святилища. Позже локрийцы стали посылать младенцев вместе с кормилицами (μετέπειτα δε βρέφη μετά τροφών επεμπον). Спустя тысячу лет, после Фокидской войны[695], они перестали посылать просительниц». Последние сведения заимствованы — прямо или опосредованно — Цецем, который по ошибке приписывает их Тимею[696], комментируя стихи 1141—1145 «Александры»: «Первыми локриянками, попавшими в Трою, были Перибея и Клеопатра. Вначале локрийцам приходилось посылать девушек, а впоследствии — годовалых девочек (είτα та βρέφη ενιαύσια)[697] вместе с кормилицами». Цец тоже считает, что этот обычай прекратился после Фокидской войны.
Той же традиции придерживается анонимный поэт[698], которого цитирует Плутарх: «Без накидок, босоногие, с обритыми головами, как рабыни, они поддерживали чистоту вокруг алтаря Афины вплоть до глубокой старости (καΐ ei βαρύ γήρας ίκάνοι)». К этому списку, возможно, следует добавить историка Тимея (около 300 г. до н. э.)[699], цитируемого схолиастом Ликофрона. Я ограничусь переводом этой цитаты, действительно близкой к рассказу Ликофрона: «Тимей сообщает, что, прибыв (в Илион], две девушки служили рабынями в святилище Афины. Когда одна из них умирала, ее заменяли новой (έτέραν παράγινεσθαι άντ' αυτής). Умершую троянцы не погребали, а сжигали на костре из диких деревьев (άγριοις ξύλοις) и останки выбрасывали в море».
В другой группе текстов, напротив, утверждается, что девушек посылали каждый год. Именно на это, возможно, указывает самый ранний из имеющихся в нашем распоряжении источников — «Полиоркетика» Энея Тактика (середина IV в. до н. э.). Автор сообщает, что илионцам не удавалось помешать прибытию в Трою локрийских девушек, и добавляет: άλλ' οι ΛοκροΙ προσέχοντες τω λαθείν, λανθάνουσιν άνα έτεα πολλά είσάγοντες σώματα, что можно перевести так: «а локрийцы, стараясь действовать незаметно, сумели со временем тайком доставить туда многих»[700]. Абсолютно недвусмысленен Страбон, воспроизводящий «илионскую» версию рассказа о девушках: Αί γουν Λοκρίδα παρθένοι μικρόν ύστερον άρξάμεναι ένεπέμποντο κατ' έτος — «спустя немного времени (после захвата Трои] локрийских девушек начали посылать каждый год». То же самое читаем у Элиана: `О ' Απόλλων φησί προς Λοκρούς μή αν αύτοΐς τό δει,νόν λωφήσαί, εί μή πέμποίεν άνα παν ετος δύο παρθένους ες την "Ιλίον τη ' Αθήνα Κασάνδρας ποίνήν ε ως αν ιλεώσσητε την θεόν — «Аполлон говорит локрийцам, что их несчастье не прекратится, если они не будут ежегодно посылать двух девушек в Илион к Афине в качестве наказания за Кассандру — пока не умилостивят богиню». Похожая версия у Сервия, который цитирует Аннея Плацида: «Dicitur enim Minerva in tantum ob vitiatam Cassandram in templo solius Aiacis poena non fuisse contenta ut postea per oraculum de eius regno quotannis unam nobilem puellam iusserit Ilium sibi ad sacrificium mitti» — «в действительности же рассказывают, что из-за насилия над Кассандрой Минерва не довольствовалась наказанием одного лишь Аякса и впоследствии велела через оракул, чтобы из его царства ежегодно присылали к ней в Илион одну знатную девушку для жертвоприношения»[701]. Наконец, в ранней схолии к стиху 1141 «Александры» Ликофрона тоже вполне определенно сказано:'Έχρηεν ό θεός <β'>[702] παρθένους· ένιαυσιαίας εις Τροίαν τη'Αθηνα άποστέλλειν επί α ετη -«бог повелел через оракул, чтобы ежегодно в течение тысячи лет двух девушек посылали к Афине в Трою».
Как объяснить такую двойственность традиции?[703] Кажется, наиболее простое и естественное решение — допустить, что она отражает эволюцию самого ритуала. Примерно в этом духе рассуждал А. Вильхельм, писавший, что «проблему можно решить, если предположить, что в разные эпохи эта литургия принимала разные формы» (Wilhelm 1911: 219). Ранние источники не дают нам прямой информации на этот счет, однако некоторые более поздние авторы явно склонны к подобной аргументации. Какие хронологические ориентиры дошли до нас? Ряд текстов сообщает, что длительность возложенной на локрийцев покаянной службы в целом составила тысячу лет, разумеется, начиная с того момента, когда греки вернулись из Трои[704]. Все эти тексты относятся к первой группе источников (подчеркну: речь идет о позднейшей традиции), согласно которым девушки оставались в Трое вплоть до своей старости и смерти. В одном тексте, к сожалению испорченном, прямо сказано, что литургия не имела строго установленного срока[705]. Там же мы найдем упоминание о том, что однажды она была прервана, и на локрийцев вновь обрушилась божественная кара — бесплодие земли. В итоге локрийцы возобновили отправку девушек, но вместо двух стали посылать одну, сочтя это достаточным (αρκούσαν είναι δοκοϋντας την τιμωρίαν). Вряд ли какую-либо ценность представляет высказывание Плутарха о том, что «прошло немного времени с тех пор, как локрийцы перестали посылать девушек в Трою». Что означает это ού πολύς χρόνος ? Идет ли речь о времени Плутарха? Если да, то нам придется с головой окунуться в археологию или «туризм». Не исключено, что Плутарх просто цитирует какой-то источник. Но тогда что это за источник?[706]
Два близких друг другу текста, связанных с византийской традицией, сообщают о том, что вместо девушек посылали младенцев с кормилицами и что с этой практикой было покончено «после Фокидской войны». Последнее утверждение, однако, противоречит тексту надписи[707], согласно которому ритуал, возможно, уже в обновленном виде, существовал еще несколько десятилетий после окончания войны в 347/346 г. до н. э. Текст византийских источников порождает и другие вопросы. Процитируем свидетельство Цеца: Χιλίων δ' ετών παρελθόντων μετά τον Φωκικόν πόλεμον έπαύσαντο της τοιαύτης θυσίας[708] - «через тысячу лет (после возвращения из Трои], после Фокидской войны, они покончили с этим жертвоприношением». Но тысячелетие окончания Троянской войны — о какой бы дате падения Илиона, принятой античными авторами, ни шла речь — не совпадает со временем окончания Третьей «священной» войны, а приходится на более позднее время[709]. Таким образом, непонятно, почему в тексте присутствуют две не согласующиеся между собой даты. Некоторые исследователи полагают, что вместо Φωκικόν надо читать Τρωικόν[710], и тогда из отрывка следовало бы, что, отметив тысячелетие взятия Трои, локрийцы покончили со своей повинностью. Напомнив об этой дискуссии, замечу, что правило lectio difficilior говорит в пользу Φωκικόν, поскольку Фокидская война была не столь известна, как Троянская.
Особую важность для уточнения хронологии представляет сообщение Элиана. Впрочем, текст настолько испорчен, что на первый взгляд его содержание кажется абсурдным. О чем идет речь? Пересказав оракул Аполлона, повелевавший ежегодно посылать девушек в услужение к Афине Илионской, Элиан продолжает: «Прибывшие в Трою девушки там состарились (κατεγήρασαν)[711] и умерли, поскольку те, кто должен был их сменить, не прибыли в Илион[712]. После этого женщины стали рожать хилых и уродливых детей»[713]. Локрийцы обратились к дельфийскому оракулу, который вначале их не принял, а после уговоров напомнил им о совершенной оплошности и вине. Тогда локрийцы попросили Антигона ответить, «какой полис Локриды должен посылать дань» (τίθενται την κρίσιν υπέρ του τίνα χρή Λοκρικήν πόλιν πέμπειν δασμόν), а царь велел решить этот вопрос с помощью жребия (προσέταξε κλήρω διακριθήναι).
Что же делать современному исследователю со всей этой массой источников, по-разному трактующих события, которые Казобон называл historia nobilissima? Я не собираюсь разбирать огромное количество литературы, на исчерпывающее знание которой, к тому же, вовсе не претендую. Замечу лишь, что вся дискуссия по поводу хронологии вращается вокруг возможных датировок «прекращения литургии» (согласно источникам, наблюдавшегося неоднократно) «после Фокидской войны» и ее возобновления «при царе Антигоне». О каком Антигоне идет речь? Исследователи указывают на три возможные кандидатуры[714]. Антигона Досона (правил в 227—221 гг. до н. э.) исключим сразу, поскольку надпись, датируемая более ранним временем, должна была появиться после возрождения ритуала, если такое возрождение действительно имело место. Остаются Антигон Одноглазый (царствовал с 306 по 301 г. до н. э.) и Антигон Гонат (правитель Македонии в 276— 239 гг. до н. э.)[715]. Если делать окончательный выбор, то наиболее предпочтительна кандидатура Антигона Одноглазого — властителя Троады, еще до 306 г. до н. э. установившего контроль над конфедерацией ее полисов (или организовавшего эту конфедерацию) с центром в святилище Афины Илионской[716]. Выбрав Антигона Одноглазого, мы могли бы решить и проблему хронологии. Если сопоставить сообщения Псевдо-Аполлодора и Цеца об окончании литургии после Фокидской войны с информацией Диодора (XVI. 38. 5) о том, что родной полис Аякса Нарика был разрушен фокидянами в 352 г. до н. э., и текстом Элиана, то довольно смелое предположение, что древний обряд, прерванный в середине IV в. до н. э., несколько десятилетий спустя был восстановлен «царем Антигоном», начинает казаться вполне правдоподобным. Не следует ли в таком случае признать, что проанализированные две группы источников соответствуют: одна — изначальной практике, другая — возобновленной? Допустим, но что собой представляли та и другая? Отвечающие на этот вопрос современные исследователи разделились на две группы. По мнению одних, в архаическую и классическую эпохи девушек посылали на один год, а в эллинистическую — навечно[717]. Однако этот вывод противоречит информации Страбона, у которого не было недостатка в надежных источниках сведений о Малой Азии. По мнению других, в эллинистическую эпоху, наоборот, пожизненное служение было заменено на годичное[718]. Но и эта гипотеза с трудом согласуется с самым ранним свидетельством, принадлежащим Энею, который жил в то время, когда литургия не отправлялась, и поэтому писал о ее первоначальном периоде.
Самое изящное решение предложил А. Момильяно. Годичное служение надежно засвидетельствовано относительно эллинистической эпохи (Страбон, Сервий, схолии к стиху 1141 «Александры», Элиан). Оно также не исключено для эпохи архаики и классики (Эней), но мы можем предполагать и существование более длительной и тяжелой литургии, которая, вероятно, была смягчена после ее возобновления[719]. Но как тогда объяснить версию Ликофрона и (если прав Момильяно) Тимея? Признать, что пророчество Кассандры ни на чем не основано? Напрашивается следующий ответ: Тимей (конец IV в. до н. э.) и Ликофрон (начало III в. до н. э.) писали как раз в то время, когда отправление ритуала было приостановлено[720], и, следовательно, могли позволить себе некоторые «барочные фантазии». Используя произведения Ликофрона в качестве источника, более поздние поэты и мифографы охотно заимствовали его версию.
И все же это на первый взгляд убедительное объяснение и a fortiori упомянутые здесь другие гипотезы не учитывают одного существенного признака античной литературы, особенно эллинистическо-римской эпохи. А. Момильяно знает о нем лучше, чем кто бы то ни было: древние авторы, как и мы, были читателями текстов, и новую трактовку того или иного события они нередко предлагали не потому, что находили новые документы и факты, а потому, что хорошо (но чаще плохо) читали тексты, присваивали, отвергали или компилировали их.
В свое время И. Вюртхайм (Vürtheim J.) продемонстрировал пример критического чтения литературных текстов[721], связанных с нашим сюжетом. Как объяснить появление восходящей к Тимею версии о младенцах, посылаемых в Илион вместе с их кормилицами, версии, которой позже придерживались Псевдо-Аполлодор и Цец? Очень просто: παρθένοι ένιαυσιαιαι[722], т. е. девушки, которых посылали в Трою на один год, были приняты за годовалых девочек с последующей заменой παρθένοι на βρέφη — младенцев. Одно слово — и целый рассказ выпадает из традиции. Таким же образом можно объяснить и схолию к стиху 1159 «Александры» Ликофрона, гласящую, что вначале локрийцы посылали в Илион двух девушек, а затем — одну. Вероятно, схолиаст обнаружил в своих записях сообщение Сервия об unam puellam и решил совместить эти сведения с теми, которые были ему известны из других источников.
Тщательно проанализированный А. Момильяно текст Элиана, содержащий уникальную и, бесспорно, ценную информацию о вмешательстве «царя Антигона», тоже не избежал строгой критики[723]. Вновь перечитаем его. Аполлон возвещает локрийцам, что их беды прекратятся, когда они начнут посылать каждый год двух девушек в Илион к Афине. Таким образом, этот текст относится к выделяемой мной второй группе источников. Однако он заканчивается словами о том, что прибывшие в Трою посланницы оставались там до тех пор, пока не старились и не умирали, ибо девушки, которые должны были их сменить, так и не прибыли. «Старость» девушек — один из мотивов, встречаемых у авторов, которых я отношу к первой группе источников: у Ликофрона, использующего в стихе 1144 «Александры» причастие γηροβοσκουσαι — «пасомые до старости», или у цитируемого Плутархом поэта, который говорит о «глубокой старости». Работая с текстами, Элиан, очевидно, пытался совместить обе традиции.
Можем ли мы пойти еще дальше и показать, что непреодолимый на первый взгляд разрыв между двумя группами источников может быть преодолен? Думаю, можем, и одно исследование Клер Прео предлагает нам такой путь (Préaux 1966).
Аренда стада с возмещением (так называемый договор о «железном стаде») — широко известная форма договора, распространенная в Средиземноморье в древности и более позднее время. Особенно хорошо этот договор засвидетельствован в папирусах эллинистического и римского Египта. «Арендатор обязывался возместить всякое павшее или пропавшее животное, поэтому стадо называлось бессмертным — athanatos»[724]. Аналогичные обязательства могли касаться и людей — вспомним знаменитый пример с персидским отрядом «бессмертных», каждый из воинов которого в случае болезни или смерти заменялся новым воином, так что их общее число оставалось неизменным[725]. На «бессмертие» такого рода, по всей видимости, намекает и Гомер, повествуя о голубях, приносящих Зевсу амброзию и разбивающихся о высокие утесы Планкт:
Άλλά те καΐ των αϊεν αφαιρείται λίς πέτρη άλλ'άλλην ένίησι Πατήρ εναρ'ιθμιον είναι - Каждый раз пропадает из них там один, об утес убиваясь; Каждый раз и Зевес заменяет убитого новым. (Гомер. Одиссея. XII. 64—65, пер. В. А. Жуковского)[726]Отдадим должное Клер Прео, напомнившей, что в классической Греции заключались договоры о «бессмертии» людей. Убедительный пример можно позаимствовать из датируемого 355 г. до н. э. трактата Ксенофонта «Доходы» (Ксенофонт. Доходы. IV. 14—15). У Никия, сына Никерата, афинского стратега V в. до н. э., вероятно, имелась в серебряных рудниках тысяча рабов; он сдавал их в аренду фракийцу Сосию на условии, что тот платит ему один обол в день с человека и следит, чтобы общее число арендуемых рабов оставалось неизменным (έφ' ω όβολόν μεν ατελή εκάστον της ημέρας άποδιδόναι, τον δ' αριθμόν ίσους αεί παρεχε ι ν). Сосий должен был возместить стоимость каждого недостающего раба. Учитывая, что речь шла о внушительном числе работников, занятых в рудниках, данная формула договора вряд ли имела чисто риторический характер.
Я полагаю, что подобного рода договор лежал в основе если не реальных отношений между локрийцами и Афиной Илионской (в любом случае эти отношения были намного сложнее), то по крайней мере — той двойной традиции, которую я проанализировал. Каков ее общий фон? Необходимость постоянного присутствия двух (данная цифра встречается, как мы помним, в обеих группах текстов) локриянок в Илионе. Фрагмент Тимея, ставший предметом самых различных интерпретаций, ясно выражает эту идею: εί δε τις άποθάνοι, έτέραν παραγίνεσθαι άντ' αυτής[727]. Но наш основной источник — стихи Ликофрона, к сожалению, весьма далекие от языка юридических документов. В строках 1160—1161 «Александры» говорится, что если кто-то из посланниц, состарившись, умрет, αλλαι δε νύκτωρ ταΐς θάνουμέναις ϊσαι ϊξονται («другие придут во мраке ночи, равные числом тем, кто умер»)[728]. За исключением вставки о «ночном мраке», перед нами — те же условия, что и в контракте Никия и Сосия. Погибали ли девушки под ударами камней жителей Илиона, как сообщают некоторые источники, умирали ли они от старости, как считают Ликофрон, Плутарх и Элиан, от болезни или несчастного случая в дороге, или же просто-напросто заканчивалось время их службы, как утверждает вторая группа текстов, — в любом случае их должны были заменить, и эта задача возлагалась на локрийцев.
В отличие от контракта, рассмотренного Клер Прео, речь идет не о παρεχειν[729], а о πέμπειν — не о поставке, предоставлении, а о посылке, отправлении (здесь уже недалеко и до идеи процессии — πόμπη). Тема непрерывного пребывания девушек в Илионе присутствует почти во всех источниках. Опираясь на этот факт, попытаемся представить, как все происходило в действительности. Акцент одной из двух традиций приходится на то, что объединяет отправку девушек в Илион, «аренду железного стада» и договор Никия и Сосия, — неизменное число рабынь (ήύτε δούλοι — «как рабыни» — говорит цитируемый Плутархом поэт; έδούλευον — «они становились рабынями» — читаем у Тимея[730]). Ликофрон проводит параллель между преступлением Аякса и осквернением брачных норм, потом риторически развивает эту тему, лишая девушек радостей замужества и материнства. Другая же традиция, настаивающая на временном (один год) характере службы, напротив, лишает ее драматизма и превращает в подобие банальной литургии. Именно этой традиции, как мы видим, близка надпись из Витриницы[731]. Учитывая данное обстоятельство, я, как и Момильяно, не вижу ничего невероятного в том, что из всех пунктов первоначального договора впоследствии, в эллинистическую эпоху (после вмешательства «царя Антигона»), были заимствованы те, в которых речь шла о сравнительно быстрых способах замены девушек.
И все же, даже если мой подход правилен и мы должны обратиться к «договору о бессмертии» (ограниченном тысячью лет), чтобы понять и объяснить имеющуюся традицию, вряд ли мы сможем восстановить изначальный договор. Ежегодная отправка девушек представляется вполне вероятной (так, мы могли бы сопоставить ее с подношениями гипербореев Делосу[732]), но остается неясным, почему мы должны считать ее «изначальной». Что касается возникшей в недрах античной традиции альтернативы, о которой впервые сообщил Ликофрон, она выглядит излишне запутанной и приукрашенной. Поэтому лучше признать наше неведение и согласиться, что первоначальный договор был таков, что породил двойную традицию[733]. По крайней мере, именно это я и хотел показать.
4. Рабство и гинекократия в традиции, мифе и утопии[734]
Этот очерк — попытка совместить два подхода. Первый — прямое обращение к социальной истории, к исследованиям последнего времени, посвященным тем категориям зависимого населения, которые Поллукс называл μεταξύ δè ελευθέρων καΐ δούλων («между свободными и рабами»), — лакедемонским илотам, фессалийским пенестам, критским кларотам и др. Итог результатам этих иссследований подвел М. Финли[735], по мнению которого античность есть переход от одного типа общества, где статус индивида находился между свободой и несвободой, к другому, идеальным примером которого считаются классические Афины, где противоположность между гражданином и рабом была четкой, глубокой и абсолютной.
Разумеется, если рассматривать только спартанских гомеев, с одной стороны, и афинских граждан, с другой, можно прийти к выводу (как это часто делается), что различие между демократическим полисом и полисом, который Платон называл «тимократическим», — всего лишь в одну ступень. Два полиса (три — если к ним добавить строившуюся на имущественном цензе олигархию) были основаны на принципе равенства и отличались лишь числом своих полноправных участников. Однако ситуация выглядит совсем иной, если рассматривать полис как социальный организм в целом.
Следуя этой логике, я уже пытался показать, что политической пассивности афинских рабов, которых невозможно представить добивающимися доступа к государственным должностям, противостояла реальная политическая активность илотов и пенестов[736]. История Спарты вплоть до эпохи Набиса изобилует восстаниями илотов. Уроки этой истории хорошо усвоил Платон, которому принадлежит следующее высказывание: «Чтобы рабы лучше подчинялись, они не должны быть между собой соотечественниками, а, напротив, должны, по возможности, больше разниться по языку» (Платон. Законы. 777d, пер. А. Н. Егунова).
Именно эти выводы я бы хотел теперь проверить на основе данных не социальной или политической истории, а мифологии, следуя образцовым работам К. Леви-Стросса (второй подход). Греческие мифы, дошедшие до нас через классическую традицию, требуют дифференцированного восприятия. Следует различать мифы о происхождении, или становлении порядка, и легенды. Что касается первых, то они эволюционировали от космогонических мифов с элементами социального к чисто космологическим построениям, а от них — к собственно гражданским мифам, изображавшим «изначальный» полис как переход от хаоса к порядку, от природы к культуре. Легендарная же традиция, хотя и включала элементы мифов, воспринималась и трактовалась как историческая. Наконец, утопия, находящаяся на стыке мифологического и социального, представляет для меня интерес с точки зрения того, что в ней сохранилось, и того, что было ею отброшено. Как заметил Льюис Мамфорд (Mumford L.), греческие авторы утопий, «не могли... допустить даже в качестве отдаленного идеала возможность упразднить неизменное деление на классы или покончить с военными учреждениями. Греческим утопистам было проще выдумать общество без институтов брака или частной собственности, чем без рабства, классового неравенства и войн»[737].
Почему я решил обратиться к теме рабов и женщин в одном исследовании? Потому что греческий полис в его классическом виде характеризуется двойным «исключением»: женщин (полис — «мужской клуб») и рабов (полис — «гражданский клуб»). Правильнее было бы говорить о тройном «исключении», так как полис отвергал и чужеземцев, однако отношение к рабам можно считать крайней формой отношения к чужеземцам.
Безусловно, эти «исключения» нельзя ставить рядом. Но по крайней мере один грек говорил об общности судеб женщин и рабов, и звали его Аристотель. В отрывке о Спарте он напоминает, что женщины составляют «половину полиса», то ήμισυ της πόλεως, и законодатель не должен забывать об этом. Философ рассуждает об опасных последствиях смягчения положения (anesis) женщин и илотов. В обоих случаях эта опасность — политическая в прямом смысле слова: послабления илотам заканчиваются их восстаниями и стремлением к равноправию, а женщины, правя теми, кто управляет, сами правят полисом (καίτοι τί διαφέρει γυναίκας άρχειν ή τους άρχοντας υπό των γυναικών αρχεσθαι) (Аристотель. Политика. I. 1269b. 7 сл. 33—34).
Аристотель возвращается к этому сюжету в отрывке, посвященном демократии (там же. V. 1313b. 32—39), и пишет о той же опасности, правда, на сей раз не связанной напрямую с политикой. Anesis по отношению к рабам и власть женщин в доме (γυναικοκρατία τε περί τας οικίας) ведут демократический полис к тирании, хотя, строго говоря, речь не идет о власти рабов или гинекократии как таковой. Женщины и рабы, поясняет Аристотель, не выступают против тиранов, потому что при тирании, как и при демократии, женщинам и рабам живется хорошо.
Наконец, не стоит забывать, что для Аристотеля различие между господином и рабом, с одной стороны, и мужчиной и женщиной, с другой, — того же порядка, что и различие между душой и телом, между властвующим и подчиненным (там же. I. 1254а. 34—Ь16). А в другом месте философ замечает: «...и женщина бывает хорошая, и даже раб, хотя, быть может, первая и хуже (мужчины], а второй и вовсе худ (καίτοι γε ίσως τούτων то μεν χείρον, то δε όλως φαυλόν εστίν)» (Аристотель. Поэтика. 1454а. 20, пер. Μ. Л. Гаспарова). В дальнейшем мы еще вспомним об этих высказываниях Аристотеля.
Знала ли греческая античная традиция рассказы о правлении рабов и царстве женщин? Если да, то существует ли некая связь между этими рассказами? Обратившись к первой теме, мы обнаружим, что — если оставить в стороне хорошо известные и тем не менее темные эпизоды, связанные с эллинистической эпохой, такие, как рассказ о «городе солнца», основанном Аристоником (Эвменом III) в Пергаме[738], или относящийся к Хиосу анекдот Нимфодора Сиракузского (Афиней. VI. 265с— 266е)[739], — мифологическая традиция, повествующая о «полисе рабов» (Doulopolis или Doulon polis), весьма скромная. Без сомнения, уже само понятие — «полис рабов» — должно было казаться грекам очень странным. Так, один из персонажей комедии «Анхиз» Анаксандрида (автора «средней» комедии) прямо говорит: «У рабов, мой друг, нету полиса» — ουκ εστι δούλων ώγαθ ' ούδαμοϋ πόλις[740]. Историки, комедиографы (увы, дошедшие лишь в цитатах лексикографов), составители сборников пословиц донесли до нас отдельные упоминания о «полисе рабов» — мифическом месте, куда достаточно принести камень, чтобы стать свободным[741], полисе, который традиция прочно отождествляла с городом плохих людей (Poneropolis)[742] или с городом, где свободным считался лишь один человек — жрец[743].
Примечательна локализация «полиса рабов» по этим источникам: либо варварские страны (Египет, Ливия, Кария, Сирия, Аравия), либо Крит[744]. В частности, с Критом его связывал историк Сосикрат, интересовавшийся терминами, которые обозначали «рабов» или, скорее тех, кто находился «между свободными и рабами», и были широко представлены на этом острове — классическом заповеднике разнообразных форм рабства[745]. Но ни один текст не упоминает о «полисе рабов» в тех регионах греческого мира, где практиковалось рабство в строгом смысле слова — основанное на рынке chattel-slavery[746]. Складывается впечатление, что греческие авторы, обращаясь к теме «полиса рабов», вынуждены были искать его или на далекой варварской окраине, или в областях, где «рабы» не были, строго говоря, рабами. К критскому Дулополю я добавил бы Навпакт, основанный в середине V в. до н. э. бежавшими из Мессении илотами, другие полисы мессенцев и саму Мессену, восстановленную после похода Эпаминонда против Спарты. Став илотами, мессенцы продолжали считаться греками и дорийцами, подобно лакедемонянам. Павсаний утверждает, что изгнание на три столетия части мессенцев за пределы Пелопоннеса не только не привело к исчезновению у них дорийского диалекта, но, наоборот, способствовало тому, что в римскую эпоху «из всех пелопоннесцев они сохранили его в наибольшей чистоте» (Павсаний. IV. 27. 11, пер. С. П. Кондратьева). Все это позволяет говорить о праве этих «рабов особого типа» (праве, постоянно ими отстаиваемом) на политическое существование[747].
Обратимся теперь к женщинам. Исследованиям в этой области был дан новый импульс благодаря работам Симона Пемброука о «матриархате» у древних греков[748]. В прошлом веке Бахофен, а вслед за ним Ф. Энгельс и многие другие видели в «матриархате» один из этапов истории человечества. Его проявления, например описываемые Геродотом ликийские обычаи (Геродот. I. 173), считались «пережитками» прошлого. С. Пемброук не только показал, что многие древние источники здесь не выдерживают критики и что, к примеру, в ликийских надписях не обнаружено никаких упоминаний о матриархате, но и объяснил внутреннюю логику самой концепции. Идет ли речь об амазонках или ликийцах, за всем этим скрывается полис, своеобразный «мужской клуб», который греческие историки и «этнографы» пытались обрисовать с помощью диаметрально противоположных ему образов и понятий[749]. У Геродота есть замечательный пример подобного рода инверсии (reversai) — описание обычаев Египта как полной противоположности греческих обычаев (Геродот. II. 35). Вымышленное царство амазонок — антипод греческого полиса, а известный своими «злодеяниями» Лемнос — классическая «ганекократия»[750]. Хор из «Хоэфор» Эсхила, говоря о Клитемнестре, использует заимствованные из его же «Агамемнона» образы полуженщины-полумужчины (Эсхил. Агамемнон. 10—11, 350; ср.: там же. 259—260)[751], «самки, убивающей самца» (θήλυς αρσενος φονεύς — 1231) — монстроподобного существа, оставшегося за барьером, отделяющим дикость от цивилизации. Хор вещает: «Союз, что связывает супругов, предательски побежден безудержной похотью, которой женщина отдается, словно зверь» (Эсхил. Хоэфоры. 599—601). Но слово thelukrates, переводимое П. Мазоном как «покоряющий женщин», может также означать: «покоряющийся власти женщин», и первое из преступлений, на котором останавливается хор (там же. 631—634), связано с лемносскими женщинами, чье «правление» вылилось в убийство их собственных мужей.
И все же традиция упоминает о власти женщин и в позитивном смысле; связанные с ней тексты относятся не к Афинам[752], а к Спарте, «мужскому» полису, которому тем не менее, как полагал Аристотель (см. выше), угрожала опасность узурпации политической власти женщинами. Так, Плутарх приводит слова Горго, жены Леонида, той самой, которая, согласно Геродоту (Геродот. V. 51), помешала Аристаго-ру из Милета подкупить Клеомена. Одной своей собеседнице, сказавшей: «Лишь вы, спартанки, командуете своими мужьями», — Горго ответила: «Это так, ибо только мы и рожаем мужей» (Плутарх. Ликург. XIV. 8)[753]. Примером Спарты, а не Афин вдохновляется Платон, размышляя о месте женщин в «Государстве».
С учетом вышеизложенного было бы интересно проверить, существовала ли традиция, сближавшая власть женщин и власть рабов. Скажу сразу, что такая традиция существовала, и рассмотрю четыре примера.
Первый пример связан с известным историческим фактом: поражением Аргоса от Спарты в сражении у Сепии, датируемом разными исследователями между 520 и 494 гг. до н. э.[754] Наш самый ранний источник — Геродот (Геродот. VI. 77, 83) предваряет рассказ цитатой из дельфийского оракула, предсказавшего, что «женщина одержит верх над мужчиной и стяжает славу среди аргивян» (Άλλ ' δταν ή θήλεια τον άρσβνα νικήσασα έξελάση καΐ κυδος- έν'Αργβίοισιν άρηται). Итак, Аргос побежден, а его мужчины перебиты («многие аргивянки, — вещает оракул, — расцарапают свои лица» — вероятно, в знак траура). Власть переходит в руки рабов, и они правят до тех пор, пока юные аргосцы не достигают зрелого возраста. Рабы убегают в Тиринф, но в конце концов аргосцы изгоняют их и оттуда. В рассказе Геродота власть женщин и власть рабов одновременно и вместе, и отделены друг от друга: первая упоминается в оракуле, вторая — в историческом повествовании. Подобного разделения мы не найдем у преемников Геродота, которые, естественно, исказят первоначальную версию, хотя это не имеет принципиального значения, поскольку нас здесь интересует не реконструкция исторического факта, а выявление логики мифа. Важно то, что уже у Геродота Аргос представляет собой «перевернутый мир», где женщины правят мужчинами, а у власти находятся рабы[755].
Плутарх (Плутарх. О доблести женщин. 245с сл.), по-своему комментируя Геродота, приписывает ему слова о том, что рабы женились на аргивянках после того, как полис лишился всех своих мужчин. Для своего рассказа Плутарх заимствует у аргосского историка Сократа новый персонаж — поэтессу Телесиллу, которая мобилизовала женщин Аргоса на защиту родного города, предварительно заставив их переодеться в мужскую одежду. Впоследствии это дало аргивянкам право возвести памятную статую богу воинов Эниалию. Плутарх также сообщает, что в Аргосе в честь отважных женщин и поныне справляется праздник Hybristika, во время которого мужчины и женщины меняются своими платьями.
Павсаний (Павсаний. II. 20. 8—9) придерживается другой версии, утверждая, что Телесилла привлекла к обороне всех, кто мог прийти на помощь: женщин, детей, стариков, рабов (oiketaî), — словом, тех, кто обычно не участвовал в военной жизни полиса.
Но кем в действительности были эти рабы? Аристотель, также упоминающий об эпизоде «междуцарствия рабов» (Аристотель. Политика. V. 1302b. 33—1303а. 14), ничего не говорит о женщинах и довольствуется сообщением о том, что аргосцы «были вынуждены принять в состав своего полиса некоторое количество периэков». Как показано Уиллеттсом, для Аристотеля «периэки» — зависимое сельское население вроде спартанских илотов (Willetts 1959: 496). Нет сомнений, что аргосские «рабы», о которых сообщается в наших текстах, относились к так называемым «гимнетам», т. е. «нагим» (в отличие от тех, кто носил гоплитские доспехи), — подневольным жителям Аргоса. Отметим одну примечательную деталь: желая привести аналогичный пример из истории Афин, Аристотель пишет о наборе в войско не рабов, а гоплитов, не попавших в основной список, т. е. фетов — граждан, образовывавших низший класс с точки зрения имущественного ценза.
Второй пример заимствован у более поздних авторов, излагающих очень похожий на описание аргосских событий рассказ. На этот раз речь идет о Кумах в Великой Греции, где в 505/504 г. до н. э. Аристодем установил тиранию, истребил или изгнал аристократов и раздал их имущество, жен и дочерей рабам, убившим своих хозяев[756]. Оставалось, как гласит наш главный источник — Дионисий Галикарнасский, решить участь малолетних сыновей аристократов. Вначале Аристодем вознамерился их убить, но после уговоров матерей и их новых сожителей отправил мальчиков в сельскую местность, чтобы они, как рабы, возделывали поля и пасли скот. Мир перевернулся: юные аристократы заняли место своих рабов и стали служить им. До сих пор рассказ выглядит правдоподобным, но то, что следует дальше, кажется весьма странным. Сосланные в деревню юноши воспитывались как девушки: покрытые специальной сеткой вьющиеся длинные волосы, вышитые платья, зонтики, бесконечные ванны и благовония (Дионисий Галикарнасский. Римские древности. VII. 9. 4). Трудно не вспомнить сходные обряды во время аргосских Hybristica или афинских Осхофории[757]. Но вот наступает момент, когда «сыновья» (все одногодки, как в Аргосе) восстают и с помощью изгнанных представителей знати свергают тирана (Он же. Римские древности. VII. 9. 6). Рассказ Плутарха придает эпизоду «гинекократический» оттенок. Ксенокрита, дочь одного из изгнанников, стала возлюбленной Аристодема. Она и некая женщина из Кум, однажды заявившая, что в городе есть только один мужчина (aner) — Аристодем, убедили молодых людей свергнуть тирана (Плутарх. О доблести женщин. 262b—d). Здесь снова оказались переплетенными власть рабов и власть женщин (последние обеспечили преемственность законной власти). Однако не так-то просто ответить на вопрос, кем были в действительности кумские «рабы». Учитывая, что они жили в сельской округе, пытались действовать сообща и выдвигали политические требования, мы можем с большей уверенностью говорить об их «илотском», а не «афинском» типе.
Мой третий пример касается известного предания о возникновении Локр Эпизефирийских в Южной Италии, локрийской колонии, основанной выходцами либо из Опунта, либо из Озольской Локриды[758]. Основание города послужило предметом оживленного спора между Аристотелем (или неким перипатетиком, автором «Конституции Локр») и сицилийским историком Тимеем из Тавромения, спора, дошедшего до нас благодаря Полибию, который вел полемику с Тимеем[759]. Аристотель полагал, что Локры были основаны малосимпатичными людьми — беглыми рабами и работорговцами, а Тимей, возражая, писал, что в древности «у греков не практиковался обычай пользоваться услугами купленных рабов»[760]. Полибий, бесспорно, вторящий Аристотелю, приводит историю о том, как локрийцы — союзники Спарты во время Мес-сенской войны (скорее всего, первой) — были вынуждены воздерживаться от сношений со своими женами[761], которые нашли замену мужьям среди рабов. Именно эти жены и их сожители-рабы и стали первыми колонистами южноиталийских Локр. Вот почему в этом полисе все знатные роды происходят не по мужской, а по женской линии: Πάντα τα δια προγόνων ένδοξα παρ' αύτοίς από των γυναικών ουκ από των ανδρών έστιν (Полибий. XII. 5. 6). Некоторые из основательниц Локр принадлежали к тем ста знатным семействам, чьей «почетной литургией» было ежегодно посылать двух девушек в услужение к Афине Илионской[762].
Впрочем, настроенный на компромисс читатель скажет, что Аристотеля и Тимея можно «примирить» — по крайней мере, на уровне традиции. В одной широко известной надписи[763] — бронзовой табличке из Галаксиди (Западная Локрида) засвидетельствовано существование в Локриде практики илотии в древности (начало V в. до н. э.). Надпись содержит наставления колонии, основанной восточными локрийцами в Навпакте, и, в частности, предписывает (строки 43—45) в качестве наказания должностного лица, не откликнувшегося на жалобу истца, конфискацию его имущества, включая участок земли с «рабами»: Και χρέματα παματοφαγεΐσθαί, то μέρος μέτα Fοικιαταν. Несмотря на комментарий Гесихия о том, что hapax οίκιήτης обозначает купленного раба[764], у меня нет сомнений, что локрийского Fοικιήτης, который был прикреплен к участку земли гражданина, следует скорее отождествлять с критским Fοικευς, т. е. с илотом. Таким образом, ничто не мешает признать, что, согласно традиции, которой придерживались Аристотель и Полибий, локрийские «рабы», женившиеся на своих хозяйках, были по своему положению близки аргосским гимнетам.
Роль женщин представляется не менее значительной, хотя Полибий и не говорит прямо (как следует из сказанного выше) о том, что аристократия Локр Эпизефирийских вела свое происхождение по женской линии. Историк просто сообщает, что у истоков локрийской «знати» стояла группа женщин, принадлежавших к гражданскому коллективу, по большей части — к знатным семействам, и что их мужьями были «рабы»[765]. Ссылаясь на ту же традицию, Полибий замечает, что во главе процессии, практику организации которой локрийцы якобы заимствовали у сикулов, шла девушка, а не юноша (Полибий. XII. 5. 10-11).
Такую же связь между полисными «гражданками» и «рабами» мы найдем в более сложной по своему составу легенде об основании Тарента. Это — четвертый пример[766].
Хотя все источники единодушно характеризуют основателей Тарента как презираемую на их исторической родине, Спарте, группу лиц, называемых partheniai, мы имеем дело, по крайней мере, с тройной традицией. Самая ранняя версия представлена современником Фукидида Антиохом Сиракузским;[767] согласно ей, во время первой Мессенской войны спартанцы исключили из числа своих сограждан тех, кто не участвовал в сражениях. Исключенные были объявлены рабами (εκρίθησαν δούλοι), и их самих, а также их потомков, получивших название парфениев, причислили к илотам. Парфении устроили заговор, но он был раскрыт эфорами, заговорщиков изгнали из полиса и выслали в Италию. Перед нами, помимо мифа о возникновении Тарента, еще и миф о происхождении спартанского «рабства»: первыми илотами были дезертиры, трусы (tresantes), презираемая часть спартанского общества[768].
Страбон противопоставляет этой версии другую, которой придерживался историк IV в. до и. э. Эфор, а значит — и все его прямые и косвенные последователи[769]. Во время войны с мессенцами лакедемоняне поклялись не возвращаться домой, пока не одержат победу. Однако война затягивалась, дети не рождались, и поэтому было принято решение, что юноши, не приносившие клятву, должны вернуться в Спарту и как можно скорее вступить в связь со всеми девушками (συγγίνεσθαι ταις παρθένοις άπάσαις άπαντας)[770]. Дети от этих беспорядочных связей, знавшие своих матерей, но не знавшие своих отцов, получили прозвище парфениев. Иными словами, это были дети, рожденные не в обычном, моногамном, а в групповом браке[771].
Третья версия — самая простая — сближается с традицией, повествующей о происхождении Локр Эпизефирийских. Жены спартанцев, пока те находились на войне, делили ложе с рабами, и в результате на свет появились внебрачные парфении[772].
Некоторые источники менее согласуются с этими тремя версиями. Из не совсем ясного отрывка «Политики» Аристотеля скорее всего следует, что парфении подвергались политической дискриминации и вопрос об их происхождении не являлся предметом спора[773]. Далее: в одном фрагменте из Диодора Сицилийского, опубликованном в 1827 г.[774], содержится составленное на основе различных источников описание восстания в Спарте после Первой Мессенской войны. Самыми активными его участниками были epeunaktai, или, следуя определению Гесихия, sygkoimetai — «разделяющие ложе»; именно они организовали заговор, а впоследствии, задумав основать колонию, установили контакты с Дельфами. Кроме них в восстании участвовали и парфении, заключившие со Спартой соглашение, после того как заговор был раскрыт. Было бы заманчиво предположить, что вторые — сыновья первых, хотя это предположение недоказуемо[775]. Их часто путают, к тому же Гесихий считает слово epeunaktoi синонимом слова partheniai. Однако Феопомп полагает, что epeunaktai (или epeunaktoi в его написании[776]) — илоты, которые во время Мессенской войны (не уточняется, какой) заняли место павших спартанцев, причем не в их супружеских постелях, a έπί тас στιβάδας — на их походных циновках[777]. Важно отметить, что в мифах, относящихся к Спарте, «раб» мог заменить гражданина в отправлении его главнейшей обязанности — военной.
Во всех этих различных версиях неизменно присутствует один общий элемент, а именно женщины, которые гарантируют если не собственно власть, то, по крайней мере, ее продолжение, преемственность. Ведь парфении являются прежде всего сыновьями женщин, и только затем — сыновьями мужчин. «Переменная величина» — как раз отцы, однако все вариации на эту тему в одном сближаются друг с другом. В первом случае отцы — трусы, во втором — юноши, в третьем — «рабы», а у Аристотеля, возможно, политические аутсайдеры. В первом случае их выделяют по моральным соображениям, во втором — по их месту в системе возрастных групп, в третьем — по социальному признаку, а в четвертом — по их роли в политической жизни. Эти вариации объединены общей темой: отцы парфениев находятся и в полисе, и вне его, они — маргиналы. То же самое мы можем сказать об аргосских «рабах», мужьях основательниц Локр. Перед нами — социальная «иерархия наоборот».
Об этой инверсии открыто свидетельствуют нарративные тексты, повествующие об основании Тарента и Регия (традиция их часто путает)[778]. Оракул предрек колонистам основать Регий на том месте, где коза покроет козла, где «самка овладеет самцом» (τον αρρενα υπό της θηλείας όπυόμενον), что напоминает пророчество, данное аргосцам[779]. Предсказание оракула нашло свое воплощение в диком фиговом дереве (мужское начало), оплетенном виноградной лозой (женское начало)[780]. Еще один способ показать «мир наоборот» — заявить основателям Тарента, что новый город следует построить там, где безоблачное небо прольется дождем[781]. Все пророчества таковы, что в них одно легко заменяется другим.
И все же такой «перевернутый мир», в котором женщинам и «рабам» отводится столь видное место, вполне можно представить. Если в Афинах использование рабов в военных целях было делом исключительным и поэтому сопровождалось их освобождением[782], то в Спарте участие илотов в войне (как в случае с epeunaktoi Феопомпа) — обычное явление[783]. Свадьбы рабов и свободных женщин были предусмотрены Гортинскими законами: «Если раб (dolos) приходит в дом к свободной женщине и женится на ней, их дети будут свободными; если же свободная женщина приходит в дом к рабу и выходит замуж за него, их дети будут рабами ([αί κ' δ δόλος] έπί ταν ελευθέραν έλθόν όττυίει, έλεύθερ εμεν τα τέκνα, αί δέ κ'ά ελευθέρα εττι τον δολον, δολ' εμεν τα τέκνα)»[784]. Спартанские брачные установления классической эпохи хотя и не предусматривали подобных союзов открыто, тем не менее позволяли мужу и жене иметь партнера-заместителя (Ксенофонт. Лакедемонская полития. I. 7—8). Определенную связь между рабами и женщинами можно проследить и в религиозной жизни Рима. Так, во время сатурналий хозяева (domini) прислуживали своим рабам (servi), а при праздновании матроналий мужья воздавали почести женам, которые устраивали пир для рабов-мужчин[785]. Этот факт — дополнительное свидетельство того, что архаический Рим был ближе Спарте, нежели Афинам.
Для Афин ситуация, когда свободная женщина выходит замуж за раба, — немыслима. Афинские нормы брачного права были более жесткими[786]. За исключением особого случая эпиклеры-ижледшщы, брак в Афинах влек за собой переход девушки из одного ойкоса в другой, тогда как имеющиеся в нашем распоряжении источники показывают, что спартанка могла принадлежать одновременно двум ойкосам (Ксенофонт. Лакедемонская полития. I. 7—8; Плутарх. Ликург. 15). Даже крайние меры Афин отличались от спартанских: восходящая, вероятно, к Аристотелю традиция гласит, что при нехватке мужчин афинскому гражданину разрешалось иметь детей от другой афинской гражданки, не являвшейся его женой[787]. Подчеркну: речь идет только о гражданах. Не существовало ни одного закона, позволявшего «вербовать» мужчину на место супруга среди рабов или метеков, несмотря на то что последние, как правило, участвовали в армейской службе.
Различие между Афинами и Спартой в данной сфере хорошо показано в двух рассказах Геродота, связанных с Лемносом: один из них касается спартанцев, другой — афинян (Геродот. IV. 145; VI. 137—138). Потомки аргонавтов и лемносских женщин прибыли в Спарту и заявили, что они — минийцы и их предками были жившие здесь еще до пеласгов автохтоны. Лакедемоняне приняли гостей и обменялись с ними женщинами, однако впоследствии чужеземцы стали вести себя надменно, и лакедемоняне решили их убить. «Минийцев» спасли их жены: мужья, переодетые в платья своих жен, сумели уйти в горы[788]. Итогом этих событий стала колонизация Феры. В Афинах же пеласги были изгнаны из города за оскорбление дочерей афинян, и поэтому им пришлось удалиться на Лемнос. В отместку они похитили многих афинянок и сделали их своими наложницами, а те обучили родившихся у них детей аттическим обычаям и языку. В итоге все закончилось истреблением наложниц и их детей[789]. Афинский рассказ — полная противоположность спартанскому. В Спарте браки с чужеземцами завершились колонизацией, тогда как конкубинат чужеземцев с афинянками привел к бойне — одному из «лемносских злодеяний». Системы ценностей двух полисов тоже оказались диаметрально противоположными.
Со времени принятия закона 451 г. до н. э. брак в Афинах существовал между двумя крайностями. Одна крайность — разумеется, инцест. «Чиста ли птица, поедающая птичье мясо?» — вопрошает Данай в «Просительницах» Эсхила (стк. 226). О другой крайности говорится в «Просительницах» Еврипида. Тесей с негодованием узнает от одного аргосца, что тот по совету Аполлона выдал своих дочерей замуж за «кабана и льва», двух диких зверей, двух чужеземцев — Тидея и Полиника:
Тесей: Чужим ли отдал ты юниц аргосских? Адраст: Тидею и фиванцу Полинику. Тесей: А что тебя склонило к этим узам? Адраст: Пророчества неясные от Феба. Тесей: Что ж Аполлон вещал о браках дев? Адраст: За кабана и льва велел их выдать... Тесей: Но кто ж, однако, — речь ты вел о двух?.. За женихов их принял, за зверей?.. Блистательную кровь сливая с темной, Ты портишь род... (Еврипид. Просительницы. 135—145, 223—224, пер. С. Шервинского)Древним Афинам, где чужеземцы всегда находили убежище (вспомним потомков Нелея из Пилоса, которых на пути в Ионию приютили Афины)[790], конечно, были знакомы мифы, подобные спартанским. Однако в классическую эпоху все изменилось, и мы не найдем ни одного упоминания о браках афинянок с чужеземцами. Что касается браков афинян с чужеземками, то подобные союзы были весьма распространены в аристократической среде, пока демократы не запретили их в 451 г. до н. э.
Мы можем восстановить, правда на основании поздних источников, один миф, позволяющий прояснить картину происхождения как «мужской демократии», так и афинского брака[791]. Во время спора Афины и Посейдона за покровительство над городом Кекропа был получен, как сообщает Варрон[792], оракул, возвещавший, что царю следует посоветоваться с народным собранием относительно выбора полисного божества. В те времена афинское собрание включало женщин (mos enim tunc in eisdem locis erat ut etiam feminae publicis consultationibus intéressent), и, поскольку их было больше, чем мужчин, победу одержала Афина. Мстя за поражение, мужчины постановили, что «отныне афинянки не будут участвовать в голосовании, что дети больше не будут носить имя матери и что теперь никто не будет называть женщин "афинскими"». Действительно, в классическом полисе нет понятия «афинянки», вместо него — «жены или дочери афинян». Это характерно даже для комедий, в которых мужчины и женщины иногда меняются ролями. Например, в «Женщинах на празднестве Фесмофории» (Аристофан. Женщины на празднестве Фесмофории. 335—336, 372—373) Аристофан говорит о Совете женщин или Народе женщин, но никогда — о Совете или Народе афинских женщин[793]. Смысл другого запрета становится понятным после знакомства с источниками, в которых Кекроп предстает в качестве первого учредителя брака[794]. Обычно его прозвище diphues — «имеющий две природы» — трактуется как эпитет получеловека-полузверя, но вышеупомянутые источники называют его так потому, что он, будучи основателем института брака, учил, что у каждого человека имеются отец и мать. Согласно Клеарху, до этого сексуальные контакты были случайными, и никто не знал своего отца, поэтому людей распознавали по именам их матерей. Таким образом, нововведение Кекропа было сродни деянию культурного героя, о чем, кстати, говорится в схолиях к «Богатству» Аристофана (773): από άγριότητος εις ήμερότητα ήγαγεν («он привел диких (афинян] к культуре»). Упоминаемая Варроном гинекократия (женщины голосуют, и их голоса составляют большинство) соответствует состоянию дикости, изначальному хаосу. Как мы уже видели, подобные черты присутствуют и в рассказе об основании Тарента. Но если в случае с Тарентом речь идет лишь об изначальной истории города, то афинский миф проходит через всю историю и служит обоснованием реальной социальной практики.
Данные афинской традиции говорят о происхождении брака и исключении женщины из политической жизни, но они молчат относительно того, что было общего или, напротив, различного в положении рабов и женщин. Как представляется, именно в этом вопросе Афины — полный антипод Спарты или Локр.
Я уже отмечал, что в «перевернутом мире», описываемом в рассказах о Первой Мессенской войне, теме возрастания роли «рабов» сопутствуют рассуждения об их происхождении по материнской линии. Классические Афины тоже могут похвастаться своим «перевернутым миром», который предстает в комедиях-утопиях Аристофана. В «Птицах» (Аристофан. Птицы. 70—75) удод — хозяин птицы-раба, и, когда афинянин Эвельпид выражает по этому поводу удивление, «слуга» отвечает, что он нужен удоду, поскольку тот когда-то был человеком. В «Лисистрате» (Аристофан. Лисистрата. 345 сл.), где женщины захватывают Акрополь, тема «перевернутого мира» звучит в словах оракула, весьма напоминающих пророчество, адресованное аргосцам:[795]
В день, когда ласточки стаей слетятся в единое место, Грубых удодов оставив, удодовых ласк избегая, В бедах спасенье дарует и низшее сделает высшим
(τα δ'υπέρτερα νέρτερα)
Зевс громовержец!
(Аристофан. Лисистрата. 770—773, пер. А. Пиотровского)
И в самом деле, Лисистрата однажды обращается к скифским лучницам, в тексте комедии также упоминаются рабы и невольницы (18, 184, 244)[796].
Но самое лучшее свидетельство — «Женщины в народном собрании». Фабула пьесы основана на двойном маскараде: действие начинается с праздника Афины Скиры, во время которого женщины носят бороды (18, 25)[797], а затем афинянки переодеваются в мужские платья с целью проголосовать в экклесии за закон, дающий им власть. Коммунистический режим, задуманный женщинами, показан в комедии как логический финал демократии. Он предполагает обобществление всех видимых и невидимых богатств, включая рабов: запрещено одним иметь все, другим — ничего. Но землю, разумеется, должны обрабатывать рабы, а их хозяева будут в неге дожидаться обеденного часа[798]. Все эти фантазии довольно банальны, более оригинально изображается сексуальная жизнь при такой феминистско-коммунистической демократии. Всех женщин, молодых и старых, должны обслуживать молодые люди — граждане полиса (Аристофан. Женщины в народном собрании. 938—945). О рабах-мужчинах нет ни слова. В то же время рабыни, исключенные из числа тех, кто пользуется любовными услугами молодых граждан, спят со слугами-рабами (там же. 721—724).
Таким образом, слова Аристотеля, приведенные выше (см. с. 229), находят подтверждение: положение женщин и рабов не было одинаковым. Утопия Аристофана допускала верховную власть женщин в полисе, Платон почти уравнивал их с мужчинами, а рабы совершенно исключались из полисной жизни. Такое положение вещей прослеживалось в мифе, легендарной традиции и утопии сравнительно долго[799].
Миф трактовал понижение статуса афинской женщины как один из шагов на пути от варварства и хаоса к гражданскому порядку. Разделение же общества на свободных и рабов никогда не рассматривалось с подобных позиций.
Иная ситуация наблюдалась в архаических обществах, самым известным из которых была Спарта. Рабство здесь воспринималось как историческая категория (я рассмотрел лишь одну из традиций, связанных с этой темой; на самом деле их существовало множество), а в положении женщин и рабов прослеживалось много общего. И те, и другие занимали свое определенное место (которое, впрочем, могло варьироваться) в социальной шкале между свободой и рабством.
Что касается оппозиции Афины — Спарта, то я надеюсь, что мое исследование внесло свой вклад в ее показ.
5. Этюд о двусмысленном: ремесленники в городе-государстве Платона[800]
Тема этого очерка — статус ремесленников в «Законах», последнем политическом сочинении Платона. На первый взгляд, тема вовсе не выглядит двусмысленной. Отрывок из восьмой книги кажется настолько ясным и категоричным, насколько это вообще возможно: «Вот как следует теперь поступать с людьми ремесла [демиургами]. В первую очередь, пусть никто из местных жителей (т. е. граждан платоновского полиса] не занимается ремесленным трудом, и пусть им не занимаются и рабы местных жителей» (Платон. Законы. VIII. 846с!)[801]. Чуть ниже Платон оправдывает данный закон, объясняя, что невозможно заниматься двумя ремеслами одновременно. Быть гражданином — это ремесло, развивающее добродетель (ή της αρετής επιμέλεια — там же. VIII. 847а) и исключающее занятие любым другим ремеслом. Поэтому закон Платона — двойной, затрагивающий как ремесленников, так и граждан. Итак, гражданам нельзя заниматься профессиональным ремеслом. Те, кто нарушает этот закон, должны быть подвергнуты публичному осуждению (oneidos) или гражданскому бесчестию (atimia), т. е. наиболее тяжелым моральным наказаниям со стороны полиса. Что касается ремесленников, то им запрещается под угрозой штрафа либо изгнания из города совмещать — прямо или косвенно — две профессии сразу. Другими словами, кузнец не может быть одновременно и плотником, ему также не позволено организовывать плотницкую мастерскую и заставлять работать на себя других плотников (там же. VШ. 846е-847b).
В этом пассаже нет ничего неожиданного. А. Диес (Dies А.) в своем издании платоновских «Законов»[802] совершенно справедливо отсылает читателя к двум аналогичным отрывкам из «Государства», где во второй главе Платон устанавливает принципы так называемого «разделения труда» (я предпочитаю говорить о «разделении ремесел»)[803]. «Ведь земледелец, вероятно, если нужна хорошая соха, не сам будет изготовлять ее для себя, или мотыгу, или прочие земледельческие орудия. В свою очередь и домостроитель — ему тоже требуется многое. Подобным же образом и ткач, и сапожник» (Платон. Государство. II. 370с—d, пер. А. Н. Егунова)[804]. В третьей книге «Государства» философ возвращается к принципу единственного ремесла, выдвигая на первый план понятие качества: «Впрочем, и это вытекает из предшествовавшего обсуждения — ведь каждый может хорошо заниматься лишь одним делом, а не многими: если он попытается взяться за многое, ему ничего не удастся и он ни в чем не отличится» (там же. 394е, пер. А. Н. Егунова). Таким образом, в платоновском полисе, в отличие от демократических Афин периода расцвета, «...сапожник — это сапожник, а не кормчий вдобавок к своему сапожному делу... земледелец — это земледелец, а не судья вдобавок к своему земледельческому труду и военный человек — это военный, а не делец вдобавок к своим военным занятиям; и так далее» (там же. III. 397е, пер. А. Н. Егунова).
Среди персонажей, встречающихся на страницах платоновских диалогов, есть один — Протагор, который энергично отстаивает противоположную точку зрения. Его просят объяснить, почему в таком городе, как Афины, считаются с мнением плотника, кузнеца или судовладельца в вопросах управления государством, но никто не обращает внимания на отсутствие у них соответствующего опыта (Платон. Протагор. 319d). Протагор основывает свой ответ на знаменитом мифе, который он развивает в диалоге, носящем его имя: каждый человек дополнительно к присущему ему какому-то одному умению (techne) получил в дар от Зевса частичку политического опыта (techne politike) (там же. 322b—с). По словам Дж. Камбиано (Cambiano С.), «только одно умение, отличное от ремесленного, позволяет гарантировать такую совместную жизнь, при которой другие умения раскрываются во всей своей полноте, это — политическое techne. Такова основная идея мифа, рассказанного Протагором» (Cambiano 1971: 16). К этому надо только добавить, что теория Протагора вела к возникновению основ той демократии, которую сам Платон решительно отвергал.
Согласно платоновскому Протагору, демократический полис всех воспитывает и образовывает[805]. По сравнению с дикарем, цивилизованный человек — творец (demiourgos) справедливости, даже если он нарушает законы (Платон. Протагор. 327с). Отложим на время проблему двусмысленности слова, которое обозначает ремесленника, и вернемся к ней позже. Ответ Платона Протагору хорошо известен. Если каждый обитатель платоновского полиса призван заниматься своим делом, то нужно, чтобы сферы деятельности были четко разграничены. В «Государстве» ремесленники и земледельцы[806] образуют третий класс, или, говоря словами Дюмезиля, выполняют третью функцию идеального полиса (воины выполняют вторую, а философы — первую).
Теперь можно перейти к «Тимею» и «Критию», к прологу первого диалога и основной части второго, где Платон пытается показать полис своего «Государства» в историческом развитии (Он же. Тимей. 19с); самое важное отличие, однако, состоит в том, что в этих диалогах, вместо философов, полисом управляют боги. Здесь Платон вновь отстаивает принцип занятия единственным ремеслом (там же. 17с—d), и мы видим, что в мифических Афинах «Крития» акрополь, на котором возвышалось святилище в честь Афины и Гефеста, был занят исключительно воинами (Платон. Критий. 112b)[807], а земледельцы и ремесленники довольствовались периферией.
Если мы обратимся к литературе вопроса, то вряд ли откроем что-то новое. В своем капитальном труде о платоновских «Законах», написанном в духе псевдоисторической социологии, Г. Морроу (Morrow G.) посвягил небольшую главу пересказу пассажа, который послужил нам отправным. Автор сравнивает участь ремесленников с еще более тяжелой участью торговцев. В книге «Платон и ремесло» Дж. Камбиано, говоря о государстве «Законов», идет не намного дальше и отмечает, что в этом произведении «ремесленник продолжает быть более ценимым, чем торговец или раб, но он не пользуется никакими гражданскими правами и не участвует в управлении полисом»[808]. Заимствуя словарь «Протагора», Дж. Камбиано добавляет, что политическое искусство, techne politike, которое в «Государстве» было в руках хранителей мудрости, здесь распределено между всеми гражданами (т. е. между всеми землевладельцами) (Cambiano 1971). Наконец, М. Пьерар (Piérart M.), тоже сравнивающий «теорию и реальность» в полисе «Законов», посвящает рассматриваемому отрывку короткую главу, цель которой — сопоставление платоновских ремесленников с их менее знаменитыми гортинскими «собратьями» (Piérart 1974: 41— 47). При всей оригинальности подобных построений, они не приближают нас к пониманию взглядов Платона на роль ремесленников в его полисе.
Есть еще одна проблема, с которой сталкиваются все комментаторы: глубокий контраст между социальным статусом ремесленников и метафорической ролью ремесла. Всякий раз, когда Платон стремится привести пример любой целенаправленной деятельности, он обращается, прямо или косвенно, к ремесленной деятельности[809].
На уровне, граничащем с метафорическим, ткач характеризуется Платоном как образец «политической личности», владеющей искусством управления (Платон. Политик. 305е)[810]. Перед этим философ отвергает «природный» образ пастыря. Действительно, в «Законах» убедительно объясняется, что политика имеет отношение к techne, а не к природе (physis) (Платон. Законы. X. 889d-e; ср.: Он же. Политик. 275b-с). В то же время царь противопоставляется отряду профессионалов, включая ткача: «Сколько бы искусств ни занимались изготовлением (δημιουργουσι) большого ли, малого ли орудия для государства, все их надо отнести к вспомогательным причинам: ведь без них не было бы ни государства, ни политики, хотя мы и не припишем им создание царского искусства» (Платон. Политик. 287d, пер. С. Я. Шейнман-Топштейн)[811]. Странно, что философ использует образ ткача как модель для образа царя: в греческой антропологии ткачество считалось по преимуществу женским делом[812]. Наиболее близкая параллель к тексту Платона — речь, в которой Лисистрата уподобляет искусство политики искусству тканья «плаща для народа» (Аристофан. Лисистрата. 574—587)[813].
Я впоследствии обращусь к образу другого ремесленника — демиурга из «Тимея», этот образ тоже заставляет задуматься. Но уже ясно (вопреки выводам некоторых исследователей), что Платон относится к числу тех греческих мыслителей, кто не удостаивал похвалой производственную деятельность. Вслед за Эдгаром Цильселем (Zilsel Ε.) мы могли бы сказать, что — несмотря на шедевры Фидия, Апеллеса или Зевксида — античность почитала божественным язык, а не руку[814].
Но не является ли это утверждение результатом некоей иллюзии? Авторы одной недавно вышедшей книги вновь обратили внимание на почти забытую ментальную категорию, которая называется «хитрость ума» (metis)[815] и которая пронизывает всю историю греческой культуры. Жест руки ремесленника, горшечника или ткача, возможно, является таким же выражением metis, как почти звериная хитрость охотника, следопыта, рыболова или находящегося в засаде молодого воина. Творчество Платона занимает особое место в истории metis, и авторы книги приводят пример с Эротом в «Пире»: в роли посредника между иллюзорным и идеальным, Эрот — один из внуков Метиды (Metis), богини, с которой вступил в связь Зевс[816]. Но когда речь заходит о причинах длительного игнорирования metis и о том, почему «ученые, претендующие на роль духовных наследников греков, хранили столь долгое молчание относительно лукавства греческого ума», главным виновником объявляется Платон, если, разумеется, верно утверждение, что «концепция платоновской истины, задвинувшая в тень мир интеллекта с его методами постижения истины, никогда не переставала оказывать влияние на метафизическую мысль Запада»[817].
И тем не менее, платоновские тексты, о которых постоянно говорят, что в большинстве своем они описывают не мир идей, а наш собственный мир, и в частности тексты, посвященные ремеслу, при всей их кажущейся ясности, вызывают некоторое сомнение. Это чувство возникает при рассмотрении двух ключевых слов: techne и demiourgos[818].
Techne, конечно, один из самых двусмысленных и «скользких» терминов платоновского лексикона. Платон отдает себе в этом отчет в «Кратиле», где он выводит этимологию данного понятия из έξις νου, — того факта, что человеку присущ разум (Платон. Кратил. 414b), и, таким образом, наделяет термин возвышенным значением. Впрочем, это не препятствует Платону в «кульминации» диалога перейти от techne к mechane, от «искусства» к «ухищрению» (Платон. Кратил. 415а)[819] — т. е. к наиболее примитивной разновидности metis. Как справедливо отмечает Дж. Камбиано, «у Платона, episteme, dynamis и techne образуют систему понятий, которые усиливают и дополняют друг друга»[820]. В «Государстве», к примеру, Платон объединяет под главенством математики technai, dianoiai и epistemai, т. е. искусства и ремесла, мыслительные процессы и науки. Среди первых — techne polemike, военное искусство (Платон. Государство. VII. 522d—е), и упоминание о нем свидетельствует о поворотном пункте диалога. Именно потому, что занятие войной является ремеслом, Платон отделяет практикующих его воинов — стражей в его государстве, от тех, кто занимается другими видами ремесел, занятие которыми будет запрещено гражданам в «Законах» (там же. II. 374а—d).
Слово «демиург» имеет в древнегреческом языке сложную историю. В ходе своей эволюции, которую можно проследить, начиная с произведений Гомера, оно иногда обозначало высших должностных лиц в отдельных полисах (часто, но вовсе не обязательно, дорийских), а иногда — ремесленников[821]. Для наших целей не столь важно, что такой грамматик-профессионал, как Гесихий[822] считает курьезом два этих значения слова, этимология которого восходит к «тому, кто связал себя с demia - с тем, что имеет отношение к демосу»[823]. Гораздо более интересен тот факт, что Горгий, а впоследствии и Аристотель играли на двух смыслах термина «демиург»: существуют демиурги — изготовители известкового раствора и демиурги — «изготовители» граждан в Лариссе (Аристотель. Политика. III. 1275b. 29 сл.)[824]. Таким образом, уже в V и IV в. до н. э. осознавали амбивалентность данного термина. И действительно, платоновский демиург — технический работник, собственно ремесленник, рапсод, врач, художник или скульптора; все они — люди, чьи профессии связаны с материальным миром[825]. Но демиург является также творцом мира в «Тимее» и законодателем в «Законах» и «Кратиле». «Ведь даже самый захудалый ремесленник, намереваясь создать что-либо заслуживающее упоминания, должен постоянно сообразовываться с сутью дела» (Платон. Законы. V. 746d, пер. А. Н. Егунова; ср.: он же. Кратил. 389а)[826].
Использование этого слова в том месте «Законов», с которого мы начали наш анализ, кажется еще более странным, поскольку у Платона встречается другой термин, обозначающий ремесленника в узком смысле этого слова: прилагательное banausos (и субстантив banausia) с ярко выраженным презрительным оттенком[827]. Например, Платон использует banausia в сочетании с demiourgia в том месте «Государства», где говорит о том, что философия привлекает многих людей, непригодных к занятиям ею, поскольку их тела деформированы производственным трудом (υπό δε των τεχνών τε και δημιουργιών), а их души искалечены ремесленной деятельностью (συγκεκλασμένοι τε και άποτεθρυμμένοι δια τάς βαναυσίας) (Платон. Государство. VI. 495d— e). Demiourgia портит тело, душа же подвергается разрушительному воздействию, когда человек является banausos. Это различие заслуживает особого внимания, ибо оно еще раз показывает, что «демиург» у Платона — далеко не простое слово.
Однако пора обратиться к демиургам полиса магнетов на Крите, хотя и на этот раз нам не удастся прямо перейти к данной теме. Вначале придется вспомнить, как Платон размещает граждан в государстве «Законов», поскольку это важно для понимания всей нашей аргументации. Граждане являются владельцами пяти тысяч земельных участков (или, скорее, приписанными к ним геоморами), на которые поделена по жребию территория полиса, причем гражданин и его участок образуют некое единое целое (γενόμενα άνήρ καΐ κλήρος σύννομη) (Платон. Законы. V. 737е). Посередине государства располагается собственно город; и он сам, и сельская равнина (chora) поделены на двенадцать частей (mere), к которым добавлена еще одна, тринадцатая, предназначенная для Гестии, Зевса и Афины, занимающих центр с акрополем (Платон. Законы. V. 745b—с). Каждая часть закрепляется по жребию за одним из богов и двенадцатой частью населения, образующей филу, причем при разделе учитывается неодинаковое качество земли, а индивидуальные участки делятся надвое. Вся обрабатываемая земля делится на две концентрические зоны: одна — вокруг города, другая — вдоль границ. Платон говорит, что «каждый должен иметь два места жительства: одно — близ центра, другое — у границ государства» (там же. V. 745е). Таким образом, каждый земельный участок находится, с одной стороны, недалеко от городского дома, а с другой — рядом с приграничным сельским поселением. Подобная территориальная организация сводит на нет различие между городом и сельской местностью и максимально обеспечивает единство города-государства — άστυ и χώρα[828].
Речь идет пока лишь о гражданах, но полис магнетов был заселен не только гражданами и зависимыми от них женщинами, детьми и рабами. Обратимся к восьмой книге «Законов», к тем указаниям, которые дает Платон после обсуждения процедуры распределения плодов земли «критским способом» между всеми обитателями государства: гражданами, их семьями и рабами, ремесленниками и всеми иноземцами, как постоянно живущими в государстве (метеки), так и находящимися на его территории по случаю. Рынок должен быть организован для чужеземцев, и только для них (там же. 847е—848с)[829].
Платон обращается к проблеме жилья. Фразу то δε μετά τοϋτο αύτοΐς οικήσεις δεΐ χωρίς διατεταγμένας είναι (там же. 848с. 6) Λ. Робен правильно переводит следующим образом: «Затем (поговорим] об отдельном жилье, которое должно быть предоставлено людям». Слово αυτοί ç относится не только к гражданам[830], в предыдущих фразах речь определенно шла обо всем населении в целом. Утверждать, будто Платона здесь волнует проблема жилья только для граждан, означает признать то, что философ забыл, что уже рассматривал эту проблему в пятой книге «Законов». По словам Г. Морроу, «в этом отрывке отсутствует ясность, а это позволяет предполагать, что взгляд Платона еще не сформировался окончательно» (Morrow 1960: 126). В тексте нет ничего такого, что позволяло бы обвинять Платона в старческой забывчивости. О чем философ говорит дальше? В государстве должно быть двенадцать деревень (komai)[831] — по одной в центре каждого из двенадцати округов, на которые поделена вся территория (Платон. Законы. 848с. 7). Эти деревни лежат на полпути между пригородными и приграничными земельными участками граждан.
В каждой деревне, как и в городе, прежде всего выделяются религиозные и общественные земли — они отводятся под храмы и агору. Это позволяет организовать почитание главных божеств (Гестии, Зевса и Афины), местных магнесийских богов, а также богов-покровителей каждой филы (там же. 848d). На возвышенных местах вокруг храмов должны быть построены здания, которые станут укреплениями и одновременно жильем для стражников (там же. 848d—е). Единственные из граждан, кто должен проживать в деревнях (хотя бы временно), — воины, находящиеся на службе. Платон специально уточняет, что при заселении всей остальной территории (την δε αλλην χώραν κατασκεύαζαν πασαν — там же. 848е) должно быть проведено разделение всего отряда ремесленников на тринадцать частей (mere), одна из которых останется в городе и будет распределена между двенадцатью частями гражданского населения [εις τα δώδεκα μέρη της πόλεως άπάσης· — 848e. 5)[832]. Эти ремесленники будут жить не в самом городском центре, а вокруг, на периферии, в «пригородном кольце» (καΐ έν κύκλω κατανεμηθέντας-... — там же. 848e. 5—6). Остальные двенадцать групп ремесленников рассредоточатся по деревням, где поселятся «ремесленники всех профессий, полезных крестьянам» (τα πρόσφορα γεωργοίς γένη των δημιουργών — там же. 848e. 6—7). В результате каждая деревня будет иметь свой постоянный контингент ремесленников. Итак, от центра к окраинам платоновского города-государства мы наблюдаем следующие зоны:
1) политический и религиозный центр (скорее религиозный, чем политический), зона, отведенная для верховных божеств;
2) собственно город, разделенный на двенадцать частей в соответствии с количеством фил;
3) пригород, также разделенный на двенадцать секторов и заселенный одним из тринадцати отрядов ремесленников[833];
4) ближайшие к городу земли граждан, поделенные по числу их городских жилищ на 5040 участков;
5) двенадцать деревень, расположенных кольцом посередине сельской округи и занятых богами и воинами-гражданами, а также заселенных ремесленниками, которые могут оказаться полезными земледельцам в их городских и сельских жилищах;
6) пограничная зона, формирующая внешнее кольцо, где каждый гражданин имеет загородный дом[834].
Таким образом, обычно мобильная часть населения, ремесленники, оказываются прикрепленными к территории. Подобно афинским метекам, они проживают «в демах», но не являются их членами. Нет сомнения, что Платон стремился подчеркнуть зависимое положение этой группы. Налицо и некоторые признаки симметрии. Существуют двенадцать фил, по количеству которых поделена вся территория страны, боги же занимают тринадцатую часть — в самом центре государства. Ремесленники тоже разделены на двенадцать групп плюс еще одну, тринадцатую, которая окружает город. «Божественный» центр уравновешивается «демиургической» окраиной.
На этой стадии исследования мы можем согласиться с точкой зрения Д. Уайтхеда, согласно которой Платон довершил то, что не удалось сделать Афинам: сосредоточил всю производственную деятельность в руках неграждан. Уайтхед прав, добавляя, что было бы слишком просто считать философа противником ремесленников (Whitehead 1977: 132) — не случайно именно они окружают платоновский город.
Рис. 3. Пространственная организация полиса «Законов» Платона
1 Акрополь
2 Город
3 Предместье ремесленников
4 Внутреннее и внешнее кольца обрабатываемой земли и граница между ними
5 Деревни, населенные ремесленниками
6 Стрелки показывают ежемесячное перемещение двенадцати отрядов юношей по территории полиса в течение года (каждый год направление движения меняется на противоположное)
Я полагаю, что мы получим более ясное представление о месте ремесленников в структуре платоновского города, если сравним их с другой группой, положение которой обрисовано в шестой книге «Законов». Это стражи поля (agros), агрономы, их можно сопоставить с афинскими эфебами, а сам Платон сравнивает их со спартанскими юношами — участниками криптий (Платон. Законы. 760b—763с)[835]. Молодые люди отбираются из neoi (двадцати пяти — тридцатилетних, по платоновской классификации) (там же. 760с) и формируют двенадцать отрядов, исходя из общего числа фил. Каждая фила избирает на год пять «смотрителей», которые, в свою очередь, должны отобрать двенадцать юношей. Таким образом, всего набирается 144 neoi[836]. Символической функцией этих представителей фил является отрицание филы как обособленной части общего пространства и воплощение идеи единого пространства города-государства. Каждый такой отряд (в военном смысле слова) проводит по месяцу в каждом секторе хоры, полностью обходя ее за год: один год — в одном направлении, другой год - в другом. Воины этих подвижных отрядов особо следят за пограничной зоной (там же. 7G0e), а в целом контролируют все шесть зон. И вновь контраст: мобильные ремесленники прикреплены к строго определенному месту, a neoi, которым предназначено в скором времени стать опорой полиса, перемещаются с места на место. Платон связывает эти две группы: начальники агрономов должны принимать решения насчет ремесленников хоры, определяя, «сколько и какого рода мастеров требует каждая местность и какое место их жительства причинит земледельцам меньше всего неприятностей и больше всего доставит им пользы» (Платон. Законы. VIII. 848е-849а, пер. А. Н. Егунова). Городские же ремесленники находятся под надзором городских магистратов [астиномов).
Теперь Платон может перейти к рассмотрению положения метеков в своем идеальном городе-государстве. Метек - фактически ремесленник, потому что он должен обладать профессией, если хочет поселиться в полисе магнетов. В отличие от афинского метека, он не платит налог за проживание, но, за редким исключением, ему не разрешено оставаться в городе более двадцати лет. Сын метека сталкивается с такими же ограничениями: он должен иметь techne, а его двадцатилетний срок пребывания начинается с пятнадцатилетнего возраста (Платон. Законы. VIII. 850а—b)[837].
На этом этапе моего исследования читатель вправе задать вопрос: почему я говорю о двусмысленности статуса ремесленника? О положении ремесленников Платон ведет речь в одиннадцатой книге «Законов», где он противопоставляет ремесленников торговцам, против которых должны быть предприняты всевозможные ограничительные меры. Платон напоминает, что ни одному из 5040 держателей земельных участков не позволено работать на низшего по статусу. А розничная торговля (kapeleia) является исключительно «рабской» профессией, и заниматься ею могут только метеки (там же. XI. 919d—е, пер. А. Н. Егунова).
Когда Платон вновь обращается к демиургам, он говорит о них совсем другими словами, нежели в восьмой книге. «Сословие ремесленников находится под покровительством Гефеста и Афины: ведь ремесленники своим общим трудом дают нам возможность жить» (там же. XI. 920d—922а, пер. А. Н. Егунова). Аресу и Афине служат и другие обладатели technai, связанные с военным делом или со строительством укреплений. Остановимся на триаде богов-покровителей: Гефесте, Афине и Аресе. Роль Афины посредническая, так как богиня одновременно и воительница, и покровительница ремесел, причем первое в значительной мере обусловлено вторым[838]. Но пара богов, которых Платон ставит над ремесленниками, — та же самая, что господствует над всем полисом в «Тимее» и «Критии», и этот факт требует внимания. Мы видим, что функция ремесленников в некоторой степени сопоставима с функцией воинов, а в некоторой степени противоположна ей. Но в чем состоит функция воинов? Платон использует здесь необычный для себя язык: военные являются οί τα των δημιουργών σώζοντες τέχναισιν έτέραις άμυντηριοΐ9 εργα — людьми, «которые с помощью другого мастерства[839] оборонительной направленности охраняют изделия ремесленников» (там же. 920е). Таким образом, задача воинов — защищать работу ремесленников, и именно здесь мы видим определенную связь между первыми и вторыми. И те, и другие являются демиургами в этимологическом смысле слова (не имеет значения, что эта этимология неправильная) — и те, и другие служат стране и народу: ούτοι δη πάντες χώραν και δήμον θεραπεύοντες διατελοϋσιν (там же. 920e). Платон идет еще дальше и сравнивает agon и misthos — сражение воинов за отечество и заработок ремесленников (там же. 920е. 5—6). Отрывок поистине удивительный! Получается, что, говоря о ремесленниках, Платон прекрасно понимает их значение для такого города, как Афины, и защищает их вопреки своим собственным убеждениям[840]. В любом случае из этой преамбулы вытекает ряд выводов. Философ устанавливает права и обязанности ремесленников: они обязаны доводить свои изделия до совершенства и имеют право получать плату за свой труд (причем — факт исключительный — за просрочку платежа они вправе требовать проценты!)[841]. Оплата труда ремесленников находится под опекой Зевса Градозащитника (poliouchos) и Афины, ибо эти боги — партнеры (koinonous) в деле устроения государства (там же. 921а—b). И снова проводится сравнение с воинами, еще более странное, поскольку воины «Законов», в отличие от воинов «Государства», — непрофессионалы. В «Законах» воины называются «демиургами нашего блага», и все они — военачальники и военные специалисты — «еще один отряд ремесленников» (οίον ετέροις ουσιν δημιουργοίς (Платон. Законы. XI. 921d. 5). Вводится еще одно сравнение: воздаваемые воинам почести (timai) — их награда (misthoi) (там же. 921e. 1). Воин и ремесленник выступают неразлучной парой. Первый охраняет труд второго и, будучи гражданином, является двойником второго, поскольку тоже обладает techne. Что касается ремесленника, то для него не может быть более высокой похвалы, чем сравнение с воином. Персонаж, казавшийся маргинальным в начале нашего повествования, становится практически главным героем города-государства «Законов». В этой связи тот факт, что автор подобного государственного устройства, т. е. сам Платон, сравнивает себя с демиургом, более не должен вызывать удивления.
Я думаю, что, опираясь на сделанные наблюдения, можно пойти еще дальше и рассмотреть одну из малоисследованных проблем платоновской философии, и даже сформулировать некоторые гипотезы, имеющие отношение ко всей греческой классической цивилизации.
Обратимся к «Тимею» и «Критик». Их мифические Афины хорошо вписываются в общую картину «Государства», но все же Платон вводит два важных отличия. Одно из них связано с пространственными и хронологическими рамками диалогов. Разговор героев «Государства» происходит в Пирее — символе демократии и торговли «без границ» — на празднике в честь фракийской богини Бендиды[842]. Место, где разворачивается беседа в «Тимее» и «Критии», не указано, но оба диалога датируются днем «панегирея» в честь богини (Платон. Тимей. 21а), т. е. афинского праздника Панафиней, который проводился под эгидой Афины Полии. В своем рассказе Критий вспоминает эпическую поэму, услышанную им когда-то на ионийском (афинском) празднике Апатурий (там же. 2lb). Фрагмент сочинения аттидографа Истра сообщает, что во время этого праздника афиняне наряду с жертвоприношениями устраивали лампадофорию (бег с факелами) в честь Гефеста — Дарителя огня (FGrH 334 F 2)[843], Гефест — не единственный бог, который почитался на Апатуриях, но наш сравнительный анализ будет более глубоким, если мы вспомним, что Афина и Гефест, покровители ремесленников в «Законах», тоже владели и правили мифическими Афинами (Платон. Критий. 190с)[844]. Важное нововведение «Государства» — особая каста правителей-философов — отсутствует в «Тимее» и «Критии». «Государство» признает только одну категорию стражей, и, согласно Платону, душа этих стражей является «в высшей степени философской» (Платон. Тимей. 18а), но при этом они не обязаны проходить те ступени обучения, которые проходят философы. В мифических Афинах место философов занимают боги: покровительница воинов и мудрецов Афина (там же. 24с) и ее партнер Гефест. Платон говорит, что эта пара соединяет philosophia и philotechnia (Платон. Критий. 109с), причем последнее слово представляется важным нововведением Платона. Разумеется, эта божественная пара — вовсе не изобретение философа, поскольку она присутствует в мифах об Эрихтонии и Пандоре[845]. Что действительно важно, так это противопоставление Атлантиде, царству неконтролируемого techne, справедливого города, где также правит techne, но уже под контролем Афины — богини мудрости, войны и ремесла. Можно привести еще ряд деталей. Что за храм, посвященный Афине и Гефесту, находится на вершине платоновского акрополя (там же. 112b)?[846] Конечно же имеется в виду не Парфенон, Эрехтейон или любое другое строение, украшавшее Акрополь при жизни философа. Нельзя ли предположить, что Платон перенес туда Гефестейон, который сегодня ошибочно называют Тесейоном и который и поныне стоит на холме над Агорой? Согласно Павсанию, в Гефестейоне рядом со статуей Гефеста стояла статуя Афины (Павсаний. I. 14. б)[847].
Однако вернемся к основному действующему лицу «Тимея» — демиургу[848] и начнем с хорошо известных фактов. Демиург — прародитель (6 γεννήσας)[849], и его деяния вполне вписываются в гесиодовскую модель, согласно которой творение мира было результатом сексуального акта. Но этот прародитель не имеет своей пары, и Платон никак не развивает эту тему. Подобно божественному издателю «Законов», демиург является основателем и устроителем городов. Именно он помещает человеческую душу на «акрополь», а горячему сердцу отводит роль «стража» (Платон. Тимей. 69d—70b)[850].
Кроме того, демиург — ремесленник в собственном смысле этого слова. Детальный анализ, проделанный Л. Бриссоном, показал, что демиург владеет всеми ремесленно-техническими навыками, известными Платону: выплавкой металлов и производством сплавов, кузнечным делом, работой по дереву, гончарным ремеслом, живописью и лепкой из воска, ткачеством, сельским хозяйством и др. (Brisson 1974: 35—50). Однако все это вполне очевидно. Менее очевидно, на мой взгляд, то, что данные виды ремесла образуют некую не лишенную внутренней логики иерархию. Платон намеренно обращается, говоря современным языком, к «передовым технологиям» с целью показать, как демиург творит основные элементы своей иерархической вселенной. Вершина творения, мировая душа изготавливается с помощью чистейших технологий металлургии, включая очистку, плавку и даже прокат (Платон. Тимей. 35а сл.). Человеческое тело создается посредством сравнительно менее сложной работы горшечника (там же. 73е). Более скромные задачи — такие, как помещение души в тело, размещение кровеносной системы или натягивание кожи на тело, — соотносятся с сельскохозяйственным трудом (там же. 41е; 73с; 76с; 76е; 77с; 91с)[851].
Здесь мы сталкиваемся с новой проблемой[852], поскольку древнегреческая традиция, как правило, ставит земледельца выше ремесленника[853]. Эту точку зрения разделяет — в собственной интерпретации — и сам Платон. У него не вызывает сомнений, что georgia — это techne (Платон. Евтидем. 291 е). Ремесленники и земледельцы составляют третий класс в «Государстве», а в «Критии» и прологе к «Тимею» они находятся на низших ступенях социальной лестницы. Однако в «Законах» ситуация другая. Гражданин Магнесии не является воином-профессионалом. Настойчиво объединяя в своих похвалах воинов и ремесленников, Платон не примешивает к ним граждан — индивидуальных землевладельцев. Как уже отмечалось, расселение ремесленников в идеальном полисе должно было способствовать тому, чтобы они приносили максимальную пользу georgoi. Но в другом месте Платон заявляет, что сельскохозяйственный труд — удел рабов (Платон. Законы. VII. 806d—е). Данное заявление скорее свидетельствует о том, что истину надо искать либо в тексте «Законов», либо в самом слове georgos, которое в эллинистическую эпоху будет обозначать как владельца земли, так и земледельца.
Если принять мои аргументы, то можно заметить, что в сочинениях Платона сталкиваются две системы ценностей. Первая, в некоторой степени официальная и имеющая общественную поддержку, связывает самоутверждение гражданина с владением и обработкой земли и поэтому ставит georgos выше demiourgos. Другая — более скрытая, хотя ее несложно разглядеть в «Тимее» и «Законах». Она трактует деятельность ремесленника как деятельность Прометея или Гефеста, как наивысшее проявление человеческой деятельности вообще. В истории непростых отношений Платона с его веком это не первый случай подобного рода коллизий и столкновений[854].
Тексты Платона показывают драму ремесленника в истории греческой цивилизации. Повторю еще раз:[855] ремесленник является скрытым героем этой цивилизации[856]. От эпических поэм, исполнявшихся аэдами, этими «демиургами» согласно «Одиссее» (Гомер. Одиссея. XVII. 385), и до творений скульпторов мы не найдем ни одного великого произведения греческой культуры, которое бы не было в той или иной степени демиургическим. Врачи были демиургами, демиургами были строители Эрехтейона — граждане, метеки и рабы, чьи имена оказались запечатленными в знаменитых надписях. Все это нашло отражение и у Платона, уподобившего творца мира ремесленнику космического масштаба. Почему же тогда в классический период возникает столь глубокая пропасть между социально-культурной ролью ремесленника и его местом в политической жизни? Насколько глубока эта пропасть, можно увидеть на примере архитектора, несомненно, ремесленника, но (как должностное лицо полиса), ответственного за его пространственную организацию и стоявшего в стороне от остальных ремесленников[857]. Очевидно, что этот разрыв, наблюдаемый в классический период, был итогом исторического развития. Да, techne имело свою историю, но и metis — категория ментальная, выражаемая, как мы уже видели, жестом руки мастера, — тоже ее имела. Поразительно, что в течение десяти столетий от Гомера до Оппиана, «семантическое поле понятия metis со всеми его разнообразными значениями оставалось в основе своей неизменным» (Détienne, Vernant 1978: 52). Это, однако, не означает, что социальная функция носителя metis - человека или бога — тоже не претерпела изменений. Между Хироном (чье имя восходит к cheir: рука) — мифическим кентавром, который, находясь на границе между дикостью и цивилизацией, обучал юных героев, и cheirourgos пятого века — врача, опиравшегося на мастерство своих рук, лежит целая эпоха[858]. Детьенн и Вернан убедительно показали, что в архаической мифологии одним из необходимых условий обладания властью считалось обладание metis (вспомним засов на молнии, выкованный для Зевса гигантскими кузнецами - циклопами) (Détienne, Vernant 1978: 75—87). Metis ремесленника также присуща гомеровскому царю, например, Одиссею. Конечно же он не был демиургом, но, тем не менее, мог изготовить себе кровать. Против Полифема Одиссей выступил как человек techne, он выколол циклопу глаз собственноручно изготовленным колом, и его деяние метафорически приравнивается к работе плотника и кузнеца-бронзолитейщика (Гомер. Одиссея. IX. 387—394).
Что можно сказать о демократических Афинах классической эпохи? В литературе распространены высказывания о возрастании здесь социальной роли ремесленников[859], но мне кажется, что подобная точка зрения — результат различного рода заблуждений.
Совершенно верно, что в пятом столетии в трудах, подобных демокритовским, в «Прометее» Эсхила, сочинениях Анаксагора и многих других признавалась решающая роль techne и ремесленнических навыков в историческом освобождении человека от диктата природы[860]. Но между признанием значения techne (например, Анаксагор полагал, что «человек — наиболее умное из животных, потому что у него есть руки»[861]) и признанием ремесленников отдельной социальной группой, обладающей политической самостоятельностью, степень которой может возрастать или уменьшаться в зависимости от обстоятельств социально-политической борьбы, пролегает пропасть. Какие свидетельства источников мы можем здесь привести? Весьма немногочисленные. Оставим в стороне рассказ Плутарха о том, что Тесей первым разделил афинское население на три группы: евпатридов, геоморов и демиургов (последние выделялись своей многочисленностью) (Плутарх. Тесей. 25). В широко известном отрывке из «Афинской политии» Аристотеля (Аристотель. Афинская полития. 13. 2) сообщается, что в 581/580 г. до н. э. должности десяти архонтов были разделены благодаря компромиссу между тремя группами: пять архонтских должностей досталось евпатридам, три — геоморам и две — демиургам. Однако историческая достоверность этого эпизода весьма сомнительна: его непосредственным источником, как показал Л. Жерне, были политические теории V — IV вв. до н. э.[862] Остаются еще откровенно спекулятивные свидетельства, например, упоминание о первом (согласно Аристотелю) идеальном полисе — творении гениального Гипподама Милетского. Он замыслил полис из десяти тысяч граждан, разделенных на три автономных и равных отряда: ремесленников, земледельцев и воинов (Аристотель. Политика. II. 1267b сл.). Несомненно, это был интеллектуальный прорыв, который выходил за рамки политической и социальной реальности того времени.
На самом деле даже идеологи демократии были далеки от того, чтобы искать ее опору в сословии ремесленников. Сказанное подтверждает пример с Протагором, наиболее значительным из этих теоретиков, и, благодаря Платону, наиболее известным. В мифе, о котором речь шла выше[863], он защищает демократические порядки, когда каждый ремесленник мог высказать свое мнение по политическим вопросам. Однако основы демократии Протагор связывает не с technai, а с вышестоящей techne politike.
Ни один полис классической Греции не был полисом ремесленников, ни в одном из них ремесленники не рассматривались как самостоятельная группа или партия. Что же объединяло афинских ремесленников? Возможно, единственный праздник, Халкейя, который отмечался в месяце пианепсионе (октябрь) и о котором мы очень мало знаем. Был ли это праздник всех афинян или только ремесленников? Был ли он посвящен Афине, Гефесту[864] или им обоим? Наши источники столь скудны, что трудно сказать что-либо определенное[865].
В Афинах имелся район Керамик, а в Коринфе — квартал горшечников. Но каковы бы ни были закономерно возникающие ассоциации со средневековьем[866], мы не найдем никакой информации о коллективных политических выступлениях горшечников Афин или Коринфа. В архаическом и классическом Милете никогда не существовала Arte délia lana; правда, там засвидетельствована «гильдия» музыкантов — molpoi (Sylloge3. 57; 272), но это — совсем другое дело.
Сами ремесленники были далеки от участия в управлении полисом, даже демократическим, и, напротив, полис всячески контролировал ремесленную деятельность. На Фасосе, например, решающая роль в экономике принадлежала торговле вином в амфорах. И. Гарлан (Garlan Y.) и M. Дебидур (Debidour M.) убедительно доказали, что в конце IV — начале III в. до н. э. фасосские «амфорные клейма» были не личными отметками гончаров, а печатями должностных лиц, очевидно, керамархов, от имени полиса контролировавших мастерские. В целом данная практика напоминала чеканку монеты, а некоторые из фасосских клейм были напрямую заимствованы из монетных эмблем[867]. В греческой традиции, насколько мне известно, сохранилось лишь одно упоминание о планировавшемся восстании, в котором должны были принять участие если не сами ремесленники, то низшие слои населения, вооруженные собственными орудиями труда (organa). Речь идет о заговоре Кинадона в начале IV в. до н. э. Замыслив низвергнуть весь спартанский строй, Кинадон говорил одному человеку, впоследствии донесшему на него: «Оружие... имеется у всех тех людей, которые занимаются обработкой земли, дерева или камня; да и в большей части всяких других ремесел употребляется достаточно инструментов, которые могут служить оружием для людей, не имеющих никакого другого оружия» (Ксенофонт. Греческая история. III. 3. 7, пер. С.Я.Лурье).
Какое заключение напрашивается, если сопоставить гомеровского героя с гражданином-воином Афин V в. до н. э.? Ценности, связанные с царской властью, стали побочными, если не отпали вовсе. У стратега Перикла мы не найдем metis Одиссея. Ночная война, засада и охота стали занятием эфеба, т. е. были отнесены в догоплитский период жизни гражданина[868]. Правда, существовала одна сфера деятельности, где, на первый взгляд, наблюдалось торжество techne и metis: военные действия на море, предоставлявшие простор для фантазии и не требовавшие исполнения традиционных законов ведения боя[869]. Но афинским морякам возможность проявить техническую смекалку выпадала только на период непосредственных боевых действий, тогда как в общественном сознании продолжали господствовать ценности гоплитского сражения. Лишь в IV в. до н. э., во времена Платона и Ксенофонта, metis вкупе с профессиональными качествами наемников вновь вернулась на поле брани[870]. Но этот триумф профессионализма и техники не оказал никакого влияния на социально-политический статус ремесленников, потому что их сословие никогда не представляло собой реальной политической силы.
Позаимствуем у С. Московичи[871] одну из его теорий, которая позволит лучше сформулировать наш вывод. В истории следует различать два уровня: уровень истории природы, т. е. взаимоотношений между человеком и материальным миром, частью которого человек является, и уровень социальной истории, охватывающей связанные между собой различные классы и группы людей. Эти два уровня далеко не всегда согласуются друг с другом. В частности, это видно на примере древней Греции. С точки зрения «естественной истории» очевидно, что в Греции существовало ремесленное сословие, и нужно быть слепым, чтобы не видеть его значения. Но главное достижение греков — город-государство и сопутствующая ему политическая жизнь — послужило причиной оттеснения мастеров и ремесленников на второй план. Те, кто вместе работал на строительстве Эрехтейона за одинаковую плату[872] (в данном случае не важно, кому доставались деньги рабов), по окончании работ вновь превращались: одни — в граждан, другие — в метеков, третьи — в рабов. Политика разъединяла тех, кого объединяло ремесло. Чтобы подчеркнуть разницу между свободным ремесленником и ремесленником-рабом, афинский вазописец добавлял к изображению мастера предметы и символы его участия в спортивных состязаниях: что, помимо прочего, означало статус свободного человека[873].
Греческая цивилизация могла спокойно просуществовать, так и не осознав это противоречие, однако гениальность сочинений, подобных платоновским, в том и состоит, что они помогали его выявить. По иронии истории Платон, этот «реакционный» аристократ, иногда выглядит настоящим феминистом. Разумеется, в реальности он им никогда не был, но еще до Аристотеля Платон заметил, как бы между прочим, что женщины составляют половину населения полиса, и на основании этого пришел к более далеким выводам, чем его ученик впоследствии[874]. Проводя параллель между ремесленниками и женщинами, я не становлюсь на путь упрощенных сравнений[875]. Греческую женщину и techne с древнейших времен связывало множество нитей. Разве не Гефест создал Пандору (Гесиод. Теогония. 571; Он же. Труды и дни. 61) ?[876] Разве у Гомера не Фетида учит Гефеста искусству обработки металлов (Гомер. Илиада. XVIII. 395 сл.)?[877]
В десятой книге «Государства» Платон будто вспоминает слова из «Медеи» Еврипида о том, что женщины — «искуснейшие мастерицы (tektones sophotatai) зла» (Еврипид. Медея. 409), когда повествует о судьбе Эпея, знаменитого создателя Троянского коня: после смерти мастера его душа «взяла себе природу женщины, искусной в ремеслах» (εις τεχνικές γυναικός ίοϋσαν φύσιν — Платон. Государство. Χ. 620с, пер. Α. Η. Егунова). Что касается ремесленников, то Платон был их сторонником еще в меньшей степени, чем феминистом, даже если и утверждал, что человек, воспевающий красоту кровати, более далек от ее идеи, чем человек, который эту кровать мастерит (Платон. Государство. X. 59бb сл.). В то же время Платон прекрасно понимал, что если поэтов и можно было вышвырнуть за ворота идеального полиса, то неизмеримо сложнее было изгнать из него ремесленников[878].
IV Полис вымышленный и полис реальный
1 Греческий разум и полис[879]
Можно ли рассматривать греческий разум как некую идеальную модель? Не так давно ответ, казалось, не вызывал сомнений: наш разум, наше понимание истины, основанное на принципе тождества, своими истоками уходят в Грецию, они обязаны тому развитию мысли, которое, начавшись в VI в. до н. э. в Ионии, достигло расцвета в эпоху Платона и Аристотеля. Данное суждение банально, но оно тоже имеет свою историю. Известно, например, с каким презрением относился к грекам, этим несносным болтунам и резонерам, любитель ясного ума и основатель «Общества рационалистов» Вольтер. Не останавливаясь подробно на этой истории, заметим лишь, что сама идея об эталонном характере греческого разума сегодня открыто подвергается всесторонней атаке. Ее основные направления совпадают с глубокими переменами в нашем понимании разума вообще и в нашем отношении к греческому мышлению в частности.
Я не специалист в области истории человеческого разума. Однако думаю, что наши представления о разуме не могла не поколебать современная наука. Гастон Башляр (Bachelard G.), выразитель идей нового духа науки[880], ратовал за «возвращение разуму его турбулентности и агрессивности» и пришел к выводу, что принцип тождества применим лишь к одной из областей мыслительной деятельности, подобно тому, как созданная греками Евклидова геометрия — частный случай среди других геометрий, введенных в оборот математиками нового времени после Римана и Лобачевского.
Значительный шаг вперед был сделан и в более частной области. Современная этнология показала, что западное мышление, которое происходит (или считается, что происходит) от греков, на самом деле развивалось по особому пути. Даже если Клод Леви-Стросс, более последовательный, чем это может показаться, сторонник универсалистских идей XIX в., и находит в «первобытном мышлении» законы «человеческого разума», открытия этнологов не могли остаться без парадоксальных последствий для нашей темы.
То, что Леви-Стросс находит у «дикарей», есть, собственно говоря, не «дикое мышление», а «мышление в состоянии дикости» с присущей ему «практико-теоретической логикой», основанной на принципе двойного тождества: А есть А, А не есть не-А. «Логический принцип, — пишет Леви-Стросс, — это постоянная возможность противопоставлять понятия, которые позволяет различать изначально скудный эмпирический опыт» (Lévi-Strauss 1962а: 100—101). Например, тотемизм — своего рода закодированная сетка, передающая некое сообщение. Любая тотемистическая система предполагает наличие некоего идеального «оператора», на бессознательном уровне кодифицирующего природу и дающего ей глобальное объяснение, которое затем дешифруется этнологами. Логика бессознательного, таким образом, создает дополнительные трудности для понимания греческого разума и порожденного им западного мышления, поскольку они — всего лишь «частный случай», но в то же время эта логика показывает их во всем их достоинстве, поскольку творящий формы «человеческий ум», как показал Поль Рикер (Ricoeur Р.), есть разновидность кантианского разума[881].
Но не с этой точки зрения Леви-Стросс критикует греко-западную модель разума. Истинный парадокс и настоящая трудность заключаются в другом. Мне кажется, они кроются в двусмысленности понятия структуры, в изменчивой игре сознательного и бессознательного или, точнее, в том, что, по мнению Леви-Стросса, всякое противопоставление сознательного бессознательному второстепенно. Любая социальная организация — зашифрованный язык, который надо уметь дешифровать, любой язык — мышление, в конечном счете предполагающее упорядоченную картину мира, вот почему тотемистическая система в интеллектуальном плане не уступает самой продуманной философской системе, самой развитой греческой космологии.
Однако, упрощенно говоря, вопрос заключается в следующем: всякий ли факт языка есть факт мышления в активном значении этого слова?
В каждом лингвистическом коде заключено несколько мыслей, а не одна мысль; по-моему, нельзя считать второстепенной разницу между «малыми перцепциями» Лейбница и самим восприятием, между языком и целенаправленным словом. У Леви-Стросса и его последователей структура то структурирующая, то структурируемая, и именно в этом ее двусмысленность. В древнегреческом языке имеется индоевропейское по своему происхождению чередование гласных, которое обозначает разницу в аористе единственного и множественного числа (etheka, ethmen), и ряд других любопытных явлений, поддающихся «структурированию». Предполагает ли этот факт наличие «лингвистического оператора», заставляющего «мышление» работать? В одном из языков Океании имеется девять двойственных чисел, что указывает на весьма тонкую классификацию категорий дуальных отношений. Является ли это результатом самостоятельной мыслительной деятельности, факт ли это сознания вообще, предполагающий тот радикальный отрыв от природы, который, начиная именно с греков, стал означать для нас мышление?
Я бы охотно присоединился к недавнему высказыванию Ж.-Ф. Лиотара (Lyotard J.-F.): «Дикари конечно же разговаривают, но на диком языке, они бережливы в обращении с ним... "Словесные проявления у них часто ограничены рамками заданных обстоятельств, вне этих рамок слова не тратятся даром" (Lévi-Strauss. Anthropologie structurale. P. 78). Они похожи на крестьян Брис Параны или обитателей бальзаковской провинции: то, о чем они говорят, находится перед ними в облике квази-восприятий, которым их культура наделяет вещи и людей. В результате язык не служит для них, как для нас, инструментом объяснения, восстановления или установления смысла реальности... поэтому первобытная речь — не дискурс об этой реальности..., а существование, достигаемое други~ии способами» (Lyotard 1965: 71).
Леви-Стросс пишет: «Для индейцев омаха одно из их главных отличий от белых людей состоит в том, что индейцы не рвут цветов» (Lévi-Strauss 1962а: 58). Добавим: чтобы ставить их в вазы или собирать гербарии. Для Леви-Стросса язык есть средство, позволяющее различать «природу» и «культуру». Оставим за ним объяснение тотемизма вообще и примем его определение последнего как интеллектуального «наложения животного и растительного мира на общество» (Lévi-Strauss 19626: 144). Однако отождествление человеческого с животным или растительным (даже если такое отождествление — всего лишь логический ход, даже если оно неотделимо — в рамках бинарной логики — от противопоставления человеческого животному или растительному) уведет нас слишком далеко от науки и философии. Они же начинаются тогда, когда язык отделяется от того, что он стремится объяснить и выразить, когда становится фундаментальным различие между означаемым и означающим. По-своему эта мысль выражена в знаменитом изречении Гераклита: «Владыка, чье прорицалище в Дельфах, и не говорит, и не утаивает, а подает знаки» (фр. 93)[882]. Остается лишь узнать, каков был тот фундаментальный опыт, сделавший возможным у греков такое отделение, такую решительную денатурацию мышления.
Резкой критике подвергается не только традиционная позитивистская концепция науки и научного мышления, но и представления о Греции и мышлении древних греков. К счастью, греческих мыслителей больше не изображают этакими рационалистами, витающими в облаках чистого разума. Последние сто лет классических исследований закончились скорее удалением от нас Греции, чем ее приближением. Таким образом, можно считать открытым вопрос: функционировал ли греческий разум по тому же образцу и с теми же мотивациями, что и наш? В частности, современные исследователи постоянно наталкиваются на проблему: почему греческий рациональный гений, изобретший математику, не нашел для нее практического применения? Некоторые даже задаются вопросом, имеет ли вообще греческий разум какое-либо отношение к рационализму в его современном виде.
Начиная с Ницше, классическая филология шла по пути, где предпочтение отдавалось изучению так называемых «темных сторон» греческой души, противопоставлению Диониса Аполлону. В начале своей замечательной книги «Греки и иррациональное» (Dodds 1951) Э. Доддс приводит следующий весьма характерный для умонастроения наших современников рассказ: «Однажды, несколько лет тому назад, когда я рассматривал скульптуры Парфенона в Британском музее, ко мне подошел один молодой человек и сказал с чувством: "Знаю, что мое признание ужасно, но эти греческие махины меня нисколько не трогают". Его слова показались мне любопытными, и я спросил о причине такого безразличия. Он немного подумал и ответил: "Видите ли, они кажутся мне слишком рациональными"». Доддс показывает (часто удачно, иногда спорно) иррациональные стороны греческого разума, его шаманизм, менадизм и одновременно его же попытки обуздать эти «темные силы». Оставим книгу Доддса и рассказанный в ней анекдот и вспомним, что после Хайдеггера (Heidegger) мы стали куда сдержаннее в попытках отыскать «рационализм», а заодно и «гуманизм» у Парменида или Гераклита, что нынче больше внимания уделяется не цепи логических рассуждений и доказательств, а важной роли раскрывающего истинность сущего exaiphnes — «внезапного» (иногда неверно трактуемого) в платоновских «Пармениде» (третья гипотеза) и Седьмом письме.
Неважно, что зачастую подобные комментарии похожи на откровенный бред. Главное, сегодня никто уже не думает, будто разум появился вдруг, подобно Афине, из глубин мифа, или будто Фалес и Пифагор внезапно стали трактовать понятия «безотносительно к вещественному миру посредством чистой мысли» (Прокл)[883]. По правде говоря, большинство историков не проявляет интереса к проблеме в том виде, в каком рассматриваю ее я: от мифа к разуму. Именно в такой формулировке Ф. Корнфорд исследовал ее на протяжении всего своего творчества, завершив его посмертно вышедшей книгой (Cornford 1952 )[884]. При эволюции мышления от мифа к разуму миф не остается в стороне, и то, что мы у греков называем разумом, довольно часто оказывается мифом.
Выступая против теории греческого чуда, Корнфорд протягивает нить исторической преемственности между философской рефлексией и мифо-религиозным мышлением. Между вавилонскими или хеттскими мифами и космогонией Анаксимандра теогония Гесиода — недостающее звено. Нет существенной разницы между вавилонским поэтическим мифом о сотворении мира «Энума элиш», рассказывающим об убийстве богом Мардуком чудовища Тиамат, из тела которого Мардук создал вселенную, мифом из «Теогонии» Гесиода о Зевсе, убивающем Тифона и извлекающем из его тела если не весь мир, то, по крайней мере, ветры, и космогонией Анаксимандра, согласно которой различные свойства (холодное и горячее, сухое и влажное и т. д.) попарно появляются из апейрона, или «бесконечного».
Корнфорд идет еще дальше, показывая место и роль мифа в произведении, которое представляется одной из вершин греческого разума, — труде Фукидида. Для автора «Thucydides Mythistoricus» (Cornford 1907) центральная, если не основная, черта «Истории Пелопоннесской войны» — политизация и рационализация Фукидидом трагедий Эсхила. Именно hybris (невоздержанность, дерзость) ведет Агамемнона к смерти, а Ксеркса — к Саламину, именно hybris Алкивиада, ставшего жертвой ate (злой судьбы), заканчивается для афинян сицилийской трагедией. Иногда анализ Корнфорда очень глубок и с ним можно соглашаться, но остается и ряд вопросов. Чтобы рационализовать миф, надо иметь к тому основания; кроме того, необходимо объяснить, почему Фукидид не довольствуется мифами в чистом виде и почему он открыто отвергает мифы даже в том виде, в каком их принимает Геродот. Впрочем, даже если мы ответим на все вопросы, которые оставил Корнфорд, то получится не более чем разбег перед прыжком.
Итак, что остается после двойного удара по наивным представлениям о греческом разуме? Прежде всего, может быть, необходимость вписать разум, греческий и любой другой, в исторический контекст. Именно в греческой истории следует искать основные причины, объясняющие добровольный отход от мифа, переход от бессознательно организующих («логических», в понимании Леви-Стросса) структур к целенаправленным попыткам описать вселенную (мышление ионийских и италийских «натурфилософов») и человеческое общество (историческое мышление Геродота или — еще в большей степени — Фукидида). Какие «умопостигаемые модели» послужили источником информации для Анаксимандра, Эмпедокла и Фукидида? Какие нормы социальной практики нашли отражение в языке ионийских натурфилософов или греческих историков, столь же своеобразном, как и язык рисунков на теле у кадувеев, запечатлевший их социальный порядок, о чем замечательно рассказал в «Печальных тропиках» Леви-Стросс? Ответ на эти вопросы дают вышеупомянутые работы Ж.-П. Вернана.
В восточных обществах, с которыми греки находились в контактах (прежде всего Египет и Месопотамия), миф имел четко выраженную функцию и вполне объяснимую модель-основу. В космогонии, как и в истории, отражался особый тип социальной связи царя с миром природы и миром людей. Царь, выступавший в роли связующего начала между людьми и природой, был гарантом безопасности для первых и гарантом порядка для второй — именно таким он изображен в классических работах А. Море (Moret Α.), Р. Лаба (Labat R.) и Г. Франкфорта (Frankfort H). Разумеется, царская теология не всегда находила практическое выражение[885], но это вовсе не умаляет ее значения для истории мысли. История в зеркале подобного мышления — не объясняющий рассказ, а отчет перед богами, реализация божественного замысла в человеческом мире. Восточная космогония поднимала царя как творца порядка до уровня божества. «Энума Элиш» («Когда наверху») — ритуальная поэма, ежегодно повторявшаяся в Вавилоне во время празднования Нового года, когда царь подтверждал свои права на верховную власть, подобно Мардуку, который ежегодно возобновлял свои права, убивая Тиамат, или подобно египетскому фараону на празднике Сед.
Была ли знакома грекам такая власть? Здесь надо быть осторожным и не искать на Крите или в Микенах типично «восточное» общество. Даже в Месопотамии между царским (дворцовым) хозяйством и городами происходили трения, вызванные стремлением верховного правителя или храма контролировать территорию страны[886]. Несмотря на весьма спорные археологические выводы, можно согласиться с гипотезой Лнри ван Эффентерра о том, что на Крите, наряду с двор и, вероятно, существовали еще какие-то центры, где принимались важнейшие решения[887].
Эти рассуждения, однако, не должны скрывать очевидное. Дешифровка линейного письма Б, удревнив греческий язык примерно на семь веков, позволяет теперь рассматривать его в эволюции на протяжении 3500 лет — от архивов Кносса, Пилоса и Микен до произведений Казандзакиса. Впрочем, вопреки расхожему мнению, этот факт не дает оснований говорить о такой же преемственности в области социальной жизни и ее институтов. Кем бы ни были хозяева дворцов Кносса и Феста, Маллии и Палеокастро, ссыпавшие продукты в пифосы, контролировавшие скот и подсчитывавшие урожай — богами, жрецами или царями (в любом случае их титул будет неточно переведенным) — они остались загадкой для последующих поколений (я имею в виду не только эпоху полиса, но и так называемый «гомеровский период») независимо от силы и глубины памяти или легендарной традиции, создавшей или исказившей образ Миноса или Агамемнона.
Тот мир рухнул в конце XIII в. до н. э. Мы не знаем, при каких обстоятельствах это произошло, нам неизвестна и роль так называемого «дорийского вторжения». Масштабы катастрофы были внушительными — сегодня мы можем представить их по археологическим памятникам Пелопоннеса или Крита, но еще более глубоким был кризис верховной власти. На месте, освободившемся после ванакта (правителя) и его двора, по соседству друг с другом оказались жившие долгое время порознь, а в конце VIII в. до н. э. (точкой отсчета служит творчество Гесиода) объединившиеся земледельцы и воины-аристократы. В результате их объединения возник классический полис. Я не буду рассматривать здесь неразрешимую в принципе проблему рождения полиса. Как могло случиться, что община стала издавать декреты (самые ранние, я думаю, относятся к Криту), в которых провозглашался суверенитет коллектива равных? Формулировка этих декретов, не менявшаяся на протяжении почти тысячелетия, лично меня всегда приводила в восхищение: полис, народ и народное собрание постановили. Скажу лишь: чтобы лучше обозначить этот прорыв, следует помнить, что у него было два этапа. На первом этапе, более известном по Спарте и критским общинам, поскольку они так и остались на нем, основными проводниками перемен были kouroi — молодые воины из окружения гомеровского царя.
Анри Жанмэр, благодаря своей потрясающей интуиции, сумел показать, что гомеровские политические институты — собрание, совет, монархия — военные учреждения (Jeanmaire 1939). Еще раньше Энгельс ввел понятие военной демократии, но из-за отсутствия источников не смог рассмотреть его в реальном историческом контексте. Примерно с конца VIII в. до н. э. молодые мужчины стали носить гоплитскую униформу, почти все элементы которой появились значительно раньше, возможно, в микенскую эпоху. Поэтому так называемая «гоплитская реформа» — следствие не технических, а социальных перемен[888]. Теперь сражается не индивид, а фаланга. Перед нами все еще аристократическое общество, но это аристократия равных. Молодые сподвижники гомеровского царя постепенно навязали если не свое господство, то правила игры, ставшей игрой политической.
Я говорил о двух этапах: вторым была демократия. Часто можно услышать, что греческие олигархия и демократия различаются лишь количественно, в зависимости от числа задействованных в них участников. Однако феномен «греческого чуда» (если он существует) напрасно искать среди колонн Парфенона под небом Аттики. Этот феномен прежде всего в том, что членами полиса являлись не только воины-аристократы, присваивавшие плоды труда илотов Спарты или пенестов Фессалии, но и мелкие земледельцы, самостоятельно возделывавшие свои участки. После реформ Солона каждый афинянин стал свободным, а реформы Клисфена добавили к этому право каждого свободного быть гражданином. Лишь такое расширение круга граждан сделало возможным появление других социальных групп: рабов в прямом смысле этого слова, то есть «чужеземцев», которых можно было продавать и покупать, а также метеков. Афины — классический пример, но аналогичные процессы происходили также в Ионии, несмотря на ее тесные контакты с лидийской, а затем и персидской монархиями, на Хиосе, Самосе и в Милете.
Возможно, сегодня мы лучше представляем, что означает выражение «духовный мир полиса» (Vernant 1981а: Ch. 4). Своеобразие греческого полиса состоит не в том, что его общество подчинялось определенным правилам, ибо всякое общество отвечает данному требованию, и не в том, что эти правила представляли собой некую единую систему (это обязательный закон не только для всех социальных групп, но и для их исследования), и даже не в том, что члены этого общества исповедовали принципы равенства и разделения власти, поскольку данный факт справедлив по отношению ко многим «примитивным» обществам. Так, Льюис Морган, автор «Древнего общества», видел в Афинах Клисфена одновременно начало новой — цивилизованной — жизни и завершение «варварского» этапа человеческой истории, известного по классическому родоплеменному обществу — обществу ирокезской демократии. В Греции же все эти явления достигли осознанного уровня: греки размышляли о «кризисе верховной власти» и не важно, что они это делали лишь тогда, когда сравнивали себя с соседними империями.
Один из наиболее часто отмечаемых признаков произошедшего прорыва — изменение роли письменности, возобновленной после перерыва почти в четыре столетия. Письменность больше не является привилегией «дворцовых» писцов, она становится публичным делом и предназначается не для ведения счетов или записи тайных обрядов, а для издания религиозных и политических законов, выставляемых напоказ и во всеобщее распоряжение. Тем не менее, классическую Грецию нельзя считать цивилизацией письма (правда, определенные сдвиги в этом направлении наметятся в IV в. до н. э.), это — цивилизация слова, и, как ни парадоксально, письмо в ней было одной из форм устного слова.
Полис сформировал совершенно новое социальное пространство с центром на агоре (публичной площади), с общественным очагом, где обсуждались волнующие всех проблемы, пространство, где власть находилась не во дворце, а «посредине», es meson[889]. Именно «посредине» стоял оратор, который, как считалось, выступал от лица всех. Этому пространству соответствовало гражданское время: наиболее яркий пример — отличавшийся от религиозного календаря гражданский год Клисфена, разделенный на столько пританий, сколько фил насчитывалось в полисе[890].
Итак, в полисе слово, убеждение (peitho) превратилось в главный политический инструмент. Слово могло быть хитростью или ложью, но оно больше не было ритуальным заклинанием. Даже пророчество оракула воспринималось не как приказ, а как торжественное и, по сути своей, двусмысленное изречение. Как показывает эпизод с Фемистоклом, накануне Саламина принявшим «деревянное укрепление» дельфийского оракула за «флот», пророчество порождало спор, и в результате принималось решение или издавался закон. Религия по-своему участвовала, несмотря на антагонизмы и «пережитки» прошлого, в этом прогрессивном процессе «гуманизации». Если культовая статуя принимала человеческий облик, это значит, что она становилась eikôn, чьим-то изображением, и уже в нем надлежало разглядеть ритуальную функцию. Разумеется, в данном случае мы имеем дело с одним из двух течений греческой религии — гражданской религии противостояла религия сект и мистерий. Подобная двойственность была характерна и для философии, которая вплоть до Аристотеля развивалась в русле двух крайностей: с одной стороны, полная открытость, включая публичный скандал (от Эмпедокла до Сократа), с другой — уход в сады Академа.
Вкратце отметим, в какой мере этот духовный мир, обрисованный в общих чертах, отразился в мышлении греческих философов. По правде говоря, часто думают, и не без основания, что за словами греческих философов скрывается нечто другое. Например, у досократиков искали и даже находили некие сексуальные тайны и символы наподобие тех, что нашел Башляр в огне, подвергнув его «психоанализу». У этих же философов искали, но с меньшим успехом, отголоски сведений по экономической и социальной истории, неизменно приходя к абсурдным результатам. Так, английский марксист Дж. Томсон (Thomson 1961) увязывал социальную структуру древнейшего общества с идеями борьбы противоположностей в греческой философии (комплиментарность двух противоположных кланов филы он объяснял результатом взаимных браков между ними). Однако проблема заключается в том, что ни в одном источнике нет и намека на существование в Греции подобной социальной структуры.
В то же время все большую популярность приобретает другое направление, представленное работами П. Герена (Guérin Р.), Г. Властоса (Vlastos G.) и Ж.-П. Вернана (Guérin 1932; Vlastos 1947; Vernant 1981b): между «экономикой» и философией находится еще одна благодатная для исследований область, в которой греками был приобретен фундаментальный опыт, — политическая жизнь.
Примеров достаточно: у Алкмеона из Кротона телесное здоровье сопоставляется с понятием исономия, а болезнь — с монархией, тиранией одного элемента над другим. До нас дошли фрагменты сочинений Анаксимандра, говорящие о том, что мы живем не в идеальном мире образов. Бесконечное, апейрон, есть реальность, отличная от всех прочих элементов вселенной, неисчерпаемый источник, питающий все остальное. Аристотель по этому поводу пишет: если бы хоть один из элементов существовал обособленно, в мире отсутствовал бы присущий ему баланс сил. Знаменитый фрагмент ионийского «натурфилософа» Анаксимандра, где описывается этот мировой порядок, показывает, что все элементы вовлечены в процесс взаимообмена справедливостью и несправедливостью с течением времени[891].
Я хотел бы еще остановиться на учении Эмпедокла, тем более что такая возможность появилась после выхода в свет книги Ж. Боллака о философе из Акраганта (Bollack 1965). Раньше часто подчеркивались «архаические», «примитивные» черты философии Эмпедокла: Доддс делал из него шамана, Л. Жерне показывал, что в роли повелителя ветра и дождя философ весьма напоминает «царя-колдуна» у Дж. Г. Фрезера (Gernet 1945: 183). Вселенная Эмпедокла обычно представлялась как последовательная эволюция от единой сферы к разнообразному космосу, от царства Любви к царству Ненависти. Ж. Бол-лак показал, что такая откровенно гностическая схема неверна. Во вселенной Эмпедокла нет последовательных циклов, в ней одновременно присутствуют любовь и ненависть, это исполненная драматизма картина полисного единства и разнообразия. Позже над этой проблемой будут размышлять Платон и Аристотель.
Гибель божественной сферы — это разделение могущества; разделение на элементы — огонь, землю, воду, воздух — сопоставимо с разделом мира между гомеровскими богами. Последующее возникновение сферы — это торжество силы равенства, не распыляющей элементы, а устанавливающей между ними равновесие. В результате море уравновешивается огнем, рядом с солнцем появляется анти-солнце, даже кровь как совокупность «шарообразных» элементов есть продукт равенства. У Эмпедокла, как и у Анаксимандра, каждый элемент поочередно (подобно гражданам в полисе) правит во времени, но всеобъемлющее равенство устраняет все чрезмерности каждого правления. Все одновременно и в равной мере исполнено света и беспросветной тьмы.
Понятно, что я не собираюсь сводить философское мышление к политическому. Мир политики наделяет мышление образами своего уже созданного или создаваемого порядка, но с эпохи Парменида философское мышление начинает быстро разрабатывать свои собственные язык и проблемы. Одновременно строго политическое мышление — такое, как у софистов, этих учителей политики, заявлявших устами Протагора, что политика возможна потому, что искусство выбора присуще гражданину от природы, — подверглось определенному влиянию «ионийской» и «италийской» натурфилософии.
Ну а историки? Очень часто забывают, что они тоже сыграли свою роль в зарождении и развитии греческого разума[892]. «Я пишу, — говорит первый из них, Гекатей Милетский, — то, что считаю правдивым, поскольку истории греков многочисленны и, как мне кажется, смехотворны». Произведение Фукидида — абсолютное воплощение исторического ratio — разума, творящего историю. Известно, что Клод Леви-Стросс постоянно находит в мифах скрытые в них бинарные структуры. В труде афинского историка они на поверхности, здесь можно легко найти пары противопоставлений: разумный поступок (gnome) и случай (tyche), слово (logos) и дело (ergon), закон и природа, мир и война. История, таким образом, превращается в гигантскую сцену политических столкновений, где замыслы одних государственных мужей, наталкиваясь на замыслы других, подвергаются испытанию действительностью, случаем, делом, наконец, природой, о которой Фукидид говорит довольно своеобразно в начале первой книги, что она разделяет с людьми их потрясения — как будто Пелопоннесская война была причиной землетрясений.
Полагаю, что уже достаточно сказано о победоносном шествии политического разума, стремившегося в V в. до н. э. подчинить закону буквально все. Обрисованная мной картина вполне подошла бы и к другим областям, например, к медицине. В известном смысле всякая человеческая деятельность была для греков деятельностью политической.
Ж.-П. Вернан очень хорошо показал причину силы и одновременно слабости греческого разума: в сущности он зависел от идеала свободного гражданина. Знаменитый «технический застой» греческой мысли, о котором так много сказано, безусловно, имел как социально-экономические (рабство), так и интеллектуальные причины. В изобретаемых ими механизмах греки видели не орудия для переустройства природы, а диковинные вещи (thaumata), своеобразных двойников человека.
Греки, доведя до крайности представления о различии между природой и культурой, или, если использовать их язык, между природой и законом, интересовались механизмами лишь как законными диковинами. Вернан тонко подметил, что политические учения (наподобие тех, что проповедовали софисты) тоже сыграли свою роль. Софист говорил ученику: в политике слабый аргумент может одержать верх над более сильным доводом. Греческий ученый, обращаясь к природе, не испрашивал у нее уроков, он их сам ей преподавал, при случае властвовал над нею и никогда ей не подчинялся.
Аристотель в своей «Механике», например, рассматривает причину изменения силы в случае, когда с помощью лебедки круговое движение преобразуется в линейное. Он находит ее в «софистической» двойственности круга, поскольку «круг — противоречивая реальность и самая удивительная вещь в мире, совмещающая в себе множество противоположностей. Он движется одновременно в прямом и обратном направлениях, одновременно вогнут и выпукл, подвижен и неподвижен» (Аристотель. Механика. 847b—848а)[893]. Иными словами, круг является логической реальностью, софистическим аргументом.
Тогда следует ли удивляться, что в технической области греки достигли существенного прогресса лишь в военном деле? Ведь именно здесь, как им казалось, techne могла решительно повлиять на судьбу полиса.
Думаю, хватит синхронно рассматривать проблему, скажу несколько слов о временных рамках истории политического разума. Конец VI — начало V в. до н. э. были периодом устойчивого равновесия между нарождавшимися демократией и философией. В V и особенно в IV в. до н. э., по мере развития «внутренних болезней победоносного эллинизма» (А. Эмар), разум, это дитя полиса, постепенно отворачивается от него, подвергается критике и даже обращается против полиса. Философы, вышедшие из религиозных сект (например, пифагорейцы) и, как правило, связанные с аристократическими кругами, объявляют, что полис не следует собственному идеалу справедливости, что в нем господствует арифметическое (гражданин равен гражданину), а не основанное на соразмерности геометрическое равенство, предлагаемое этими философами.
Этот процесс достигает своего завершения в полном парадоксов творчестве Платона. Для Платона сам человек — полис, в котором сталкиваются противоборствующие силы. Моделью для платоновского идеального государства служит не реальный полис, а космический порядок. Картина диаметрально меняется: уйдя от реального полиса, Платон укрывается в «этом государстве внутри нас самих», как сказано в его диалоге «О справедливости»[894].
2. Афины и Атлантида. Содержание и смысл одного платоновского мифа[895]
«Куда проще, — писал Гарольд Чернисс о проблеме Атлантиды, вызывающей споры еще с античности, — выпустить джинна из бутылки, чем загнать его туда» (Cherniss 1947: 251). Это действительно так, но о какой проблеме, собственно говоря, идет речь?[896] В начале диалога «Тимей» и в незаконченном диалоге «Критий» Платон приводит рассказ, который был заимствован Солоном у египетских жрецов богини Нейт в Саисе, пересказан им его родственнику Критию Старшему и, в конце концов, передан Критию Младшему, дяде Платона и одному из «Тридцати тиранов»[897]. В рассказе говорится о политическом устройстве, учреждениях и истории изначальных Афин и Атлантиды, двух государств, исчезнувших около девяти тысяч лет назад, еще до последней из катастроф (всемирного пожара или потопа), которые периодически обрушиваются на нашу планету (Платон. Тимей. 22d сл., 23е).
В связи с чем Платон приводит этот рассказ? Сократ и его друзья только что закончили обсуждать основные черты полиса, о котором подробно говорится во II—V книгах «Государства»: сословие стражей (мужчин и женщин), обособленное от остального населения; общность жен и детей; рационально и тайно устроенные браки (Платон. Тимей. 17b—19b). Далее Сократ заявляет, что ему хотелось бы воочию увидеть этот вымышленный полис в конкретной обстановке войны и мира. Может быть, Сократ хочет поместить полис в рамки истории в нашем ее понимании? Нет, речь скорее идет о построении одной из искусственных моделей, которые так любил конструировать Платон и которые позволяли ему оживлять абстрактную дискуссию[898].
Но противостояние мифических Афин и Атлантиды — еще и модель другого рода. В платоновском языке любая парадигма предполагает структурное единство между моделирующим и моделируемым, между реальностью и мифом[899]. Например, в «Политике» образ правителя в чем-то аналогичен образу ткача, поскольку политический вождь — это ткач, трудяга-ремесленник, чей взгляд сосредоточен на божественной модели. Проблемы, поднимаемые в «Тимее» и «Критий», бесконечно сложнее. Полис, основы которого обрисованы в «Государстве», служит идеальной моделью для изначальных Афин, а история Атлантиды, ее могущества и гибели дана в сравнении с этим «справедливым» полисом. «Сказание о двух полисах» удачно вплетено в космологию «Тимея». Платон дает понять, что нельзя приступать к подробному изложению этой истории, как, например, в «Критии», не определив место, занимаемое человеком во вселенной, картину которой на наших глазах рисует астроном и философ из Локр (там же. 27а—b)[900]. Сам космос, будучи творимым, может породить лишь «похожий на правду миф» (там же. 29d). Однако рассказчик, созерцая, как демиург, «вечное, не имеющее становления бытие» (το ον άεί, γένεσίν δε ουκ εχον), постигает это абсолютное «тождество» не с помощью «мнения, основанного на ощущении» (δόξα μετ ' αισθήσεων), а с помощью «ума и рассуждения» νόησΐ£ μετά λόγου — там же. 28а), и поэтому его рассказ правдив и достоин богини Афины, в честь которой справляется праздник. Сократ даже называет этот рассказ «правдивым сказанием, а не вымышленным мифом» (μή πλασθέντα μυθον αλλ ' άληθινόν λόγον — там же. 26е)[901]. Примерно так будут говорить позже и авторы романов, основанных на игре в «сходство» между реальностью и вымыслом. Успех платоновского приема, породившего один из жанров западной литературы, по-видимому, был значительным.
Историк, желающий понять миф об Атлантиде, должен соблюдать три условия: не отделять друг от друга два полиса, которые так тесно соединил Платон; постоянно обращаться к космологии «Тимея» и — как результат — устанавливать связь между исследуемым историческим мифом и платоновским «идеализмом». Только проделав эту работу, можно приступать к собственно исторической интерпретации[902].
Идеальная модель Платона — легендарные Афины, но именно Атлантида всегда привлекала больше внимания благодаря подробному и красочному рассказу[903]. В античности этот миф рассматривали порою как сказку, которую в IV в. до н. э. шутливо пародировал Феопомп, превратив разговор Солона с саисскими жрецами в диалог между Силеном и царем Мидасом, Атлантиду — в воинственный полис (Machimos), а Афины — в полис благочестивый (Eusebes)[904]; иногда этот миф являлся поводом к географической дискуссии. Эллинистические филологи всячески способствовали жанру подобных спекуляций, придавая большее значение словам, нежели реальным фактам. Страбон (Страбон. II. 3. б; XIII. 1. 36) отмечал различие между Посидонием, верившим в «реальность» платоновского рассказа, и Аристотелем, который полагал, что Атлантида подобна стене ахейцев у Гомера: автор, выдумавший этот материк, сам его и разрушил[905]. Значительно меньше мы знаем о философских интерпретациях мифа — кроме комментария Прокла к «Тимею», нам больше практически ничего не известно. Прокл, в частности, тонко подметил, что в начале платоновского диалога дана образная разработка теории космоса (Прокл. Комментарий к «Тимею». I. 4. 12 сл. Diehl). Интерпретации его предшественников (как и его собственная), несмотря на их нелепость, имели одно немаловажное достоинство — не осмеливаясь опровергать гипотезы «реалистов», эти авторы не отделяли Афины от Атлантиды и последовательно увязывали миф с космологией «Тимея» (там же. 75. 30 сл.). Но от внимания этих философов, выходцев из совсем иных социальных и религиозных кругов, чем те, которые были знакомы Платону, напрочь ускользнули политические аспекты мысли великого афинянина. Еще позже один христианский топограф, превративший Солона в... Соломона, обвинил Платона в искажении рассказа, якобы дошедшего до философа от «халдейских оракулов»[906].
Позднейшие сторонники «реальной» Атлантиды редко обращались к античности, хотя начиная с эпохи Возрождения ситуация стала меняться. Позже, в конце XVII — XVIII вв. Атлантида стала темой оживленных дискуссий: не является ли описанный Платоном континент Новым Светом — Америкой? Или же это еврейская Палестина, по представлениям христиан, колыбель цивилизации? А может, это некая анти-Палестина, родина наук и искусств, находившаяся в Сибири или на Кавказе? Тогда же появились и первые националистические трактовки мифа[907]. Швед Олоф Рудбек всю свою невероятную эрудицию посвятил доказательствам того, что Атлантида могла находиться только в Скандинавии[908]. Эрудитов и ученых постепенно сменили менее компетентные исследователи[909] и даже откровенные мифоманы и шарлатаны, которые и сегодня находят Атлантиду, дрейфующую между островом Гельголанд, Сахарой, Сибирью и озером Титикака[910]. Лишенные научной поддержки, «реалисты» не собираются сдаваться. За неимением затонувшего континента, они нередко высказывают мнение о том, что Платон мог знать некую традицию, отразившую воспоминания о каком-то реальном историческом событии, какую-то местную сагу.
Еще Т. Мартэн, локализовавший Атлантиду по соседству с «островом Утопия», вопрошал в своих замечательных «Исследованиях о 'Тимее" Платона», не находился ли философ под влиянием египетской традиции (Martin 1841: 332). После открытий Эванса на первый план вышел Крит: жертвоприношения быков во время присяги царей атлантов неизбежно указывали на страну Минотавра, а гибель легендарного царства ассоциировалась с падением Кносса[911]. К сожалению, подобные гипотезы абсолютно недоказуемы, и сегодня, читая откровения археологов о том, что для локализации Атлантиды удивительно подходит район Копаидского озера, а «наибольшая трудность состоит в том, что Платон помещает Атлантиду на Западе, тогда как озеро Копаида расположено в Центральной Греции»[912], невольно задаешься вопросом: был ли достигнут какой-нибудь прогресс в трактовке платоновского мифа после О. Рудбека?
У истоков всей этой традиции я вижу философа Платона в непривычном образе историка, поэтому было бы желательно выявить его «источники», как это делают, скажем, в отношении Геродота или Диодора Сицилийского. Но, к сожалению, Платон оперирует не категориями «источников» (opsis и akoe Геродота), а категориями моделей[913].
Что касается «моделей», то их искали (в основном эмпирически), может быть, с меньшим усердием, чем «источники»; в итоге были получены результаты, которые я напомню и прокомментирую.
Остров атлантов часто сравнивают со Схерией — островом феакий-цев[914], и это сравнение вовсе не беспочвенно. Не было ли царство Алкиноя с его идеальной патриархальной монархией и чудесным дворцом первым утопическим полисом в греческой литературе[915]? По крайней мере, так могли думать в IV в. до н. э. Отметим, что речь к тому же идет о морской утопии: как и Атлантида, Схерия — полис моряков. «Быстрым вверяя себя кораблям, пробегают бесстрашно бездну морскую они, отворенную им Посейдоном» (Гомер. Одиссея. VII. 34—35, пер. В. Жуковского). Цари атлантов ведут свое происхождение от Посейдона и смертной женщины по имени Клейто, Алкиной и Арета — от Посейдона и нимфы Перибеи (Там же. 56 сл.; Платон. Критий. 113d—е). Единственный храм на Схерии посвящен богу моря, примерно о таком же храме говорится у Платона (Гомер. Одиссея. VII. 266; Платон. Критий. 116d— 117а). Поэт упоминает о двух источниках, то же самое делает философ (Гомер. Одиссея. VII. 129; Платон. Критий. 117а)...
Таким образом, перед нами — нечто вроде эпического полотна, да и сам Платон замечает в начале «Тимея» (Платон. Тимей. 21с—d), что Солон мог, если бы захотел, сравняться с Гомером и Гесиодом. Возможно даже, что некоторые имена царей гигантского острова заимствованы у Гомера[916]. В то же время мы имеем дело со своего рода «гомеровским эпосом наоборот»: приветливая страна превращается в воинственную империю, чьи полчища стремятся разорить Грецию. Данное сравнение мало что проясняет, но его невозможно не включить в «досье» спора, который философ, вне всякого сомнения, вел с поэтом.
Пауль Фридлендер (Friedländer Р.) и вслед за ним Жозеф Биде (Bidez J. ) приводили множество доводов в пользу того, что Атлантида — это Восток, Персия, фантазией Платона помещенная на крайний запад ойкумены[917]. Действительно, описывая столицу атлантов и ее укрепления, Платон (Платон. Критий. 116 сл.) мог воспользоваться геродотовским (Геродот. I. 98, 178) описанием Экбатан и Вавилона. Восточный царь представлялся грекам в образе водного владыки. Геродот (III. 117) сообщает о мифической азиатской стране — долине, окруженной горами, откуда из пяти ущелий вытекала большая река, и так было до тех пор, пока Великий царь не распорядился построить пять шлюзов, открывать которые разрешалось лишь по его приказу[918]. Думаю, здесь нет необходимости приводить похожие высказывания Геродота о Ниле и Египте фараонов. Масштабные ирригационные работы, проводившиеся царями атлантов (Платон. Критий. 117с—d), и грандиозные размеры их царства указывают на то, что под Атлантидой Платон подразумевал не столько незначительный по своим масштабам мир греческих полисов, сколько огромную восточную деспотию. Такая интерпретация позволяет рассматривать (что уже не раз делалось[919]) столкновение Афин и Атлантиды как художественное переложение конфликта греков с варварами и прежде всего — греко-персидских войн. Можно пойти дальше и показать (по-моему, таких попыток еще не было), что Платон находился под прямым влиянием Геродота. Процитируем отрывок из «Тимея» (Платон. Тимей. 20е): Солон «говорил деду нашему Критию, — а старик в свою очередь повторял это нам, — что нашим городом в древности были совершены великие и достойные удивления дела (μεγάλα και θαυμαστά), которые были потом забыты по причине бега времени и гибели людей (υπό χρόνου και φθοράς ανθρώπων ήφανισμένα)». Геродот же начинает свой рассказ со следующих слов: «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния (εργα μεγάλα те: και θωμαστά) как эллинов, так и варваров не остались в безвестности» (Геродот. I. 1, пер. Г. А. Стратановского)[920]. Историк пытается быть объективным по отношению к обеим противоборствующим сторонам[921].
Если миф действительно навеян событиями Греко-персидских войн, то Платеи в нем предшествуют Марафону: вначале Афины выступают во главе всех эллинов, а затем афиняне одерживают победу в одиночестве, водружают трофей и освобождают греков и подданных империи (Платон. Тимей. 25b—с)[922] — имеются в виду те самые полисы и народы, над которыми после реальных баталий была установлена действительная власть Афин. Стоит ли удивляться такому порядку событий у Платона, считавшего Вторую Греко-персидскую войну «грязной» из-за морских сражений при Артемисии и Саламине (Платон. Законы. IV. 707b-с)?
Платон выдумал свою историю вовсе не для того, чтобы прославить отвагу Фемистокла и показать решающую роль его флота. Когда Ксеркс готовился к вторжению в Аттику, жители Афин «решили, что им нет спасения ни на суше, ни на море[923]... Оставался один-единственный лишь выход, слабый и почти безнадежный: оглянувшись на предшествовавшие события, они заметили, что сражались и тогда при обстоятельствах, казавшихся очень трудными, однако победили. Опираясь на эту надежду (έπί δε της ελπίδος όχούμενοι), они обрели прибежище только в самих себе и в богах» (Платон. Законы. III. 699а—с)[924]. В рассказе Платона нет и намека на афинские корабли[925]. Победу над морским народом атлантов афиняне одержали на суше, а не на море — странные «Восток» и Афины! Но, возможно, более тщательный анализ текста приведет нас — с учетом уже достигнутого — к более глубокому пониманию сути конфликта? Столкнувшись с Атлантидой и одержав над ней верх, кого на самом деле победили Афины, если не самих себя?
Данное предположение, может быть, кому-то покажется необычным[926], однако обратимся к источникам и фактам.
На западном фронтоне Парфенона Фидий и Иктин изобразили легендарный спор Афины и Посейдона; без преувеличения, этот спор — центральный в афинской мифологии. «Земля наша, — говорится в пародийной надгробной речи "Менексена", — достойна хвалы от всех людей, не только от нас самих, по многим разнообразным причинам, но прежде и больше всего потому, что ее любят боги. Свидетельство этих наших слов — раздор (eris) и решение (krisis) богов, оспаривавших ее друг у друга» (Платон. Менексен. 237с, пер. С. Я. Шейнман-Топштейн)[927]. Однако этому отрывку прямо противоречит отрывок из «Крития»: «Как известно, боги поделили между собой по жребию все страны земли. Сделали они это без распрей (ού κατ' εριν): ведь неправильно было бы вообразить, будто боги не знают, что подобает каждому из них, или будто они способны, зная, что какая-либо вещь должна принадлежать другому, все же затевать об этой вещи распрю» (Платон. Критий. 109b). Таким образом, по жребию Дике Афины достались Афине и Гефесту, а Атлантида — Посейдону (там же. 109с, 113с).
Боги, совместно почитавшиеся в Эрехтейоне, оказались разобщенными, и вместе с ними Платон разделяет и противопоставляет две власти: афиняне, произошедшие от Гефеста и Геи (Платон. Тимей. 23е), унаследовали власть на суше, а цари атлантов, чей род восходил к Посейдону, стали морскими владыками. Тем самым Платон как бы показывает свой родной полис с двух сторон: город богини Афины и оливкового дерева отождествляется с древнейшими Афинами, город Посейдона, покровителя лошади и повелителя моря, воплощен в образе Атлантиды.
Рассмотрим топографию и учреждения этих идеальных Афин. В сущности это был один огромный акрополь, занимавший, помимо собственно Акрополя, еще Пникс и Ликабет и простиравшийся до Эри-дана и Илисса и, в отличие от современного Платону скалистого возвышения, располагавший плодородными землями (Платон. Критий. 1 Hell 2а). На вершине акрополя, окруженной единственной стеной (ένΐ περιβάλω — там же. 112b)[928], проживали воины, а ремесленники и земледельцы, обрабатывавшие соседние поля, селились на склонах. Сословие воинов (machimon genos) Платон называет, используя характерное словосочетание, передающее идею неподвижного бытия — αυτό καθ` αυτό (там же)[929]. Городское пространство было организовано по совершенно иному, чем у классического полиса, образцу. Отсутствовали агора — средоточие (meson) политической жизни исторических Афин и главный храм — предтеча знаменитых построек V в. до н. э. На северной стороне находились коллективные жилища, зимние столовые и святилища, на южной — сады, гимнасии и места для летних трапез (там же. 112b—d). Центр занимало святилище Афины и Гефеста — очевидная замена Гефестиона, еще и сегодня возвышающегося над агорой. В свое время Павсаний (Павсаний. I. 14. 6) засвидетельствовал вовсе не неожиданный для него (он знал миф об Эрихтонии) факт наличия перед храмом статуи Афины, о которой известно, что она, как и статуя Гефеста, была работой Алкамена[930].
Что представляла собой эта божественная пара? В гомеровском гимне Гефест воспевается за то, что «вместе с Афиною он светлоокою славным ремеслам смертных людей на земле обучил» — (Гомеровский гимн Гефесту. 20. 2—3, пер. В. В. Вересаева), но у Платона говорится не только о techne. «Гефест и Афина, имея общую природу как дети одного отца и питая одинаковую любовь к мудрости (philosophia) и художеству (philotechnia), соответственно получили и общий удел — нашу страну» (Платон. Критий. 109с)[931]. Гефест и Афина воплощали союз двух классов легендарных Афин — стражей и производителей материальных благ.
Я уже упоминал об обилии земель в изначальных Афинах. У Платона речь скорее идет об Аттике, превосходившей по площади собственно город и простиравшейся до Коринфского перешейка (там же. 110е)[932]. Земля, покрытая лесами и насаждениями, была исключительно плодородной, «способной содержать многолюдное войско, освобожденное от занятия землепашеством» (там же. 110d—111e), что позволяло воинам заниматься только войной, как того хотел Платон. Свидетель прогресса в военном деле (совершенствование техники, распространение профессиональных армий), философ пытался примирить этот поступательный процесс со своим идеалом воина-гражданина, что было несбыточной утопией, как показывает пример Спарты (см. прежде всего: Платон. Государство. II. 373 сл.). Итак, полис «Тимея» и «Крития» был чисто аграрной республикой. Когда разразилась страшная катастрофа, афинская армия провалилась сквозь землю, а Атлантида исчезла в морской пучине (Платон. Тимей. 25d). Надо ли напоминать, что в платоновском описании легендарной Аттики ни слова не сказано о морской жизни? Страна хоть и выходила к морю, но не имела портовых гаваней. Это было единое и стабильное государство, государство на суше. Единство — краеугольный камень всех платоновских «конституций»[933] — здесь гарантировалось союзом Афины и Гефеста, общностью жен и детей. Платон находит признаки этого единства и постоянства даже в мелких деталях: в городе имелся лишь один источник, температура воды которого была приятна для питья и зимой, и летом[934]. Идея постоянства выражена в неизменном числе воинов[935], в конституции, установленной для всех раз и навсегда, в особенностях административно-хозяйственного устройства, наконец, в завидном обычае строить себе жилье и затем передавать его «в неизменном виде подобным себе преемникам» (Платон. Критий. 112с)[936].
За этой организацией на суше, этими единством и постоянством, видимыми на поверхности, не скрываются ли более глубокие связи? Согласно космологии «Тимея», из четырех основных элементов именно земля есть нечто неизменное: ού γαρ ύς άλλο ye είδος ελθοι ποτ ' αν (Платон. Тимей. 56d). Движение космоса основано на смешении на всех уровнях «неделимой и вечно тождественной сущности», или неизменного Тождества, с Иным, которое «претерпевает разделение в телах» (там же. 35а сл.)[937]. Легендарные Афины, таким образом, можно рассматривать как политическое воплощение платоновского Тождества. Не менее понятен и политический смысл самого мифа. Не случайно Платон выбрал на роль посредника, через которого стало известно о легендарных Афинах, Солона: архонт 594 г. до н. э. был в IV в. до н. э. кумиром всех умеренных, всех сторонников patrios politeia[938]. В результате катастрофы Афины лишились большей части своих земель. Нынешние плодородные земли Аттики — реальное свидетельство того, как много их было в далеком прошлом (Платон. Критий. 110е); афиняне времен Солона все еще происходят «от тех немногих», кто остался от жителей доисторического города (Платон. Тимей. 23с). Иначе говоря, Афины еще не «потеряны», если только данное слово что-либо значит для Платона-философа, хотя по отношению к Афинам V—IV вв. до н. э. мифический город выступает в качестве модели-антитезы, своего рода анти-Афин.
В диалоге «Политик» (269с—274е) Платон излагает под видом мифа свою теорию о двух космических циклах[939]. Когда «бог... направляет движение вселенной, сообщал ей круговращение сам»[940], наступает век, называемый поэтами «веком Кроноса», время, когда людьми управляют «божественные пастухи». Тогда человеческие существа, эти «сыновья земли», проживают жизнь в обратном, по сравнению с нами, порядке времени: рождаются стариками и умирают младенцами. Затем космос меняет свой цикл, бог отпускает кормило, и люди вначале успешно справляются со всеми делами сами, «по истечении же времени и приходе забвения» космосом «овладевает состояние древнего беспорядка». Миру грозит погружение «в бесконечную область несходного (εις τον της άνομοιότητος άπειρον οντά τόπον)» (Платон. Политик. 273d)[941], но вмешивается божество, и начинается новый цикл вселенского движения. В восьмой и девятой книгах «Государства» Платон показывает аналогичную эволюцию тимократического полиса к олигархии, от олигархии — к демократии, от демократии — к тирании. Идеальная модель постепенно приходит в упадок, однако каждая новая политическая форма сохраняет кое-что от предыдущей. С другой стороны, с каждой новой ступенью полис все больше отдаляется от первоначального Единого. Демократия — «рынок, где торгуют всевозможными правлениями», и из них можно «выбрать то, которое... нравится, а сделав выбор, основать свое государство» (Платон. Государство. VIII. 557d, пер. А. Н. Егунова). Для определения демократии и ее логического завершения — тирании Платон использует эпитет poikilos (там же. 557с, 558с, 561e, 568d). Именно эти две формы правления доводят до бесконечности «пестроту» и «разнообразие».
Это «бесконечное разнообразие», или апейрон, Платон представляет в двойственном виде большого и малого, горячего и холодного, высокого и низкого и т. д. «Ведь в чем бы они ни содержались, они не допускают определенного количества, но, всегда внося во все действия "более сильное", чем "слабое", и наоборот, они устанавливают "больше" и "меньше" (το πλέον και, το έτλαττον άπεργάζεσθον) и уничтожают "сколько". Ибо если бы они... не уничтожали количества, но допускали, чтобы оно и всё, имеющее определенную меру, водворялось на место большего и меньшего, сильного и слабого, то они сами утрачивали бы занимаемые ими места. В самом деле, ни более теплое, ни более холодное, принявши определенное количество, не были бы больше таковыми, так как они непрестанно движутся вперед и не остаются на месте, — определенное же количество пребывает в покое и не движется дальше. На этом основании и более теплое и его противоположность должны быть беспредельными» (Платон. Филеб. 24с—d, пер. Н. В. Самсонова)[942]. Здесь мы видим ту самую «безграничную диаду» (dyas aoristos) большого и малого, под которой Аристотель подразумевал материальное у Платона, и Иное в его «Тимее»[943].
Два цикла, отделенные друг от друга в «Политике», объединены в «Тимее». Круг Тождественного соответствует движению звезд и вращается слева направо, тогда как Иное, разделенное на семь неравных циклов планет, движется справа налево. Однако полный оборот Иного происходит под воздействием полного оборота Тождественного, которому Иное подражает[944], поэтому Вселенной, наряду с гармонией, присущи катастрофы.
Если мифические Афины — политическое воплощение Тождественного, то что такое Атлантида? Она не может быть политическим символом Иного, поскольку Иное не существует. То, что подвержено возникновению и видимо (γενειαν εχον και όρατόν), есть подражание Форме (μιμημα δε παραδείγματος), самой по себе умозрительной и неподвижной (νοητον και αεικατά ταύτα ον)[945]
Чтобы понять, что такое Атлантида, надо вновь обратиться к истории мифических Афин. Полис лишился земли — залога стабильности: «ныне его холм оголен, и землю с него за одну необыкновенно дождливую ночь смыла вода, что произошло, когда одновременно с землетрясением разразился неимоверный потоп... И вот остался, как бывает с малыми островами, сравнительно с прежним состоянием лишь скелет истощенного недугом тела» (Платон. Критий. 111b, 112а). Страна превратилась в скалистый полуостров; Платон говорит, что «она тянется от материка далеко в море, как мыс, и со всех сторон погружена в глубокий сосуд пучины» (там же. 111а)[946]. Итак, теперь Афины обречены на морскую жизнь и все, что с ней связано: политические перемены, торговые связи, империализм. Но разве это не напоминает судьбу Атлантиды? Разве не похож на Афины этот необычный остров, который «превышал своими размерами Ливию и Азию, вместе взятые» (Платон. Тимей. 24е)[947], и у которого мы выявили черты одновременно гомеровского и восточного государства[948]? В начале своего рассказа Платон довольно неуклюже объясняет, почему в нем приводятся греческие имена: «когда вы услышите от меня имена, похожие на наши (οία και τηδε ονόματα), пусть для вас не будет в этом ничего странного» (Платон. Критий. 113b). Солон услышал историю от египтянина и записал ее по-гречески, так что «объяснение» Платона выглядит абсолютно никчемным, если только это не намек на то, что за «именами, похожими на наши» скрываются не менее похожие реалии. Картина Афин статична, тогда как описание Атлантиды разворачивается во времени. Вначале это был остров с плодородной, как у Афин, долиной, граничившей с морем. Над долиной возвышалась гора, на которой обитала порожденная землей супружеская пара — Евенор и Левкиппа (там же. 113с—d)[949]. Таким образом, изначальная Атлантида была земной, а владыка острова Посейдон, прежде чем стать морским богом, был богом суши. Чтобы уединиться для любовных свиданий с Клейто, Посейдон соорудил вокруг горы две земляные и три водные ограды. Платон отмечает, что «это заграждение было для людей непреодолимым, ибо судов и судоходства тогда еще не существовало» (там же. 113d—е). С этого момента чередование суши и воды становится отличительным признаком Атлантиды. В центре острова бил не один, как в Афинах, источник с водой, пригодной для любого времени года, а два — теплый и холодный. Их выбил Посейдон, подобно тому как он сотворил в Афинах знаменитое море Эрехтея (там же. 113е, 117а)[950]. На Атлантиде вода встречалась даже в самом необычном виде: остров был богат всевозможными металлами, особенно золотом и загадочным орихалком (там же. 114е), Платон же сообщает в «Тимее» (Платон. Тимей. 58b сл.), что металлы, прежде всего чистейший из них, золото, являются разновидностью воды[951].
Чередование воды и суши, показательное само по себе, — характерный признак двойственности, которую всякий раз подчеркивает Платон и которая свидетельствует о том, что на примере Атлантиды философ разрабатывает идею об апейроне, или Ином.
В самом центре Атлантиды находился небольшой остров — убежище шириной в пять стадиев. Его опоясывала водная ограда шириной в один стадий, за ним чередовались по две пары земляных и водных оград, каждая шириной в два и три стадия (Платон. Критий. 115d—116а)[952]. Получаем последовательность, напоминающую зеркальную фугу: 5(3+2), 1, 2, 2, 3, 3. Всякий, кто покидал центральный остров, тут же попадал в мир дуального[953].
Пяти окружавшим остров преградам как бы соответствовали пять пар близнецов, родившихся у Клейто и Посейдона. Платон приводит список этих близнецов, один из которых носил двойное — греческое и варварское — имя Евмел-Гадир, и проводит различие между старшим и младшим в каждой паре (там же. 113е— 114d). В рассказе также отмечается, что одни постройки на острове были простые (hapla), другие — пестрые (poikila), одни купальни были открытые, другие — закрытые, что жители острова «урожай снимали по два раза в год, зимой получая орошение от Зевса, а летом отводя из каналов воды, источаемые землей», что цари атлантов «собирались то на пятый, то на шестой год, попеременно отмеривая то четное, то нечетное число (τω τε άρτίω και τω περιττω μέρος Ισον απονέμοντες)»[954]. Описывая в «Тимее» сотворение природы — от Мировой души до человека и от человека до рыбы — Платон одновременно говорит о поступательном развитии Иного, заканчивающемся его вселенским триумфом. Природа Атлантиды предстает во всем своем величии и разнообразии: всевозможные деревья и растения, плоды и животные, включая слона, «из всех зверей самого большого и прожорливого» (Платон. Критий. 115а). Не менее сложна и пестра история острова. От десяти сыновей Посейдона происходят десять царских династий, представители которых провели множество работ, чтобы связать центральный остров с морем (там же. 115b—116а)[955]. Цари построили мосты и подготовили страну к морской жизни (там же. 117е)[956]; прорыв каналы, они освоили земли равнины (там же. 118а—е)[957]; наконец, они сформировали большую армию (там же. 119а—b)[958]. В центре Атлантиды цари возвели монументальный дворцовый комплекс с храмом Посейдона и ипподромом, что было естественно для острова, посвященного этому богу (там же. 116с—117а). Платон часто приводит цифры: «храм ... имел стадий в длину, три плетра в ширину и соответственную (symmetron) этому высоту» (там же. 116d); при переводе в плетры это дает числа шесть, три и два — один из множества примеров незамысловатой игры автора с числами первого десятка, особенно с числом десять, о чем свидетельствует описание Атлантиды[959].
Политический режим, установленный потомками Посейдона, представляет собой причудливую смесь (там же. 119b— 120d). Каждый царь был абсолютным владыкой на своей территории, мог казнить и миловать, его статус вполне соответствует статусу как идеального правителя-философа из «Политика» (292d—297b), так и тирана. Собрание десяти царей напоминает олигархию или аристократию — коллективное правление в соответствии с законами, записанными первыми царями по указу Посейдона на колонне из орихалка[960]. При отправлении правосудия эти законы подтверждались специальной клятвой, центральный эпизод которой — окропление алтаря кровью жертвенного быка. Именно так правители, не являвшиеся философами, могли поддерживать конституционный порядок[961]. Если необходимо было вынести смертный приговор члену царской семьи, решение принималось большинством голосов. Учреждения Атлантиды могут показаться одним из удачных примеров смешанных конституций, описываемых в «Политике», «Тимее», «Филебе» и «Законах». Действительно, на протяжении многих поколений «правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе со сродным им божественным началом» и даже «с легкостью почитали чуть ли не за досадное бремя груды золота и прочих сокровищ» (Платон. Критий. 120е— 121а)[962]. Но со временем «божественное начало» в царях атлантов сошло на нет, и они преисполнились «безудержной жадности и силы» (πλεονεξίας άδικου καΐ δυνάμεως)» (там же. 121а—b)[963]. Чтобы наказать их, Зевс созвал богов посередине вселенной, откуда «можно лицезреть все причастное рождению (ή... καθορα πάντα δσα γενέσεως μετείληφεν)», но... диалог прервался, возможно, потому что все уже сказано, а продолжение истории известно (там же. 121b—с)[964]. История Атлантиды и ее учреждений свидетельствует о поступательном развитии Иного.
В этом месте моего исследования важно указать (тем более что я еще не делал этого) на кое-какие афинские черты в портрете огромного острова. Клисфен разделил Афины на десять фил, и на десять частей поделил свой остров Посейдон (δέκα μέρη κατανeίμας) (Платон. Критий. 113e)[965]. Говоря об орихалке, источнике баснословного богатства царей Атлантиды, Платон замечает, что этот металл по своей ценности уступал лишь золоту (там же. 114е)[966]. Описание портов Атлантиды и их укреплений во многом навеяно (данный факт отмечался неоднократно) пирейским комплексом Канфара, Зеи, Мунихия, Скевотеки и Арсенала. О портовых гаванях атлантов, у чьих причалов стояли триеры, Платон говорит, что они «были переполнены кораблями, на которых отовсюду прибывали купцы, и притом в таком множестве, что днем и ночью слышались говор, шум и стук (φωνήν και θόρυβον παντοδαπόν)» (там же. 117е)[967]. Все это довольно близко напоминает атмосферу Пирея.
Храм Посейдона, в отличие от царского дворца, описан более подробно. Несмотря на варварскую пышность его убранства, он поразительно напоминает Парфенон. В святилище возвышалась «головой достающая до потолка» статуя Посейдона на колеснице в окружении ста Нереид на дельфинах (там же. 116d) — своими размерами она напоминает Афину Парфенос Фидия[968]. Обе статуи были из золота, и можно привести слова Перикла у Фукидида (Фукидид. II. 13. 5) об одеянии весом в «сорок талантов чистого золота» на статуе Афины. Вокруг храма Посейдона стояли многочисленные изображения, в том числе и жен первых десяти царей острова (вспомним десять героев-эпонимов клисфеновских Афин), а также (любопытное добавление Платона) находилось «множество прочих дорогих приношений от царей и от частных лиц этого города и тех городов, которые были ему подвластны» (Платон. Критий. 116е—117а). Возможно, рассказчик намекает на две статуи Афины, созданные для Акрополя Фидием: Промахос, установленную по приказу Перикла, и Афину Лемнийскую — посвящение богине от афинских клерухов Лемноса[969].
Наконец, еще одна очень важная деталь: Атлантида постепенно превращалась в империалистическое государство. «На этом-то острове... возникло удивительное по величине и могуществу царство, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть материка» (Платон. Тимей. 25а; ср.: Критий. 114с). Не довольствуясь своими владениями, правители Атлантиды организовали морскую экспедицию, но их столкновение с мифическим афинским полисом закончилось для них катастрофой, сопоставимой с той, что произошла с историческими Афинами в Сицилии, или с другой, случившейся позднее, во время восстания афинских союзников, когда Платон работал над «Тимеем» и «Критием»[970].
Мой показ будет неполным, если я не объясню, почему Платон странным образом объединил в своем историческом мифе афинские и «восточные» черты. В «Законах» дано краткое описание двух политических систем, представлявших собой «два как бы материнских вида государственного устройства, от которых, можно сказать по праву, родились остальные» (Платон. Законы. III. 693d), — персидской деспотии и афинской демократии. В этом «неисторическом» описании двух государств (там же. III. 694а—701b) проводится очень тесная параллель между ними и содержится ряд потрясающих аналогий с историей Атлантиды: такой же справедливый, хотя и хрупкий, политический баланс, установленный вначале, такое же гибельное развитие в дальнейшем. Персию оно привело — под влиянием золота и политики империализма — к тирании и деспотическому режиму, а Афины — в результате Греко-персидских войн и вследствие забвения старой духовной культуры (mousike) — к «театрократии». Нелишне также напомнить, что к IV в. до н. э. царь персов, действуя как напрямую, так и через своих сателлитов, стал очень влиятельной фигурой в греческом мире.
Похвальное слово Афинам в «Тимее» и «Критии», таким образом, обретает свой истинный смысл. Платон и здесь использует старый излюбленный прием[971]. В «Федре» Платон, восхваляя молодого Исократа (в то время тот уже был его престарелым противником), обращается к вымышленному Исократу, оратору-философу, которым тот никогда не был (Платон. Федр. 278е—279а—b)[972]. В «Законах» чужеземец из Афин вступает в спор со своими собеседниками, когда те пытаются объяснить установления Крита и Спарты с помощью военного фактора. В итоге Платон по крупицам создает «философские» Крит и Спарту, попутно замечая, что «для человека, сведущего в законах благодаря ли искусству или какому-то навыку» созданное полотно «вполне очевидно, нам же, всем остальным, далеко не ясно»[973].
Тем не менее, мораль нашей басни далеко не проста. Да, Афины победили. Единый полис одержал верх над полисом, скатившимся в хаос разобщенности и разнородности. Воды поглотили Атлантиду, и их триумф положил конец дальнейшему развитию Иного. Однако Афины, лишившись части суши, сами превратились в Атлантиду[974]. Насколько «серьезны» эти превращения? «Следует серьезно относиться к серьезному и совсем иначе — к несерьезному... Одно лишь божество по своей природе достойно серьезного обращения (σπουδής άξιον)» (Платон. Законы. VII. 803с)[975]. Однако несколькими строками выше Платон утверждает, что «человеческие дела не заслуживают особых забот, но все же необходимо о них заботиться, хотя счастья в этом нет» (там же. VII. 803b). Человек — всего лишь марионетка в руках бога, игрушка, созданная богом для его удовольствия (θεου τι παίγνιον μεμηχανημένον — там же. I. 644d сл.; VIΙ. 803c), — воздает должное творцу, «играя в прекраснейшие игры (παίζοντα οτι κάλλιστας παιδιάς — там же. VII. 803c)». Миф и история, принадлежащие сфере подражательного, — в числе этих игр. Разве в «Тимее» (59с—d) не сказано, что «тот, кто отдыха ради отложит на время беседу о непреходящих вещах ради этого безобидного удовольствия — рассматривать по законам правдоподобия происхождение (вещей], обретет в этом скромную и разумную забаву (μέτριον... παιδιαν και φρόνιμον) на всю жизнь»? Игра того стоит, и в начале своего повествования Критий просит снисхождения у слушателей, «ссылаясь на необъятность... предмета (ώς περί μεγάλων μέλλων λέγειν)» рассказа (Платон. Критий. 106с). К тому же, добавляет он, о людях говорить труднее, чем о богах, поскольку человек всегда требователен к художнику, который собирается нарисовать его портрет (там же. 107d). Это замечание не имело бы смысла, если бы Платон мог донести до своих современников мысль, которую позже сформулировал Гораций и которую впоследствии много раз повторяли своим современникам другие философы: de te fabula narratur.
3. Платоновский миф в диалоге «Политик»: двусмысленность золотого века и истории[976]
В трактате философа-неоплатоника Порфирия «О пользе воздержания от животной пищи» (Порфирий. О воздержании. IV. 2. Р. 228—231 Nauck) приводится длинная цитата из «Жизни Эллады» перипатетика Дикеарха (конец IV в. до н. э.), который был непосредственным учеником Аристотеля[977]. Как известно, сочинение Дикеарха представляло собой изложение культурной истории греков с древнейших времен.
Чему посвящена эта цитата? Золотому веку Кроноса, воспетому поэтами, и прежде всего Гесиодом в его «Трудах и днях», откуда Дикеарх заимствовал для своего рассказа стихи 116—119: «У них был во всем достаток, хлебодарная земля (zeidoros aroura) сама давала обильный урожай, а они жили вдали от своих полей в радости, мире и богатстве». По мнению Дикеарха, эту чудесную эпоху следует считать реальностью (λαμβάνειν μεν αυτόν ώς γεγονότα), а не выдумкой (και μή μάτην επιπεφημισμενον). Разумеется, из ее описаний надо выбросить все «чересчур баснословное (то δε λίαν μυθικόν) и, опираясь на доводы разума, свести повествование к правдивой истории». О чем идет речь? О попытке совместить несовместимое: глубоко пессимистический взгляд на историю человечества, восходящий к историко-социологическим построениям V в. до н. э. (Демокрит, Протагор, Фукидид) с их картинами тяжелой и несчастной жизни первых людей, и не согласующиеся с этим взглядом представления о золотом веке[978]. Кроме того, на высказывание Дикеарха должны были повлиять популярные в IV в. до н.э. идеи нового медицинского мышления, основанного на разработанном до мелочей учении о диете[979]. Согласно Дикеарху, золотой век действительно приходится на начало человеческой истории, и под ним следует понимать время, когда не существовало собственности и таких ее неизбежных спутников, как социальные конфликты и войны. Однако то время было отмечено не сказочным изобилием, а умеренностью и простотой в жизни и еде. Но именно нехваткой (spanis) естественных продуктов объясняются преимущества древнейшего режима питания, идеально соответствующего наставлениям «передовой» врачебной науки. На простоту жизни указывает поговорка, которую цитирует Дикеарх (и многие другие), говоря об окончательном разрыве с той жизнью: «покончим с дубом» (αλις δρυός), т. е. с желудями, которыми питался первобытный человек. Этот разрыв происходил последовательно: вначале появилось скотоводство (а вместе с ним — война и охота), затем — земледелие (а с ним — все известные в IV в. до н.э. политические системы).
Данный отрывок сам по себе заслуживает более детального анализа, например, сравнения с другим сочинением того же времени — «О благочестии» Феофраста, тоже известным нам благодаря вышеупомянутому трактату Порфирия. Имело бы смысл включить в этот анализ исторические построения и утопии эллинистической эпохи: шестую книгу Полибия и философскую сказку Ямбула (Диодор. II. 55— 60). Однако я ставлю перед собой более скромную цель — рассмотреть текст Дикеарха в ретроспективном плане, показать, что он заимствует и что за ним скрыто.
Сразу замечу, что отец Зевса Кронос, с чьим царством Дикеарх связывает вслед за множеством других авторов простое и счастливое начало человечества, является в высшей степени двусмысленным божеством[980]. Так, Феофраст, чей трактат «О благочестии» содержал очерк истории религиозной жизни человечества, считает, что первые люди были вегетарианцами и приносили в жертву лишь дикие плоды. Но о Кроносе говорится как об ужасном боге-каннибале, которому карфагеняне приносили в жертву своих младенцев (Порфирий. О воздержании. П. 27. Р. 156 Nauck). Весь рассказ Феофраста о первобытных людях — чередование идиллических сцен вегетарианства с кровавыми картинами людоедства. Жертвоприношение людьми приходит на смену жертвоприношению растениями, а жертвоприношение животными сменяет жертвоприношение людьми (там же). Читая эти тексты, мы, разумеется, вправе предположить, что под исторической последовательностью в них скрывается определенная логическая конструкция, и нам не составит труда показать, что Дикеарх и Феофраст вносят элементы «историзма» в гораздо более древние мифы. Но нельзя не заметить и тот факт, что оба философа склонны связывать эти мифы с эрой человечества. Не случайно Дикеарх и Феофраст представляют как непрерывную историческую эволюцию путь, проделанный человеком от эпохи «дубов и желудей» (согласно Дикеарху, века Кроноса) до эпохи полисов и империй — времени Афин и Александра. Аналогичную попытку предпринял в IV в. до н. э. историк Эфор, правда, у него вегетарианство и каннибализм не сменяют друг друга во времени, но сосуществуют в пространстве. Возражая тем историкам, которые, «зная, что чудесное и ужасное потрясает воображение», приписывали дикость всем скифам и сарматам, он говорит о разнообразии их нравов: «Одни из них в своей жестокости доходят до того, что пожирают людей, тогда как другие воздерживаются от употребления в пищу даже мяса животных» (Страбон. VII. 3. 9).
Чтобы убедиться, насколько глубока пропасть, отделяющая такой тип исторического или географического мышления от представлений архаической эпохи, достаточно обратиться к Гомеру и Гесиоду. У них нет ни слова о какой-либо преемственности или сосуществовании. Как показал Ж.-П. Вернан, миф Гесиода о «расах», хотя и передан в виде связного рассказа (что немаловажно), является не историей упадка человечества, но описанием — на основе противопоставления dike и hybris — ряда состояний, где «золотая раса» есть высшее воплощение dike[981]. Сам факт, что «расы» полностью исчезают, когда приходит их срок, свидетельствует о том, что Гесиод не видит никакой преемственности между золотым веком и «нашим временем» с его смешением hybris и dike. Иначе говоря, мы — не потомки людей, живших в век Кроноса. Добавим, что человеческое у Гомера и Гесиода показано — то скрыто, то явно — как некое промежуточное состояние между миром богов золотого века и миром зверей, где пожирают себе подобных.
Ибо такой для людей установлен закон Громовержцем: Звери, крылатые птицы и рыбы, пощады не зная, Пусть поедают друг друга: сердца их не ведают правды. (Гесиод. Труды и дни. 276-278, пер. В. В. Вересаева)Прометей, с чьим именем Гесиод и последующие авторы связывают появление «человека социального», принес необходимый для приготовления пищи огонь и учредил жертвоприношения, тем самым отделив людей и от богов, и от диких животных[982]. Как пишет Марсель Детьенн, «с одной стороны, Прометей, выдумав жертвоприношения, способствовал переходу человека от совместных с богами трапез золотого века к мясной пище, с другой, — подарив огонь и открыв ремесла, вывел человека из состояния дикости и скотства» (Détienne 1977b: 142). Однако данное противопоставление недостаточно рассматривать лишь в рамках бинарной логики. Мы еще должны говорить о его двусмысленности. Разумеется, речь не идет об «изначальной» двусмысленности, наподобие той, которой Фрейд наделял «праязык», существовавший во времена, когда отсутствовали какие-либо противоречия. Э. Бенвенист, развенчавший этот миф, писал, что «если мы признаем существование языка, в котором большой и малый — идентичные понятия, то это язык, в котором в буквальном смысле отсутствует различие между большим и малым и нет понятия размера, а не язык, допускающий противоречивое обозначение понятия размера» (Benveniste 1956: 82). Впрочем, чуть ниже Э. Бенвенист сделал следующее замечание: «То, что Фрейд напрасно требовал от исторического языка, он мог бы в определенной мере потребовать от мифа» (Benveniste 1956: 83). И действительно, в архаическую эпоху век Кроноса казался также и веком дикости. Пример — гомеровский циклоп, вкушающий щедрые плоды земли, о которых Гесиод говорит, не скупясь на краски, но при этом остающийся людоедом[983].
Дитя полиса, «греческий разум» всем ходом своей эволюции ставил под сомнение или пытался умалить эту двусмысленность. В мифе, рассказанном Платоном в «Протагоре» и, вполне возможно, восходящем к знаменитому софисту[984], Прометей не отделяет людей от богов. Наоборот, получив похищенную у Афины и Гефеста techne, человек становится «причастен божественному уделу» (Платон. Протагор. 322а, пер. Вл. С. Соловьева), хотя и не достаточно «причастен», чтобы жить в полисе. Это стало возможным лишь после того, как Зевс и Гермес подарили людям aidos и dike. Утверждение гражданского и политического начал подвело итог переменам, происходившим после Гомера и Гесиода. Для архаических поэтов человеческое состояние, определяемое ими с помощью указанного выше противопоставления, было состоянием техническим и социальным — политическое в нем если и присутствовало[985], то лишь как одно из побочных проявлений. Мыслители же классической эпохи были вынуждены говорить отдельно о величайшем «изобретении», сделавшем цивилизованной жизнь человечества, — всепобеждающем полисе.
Но вернемся к IV в., с которого мы начали, говоря о Дикеархе и Феофрасте. Хорошо известно, что это было время кризиса, социальных и политических перемен, когда разрушались или подвергались пересмотру старые системы ценностей. Для историографии той эпохи вопрос о золотом веке не был чисто теоретическим. Век Кроноса, или, как говорилось, «жизнь во времена Кроноса», стал девизом тех философских и религиозных кругов, которые больше не удовлетворял полисный порядок. Проявление подобного недовольства на самом деле началось намного раньше, но именно в IV в. до н. э. оно оформилось в систему на религиозном и философском уровнях[986].
Детьенн показал[987], что выход за гражданские рамки мог осуществляться как «сверху», так и «снизу». «Сверху» делались попытки привнести в наш мир добродетели золотого века. Еще с архаической эпохи эта тенденция наблюдалась в орфизме и пифагореизме. «Снизу», напротив, искали связь с дикостью, что нашло свое выражение в омофагии, или поедании себе подобных, а еще больше — в дионисийских фантазиях на эту тему, в употреблении сырой пищи, наконец, в людоедстве. Но самое интересное состоит в том, что эти две формы «трансгрессии» постоянно взаимодействовали друг с другом, и в некоторых трагедиях говорится о таком взаимодействии[988]. Трагедия Еврипида «Вакханки» (конец V в. до н. э.) показывает спутниц Диониса в райской стране, которую посланник так описывает Пенфею:
...Венками Они плюща, иль дуба, или тиса Цветущего украсились потом. Вот тирс берет одна и ударяет Им о скалу — оттуда чистый ключ Воды струится. В землю тирс воткнула Другая — бог вина источник дал. А кто хотел напиться белой влаги, Той стоило лишь землю поскоблить Концами пальцев — молоко лилося. (Еврипид. Вакханки. 702—710, пер. И. Анненского)Этой идиллической зарисовке можно противопоставить содержащуюся в том же описании картину спуска вакханок с горы в долину Деметры, сопровождаемого похищением детей и забоем быков, — прелюдию финального убийства Пенфея его матерью, убийства, в котором символически присутствуют кровосмешение и людоедство. Оба этих противоположных состояния, впрочем, объединяет одно: и в первом, и во втором случаях отделение человеческого начала от животного или не происходит, или о нем вообще нет речи. Вакханки золотого века кормят не своих детей, которых они бросили (Еврипид. Вакханки. 701—702), но оленят и волчат, а о животном начале исступленных менад нет необходимости особо напоминать.
Наше время, столь щедрое на рекламу «натуральной воды» и «чистых» продуктов (их рекомендовали еще орфики), в избытке представленное сторонниками жизни в согласии с природой, мне кажется, способно понять факт появления в IV в. до н. э. людей, мечтавших о немедленном наступлении золотого века. Среди многочисленных сект, сталкивавшихся друг с другом, была одна, которая сделала свой выбор, всецело высказавшись за возврат к дикости или крайнему аскетизму, воплощенному в образе Геракла. Конечно же речь идет о киниках. Разумеется, сегодня никто не говорит, как это делал в прошлом веке К. В. Геттлинг[989], что идеология киников представляет собой философию греческого пролетариата. Такое заявление само по себе абсурдно, однако не подлежит сомнению, что в кинической философии великолепно отразилась одна из сторон кризиса классического полиса. Не показателен ли факт, что предтеча (если не основатель) секты киников, Антисфен, был не полноправным гражданином Афин, а незаконнорожденным сыном афинянина и фракиянки, одним из тех, кто посещал гимнасий Киносарга, отведенный для nothoi (внебрачных детей)[990], «маргиналом», как сказали бы сегодня? Считается, что избранный киниками образ жизни был основан на преднамеренном нарушении всех запретов (особенно пищевых и сексуальных), которых придерживалось общество. Отсюда предпочтение сырой пищи — приготовленной еде, мастурбации и инцеста — упорядоченной сексуальной жизни, апология каннибализма. Не удивительно, что Антисфен написал два сочинения о циклопах, а Диоген — трагедию о Фиесте (Диоген Лаэртский. VI. 17, 18, 73, 80). Враг киников — Прометей, культурный герой Эсхила и Протагора[991]. В общем, заимствуя у Плутарха одно выражение, мы говорим об «одичании жизни»: τον βίον άποθηριώσοα (Плутарх. Моралии. 995е—d). Не случайно киники, приписывавшие себе лозунг ελευθερία ή έπί Κρόνου — «свобода, как во времена Кроноса»[992], подразумевали под ней не вегетарианские порядки орфиков, а первобытную дикость. Золотой век — время Полифема и циклопов; похвалу тому времени мы найдем у Плутарха в «Грилле», где жертвам Цирцеи дано слово, дабы они воспели свою счастливую жизнь — дошедшая от киников тема.
На перепутье всех этих кризисных явлений IV в. до н. э., о которых столь красноречиво свидетельствует подрывная деятельность киников, платоновская философия выглядит одновременно документальным подтверждением кризиса и попыткой найти из него выход, по крайней мере, на уровне теории. Принимая во внимание то, что тема золотого века находилась в центре дебатов того времени, рассмотрим на примере мифа из «Политика» (268d—274е), чем данная тема была для Платона. Напомним вкратце часть диалога, где приводится этот миф. Беседа между Сократом-младшим и чужеземцем из Элеи, которую они ведут посредством последовательных противопоставлений, заходит в тупик: разговор идет об определении политика как пастыря человеческого стада. Миф, выполняющий здесь «роль критерия»[993], стоит на страже против «ангелизма» (Goldschmidt 1963: 260), который ведет к тому, что мы начинаем путать божественного политика с политиком земным, золотой век — с циклом Зевса. Это происходит не потому, что определение царя как людского пастыря неверно, но потому, что оно применимо к слишком многим персонажам и поэтому не может использоваться.
Миф предваряется преамбулой (268е—269с), странным образом не удостоенной внимания комментаторов. Платон пересказывает здесь по отдельности три «стародавние истории», прежде чем связать их в единое повествование. В первой из них говорится о необычном явлении, которым была отмечена ссора Атрея и Фиеста, упоминаемая во многих источниках[994]. Два брата борются за трон. В спор вмешивается чудо, как бы подтверждая притязания Атрея: в его стаде рождается ягненок с золотым руном. Но Фиест, любовник жены Атрея, при ее пособничестве крадет чудесного ягненка. Тогда Зевс еще более решительно вмешивается в спор и поворачивает вспять ход солнца и плеяд. Такова наиболее распространенная версия мифа, но есть и другая, известная латинским поэтам и, быть может, Софоклу, о которой не упоминает Платон: придя в ужас от чудовищного пира, устроенного в честь Фиеста, бог меняет направление движения солнца[995]. Сразу отметим, что использование Платоном этого мифа представляется странным. Чтобы от одного солярного цикла перейти к другому, Платону вовсе не требовалось напоминать о ссорящихся «пастухах» Атрее и Фиесте и рассказывать о чуде, произошедшем в знак поддержки устроителя каннибальского пира. Геродоту было известно, что «солнце четыре раза восходило не на своем обычном месте: именно, дважды восходило там, где теперь заходит, и дважды заходило там, где ныне восходит» (Геродот. II. 142. пер. Г. А. Стратановского), и он использовал этот миф, говоря об отсутствии перемен в Египте. Об этой традиции Платон вспомнит в «Тимее» и других своих сочинениях[996].
Вторая история, на которую ссылается Платон, связана с gegeneis — людьми, порожденными землей. Не останавливаясь на всех примерах греческих мифов на тему войны, в которых такой способ появления на свет ассоциируется с грубой силой[997], я напомню лишь, что «сыновья земли» упоминаются у Геродота еще дважды. Прежде всего, в «Государстве», где gegeneis — герои «благородного финикийского вымысла», с помощью которого граждан «идеального полиса» убеждают в том, что все они рождены матерью-землей, правда, одни — с примесью золота, другие — серебра, а третьи — меди и железа (Платон. Государство. III. 414с сл.; V. 468e—f). Наконец, в «Софисте» «рожденные землей» названы σπαρτοί те και αυτόχθονες — «посеянными в землю и появившимися из нее» (Платон. Софист. 248с), своего рода «материалистами», которых Платон в этом диалоге, сочиненном в одно время с «Политиком», противопоставляет «друзьям Формы».
Третья история касается царства Кроноса. К этому царству, отождествляемому с золотым веком, Платон вернется в «Законах» — сочинении своей старости[998]. А пока вспомним, что о нем говорил философ в своем более раннем диалоге «Горгий». Заканчивая его сказанием о том, как во времена Кроноса и в самом начале правления Зевса вершился суд над людьми, который решал, кто имел право удалиться на Острова блаженных, а кто — нет, Сократ замечает, что это было время несправедливости, поскольку живые судили живых в конце жизни. Но Зевс решил исправить эту ошибку и поручил Прометею лишить людей возможности предвидеть свой смертный час. С тех пор существует суд над душами умерших, который вершат души Миноса, Радаманта и Эака. Итак, Прометей помог человеку окончательно стать смертным, и век Зевса мы можем противопоставить веку Кроноса как время справедливых судей — времени неправедных[999]. Платоновский Кронос — далеко не простой персонаж.
Таким образом, Платон как бы заранее предупреждает, что его миф предполагает некоторую двусмысленность. Напомню вкратце, как функционирует этот миф (я использую слово «функционирует», ибо, как показывают исследования[1000], Платон подразумевает некую механическую модель, которая заключена в его тексте). Платон считает, что космос приводится в движение «двумя оборотами, поочередно совершаемыми в противоположных направлениях и порождающими два мира: противоположный нашему времени божественный век и предоставленный своему течению нынешний ход вещей»[1001]. Эти два переменных состояния разделены поворотом, metabole: бог то управляет всем миром, который движется, как в «Тимее», по кругу Тождественного, то устраняется от управления, и мир начинает вращаться в обратном направлении — навстречу «безбрежному океану несходного» (Платон. Политик. 273е). По удачному замечанию Ж. Боллака, «платоновский миф разворачивает в противоположных направлениях две стороны одного мира с тем, чтобы их исследовать; на самом деле это — две сосуществующие стороны, а не фазы одной циклической эволюции». Как в мифе соотносятся друг с другом эти два мира? Один из них — век Кроноса с приписываемыми ему (начиная со времени Гесиода) чертами: исключительное плодородие земли, мирная жизнь людей и животных, отсутствие людоедства (там же. 271e). С древнейшей традицией согласуется и то, что при Кроносе человек не был существом политическим. Платон своеобразно использует данный факт в собственном рассказе, заявляя, что тогда бог «пас» людей, подобно тому как сегодня они пасут скот, и «не существовало государств; не было также в собственности женщин и детей» (там же. 272а, пер. С. Я. Шейнман-Топштейн). Попутно заметим, что в греческой мифологии земля рождает лишь мужчин (andres), женщины и дети, как правило, появляются позже — с наступлением цивилизованной жизни. В этом отношении картина жизни при Кроносе существенно отличается (на этот счет имеются и другие оценки, с которыми я не согласен[1002]) от картины полиса, отнесенного воображением Платона в седую древность, — идеальных Афин «Крития». Наконец, добавим к этому образу и чисто платоновские черты: во времена Кроноса люди жили наоборот — рождались из земли лишенными памяти (Платон. Политик. 272а) седовласыми старцами[1003], подобно людям в конце «нашего поколения», которые, согласно Гесиоду, «станут рождаться седыми» (Гесиод. Труды и дни. 181, пер. В. В. Вересаева). Их жизненный цикл был абсолютно противоположен нашему. Эти «антиподы» не являлись гражданами, но была ли им знакома философия? Платон поднимает этот вопрос, но не дает на него прямого ответа. «Если они, заботясь, как им вволю наесться и напиться, рассказывали друг другу, а также зверям лишь те басни, что рассказывают о них сегодня, то в таком случае на вопрос легко ответить» (Платон. Политик. 272с—d)[1004]. Какие басни имеются в виду? Безусловно, те, что рассказал Гесиод, но и те, что пересказывает сам Платон в преамбуле к своему мифу. Еще один явный диссонанс внутри этой красивой и тщательно выстроенной композиции. Недостаточно утверждать, как это делает П. Фридлендер, что Платон иронизирует по поводу того, будто любое описание человеком золотого века не заслуживает доверия (Friedländer 1954: 206). Рай золотого века — в конечном счете звериный рай. Человечество, включая философов, находится по другую сторону — в Зевсовом цикле. На смену пасторальной лексике, используемой при описании века Кроноса[1005], приходит политическая лексика эпохи Зевса. Мир, покинутый богом[1006], располагает kratos над самим собой (Платон. Политик. 273а), он становится «автократором» (там же. 274а)[1007]. «Наше человечество» — это те, кто сталкивается с нуждой и даже дикостью, которые начинаются после катастрофы, вызванной уходом бога (там же. 274с). Эти люди получили огонь от Прометея и научились ремеслам у Афины и Гефеста (там же. 274с). В общем, перед нами — человечество из платоновского мифа в «Протагоре», за исключением одного, но существенного отличия: в «Политике» не говорится о краже, дары богов и подарок Прометея — вещи одного порядка.
Говоря «наше человечество», я должен сделать уточнение. Одна из главных трудностей платоновского мифа состоит в определении статуса «нашего» мира. Что именно подразумевает Платон, когда употребляет νυν (там же. 271d; 272b)? Мир мифа из «Политика», охваченный «врожденным вожделением» (symphytos epithymia — там же. 272е) и движимый по направлению к несходству и распаду? Или речь идет о смешанном мире «Тимея», основанном на союзе разума и необходимости? Было бы заманчиво дать именно такое объяснение отрывку из «Политика», где, по-видимому, говорится о смешанном мире: «То, что мы называем небом и космосом, получило от своего родителя много счастливых свойств, но в то же время оно оказалось причастным телу, поэтому оно не могло не получить в удел перемен. Все ж, сколько можно, космос движется единообразно, в одном и том же месте, и круговое[1008] вращение[1009] он получил как самое малое отклонение от присущего ему самостоятельного движения» (там же. 269d—е, пер. С. Я. Шейнман-Топштейн). Следующее замечание наверняка поможет прояснить смысл данного отрывка: в «Тимее» цикл Тождественного и цикл Иного функционируют вместе, один — в одном направлении, другой — в противоположном, один воплощен в неподвижных звездах, другой — в планетах[1010], мир движется то вперед, то назад. Однако и это логическое решение не устраняет всю двусмысленность текста, в частности, оно никак не объясняет то обстоятельство, что состояние космоса, когда им напрямую управляет бог, — это антимир, мир наоборот, а обратное состояние космоса соответствует «нашему» миру с его обычным ходом времени. Кто-то возразит и вслед за Калликлом из «Горгия» скажет, что философия и есть тот самый «перевернутый мир», и философски постигать реальность означает видеть в ней нечто противоположное тому, чем она кажется. Но и после этого урока платонизма останется необъясненной одна любопытная деталь: божественные дары Афины, Гефеста и Прометея были преподнесены человечеству[1011] в тот самый момент, когда бог отстранился от мира. В итоге мы вынуждены признать, что двусмысленность платоновского текста — далеко не случайна, она заложена в самой его основе. Нельзя не отметить и следующее: в описании Платоном трудностей, с которыми сталкивается человечество, предоставленное самому себе, мы не найдем подтверждений того, что философ был типичным сторонником прошлого, а история для него начиналась с золотого века. В данной связи мы должны высказать несогласие с теми комментаторами, кто, подобно К. Р. Попперу (Popper К. R.) и Э. Хейвлоку (Havelock Ε. Α.), объявляет Платона классическим теоретиком декаданса[1012]. Мы не будем слишком настаивать на принципиальном выводе о том, что в «Политике» золотой век абсолютно отделен от полиса. Действительно, Платон ясно говорит, что в начале Зевсова цикла мир «по возможности вспоминал наставления своего демиурга и отца» (Платон. Политик. 273а—b, пер. С. Я. Шейнман-Топштейн). Однако история человечества не следует тому же циклу, что и история космоса. «Протагоровский» прогресс, освобождающий человека от зависимости и от войны с животными, идет в направлении, противоположном движению космоса[1013]. Платону не так просто, как это может показаться, порвать с Протагором — ведь судя по всему философия, наука и полис находятся в Зевсовом цикле[1014]. Некоторые комментаторы Платона идут еще дальше. Э. Целлер (Zeller Ε.) в своей «Истории философии» (Zeller 1889: II: 1: 324: 5) понимал описание Платоном людей золотого века как ироническую критику натуралистической философии Антисфена. Г. Родье (Kodier G.) отверг такое понимание (Rodier 1911), и его аргументы нашли всеобщую поддержку. Однако если признать, что в платоновском золотом веке действительно есть нечто звериное, придется согласиться, что интуиция Целлера была не столь уж ошибочной. Когда Платон работал над «Политиком» (дата его появления неизвестна, но наверняка она предшествует времени «отката», который засвидетельствован в «Законах»[1015]), он не пытался уйти из полиса в золотой век или, тем более, вернуться к эпохе первобытной дикости.
Содержат ли «Законы», последнее произведение Платона, черты, объясняющие или, по крайней мере, намечающие исторический подход к теме Золотого века, характерный для написанного в конце того же столетия сочинения Дикеарха? Попытаемся рассмотреть этот вопрос.
Вселенная, фрагментарно обрисованная в «Политике» с ее двумя циклами, о которых идет речь в разбираемом здесь мифе, превращается в «Законах» в одно из тех «смешений», теория которых разрабатывается в «Тимее», «Филебе» и «Софисте»; история, рассказанная Платоном в третьей книге «Законов», — тоже пример подобного рода «смешений». Напрасно искать в этой истории какой-то один «смысл», позитивный или негативный. В результате серии случайностей, удач или вмешательств богов все может закончиться либо «счастливым смешением» вроде спартанской констатуции[1016], либо катастрофой, обрушившейся на Аргос и Мессену (Платон. Законы. 690d—691b). Свое историческое изыскание Платон, как известно, заканчивает решением основать полис, который будет по сравнению с полисом «Государства» μία δεύτερος — «вторым в отношении своего единства» (там же. V. 739е)[1017]. Какое место в последнем произведении философа отводится веку Кроноса? Платон обращается к этой теме, когда Афинянин собирается объяснить в своей речи к воображаемым колонистам, что бог должен быть «мерой всех вещей гораздо более, чем какой-либо человек, вопреки утверждению некоторых» (там же. IV. 716с, пер. А. Н. Егунова). И действительно, полис «Законов», эта теократия «в этимологическом смысле слова» (Goldschmidt 1959: 113), есть лишь видимость (правда, разработанная до мельчайших деталей) классического полиса — коллектива, основанного на ответственности каждого гражданина. Традиционным установлениям и должностям отведена здесь фиктивная роль, а суверенитет находится вовне. Описание века Кроноса (Платон. Законы. IV. 713а—714b) обычно рассматривается исследователями как «сжатый пересказ» мифа из «Политика»[1018]. Учитывая, что мы находимся в другой, новой шкале времени, Кронос от нас так далек, ετι πρότερα τούτων, πάμπολυ (там же. 713b), что невозможно говорить о человеческой эпохе, якобы начавшейся с золотым веком. Но по сравнению с мифом из «Политика» можно выделить три существенных отличия. Прежде всего, под непосредственным контролем бога находится правление даймонов, религиозных персонажей, которым в «Политике» отведена роль повелителей животных. Кроме того, веку Кроноса, отличавшемуся «изобилием без труда» (там же. 713с — традиционный штамп начиная с Гесиода), все же были знакомы политические учреждения и понятия. Здесь мы найдем полисы и божественных архонтов (там же. 713d—е), изобилие материальных благ и торжество справедливости (aphthonia dikes — там же. 713е), наконец, «хорошее законодательство» — eunomia, которым отличался тот политический строй. Платон даже упоминает о неких мерах, предпринимаемых против возможных восстаний (там же. 713е). Наконец, образ пастыря, не удостоенный внимания автора в «Политике», более полно использован им в «Законах», где, играя на различных значениях корня пет, Платон приходит к выводу (после замечания о том, что, как быки не управляются быками, так и людьми не могут править люди), что под законом следует понимать «установление разума» — dianome tou пои (там же. 714а). Таким образом, справедливо считать, что все лучшее в наших государственных учреждениях есть подражание «власти и управлению при Кроносе» — αρχή τε και οίκηση... έπι Κρόνου (там же. 713b).
Век Кроноса — некая модель для современного Платону общества с наилучшим государственным устройством, подобно тому как полис «Государства» — образец для полиса «Законов» (Платон. Законы. V. 739е); хотя об идеальном полисе в этом месте «Законов» сказано немного — лишь то, что его населяют боги и дети богов. Вытекает ли отсюда, что и в «Законах» Платон склоняется к «примитивизму», т. е. идеализации первоначальной истории человечества[1019], короче говоря, верит в то, что «"модель", оригинал его совершенного государства, — как писал К. Р. Поппер, — можно найти в самом далеком прошлом, в золотом веке, существовавшем на заре истории» (Popper 1966: I: 25)? Действительно, говоря об открытии Триптолемом земледелия, этого дара Деметры и Коры, Платон явно придерживается орфической традиции: люди «...по слухам, в иных местах не осмеливаются вкушать говядины, не приносят богам в жертву живых существ, но лишь лепешки, плоды, увлажненные медом, и тому подобные чистые приношения. Там воздерживаются от мяса, точно нечестиво есть его и осквернять жертвенники богов кровью» (Платон. Законы. VI. 782с, пер. А. Н. Егунова). Такую жизнь называют «орфической» (ορφικοί... λεγόμενοι βίοι), и она восходит к далекому прошлому. Но и жизнь, противоположная орфической, находит свое «историческое» подтверждение. «Пережитки того, что люди приносили друг друга в жертву, мы и сейчас видим у многих народов» (там же. VI. 782с, пер. А. Н. Егунова). В самом деле, до открытия земледелия «живые существа»[1020] усердно пожирали друг друга — отголоски этого можно видеть еще и сегодня. Следовательно, глубокое прошлое являет пример не одной только орфической жизни и вряд ли может служить идеальной моделью. Автор «Послезакония» — Платон или кто-то другой — вернется к этой проблеме, рассуждая о том, что запрет пожирания друг друга (allelophagia) следует поставить в один, второстепенный по своему значению, ряд вместе с открытием земледелия и ремесел (Платон. Послезаконие. 975а—b).
Остается рассмотреть знаменитый отрывок из третьей книги «Законов», в котором говорится о первых шагах человечества после потопа и о патриархальной жизни, описываемой Платоном на примере гомеровских циклопов, правда, без каких-либо намеков на их каннибализм[1021], жизни дикой — философ прямо говорит об этом (Платон. Законы. 680d), но простой и справедливой. Платон вновь спорит с Протагором, подчеркивая, что отсутствие искусств не является неодолимым препятствием на пути к человеческому счастью. Более того, сравнивая «добрых дикарей» со своими современниками, Платон приходит к выводу, что те были проще (euethesteroi), мужественнее (andreioteroi), рассудительнее (sophronesteroi) и справедливее (dikaioteroi) (там же. 679е). Справедливость, рассудительность, мужество — налицо все традиционные добродетели, о которых Платон рассуждает в «Государстве», за исключением самой первой и главной — мудрости (sophia), добродетели ума, которой наделены философы — обладатели знания (Платон. Государство. IV. 428е—429а). Мудрость заменена простотой — достаточно двусмысленный комплимент[1022].
И все же Платон предельно ясен в данном вопросе. По его словам, наш мир как результат исторической эволюции, все эти «государства, государственные устройства, искусства, законы», одновременно полон «великой испорченности, но и великой добродетели» — πολλή μεν πονηρία, πολλή δε και αρετή (Платон. Законы. III. 678а, пер. Α. Η. Егунова). Примитивизм — вовсе не лозунг Платона, но вынужденный прием; в отношении простоты патриархальной жизни философ в сущности питает не больше иллюзий, чем в отношении примитивного полиса в «Государстве», основанного лишь на необходимости и сравниваемого братом Платона Главконом — вопреки связываемым с этим полисом представлениям о счастье — с «государством свиней» (Платон. Государство. II. 372d). Остается констатировать, что Платон так и не поддался чарам золотого века, воздействие которых сполна испытала последовавшая эпоха, но это стоило ему многих усилий. Счастье и наука, полис людей и полис, в случае надобности управляемый богом (как в «Законах», где бог это делает с помощью философов, облаченных в маски старцев «ночного совета»), история и умозрительные формы, — напряжение между ними нарастает и заканчивается разрывом[1023]. Как справедливо было сказано: хотя платоновский полис и представляет собой «прекраснейшую из трагедий» (Платон. Законы. VII. 817b), «эта трагедия, если вжиться в нее, лишена всякого трагизма, ибо ничего непоправимого не может случиться с душой; в этой трагедии нет ни драматических коллизий, ни развязки, поскольку смерть здесь не наступает» (Goldschmidt 1959: 98). На самом деле трагедия Платона кроется в другом — в месте, которое занимает платонизм, в двусмысленности самой истории.
4. Дельфийская загадка, или О марафонском постаменте (Павсаний. X. 10. 1-2)[1024]
«Дельфы хранят еще много загадок. Некоторые из них, возможно, никогда не будут разгаданы, и следует согласиться с Э. Бурге, что последняя Пифия унесла с собой свою тайну». Так начинается один сборник, заставивший пролить много чернил и немного желчи и давший заглавие моему исследованию (Pouilloux, Roux 1963: 7). Его цель (по сравнению с книгой Жана Пуйю и Жоржа Ру) скромна — дать исторический комментарий к одному отрывку Павсания, породившему многочисленные дискуссии, которые велись до, во время и после «великих раскопок».
Войдя в святилище Аполлона и обходя его ограду, Павсаний описывает по порядку: быка с Коркиры, статуи тегеатов, статуи навархов из Лаке демона (посвящение за победу при Эгоспотамах), деревянного коня, поднесенного аргосцами в память о войне со Спартой из-за Фиреи, после чего обращает свой взор на «марафонский пьедестал».
Ниже я привожу текст отрывка, в котором говорится об этом монументе (Павсаний. X. 10. 1—2):
Τω βάθρω δε υπό τον ΐππον τον δούρειον δή επίγραμμα μεν έστιν από δεκάτης του Μαραθωνίου έργου τεθήναι τάς εικόνας. Είσί δε Αθηνά τε και Απόλλων και ανήρ των στρατηγησάντων Μιλτιάδης. Εκ δε των ηρώων καλουμένων Έρεχθεύς και Κέκροφ και Πανδίων, (ούτοι μεν δή] και Λεώς τε και Άντίοχος δ έκ Μήδας Ήρακλεi γενόμενος της Φύλαντος, ετι δε Αίγεύς τε και παίδων των Θησέως Άκάμας * ούτοι μεν και φυλαΐς Άθήνησιν ονόματα κατά μάντευμα εδοσαν τό έκ Δελφών * ό δε Μελάνθου Κόδρος και Θησεύς και ΦιλαΤός έστιν, ούτοι δε ούκέτι των επωνύμων είσί* τούς μεν δή κατειλεγμένους Φειδίας έποίησε, και άληθεί λόγω δεκάτη και ούτοι της μάχης είσίν · Άντίγονον δε και τον παΐδα Δημήτριον και Πτολεμαΐον τον Αίγύπτιον χρόνω ύστερον απέστειλαν ές Δελφούς, τον μεν Αίγύπτιον και εύνοια τινί ές αυτόν, τούς δε Μακεδόνας τω ές αυτούς δέει.
4 Πανδιων correxit in margine Riccardianus gr. 29: Δίων Fb Pc Vn // 5 ούτοι μεν δη omiserunt Vindobonensis hist. gr. 51 Parisinus gr. 1399 Lugdunensis B.P.G. 16 К (non vidi) et seclusit Schubart // και Λεώς- correxit Porson (και Λεών Palmerius): Κελεός· codd. (expunctum in Riccardiano) //9 Φιλαΐος· (vel Φιλέας*) correxit Curtius: Φιλεύς· Fb Pc Vn Φυλεύς* détériores quidam et editores ante Spiro Νηλεύς· Goettling.
Перевод:[1025] «На пьедестале, который стоит книзу от Деревянного коня, имеется надпись, гласящая, что следующие статуи были поставлены на десятину от добычи после Марафонской битвы. Это Афина, Аполлон, а из числа стратегов — Мильтиад. Среди тех, кого афиняне называют «героями», — Эрехтей, Кекроп, Пандион, Леонт, Антиох, рожденный от Геракла Медой, дочерью Филанта; еще Эгей и один из сыновей Тесея, Акамант. По указанию дельфийского оракула, их именами были названы филы в Афинах. Кроме того, Кодр, сын Меланфа, Тесей и Филай, но они не относятся к эпонимам. Перечисленные статуи являются работой Фидия и все они действительно сделаны на десятину от добычи после битвы. Позднее афиняне отправили в Дельфы статуи Антигона, его сына Деметрия и Птолемея Египетского. Что касается последнего, то афиняне это сделали в знак уважения к нему, а если говорить о македонянах — из-за внушаемого ими страха».
Уже при первом знакомстве с этим описанием возникают два основных вопроса, связанных с историей. Согласно Павсанию, марафонское приношение — своего рода монумент славы Мильтиада, предстающего в облике героя в компании Афины, богини его родного полиса, и Аполлона, бога Дельф. Следовательно, памятник едва ли был поставлен сразу после Марафона, при жизни Мильтиада, как это, возможно, было в случае с сокровищницей афинян[1026]. В начале V в. до н.э. при увековечивании героев еще не знали подобной практики; более того, Мильтиад, некоторое время спустя после Марафонского сражения осужденный на большой штраф по делу о Паросе (Геродот. VI. 136), был реабилитирован лишь посмертно, после того как его сын Кимон заплатил искомую сумму (Плутарх. Кимон. 4). Таким образом, нельзя понимать буквально слова Павсания о времени и обстоятельствах установки памятника, которые тот, как бы сознавая парадокс, повторяет дважды. Если скульптурная группа и была воздвигнута на марафонскую «десятину», то это могло случиться лишь спустя годы после битвы. Павсаний сам подтверждает справедливость данного предположения, называя имя автора памятника — Фидия. Как бы плохо мы ни знали его биографию, нет сомнений в том, что первые работы Фидия появились после Второй Греко-персидской войны[1027]. Исходя из этого можно согласиться с почти единодушным мнением исследователей, согласно которому марафонский памятник был сооружен при Кимоне примерно во второй четверти V в. до н. э.[1028]
Но настоящая трудность и самая большая загадка заключается в другом. Рассматриваемый памятник, независимо от точной даты его установки, представляет собой наиболее раннее известное нам изображение эпонимов аттических фил[1029], максимально близкое по времени к эпохе Клисфена, который учредил филы и, получив санкцию в Дельфах, закрепил за ними эпонимов[1030]. В любом случае мы имеем дело с памятником, более близким к тому времени, чем, скажем, датируемая примерно третьей четвертью IV в. до н. э. и происходящая с Афинской агоры статуарная группа, фрагменты которой были обнаружены в ходе американских раскопок[1031]. Нет сомнений и в том, что дельфийский монумент долго оставался значимым для афинян, которые добавили к клисфеновским эпонимам Антигона Одноглазого и Деметрия Полиоркета, удостоенных этой почести в 307/306 г. до н. э., а также Птолемея III Эвергета, возможно, учредившего в Афинах свою филу в 224/223 г. до н. э.[1032] Нельзя не заметить, что на памятнике, столь важном для афинского полиса, отсутствуют, согласно тексту Павсания, изображения трех эпонимов: Аякса, Ойнея и Гиппотоонта, в то время как мы видим на нем скульптуры трех других героев, которые не были (Павсаний это подчеркивает) «архегетами» Афин[1033]. Как объяснить эти два факта?
О каких трех «лишних» героях идет речь? Если с Кодром и Тесеем все ясно и понятно, то достаточно одного взгляда на приведенный мною неполный критический аппарат к тексту отрывка Павсания[1034], чтобы убедиться, что в отношении третьего героя такой ясности нет. В рукописях встречается Phyleus и малопонятное Phileus, а издателям приходится выбирать между Phyleus, Neleus и Philaios.
Все предшественники тойбнеровского издания, осуществленного Ф. Шпиро в 1903 г., принимали чтение Phyleus[1035], и этот «герой» появлялся на страницах разных работ с непременной ссылкой на текст Павсания[1036]. Кто же этот «Филей»? Поскольку вряд ли это сын царя Авгия (откровенно неуместный на афинском памятнике персонаж), то, как уже давно было замечено, речь может идти о герое-эпониме дема Филы из филы Гиппотонтиды (одной из трех отсутствующих на марафонском пьедестале) — персонаже, который больше нигде в источниках не упоминается[1037]. Впрочем, не забудем, что данное чтение кажется приемлемым лишь для некоторых рукописей.
В русле исторической интерпретации, которой буду придерживаться и я, К. Геттлинг предложил в 1854 г. исправление Neleus[1038]. В этом случае изображенный на памятнике герой — сын Кодра, один из легендарных основателей ионийских полисов[1039]. Эта гипотеза, палеографически ничем не оправданная, имела определенный успех[1040], но для убедительности нуждалась в более веской исторической аргументации.
В 1861 г. Э. Курциус предложил более осторожную эмендацию: Philaios или Phileas (Curtius 1899), подразумевая под третьим героем сына Аякса, предка Мильтиада Старшего и, следовательно, приемного прародителя Мильтиада Младшего (Геродот. VI. 35; Плутарх. Солон. 10). Это исправление тоже нашло своих сторонников[1041]. Какой из трех предложенных вариантов более или менее приемлемый? Ответ проясняется лишь после более тщательного знакомства с рукописной традицией. Рукописи Павсания, которых насчитывается 18, изучаются с давних пор, но лишь несколько лет тому назад А. Диллер предложил их убедительную классификацию[1042]. Все имеющиеся манускрипты фактически происходят от одного кодекса, который был приобретен в 1416 г. Николло Николли, а после его смерти в 1437 г. еще в течение века, вплоть до своего исчезновения, находился в монастыре Св. Марка во Флоренции. А. Диллеру удалось показать, что только три из дошедших рукописей являются апографами (прямыми копиями) этого списка. Речь идет о Marcianus Venetus Graecus 413 (Vn) из Венеции, о Parisinus Graecus 1410 (Pc) из Национальной библиотеки, а также о Laurentianus 56—11 (Fb) из Флоренции. Таким образом, критическое издание Павсания должно опираться на эти три рукописи[1043]. Несложно убедиться, что все они предлагают чтение Phileus[1044], а не Phyleus[1045], так что герой по имени Phyleus теряет свои последние шансы, если они у него вообще были. Его существование — результат либо конъектуры какого-то гуманиста, которому было известно имя сына Авгия, либо невнимательности переписчика, перепутавшего имя героя со стоящим в генетиве Phylantos — одним из предыдущих имен отрывка. Достаточно легко объяснить происхождение Phileus от предложенной Э. Курциусом гипотетической формы Philaios. Смешение графем ai и е вследствие их одинакового (начиная с какого-то времени) произношения — одна из классических ошибок, и нет ничего удивительного в том, что писец, видя в оригинальном тексте имя Phileos, мог переписать его — под влиянием соседнего Theseus — как Phileus[1046]. Однако наши рассуждения пока не выходят за рамки гипотетических. Факт аналогичной ошибки, допущенной в действительности, связан с именем одного из афинских героев-эпонимов. Во всех рукописях встречается имя элевсинского царя Келеонта, который в нашем случае абсолютно неуместен, поэтому правильнее читать kai Leos вместо Keleos[1047]. Исходя из вышесказанного мы можем с высокой степенью вероятности (Phyleus и Phileus исключаются, a Neleus практически недоказуемо) предполагать, что на пьедестале в Дельфах Павсаний прочитал имя Philaios[1048].
Прежде чем продолжить разбор нашего отрывка, коснемся еще одного предварительного вопроса — археологического. Позволяют ли данные раскопок Дельф в точности реконструировать марафонский постамент, выявить его местоположение, размеры, количество стоявших на нем статуй, иначе говоря, подтвердить или опровергнуть сведения Павсания? К сожалению, ответ будет очень скромным, в нем должны быть учтены скептические оценки самих археологов. Я не стану вдаваться в их дискуссии, которые выходят за рамки моей компетенции, а лишь приведу основные выводы.
Рис. 4. Дельфы: вход в святилище Аполлона
1. Коркирский бык. 2. Постамент аркадян. 3. Навархи Лакедемона. 4. «Деревянный конь» из Аргоса. 5. Марафонский постамент. 6. Семеро против Фив. 7. Эпигоны. 8. Постамент царей Аргоса. 9. Анонимная ниша эллинистического времени. 10. Конная группа Филопомена и Маханида. 11 и 12. Анонимные постаменты.
На рисунке, заимствованном мною у Ж. Пуйю и Г. Ру (Pouilloux, Roux 1963)[1049], указано, что (5) — место вероятного нахождения марафонского постамента[1050]. Абсолютно неверно на этом плане указано расположение датируемой второй половиной IV в. до н. э. ниши (9)[1051]. По словам Ж. Буске (Bousquet J.), «искусствоведы обрадовались бы, если бы археологи могли указать им хотя бы на несколько камней, принадлежность которых к постаменту была бесспорной или по крайней мере возможной» (Bousquet 1942—1943: 132). Сбылась ли эта надежда? Когда основные раскопки подходили к концу, Т. Омолль писал: «Нет ни одного фундамента, камня или фрагмента надписи, которые мы могли бы связать с этим монументом»[1052]. С тех пор не раз предпринимались попытки решить данную проблему. Одно время X. Помтов относил к западному краю марафонского постамента два ряда кладки известнякового фундамента (Pomtow 1908: 75: Taf. 5)[1053], но в действительности его верхняя кладка образует северо-восточный угол и скорее относится, как заметил тот же X. Помтов, к Doureios Hippos (4) аргивян[1054]. Он же предлагал идентифицировать как принадлежащую постаменту (5) группу из «примерно пятнадцати известняковых блоков», которые сместились в сторону базы памятника лакедемонским навархам (3) (Pomtow 1924: 1215). Позже эти камни исследовал Ж. Ру (Roux G.). «Я насчитал, — писал он, — в юго-восточном углу перибола выше стенного проема и римской агоры двадцать два известняковых блока (не могу похвастаться, что учел все), тщательно обработанных и со следами углублений для Т-образных шипов. Все они, бесспорно, относятся к одному из монументальных постаментов V века, которые стояли в юго-восточной части святилища». Сравнительно недавно в этом месте проводились раскопки[1055], с их результатами я познакомился благодаря В. Реньо. Итак, теперь мы имеем дело не с «15 известняковыми блоками» X. Помтова, а с 29. Речь идет о «горизонтальных и вертикальных плитах из светло-серого известняка, сложенных под прямым углом (Т- или Г-образно)». «Место находки, общность характера кладки, материала и обработки позволяют относить эти камни к одному памятнику V в. до н. э.», который мог быть в действительности марафонским ex-voto[1056]. Выделяется четыре типа каменных блоков разной высоты, на основании чего можно говорить по крайней мере о четырех рядах кладки. Нет ни одного хорошо сохранившегося углового камня в этой кладке, чья длина должна была составлять не менее 10 м. К сожалению, ни один камень не принадлежит верхнему ряду базы памятника, поэтому мы ничего не можем сказать о расположении статуй Фидия[1057]. И еще одна деталь заслуживает упоминания: у одного из угловых камней «видимая вертикальная поверхность его меньшей боковой стороны сохранила следы более поздней грубой обтески с целью подгонки к соседнему памятнику». Ж. Ру не исключает, что здесь можно говорить об «удлинении марафонской базы для того, чтобы поставить на нее статуи эллинистических царей»[1058].
Какими бы ценными ни были эти сведения, они никак не проясняют нашу проблему. По правде говоря, именно описание Павсания служит археологам основным источником и путеводной нитью — слишком в плачевном состоянии дошла до нас юго-восточная часть святилища.
Из этого логически следует, что нам необходимо вновь обратиться к тексту Павсания. Какие интерпретации фрагмента уже предлагались? Самое простое решение было предложено в 1861 г. Э. Курциусом (Curtius 1899). По его мнению, в тексте Павсания имеется лакуна — иначе говоря, в V в. до н. э. марафонский памятник должен был насчитывать не 13, а 16 статуй: Афины, Мильтиада и Аполлона, 10 афинских героев-эпонимов, а также Тесея, Кодра и Филая. Соответственно в эллинистическую эпоху на пьедестале стояли не 16, а 19 статуй[1059]. Я не разделяю этого мнения, но все же одно замечание Курциуса заслуживает самого пристального внимания. Действительно, почему на официальном памятнике афинян не представлена фила Эантида? Ведь ее воины находились на правом крыле марафонского войска, на ее территории произошло само сражение, ее выходцем был полемарх Каллимах из Афидны, и, как следствие, она получила привилегии, о которых сообщает Плутарх (Плутарх. Пиршественные вопросы. 628а—629а)[1060]. Почему, добавил бы я, фила Ойнеида, из дема которой происходил Мильтиад, тоже отсутствует на марафонском приношении?
На эти вопросы можно легко ответить, если предположить существование «лакуны» не в тексте, но на самом памятнике. Так, Э. Леви (Loewy 1900) допускал, что статуи Аякса, Ойнея и Гиппотоонта могли быть переименованы в эллинистическую эпоху и названы в честь македонских царей. Однако трудно представить обычно изображавшихся безбородыми эллинистических монархов бородатыми героями-эпонимами, кроме того, вплоть до римского времени не известны подобные случаи переименования статуй[1061]. Со своей стороны X. Помтов одно время считал, что статуи трех эпонимов могли быть позже заменены — из-за нехватки места — изображениями Антигона, Деметрия и Птолемея[1062]. Обе гипотезы неверны по сути, ибо лишают монумент его изначального основного предназначения — быть памятником афинским эпонимам, которые таковыми могут считаться лишь будучи изображенными все вместе, в противном случае — это отдельные герои, чьи заслуги перед полисом особо не выделяются[1063]. Замечу также, что, если бы проблема нехватки места действительно была решающей (предположение само по себе спорное), афиняне решили бы ее за счет статуй Тесея, Кодра и Филая.
Означает ли сказанное, что нам необходимо вернуться к гипотезе о лакуне в тексте? Едва ли. Внимательное чтение показывает, что Павсаний дает картину законченного и целого памятника, каким он был в V в. до н. э. Марафонское приношение выглядит как «апофеоз Мильтиада»[1064], и не случайно Периегет начинает свое описание с изображений Афины, Аполлона и стратега-победителя. Без сомнения, эти три персонажа находились в центре скульптурной группы памятника[1065]. Что же касается героев — эпонимов и остальных, они разделены в тексте (с помощью ετι δέ) на две группы: с одной стороны, Эрехтей, Кекроп, Пан-дион, Леонт и Антиох, с другой — Эгей, Акамант, Кодр, Тесей и Филай (трое последних, впрочем, отделены фразой, поясняющей, что они не относятся к числу эпонимов)[1066]. Таким образом, можно предположить, что по обе стороны центральной группы находилось по пять афинских героев. Думаю, этого замечания достаточно, чтобы выдвинуть в качестве гипотезы предположение о том, что Кодр, Тесей и Филай представляли в виде исключения три «отсутствующие» филы, причем обстоятельства были таковы, что афиняне, по крайней мере некоторые из них, знали о побудительных мотивах такой странной замены героев.
По правде говоря, эта гипотеза не нова. Еще в 1854 г. ее сформулировал К. Геттлинг (Göttling 1854), но, к сожалению, сделал это на основе неудачно исправленного текста, а сама гипотеза была частью концепции, которая сегодня выглядит бездоказательной. К. Геттлинг был профессором Йенского университета, автором опубликованной в 1840 г. «Истории римской конституции». В ней он объяснял особенности римского государственного устройства тремя «этническими» компонентами: латинским, сабинским и этрусским. Как и многие его современники[1067], он охотно использовал (часто весьма удачно) подобного рода аргументы, чтобы разобраться в хитросплетениях греческой истории. В частности, немецкий профессор полагал, что во времена Кимона Кодр, Тесей и Нелей (автор придерживался такого чтения), три ионийских героя (Кодр считается легендарным предком знатных ионийских родов, Нелей — основателем ряда полисов в Ионии; что касается Тесея, то в легендах о нем тоже присутствуют ионийские сюжеты[1068]) вытеснили если не в самих Афинах, то на афинском памятнике в Дельфах трех аттических героев — Аякса (который, заметим, не был уроженцем Аттики), Ойнея и Гиппотоонта. Гипотеза не такая уж и фантастическая, не исключено, что все эти легенды использовались для пропаганды идеи syngeneia — мифического родства Афин и ионийских полисов. Например, в Смирне и Милете засвидетельствованы филы, носившие имя Тесея (когда они существовали — трудно сказать); ничего подобного мы не знаем в отношении Афин. Кроме того, известна милетская фила, названная в честь одного из «отсутствующих» в Дельфах героев — Ойнеида[1069]. Безусловной заслугой К. Геттлинга следует признать то, что он был первым, кто, исследуя список афинских героев-эпонимов, поднял проблему так называемого «умышленного игнорирования Тесея» (eine absichtliche Ignorirung des Theseus) (Göttling 1854: 159). Опираясь на отрывок из Геродота (Геродот. V. 66), повествующий о враждебном отношении Клисфена Сикионского и Клисфена Афинского к ионийцам[1070], немецкий историк именно «анти-ионизмом» объяснял исключение Тесея из рассматриваемого списка.
Однако и эта гипотеза должна быть отброшена. У нас нет никаких доказательств того, что Кимон проводил проионийскую политику; напротив, его не без основания считают сторонником Спарты. К тому же в гипотезе Геттлинга отсутствует какое-либо объяснение причин замены трех героев-эпонимов тремя другими героями, а именно это как раз требует комментария.
Значительно позже к проблеме, поднятой Геттлингом, обратился А. Моммзен (Mommsen А.) в статье, в основе своей ошибочной (автор придерживается вымышленного Phyleus), но все же представлявшей собой еще один шаг вперед[1071]. Главная идея Моммзена (она по-прежнему выглядит привлекательной) состояла в том, что марафонский памятник изображал боевой строй аттических фил[1072]. Фила Ойнеида была представлена дважды — своим стратегом Мильтиадом и героем по имени Phyleus, который, согласно Павсанию, должен был находиться на краю постамента. Действительно, вполне вероятно, что фила Мильтиада занимала наряду с филой Эантидой почетное место в марафонской фаланге — ведь именно Мильтиад повел войско в атаку на персов, когда очередь командовать дошла до него (Геродот. VI. 110). Моммзен, ссылаясь на свидетельство Плутарха (Плутарх. Аристид. 5) о том, что Фемистокл, выходец из филы Леонтиды, и Аристид, представитель Антиохидской филы, сражались по соседству друг с другом в центре марафонского войска, изящно сопоставил данный факт с соседним расположением статуй Леонта и Антиоха на памятнике в Дельфах. Наконец, еще одно замечание историка представляется важным: он напомнил, что саламинец Аякс (Эант) был чужеземцем в Афинах (Геродот. V. 66), как и Гиппотоонт, уроженец Элевсина, сражавшийся на стороне Эвмолпа против Афин[1073]. Поэтому вполне естественно, что эти герои были заменены царем-объединителем Тесеем и Кодром — героем афинских мифов. Позже сходной точки зрения придерживался Э. Петерсен (Petersen Ε.)[1074]. Он выстраивал следующую схему: Мильтиад выступал от филы Ойнеиды, являясь ее стратегом; осевший в Афинах сын Аякса Филай представлял филу Эантиду; происходивший из Посейдонова рода Нелеидов Кодр замещал сына Посейдона Гиппотоонта, будучи посланником его филы; наконец, Тесей символизировал Афины вообще. Сразу отмечу, что последнее утверждение Э. Петерсена вступает в противоречие с воссозданной им же общей картиной памятника. Действительно, разве мог Мильтиад, находясь в центре композиции, представлять одну-единственную филу? Каким образом один из героев (в нашем случае Тесей), стоявший в общем ряду с эпонимами, мог выступать «глашатаем» всех афинских фил?
В 1924 г. X. Помтов, отказавшись от своих старых взглядов, заимствовал гипотезу А. Моммзена, но по-своему ее интерпретировал[1075].
Я думаю, истину надо искать в предлагаемом этими исследователями направлении. Но прежде чем перейти от гипотез к доказательствам (разумеется, в пределах, дозволенных имеющимися источниками), необходимо обратиться к истории и ответить на вопрос: что в эпоху Кимоно, означало возведение в Дельфах такого памятника, как марафонский постамент?
Марафонское сражение поддается сегодня более или менее точной оценке. Битва, участниками которой были Мильтиад и Каллимах из Афидны, афинские и платейские гоплиты, бой, позже увековеченный в таких памятниках, как Афинская сокровищница в Дельфах и колонна Каллимаха, поставленная после его смерти на Акрополе[1076], — Марафон впоследствии стал служить примером образцового гоплитского боя, и сила этого примера, вероятно, ощущалась до конца IV в. до н. э.[1077] Так, Платон противопоставлял славу гоплитов Марафона и Платей позору моряков Артемисия и Саламина (Платон. Законы. IV. 707а—d). П. Амандри (Amandry Р.) недавно сумел показать, что по этому же вопросу разделялись в V в. до н. э. апологеты Первой и Второй Греко-персидских войн — поклонники Фемистокла и сторонники Кимона, сына Мильтиада. Об этом убедительно свидетельствует один памятник: к написанной на нем эпиграмме в честь участников Саламинского и Платейского сражений через пятнадцать лет были добавлены строки, прославляющие бойцов Марафона, которые сумели остановить врага «у ворот» и спасти Афины от губительного пожара[1078]. В Марафонском сражении и битве при Платеях участвовало около девяти тысяч афинских гоплитов, тогда как афинский флот насчитывал примерно 36 тысяч граждан[1079]. Хорошо известно, что гоплиты, с одной стороны, и большинство моряков, с другой, были представителями разных социальных групп. Известно и то, что Фемистокл опирался на флот, а Кимон являлся идейным сторонником гоплитов и всадников. Подчеркну: только идейным, поскольку победитель персов при Эвримедонте, вместе с Аристидом организовавший Афинский союз, никогда не помышлял об отказе от грозного оружия, подаренного Афинам Фемистоклом. Накануне Саламинского боя Кимон сам подал пример соотечественникам, пожертвовав Афине удила своего коня (Плутарх. Кимон. 5)[1080]. Но в идейном плане Марафон возвеличивался в ущерб Саламину как в Афинах, так и в Дельфах, и вслед за П. Амандри напомню, что марафонская надпись — не единственный пример этому. Афина Промахос Фидия, датируемая временем Кимона, тоже была создана, как сообщает Павсаний (Павсаний. I. 28. 2), на «десятину» из трофеев, захваченных у «мидийцев, высадившихся у Марафона»[1081]. Изображение Марафонской битвы, относящееся к концу эпохи Кимона, находилось в афинской Пестрой стое (Павсаний. I. 15). Павсаний, не скрывая удивления, приводит еще один пример: «Эсхил, когда он почувствовал приближение конца жизни, не упомянул ни о чем другом, несмотря на то, что он достиг столь великой славы и своими стихотворными произведениями, и своим участием в морских битвах при Артемисии и у Саламина. Он просто написал свое имя, имя своего отца и название своего полиса и добавил, что в свидетели своей доблести он призывает Марафонскую бухту и высадившихся в ней мидян» (Павсаний. I. 14. 5)[1082].
К марафонским трофеям отнес Э. Вандерпул (Vanderpool Ε.) колонну и массивную ионийскую капитель, которые были найдены в марафонской часовне Панагии Месоспаритиссы. Они тоже датируются второй четвертью V в. до н. э.[1083] Очевидно, что в этом ряду находится и наша скульптурная группа. Однако в Дельфах мастера могли позволить себе более смелое решение по сравнению с теми, что мы уже видели. Вряд ли Дельфы были пропагандистским центром, где разрабатывались те или иные доктрины[1084], да и трудно представить, кто конкретно мог этим заниматься. В то же время Дельфы были местом пропаганды, где отдельные полисы и граждане иногда прибегали к средствам и приемам, которыми они не рисковали пользоваться у себя дома. Так, взяв на откуп строительство нового храма в Дельфах, Клисфен и Алкмеониды обеспечили себе возвращение в Афины[1085]. Именно в Дельфах царский опекун Павсаний осмелился присвоить себе звание победителя во Второй Греко-персидской войне (Фукидид. I. 132). Дельфы были тем местом, где лакедемоняне впервые в своей истории изобразили полководца-победителя Лисандра, венчаемого Посейдоном[1086].
Какое место в этом ряду занимает наш памятник? Особое значение должен иметь тот факт, что на нем изображены герои, ибо нет ничего более пластичного, чем герой как объект религиозного и гражданского поклонения. Он должен обладать прежде всего теми качествами, которые от него требуются, но можно также создать, как сказали бы сегодня, искусственного героя в угоду требованиям политической жизни. Клисфен, заручившись поддержкой дельфийского оракула, учредил группу эпонимов, или архегетов фил, с прикрепленными к ним жрецами и отобрал героев (архегетов) для демов[1087]. Принимаем ли мы всерьез рассказ Аристотеля о том, что пифия из предложенного ей списка ста героев остановилась на десяти (Аристотель. Афинская полития. XXI. 6), или нет[1088], несомненным остается одно: выбранные Клисфеном герои не были равными по своему значению. При этом отдельные второстепенные персонажи оказались на первом плане, тогда как ряд центральных героев был почему-то пропущен, и в первую очередь это касается Тесея.
Теперь мы можем рассмотреть марафонский постамент в контексте истории Афин и Дельф[1089]. История отношений Тесея с Афинами далеко не простая. Этот герой, будучи исключенным из списка эпонимов, в котором фигурируют и его отец Эгей, и сын Акамант, как ни удивительно, вновь появляется после Марафонской битвы; причем это появление вдвойне неожиданно, поскольку связанные с ним мифы относятся к району Тетраполя. Такая локализация должна была пойти не на пользу сыну Эгея, но на самом деле сразу после Первой Греко-персидской войны она сыграла положительную роль в его судьбе. В скульптурах Афинской сокровищницы в Дельфах мифы о Тесее объединены с мифами о Геракле, а эпизод о Марафонском быке занимает среди этих изображений достойное место[1090]. Семейство Мильтиада и Кимона использовало в своих целях это возрождение славы Тесея, возможно даже, что оно само этому возрождению способствовало. Некоторые исследователи связывают появление изображений Тесея на памятниках конца VI — начала V в. до н.э. с Клисфеном[1091]. Это абсолютно неправильно — в действительности все было наоборот. «Нам известно, что сородичи и сторонники Мильтиада были тесеоманами, тогда как в отношении Алкмеонидов мы этого сказать не можем»[1092]. Как бы там ни было, именно Кимон «обнаружил» в 476—475 гг. до н. э. на Скиросе останки Тесея и торжественно перезахоронил их на Афинской агоре, тем самым фактически объявив героя ойкистом полиса[1093].
Ценные сведения о мифической родословной клана Кимона содержатся в дошедших до нас фрагментах первого афинского прозаика Фе-рекида[1094]. Ф. Якоби (Jacoby F.) убедительно показал, что этот автор генеалогических списков героев, интересовавшийся мифами о Тесее и Кодре, о геройской смерти которых он был хорошо осведомлен[1095], а также дельфийскими легендами (F 36), проследил (поистине уникальное достоинство его плохо сохранившегося сочинения) генеалогию рода Филая (F 2) (Ферекид называет его Philaias) до исторического времени, а именно — до Мильтиада Старшего. Как известно, к этому предку возводил свою родословную Кимон[1096]. На основании данного факта Якоби сделал закономерный вьшод: Ферекид находился в клиентской связи с кланом Мильтиада[1097].
Итак, Тесей появляется в Дельфах после Марафона[1098], а в Афинах — после Саламина. Стоит ли удивляться присутствию его изображений на двух важнейших памятниках эпохи Кимона, посвященных победе над персами, — на дельфийском постаменте в честь Марафона и на приписываемой другу Кимона Полигноту картине, которая украшала Пеструю стою?[1099] Эту знаменитую картину описал Павсаний. Рядом с изображением битвы при Эное в Арголиде, где во время Первой Пелопоннесской войны была одержана победа над Спартой, и по соседству со сценами амазономахии (с участием Тесея) находилась (с краю) картина, изображавшая Марафонский бой. На ней были нарисованы «герой Марафон, от которого вся эта равнина получила свое название, а также Тесей, изображенный, как будто он поднимается из земли, кроме того Афина и Геракл» (Павсаний. I. 15, пер. С. П. Кондратьева). Среди участников сражения также особо выделялись Каллимах и тесно связанный с Тесеем Мильтиад[1100].
Теперь можно задать вопрос: кого Тесей заменил на памятнике в Дельфах? Ответ для меня очевиден: герой Марафона заменил царя Саламина, Аякса, поскольку во времена Кимона прославленное гоплитское сражение времен Первой Греко-персидской войны ставилось выше знаменитого морского боя времен второй. Дополнительное подтверждение дает следующая деталь: на одной из картин Пестрой стои был изображен Аякс (правда, не владыка Саламина, а сын Оилея, известный как Аякс Малый, которого, впрочем, часто путают с его тезкой) перед царями, собравшимися для суда над ним за учиненное им прямо у алтаря насилие над Кассандрой (Павсаний. I. 15. 2). Более детальное описание этой сцены дано у Павсания на примере одной из картин в Дельфах[1101]. Таким образом, Тесей сумел взять реванш: исключенный из клисфеновского списка эпонимов, он, тем не менее, оказался на постаменте рядом со своими родственниками — отцом Эгеем и сыном Акамантом. Отсутствующего на марафонском пьедестале Аякса заменил его афинский сын Филай (Плутарх. Солон. X). Тесей выступал от филы Эантиды, которая занимала почетное место в сражавшемся войске; место Филая было еще более почетным — находясь справа от центральной группы, он представлял филу Ойнеиду. Малоизвестный Ойней[1102], внебрачный сын царя Пандиона, не мог конкурировать с Филаем. Действительно, Филаидский дем относился к филе Эгеиде, а не к Ойнеиде, однако считается, что уже Мильтиад Старший был приписан к дему (впоследствии получившему имя Лакиадский), который находился на территории филы Ойнеиды[1103]. Нет сомнений, что именно к этому дему принадлежали Мильтиад и его сын Кимон[1104]. Там находился теменос героя Лакианта, а по соседству с ним — святилище Фитала, предоставившего гостеприимный кров Деметре; его же потомки Фиталиды радушно встретили Тесея[1105].
Наконец, остается элевсинский герой Гиппотоонт, которого, как следует из нехитрого подсчета, мог заменить только Кодр. Можем ли мы привести столь же четкие, как в двух предыдущих случаях, аргументы в пользу этой замены?[1106]
Упоминаемый у Павсания Меланф, отец Кодра, был, вероятно, эпонимом Меленского дема, входившего в филу Гиппотонтиду[1107]. Но я вынужден признать, что это — единственный топографический аргумент в пользу предполагаемой связи афинского царя с представляемой им в Дельфах филой. Медонтидская фратрия, к которой, как принято считать, относились потомки Кодра, никак не может быть локализована на территории Гиппотонтидской филы[1108]. То же самое следует сказать и о могиле Кодра, находившейся, согласно одной надписи римской эпохи, у подножия Акрополя (IG. II2. 4258), о легендарном месте его смерти близ Илисса (Павсаний I. 19. 5)[1109], наконец, о святилище, которое Кодр «делил» с Нелеем и Басилеем[1110].
Неожиданное подтверждение нашей гипотезе мы найдем в одном тексте. Это отрывок речи против Леократа, произнесенной Ликургом после Херонеи (Ликург. Против Леократа. 83-88). Идеолог и историк, опиравшийся как на серьезную литературу, так и на сфабрикованные документы[1111], всячески проявлявший интерес к проблеме афинского присутствия в Дельфах (возможно, с его именем следует связывать возведение там знаменитой колонны «танцовщиц», которых Ж. Буске (Bousquet 1964) не без основания отождествляет с Аглавридами), Ликург, несомненно, не был безучастным свидетелем. Он рассказывает дельфийский анекдот, связанный с Кодром. Некий дельфийский жрец по имени Клеомант («предсказатель славы») предупредил афинян о пророчестве оракула, адресованном их врагам: те захватят Афины, если останется в живых царь Кодр. Узнав об этом, Кодр решил перехитрить врагов и покончил с собой. Ликург отмечает, что потомки Клеоманта имели право почестей в Афинском пританее, и делает следующий вывод: «Как мы видим, их любовь к отчизне была не такой, как любовь Леократа[1112]. Древние цари, устроившие эту хитрость врагам, пошли на смерть за отчизну и принесли себя в жертву ради спасения всех остальных. Вот почему они получили исключительное право быть эпонимами этой страны (τοιγαρουν μονώτατοι επώνυμοι της χώρας είσίν) и заслужили божественные почести». Сразу отбросим все преувеличения автора и отметим, что, по-видимому, Ликург смешивает легенду о Кодре с мифом об Эрехтее, принесшем в жертву не себя, а свою дочь Пандросу[1113]. Специально Эрехтею оратор посвятил пространный фрагмент своей речи, где он цитирует Еврипида (Ликург. Против Леократа. 99—100). Думаю, что наше понимание этого отрывка[1114] станет еще более полным, если мы предположим, что Ликург намекает и на памятник в Дельфах, на котором изображались Кодр, Тесей и Филай — заменяющие герои-эпонимы. По крайней мере, таким будет мое заключение[1115].
Приложения
Возвращение к Черному охотнику[1116]
Как и многие другие неоднозначные явления, «Черный охотник» может похвастаться двойной датой рождения. Как и Первый Интернационал рабочих, он может быть назван «французским ребенком, отданным английской кормилице», но не в столицу, а в Кембридж. Впервые доклад на эту тему был заслушан в Ассоциации содействия исследованиям Греции 6 февраля 1967 г. под заголовком «Le Chasseur noir», а год спустя, 15 февраля 1968 г., превратившись в «The Black Hunter», он прозвучал в Кембриджском филологическом обществе. Правда, я должен заметить, что в Париже слушатели, если и были, как мне сказали, заинтересованы, то все же остались немы. В Кембридже, напротив, дискуссия была оживленной. В ней участвовали не только специалисты-антиковеды, но и всемирно известный антрополог Эдмунд Лич, ставший впоследствии сэром Эдмундом.
Оба доклада были опубликованы — в Париже несколько позже, чем в Кембридже[1117]. Насмешливый структуралист не преминет отметить забавный хиазм: в Кембридже, университете, где антиковеды были одновременно антропологами (стоит ли напоминать имена Дж. Харрисон или Ф. Мак-Дональда Корнфорда?), моему тексту оказал гостеприимство благоразумный филологический журнал, в то время как в Париже, где антропологи-эллинисты — Л. Жерне, А. Жанмер, Ж.-П. Верная — проводили свои исследования чаще всего вне университета, работа была опубликована как раз в университетских «Анналах».
Маркс говорил, что люди загадывают себе только те загадки, которые в состоянии разгадать. Я не претендую на окончательную разгадку, но уверен, что и загадки, и проблемы появляются на университетском небосклоне отнюдь не случайно. В начале 60-х годов я прочел полезную книжку римского антиковеда Анжело Брелиха, посвященную взаимосвязи войны, религии и инициации юношей в Греции[1118], т. е. по той теме, которая по существу стала одной из основных тем «Черного охотника». Когда моя работа была опубликована, я отправил ее Анжело Брелиху, с которым не был лично знаком. Он ответил мне, что только что сдал в печать работу, ставшую в итоге его главным жизненным трудом, — книгу «Paides е parthenoi»[1119], целиком посвященную инициациям юношей и девушек в греческом мире.
Впрочем, если в моей статье и было что-то оригинальное, то это вовсе не то, что касалось юношеских инициации. «Пионерской» работой на эту тему, очевидно, является все же работа «Couroi et Courètes»[1120] А. Жанмера, ученого, который еще в 1913 г. опубликовал свое знаменитое исследование «Лакедемонские криптий»[1121]. В моем сравнении афинской эфебии со спартанскими криптиями также не было ничего нового — это было, откровенно говоря, почти общее место. В то же время «Черный охотник» был если и не первой попыткой применения «структурного» метода в антиковедении[1122], то возможно, первой работой историка-эллиниста, использующей леви-строссовские концепции для понимания некоторых черт древнегреческого общества. Я сказал именно историка Греции, а точнее — историка греческого общества, поскольку моей задачей ни сейчас, ни когда-либо раньше не было изучение греческих мифов самих по себе и для самих себя (как это делали на определенных этапах своего научного развития или делают до сих пор такие ученые, как М. Детьен в Париже, Э. Пеллицер в Триесте или Дж. Фонтенроз в Калифорнии). Моей задачей было изучение соотношения между данными мифологии и историческим обществом или, лучше сказать, политикой.
С чего началось мое исследование?[1123] Вначале речь шла не об Афинах, а о Спарте — для того, чтобы ответить на поставленный в 1913 г. А. Жанмером вопрос: был ли странный институт криптий лаконского общества военным предприятием? Отборнейшие юноши «крипты», зимой рыскавшие по горам и с помощью звериных хитростей убивавшие илотов, — действительно ли они проходили испытание воинской подготовки? А. Жанмер возражал против этого, говоря о том, что вся военная история Спарты восстает против предположения, будто спартанские гоплиты ползали в кустарнике или карабкались на скалы и стены. И как же тогда гоплиты, если они прошли подобную тренировку, могли во времена Леонида при Фермопилах оставить без охраны тропинку, по которой Эфиальт провел врагов-персов?[1124] Я же пришел к выводу, что необходимо обратить внимание на контраст, понятый как ряд оппозиций — крипт относится к гоплиту так же, как горы — к равнине; «голый» (γυμνός), т. е. лишенный тяжелого вооружения, юноша — к воину в полном вооружении; коварный убийца илотов — к бойцу, сражающемуся в фаланге лицом к лицу с врагом, ночь — к дню, и, разумеется, сырое — к вареному[1125].
Из Спарты я перенесся в Афины и попытался понять миф, объясняющий происхождение Апатурий — ионийского праздника фратрий, во время которого молодые эфебы принимались в сообщество мужчин и граждан. Это рассказ о черном афинском герое Меланфе, который использовал хитрость (απατή), чтобы на границе с Беотией победить царя Фив, белокурого Ксанфа. Странный и мрачный рассказ для эфебов, которые становятся гоплитами. Контраст со знаменитой клятвой, по которой они обязывались вести себя как подобает достойным членам фаланги, столь же поразителен, как и противоположность между спартанскими воинами и криптами. Во время доклада в Кембридже Эдмунд Лич обобщил мои наблюдения, подчеркнув, что во многих обществах при прохождении обряда инициации разница между до и после резко подчеркивалась: именно во время превращения в мужчин мальчики переодевались в девочек.
После Спарты и Афин наступил черед охоты. В то время существовало весьма небольшое количество исследований о греческой охоте[1126]. Я мог, конечно, использовать некоторые прямые свидетельства, например, о том, что знатные македоняне получали право возлежать, как взрослые, на пиру только после того, как убивали кабана без использования сетей (Athen. I. 18а). Я нашел в «Законах» Платона (VII. 822d— 824а)[1127] и в некоторых других источниках противопоставление охоты «гоплитского» типа, такой, какая практиковалась, например, в Спарте, и «догоплитского» эфебовского способа охоты, использующего хитрость, сети и покров ночи. Что до самого Черного охотника, то, в конечном счете, этого персонажа не существовало ни в греческой литературе, ни в эпиграфических или археологических памятниках, хотя мне случалось встречать его без малейшей ссылки в научной литературе, узнавая даже с удивлением, что он иногда пользовался бумерангом[1128]. Черный охотник — это название одного из участников французской охоты на волков, но когда речь идет о греческом мире, его создателем являюсь я и именно я несу за него ответственность. Когда мне нужно было выбрать изображение на обложке книги, носившей его имя, я избрал по совету Николь Лоро Черного охотника не из греческого искусства, а с картины Паоло Учелло, которая стала мне хорошо знакома после частых посещений музея Эшмолиан в Оксфорде.
Не будем заводить парадоксы столь далеко. Разумеется, у моего Черного охотника нет недостатка в греческих прототипах. Я уже назвал одного из них — Меланфа из мифа Апатурий, служившего образцом для афинских эфебов, которые сами в некоторых торжественных случаях[1129] носили черные хламиды. Меланф победил Ксанфа в битве в Мелайнах («черной стране»), во время которой он получил помощь от Диониса Меланэгида, т. е. «носящего шкуру черной козы», однако он не был охотником.
Другой прототип, который тоже был для меня отправной точкой — носящий менее мифологическое имя Меланий, история которого частично рассказана хором старцев в «Лисистрате» Аристофана:
Сказку Я хочу сказать, какую слышал Маленьким ребенком, Вот как. Меланион жил молодой (νεανίσκος) и, брака Не желая, спасся бегством, И в горах скитался, И ловил он зайцев, Им сплетая сети, Взял собаку — друга. И назад домой он не бежал во гневе. Вот как Не терпел он женщин. (Стк. 781-797. Пер. Д. Шестакова)Но я помнил, конечно, и то, что супруг Аталанты Меланий был героем Калидонской охоты, настоящей коллективной охоты героев[1130].
Я сделал Черного охотника символом эфеба, не прошедшего инициацию[1131], а также символом переходного состояния (однако весьма часто, к моему великому удивлению, мою концепцию просто не понимали)[1132].
Почему эфеб в своей знаменитой клятве обязуется вести себя как гоплит? Ответ кажется мне совершенно ясным: для юноши хитрость (απατή) — это настоящее, чувство же локтя в фаланге — будущее.
Таков был «Черный охотник» в 1968 г. Остался ли он впоследствии самим собой? И да, и нет. Существует старая риторическая фигура: Жан имел нож, он сменил лезвие, затем ручку, но этот нож остался по-прежнему ножом Жана. Мое исследование было опубликовано еще на нескольких языках, а затем включено в сборник[1133]. Я воспользовался этим для того, чтобы усилить свою аргументацию и исправить неточности, на которые указывали критики[1134]. Но кроме этой необходимой «косметики» я постарался расширить материал исследования, обращаясь в своей работе к близким сюжетам: эфебия и трагедия (по поводу «Орестеи» Еврипида и «Филоктета» Софокла); эфебия как символическое место встречи исторического и антропологического методов; и — совсем недавно — Александр Великий, царская охота, и охота эфебов[1135].
Конечно, «Черный охотник» вызвал много споров и возражений[1136]. Некоторые ученые приняли по меньшей мере главную часть моей аргументации[1137] — среди них лучший знаток эфебовских надписей IV в. до н. э. О. Реймут[1138]. Иногда со мной спорили — вежливо или резко[1139].
И, наконец, мои гипотезы развивали применительно к разным периодам и моментам истории — либо используя их, либо отмечая различия[1140].
Со своей стороны, когда я перечитываю первый вариант статьи, то чувствую себя достаточно неловко (чтобы не сказать больше) не столько из-за тех или иных ошибок, которые были мною позже исправлены (возможно, часть их еще сохранилась), сколько из-за общей тенденции использовать лишь первый уровень источников, какими бы они ни были, — схолии, лирическая поэзия, трагедия, мифография. Все они одинаково привлекались как свидетельства для изучения социальной истории. Говоря об иконографии, я написал даже: «Каждый знает, и это подтверждается вазописью, что афинские эфебы носили черные хламиды вплоть до времени щедрых пожертвований Герода Аттика»[1141]. П. Максвелл-Стюарт[1142] совершенно справедливо критиковал меня за это — исходя из существующих источников невозможно сформулировать столь общее утверждение. Данное утверждение очень ярко показывает, что в то время я разделял, как, возможно, и сам П. Максвелл-Стюарт, наивное или по меньшей мере упрощенное представление, будто вазопись вообще может отвечать на такого рода вопросы, относящиеся к реальной жизни.
Благодаря исследованиям таких ученых, как Ж.-Л. Дюран, Ф. Лисарраг, П. Шмитт-Пантель, А. Шнапп[1143], я понимаю теперь, что сама постановка подобных вопросов лишена смысла. Но даже не будучи еще знакомым с этими работами, я должен был бы знать, что в архаическую и классическую эпоху обычной формой изображения сражения в Афинах был поединок, а не фаланга, что, однако, не имело ничего общего с реальной практикой[1144]. Во всяком случае сейчас я знаю — изучать язык живописи как таковой, не отказываясь при этом от занятий социальной историей, — довольно трудное предприятие.
Если главной слабостью моей статьи 1968 г. была манера обращения с источниками, то, вновь проходя по старой дороге, я должен был в первую очередь показать, как их следует изучать.
Начну с Гомера. Как ни странно, свидетельства Гомера практически отсутствовали в моей статье. Конечно, я упоминал там «волка» Долона, черного козопаса и предателя Меланфа-Меланфия, и его сестру служанку Меланфу, также виновную в предательстве. Но я ни слова не сказал ни о самом Одиссее, главном носителе μήτις , ни о его знаменитой охоте у Автолика с дядями по материнской линии в XIX песни «Одиссеи» — эпизоде инициации в чистом виде[1145], который с полным основанием открывает недавнюю работу Дж. Андерсона.
Передо мной, как учеником М. Финли, встает вопрос, который является центральным, когда речь идет о Гомере, однако имеет значение не для него одного. Когда мы говорим о каком-то общественном институте, например об инициациях юношей, в какой степени мы подразумеваем реальный институт, функционировавший в когда-то существовавшем в реальности обществе? Или же мы обсуждаем лишь элемент эпического или сказочного сюжета? Другими словами, реальная инициация — это не то же самое, что инициация, описанная в литературе, или та процедура, о которой рассказывают народные сказки. Скажу даже больше — чем более знаком некий институт слушателю, тем реже он будет упоминаться, поскольку о том, что само собой разумеется, не говорят или говорят очень мало. Таким образом, мы должны делать выводы о существовании рассматриваемого института на основании данных поэмы. В случае Черного охотника, мне кажется, я могу привести пример соотношения этих двух уровней — общества и поэмы. Идею, которую я сейчас разовью, подал мне Б. Браво[1146]. Когда старый Нестор рассказывает в XI песни «Илиады» (ст. 670—762) о далеком времени своего ήβη (ώς ήβώοιμι — ст. 670), он описывает распрю между его согражданами — пилосцами и эпейцами из Элиды после похищения теми скота. Пилосцы ответили на него набегом и угоном скота, можно сказать, контрнабегом, бывшем одновременно и войной, πόλεμος (ст. 684). Нестор, участвовавший в ней, убил одного из врагов. «И Нелей (его отец] обрадовался, потому что мне, юному, досталось многое, когда я отправился на войну» (ст. 683—684).
Так Нестор начал набираться военного опыта. Однако обстоятельства осложнились — появилось вражеское войско: «они же на третий день все пришли, и сами в большом числе и во всеоружии, и непарнокопытные кони» (ст. 707—709), вынудили пилосцев на мобилизацию. На этот раз Нелей запретил своему сыну участвовать в войне и спрятал коней Нестора: ού γαρ πώ τι μ εφη ιδμεν πολεμήια εργα — «поскольку, как он сказал: "Я еще совсем не знаю военное дело"» (ст. 718). Как истолковать эту несостоятельность Нестора? Следует ли допустить, например, что весь пассаж более поздний и даже «до смешного неуместен» здесь?[1147] Но даже если и так, проблема не исчезает. Следует ли в таком случае допустить, что «болтливый старик»[1148] Нестор попросту слегка слабоумен? Но это тот самый тип «психологических» объяснений, от которых лучше было бы избавиться.
По предположению Б. Браво, в данном случае мы имеем дело с двумя разными способами ведения войны — войной юношей и войной взрослых. Действительно, всмотримся внимательнее в текст. Здесь ничего не сказано о времени, когда происходит первое столкновение, однако поэт его решительно принижает. Люди Итимонея, противники Нестора, названы крестьянами (άγροιώται — ст. 676). Возвращение происходит ночью (ст. 683) и только распределение угнанного скота — днем (ст. 685). Напротив, когда приходит война взрослых, в которой Нестор участвует как пехотинец среди колесничих (ст. 721), только отправление на войну происходит ночью. Поэт тщательно описывает события двух дней, происходившие при свете солнца (ст. 723, 725, 735). Первый посвящен жертвоприношениям и завершается вечерней трапезой εν τεγέεσσιν — «по подразделениям» (ст. 730), т. е. воинским пиршеством. Второй — день правильного сражения μάχη (ст. 736). Нестор действительно убивает тогда своего первого противника (ст. 738). Но важна еще одна замечательная деталь — в противоположном лагере имеется симметричный ему персонаж или, вернее, персонажи — двое Молионов, сыновей Актора[1149]. Они «еще дети (παΐδ' ϊτ έόντε), не вполне пока знакомые со стремительной битвой» (ст. 710). Нестор собирается убить этих очень молодых людей, сразившись с ними, но Посейдон спасает их (ст. 750—752). Таким образом, им не удается пройти инициацию. Весь эпизод не имеет решительно никакого смысла, если не предположить, что в гомеровскую эпоху (я имею в виду здесь время жизни поэта) противопоставление между эфебом и взрослым, о котором я говорю в данной статье, действовало в полную силу. Перейдя черту, Нестор отныне (разумеется, в его ретроспективном рассказе) находится по другую сторону ήβη (юности).
Я полагаю, что здесь мы имеем дело с обычной практикой «одиссеевского мира». Я готов согласиться с этим, тем более что отмеченное противопоставление, существующее в рассказе одного из персонажей (т. е. на втором уровне по отношению к речи поэта), фигурирует в описании (т. е. по-прежнему на втором уровне), причем в самом знаменитом из всех — описании «щита Ахилла» в XVIII песни, представляющем собой квинтэссенцию гомеровского полиса[1150]. На щите изображены два города — первый мирный, второй — воюющий и находящийся в осаде. Осажденные используют два способа ведения войны. Первый из них — засада (λόχος — ст. 520), устроенная с помощью σκοποί, лазутчиков (ст. 523), которая завершается угоном скота и убийством пастухов (ст. 520—529). Но рядом с этой «малой войной» происходит большая, μάχη — «правильное» сражение на берегу реки (ст. 533). Здесь, конечно, противопоставление возрастных классов не столь очевидно, как в XI песни, хотя на крепостной стене город защищают женщины, дети (νήτια τέκνα) и старики (ст. 514), о юношах же ничего не сказано. Не будет слишком смелым предположение о том, что они участвуют скорее в засаде, чем в сражении, и что это казалось поэту настолько очевидным, что он не испытывал необходимости в дальнейших уточнениях[1151].
От общественного института, объясняющего текст, обратимся к гомеровскому персонажу, откровенно говоря, гораздо более близкому к Черному охотнику как к идеальному образу, чем все остальные. Это молодой сын Приама и Гекубы, брат Гектора и «супруг» Елены — Парис-Александр, двойное имя которого само по себе составляет особую проблему.
Действительно, Парис описан как «неполный герой»[1152]. То, что представлено как следовавшее одно за другим в жизни Нестора, сосуществует в облике Париса. Он действительно полноценный воин, убивший трех ахейцев — конечно, меньше, чем Гектор, но больше, чем Сарпедон. И, однако, с момента его появления на сцене в начале III песни «его одежда и вооружение удивляют». Его двойственность в том, что он одновременно: лучник — и классический воин, мужчина — и женственное существо; он вооружен как луком, так и двумя копьями — «странное вооружение для лучника, но необычное также и для копьеносца»[1153]. Столь же странна накинутая им на плечи шкура пантеры (ее следует сопоставить со шкурой волка, в которую облачается Долон в X песни). Гектор, оскорбляя Париса, говорит, что он привез «прекрасную женщину из дальней страны, невестку воинственных мужей» (III. 48—49), но сам Парис — не мужчина и не воин и обладает только красотой, даром Афродиты (ст. 44). Когда в XI песни Парис ранит Диомеда, те же оскорбления слышатся из уст ахейского героя: «...лучник, позорник, кичащийся луком, подстерегающий дев, если бы ты вступил в бой лицом к лицу в доспехах (συν τεύχεσι), тебе бы не помогли ни лук, ни частые стрелы» (ст. 385—387). Лук в гомеровских поэмах почти всегда играет двойственную роль[1154]. С одной стороны — это символ власти, оружие владыки Аполлона и владычицы Артемиды, Одиссея в его дворце. С другой — он связывается с охотой (для «Илиады» занятием не героическим[1155]) и ассоциируется с Пандаром, охотником и предателем, с незаконнорожденным (Тевкр) или подчиненными народами (например, локрийцами Аякса малого). Лук — это по преимуществу оружие Черного охотника.
По поводу вооружения Париса говорилось, что оно может быть знаком если не «культурного отличия», то «по меньшей мере» отличного мировоззрения[1156]. В действительности значение этого странного костюма чисто греческое. Парис — это эфеб, как Ясон в IV Пифийской оде Пиндара: «и время приспело: пришел страшный, с двумя копьями в руке, с двумя одеждами на теле: здешняя, магнетская, в рост его дивным членам, и барсова шкура — сверху, от дрожи дождей. Не стрижеными кудрями ложились волосы, а золотом растекались по всей спине»[1157]. Вся легенда о Парисе-Александре[1158]: сон Гекубы, воспитание «в лесах», пастушеская жизнь, первый брак с Эноей, другой фигурой «дикого» мира, победа в беге, классическом состязании эфебов, — находится, разумеется, вне пределов «Илиады».
В какой мере Гомер знал эти легенды? Несомненно, знал хотя бы частично. Он не описывает суд Париса, но намекает на него, говоря о деревенском дворе (messaulos — XXIV. 29), где троянский царевич принял и оскорбил богинь. У Гомера Парис от крайней дикости переходит к крайне рафинированной цивилизованности: ему случается заниматься любовью среди дня (Гомер. Илиада. III. 441—446), что, конечно, противоречит правилам гомеровской морали, но это позволяют себе Зевс и Гера в знаменитой сцене (там же. XIV. 292—351). Гомеровскую биографию Париса нельзя рассматривать как прямое историческое свидетельство о жизни реальных военачальников X или Y. Как обо всяком произведении искусства, о портрете Париса и его соотношении с реальностью можно сказать то же, что сказал Фрейд об отношении сна к бодрствованию: Гомер широко использует концентрацию (Verdichtungasrbeit), перестановки (Verschiebungsarbeit), наглядное изображение (Darstellung). Смело можно сказать, что юность Париса, в отличие от принадлежащей истории юности Нестора, вечна, как юность героя «Портрета Дориана Грея».
Вернемся к эпохе, гораздо более поздней, чем гомеровская. Ясон в IV Пифийской оде Пиндара обут лишь на одну ногу, что дополняет его облик мифологического эфеба. Платейские и афинские воины, бежавшие из осажденных Платей в 427 г. до н. э., также были обуты лишь на одну ногу, причем Фукидиду не удается объяснить нам почему. Ясона можно сравнить с Парисом — Пиндар говорит о нем, как говорят о мифологическом персонаже, но эти воины — не мифические существа. Учитывая другие упоминания «монокрепидов», можно предположить, что они разыгрывали юношеский инициационный обряд. Наше дело — понять этот обряд[1159].
Пусть мне будет позволено временно прервать свой исторический анализ, правда лишь для того, чтобы определить, что такое исторический анализ, когда речь идет о данной теме. Я должен сделать эти уточнения, поскольку довольно часто нам приходится иметь дело с двумя противоположными, но симметричными подходами, причем оба, на мой взгляд, неприемлемы.
Недавняя книга Дж. Андерсона «Охота в древнем мире» начинается (или содержит в самом начале) с утверждения, что «речь здесь идет об охоте древних греков и римлян, понимаемой как спорт, и о конкретных деталях ее ведения, как их описывают тексты и иллюстрируют археологические материалы». Андерсон сразу добавляет, что «многие важные темы здесь или едва затронуты, или совершенно опущены», среди них, например, «охота как источник литературных образов»[1160].
Коснемся вкратце проблемы «спорта». Андерсон сам понимает[1161], что спорт в современном смысле слова существовал в древности лишь в незначительной мере. Более того, если называть спортивными знаменитые состязания, которые устраивались с архаической эпохи и так часто воспроизводились во времена эллинизма, то окажется, что охота не входила в их число. В той мере, в какой можно определить идеал древнего спортсмена, он скорее соотносится с военным делом, а не с охотой[1162].
Напомнив об этом, следует спросить, действительно ли мы имеем право разделять охоту как практическую деятельность и охоту как набор образов? В работе «Охота и жертвоприношение в "Орестее" Эсхила»[1163] я попытался показать, что эти образы имели совсем другой смысл, чем это принято считать. Разве можно отделять значение изображения как важного источника для анализа литературы от его роли документального источника? Я имею в виду вазопись и скульптуру, которые широко обсуждаются и комментируются в книге Андерсона. Давайте посмотрим, как он сам обращается с этой категорией источников? Когда ему нужно представить охоту на кабана с точки зрения техники как «спортивное предприятие, столь же опасное (в классическую эпоху), как и в героическую» (высказывание, к тому же совершенно лишенное смысла, поскольку «героический век» существовал лишь в воображении Гомера, а также поэтов и преподавателей постгомеровской эпохи), Андерсон целиком цитирует отрывок из «Кинегетики» Ксено-фонта (X. 1—8, 10—18), добавляя просто: «...Это восхитительное описание не нуждается ни в интерпретации, ни в комментарии»[1164]. Что здесь действительно восхитительно, так это само представление о том, что текст Ксенофонта совершенно прозрачен: как будто его руководство не вписывается в историю греческой системы воспитания (παιδεία), как будто оно не должно быть сопоставлено с тем, например, что говорит на этот счет Платон, и как будто оно могло быть написано во времена Пиндара, а не после кризиса Пелопоннесской войны (в то время, когда вокруг понятия τέχνη — мастерство — развиваются новые представления παιδεία, характерные для софистов, и когда появляется то новое видение прошлого, которое заставляло Ксенофонта проповедовать новые идеи под видом древнего воспитания).
У Ксенофонта охота уже не относится к испытательному периоду, предшествующему гоплитскому военному делу. Она включена в систему военной деятельности: чтобы в этом убедиться, достаточно прочесть «Кинегетику» и «Киропедию»[1165]. Для этого есть объективные причины: спартанский опыт чрезвычайно коллективизированной охоты[1166] и в особенности практический военный опыт. В 427 г. до н. э. в сражении с «варварами»-этолийцами афинский полководец Демосфен стал жертвой подвижных отрядов, которые сегодня были бы названы «егерями». Против них лучники действовали успешнее, чем гоплиты (ср.: Thuc. III. 98). Знаменитый спор о сравнительных достоинствах лучника и гоплита в «Геракле» Еврипида (424 г.) был спором о ценности охоты для военного дела[1167]. Для самого Ксенофонта экспедиция, о которой он рассказывает в «Анабисисе», была войной скорее егерской, чем гоплитской. Теперь требовалось, чтобы Ксенофонт дал теоретическое обобщение этого опыта, что он весьма подробно и сделал. Был ли он здесь первым? Обсудим один мало известный и мало изученный текст[1168]. Он принадлежит Феофрасту и, следовательно, датируется более поздним временем, чем сочинения Ксенофонта, однако в нем приводится высказывание Гагнона, бывшего стратегом в Афинах до и после Пелопоннесской войны[1169]. Как Платон до него (Leg. XII. 951d-952b, 961ab, 946е), Феофраст утверждает[1170], что полезно, когда юноши тесно общаются с опытными мужами, и передает касающийся стратегов совет Гагнона, в котором тот использует пример из сферы охоты: «любители охоты всегда включают (в свору] щенков»[1171].
Но вернемся к Дж. Андерсону. Было бы преувеличением сказать, что он никак не комментирует сообщение Ксенофонта об охоте на кабана. Таким комментарием служит дословная цитата из описания «вазы Франсуа» (ок. 560 г. до н. э.), знаменитого аттического кратера из Археологического музея Флоренции, сделанного оксфордским знатоком керамики сэром Джоном Бизли[1172]. Дж. Андерсон цитирует его так, словно слова Бизли и изображение Калидонской охоты одинаково прозрачны, словно замечания Ксенофонта могут быть представлены параллельно истории Мелеагра и Аталанты[1173] и словно сам Бизли на той странице, которую цитирует Андерсон, не ссылается на данные, не имеющие ничего общего с техникой охоты на вепря, но тесно связанные с проблемами, изучаемыми в «Черном охотнике», в особенности с возрастными классами: «Пелей безбород, поскольку предполагалось, что это событие произошло, когда он был еще очень молод, до его женитьбы». Естественно, Андерсон прекрасно сознает, что невозможно удовлетвориться тем, чтобы просто добавить Бизли к Ксенофонту, но ведет себя так, как будто этого не знает.
Добавлю еще несколько слов. Конечно, история охотничьей техники и практики — это одно, а история гражданских ценностей и идеологии, посредством которой происходило самоутверждение полисов, — другое. Но как можно понять, например, то, что во время Пелопоннесской войны вероломство, хитрость (απάτη) появляется в речах, вложенных в уста Перикла, и в рассказе Фукидида как характерная черта спартанцев и их полуостровных союзников, если не знать всегдашнее их стремление быть воплощением идеала гоплита?[1174]
Если верно, что в научной литературе существуют те дурные привычки, которые я критиковал, избрав временной символической мишенью книгу Андерсона, столь же верно и то, что существуют и противоположные, симметричные недостатки, в особенности у французских ученых. Некоторые авторы имеют обыкновение, в значительной степени под влиянием плохо усвоенных работ Ролана Барта, считать эквивалентными факторы языка и факторы общества, что может привести лишь к абсурдным выводам. Почему необходимо делать различие между миром Одиссея и Квинта Смирнского или Иоанна Цеца? Я сам, как говорится, историк воображаемого, а это означает, что в принципе я считаю воображаемое разновидностью реального, но сразу добавлю, перефразируя знаменитые слова Оруэлла, что некоторые уровни реальности более реальны, чем другие. Я охотно вслед за С. Голдхиллом допускаю, что в Афинах существовал «мир слов» (cité des mots)[1175], и я уже ссылался на «мир изображений» (cité des images). Однако обнаружить в мире изображений очертания реальной политики нелегко, если это вообще возможно. Фриз Парфенона изображает собрание богов, а не людей, а на коринфских или аттических вазах лишь изредка изображается фаланга гоплитов, но никогда — народное собрание или совет. В то же время «мир изображений», отделенный от мира политики, полностью потерял бы возможность быть понятым[1176].
Позволю себе привести пример удачного, на мой взгляд, использования этого метода. Ф. Артог убедительно показал, что скифы в IV книге Геродота должны расцениваться как хитрые эфебы, а точнее — как эфебы-охотники и кочевники[1177]. Таким образом, у Геродота греческая эфебия, институт, который мы видели сначала в гомеровском мире, становится семантической категорией, или, в терминах К. Леви-Стросса, «символическим оператором»[1178]. Артог напоминает нам также знаменитое отождествление скифов с эфебами у элейцев, о котором сообщает «Лексикон» Фотия[1179]. Аттические вазы предоставляют некоторое подтверждение изложенного, однако более хрупкое, чем то, на котором я основывал свое рассуждение о черных хламидах. Скифские лучники, охотники и эфебы, как показал Ф. Лиссарраг, взаимозаменяемы в изображениях на них, причем все они противопоставляются гоплитам[1180]. Парис-Александр в вазописи эквивалентен одному из этих скифских стрелков[1181]. Но если эфебия становится семантической категорией, то это, разумеется, происходит потому (и это известно Ф. Артогу и Ф. Лиссаррагу), что она всегда была и всегда ощущалась именно греческим институтом[1182].
Я отвлекся от изучаемого института, уйдя в разбор того, как он ощущался или угадывался в гомеровских текстах. Был ли он общегреческим институтом? Это предположение возможно, однако его, видимо, невозможно доказать. Вполне вероятно, что разные типы полисов, развиваясь, породили очень разные формы и функции рассматриваемого института.
В Афинах государственная эфебия, включавшая юношей от 18 до 20 лет, стала отличаться от эфебии во фратриях, куда входили 16-18-летние[1183]. В знаменитой 42-й главе «Афинский политии» Аристотеля, которая касается гражданства, эфебы описываются как категория граждан[1184]. В то время, т. е. в годы, последовавшие за принятием в 335/ 334 г. поддержанного Ликургом[1185] «Закона об эфебах» Эпикрата, эфебия была двухгодичной военной службой, обязательной для всех молодых граждан. Эту службу они несли в основном в крепостях на границах, и ничто в ней не напоминало об инициационных обрядах, кроме ограничений, о которых Аристотель говорит следующее: «они несут гарнизонную службу в течение двух лет и в это время одеваются в хламиды и освобождаются от всех повинностей. Чтобы не было предлога отлучаться, они не выступают перед судом ни как ответчики, ни как истцы, за исключением дел о наследстве или единственной наследнице-родственнице или если кому-нибудь в его роде придется выполнять жреческие обязанности. По истечении же двух лет они становятся как остальные» (Ath. Pol. XLII. 5).
Мы можем усмотреть в этом тексте пережиток обряда изоляции инициируемых, хотя во времена Ликурга и Аристотеля такого обряда уже не было. И, однако, как я уже отмечал[1186], допущение в состав граждан путем записывания в дем отца предшествует военной службе, а не является ее следствием[1187]. Разумеется, такая ситуация — результат долгой эволюции. Мы знаем, что эфебия существовала до Ликурга[1188], благодаря Φ. Готье мы знаем также, что в то время, когда Ксенофонт писал свои «Доходы» (ок. 335 г. до н. э.), ее проходили не все молодые граждане[1189]. Мы знаем, наконец, что Эсхин «по выходе из детского возраста» был peripolos, т. е. эфебом (ок. 371 г. до н. э.)[1190], это не означает, конечно, что система призыва по возрастным классам существовала с этого времени[1191]. Однако все эти данные не позволяют нам утверждать с полной уверенностью, что данный институт существовал (в какой форме?), скажем, уже во времена Перикла[1192].
Чтобы продвинуться в решении данной проблемы, следует, по-моему воспользоваться другим методом: сопоставлениями внутри всего греческого мира, а не только Афин, Спарты и Крита, как я делал в 1968 г. Некоторые ученые, кажется, по-прежнему считают, что после «гоплитской реформы» фаланга непосредственно сменила так называемый «гомеровский поединок»[1193]. В другом месте я попытался показать, что гомеровский поединок с исторической точки зрения является фикцией[1194]. Вне всякого сомнения, безличная фаланга — это, в свою очередь, такая же фикция. В действительности большинство греческих полисов воспитывали элитарные подразделения из трехсот или тысячи воинов, иногда носящие архаичные названия: «всадники» (ιππείς) — в Спарте, «возницы» (ηνίοχοι) и «колесничие» (παράβαται) — в Фивах[1195].
Такие подразделения существовали в Спарте и Афинах, на Крите и в Аргосе, в Мегарах и Элиде, у фокейцев[1196] и в Сиракузах. Речь не идет в данном случае об окаменевшем институте, переходившем из века в век без изменений. Ксенофонт описывает всадников как юношей, набиравшихся в количестве 300 человек тремя гиппагретами (Lac. pol. IV. 3), но в сражении при Фермопилах Леонида сопровождали триста воинов, набранных не только из числа всадников. В его отряде, кроме обычного подразделения из трехсот человек, было некоторое количество отцов семейств: έπιλεξάμενος άνδρας τε των κατεστεώτων τριηκσίων και τοίσι έτύγχανον παίδες εοντες (Herod. VII. 205)[1197]. В Афинах институт трехсот отборных воинов (λογάδες) существовал во времена битвы при Платеях в 479 г. до н. э. (Herod. IX. 21). Пережил ли он «радикальную демократию»? Во всяком случае, мы вновь обнаруживаем подразделение из трехсот логадов во время осады Сиракуз[1198]. Идет ли речь в данном случае о том же подразделении, обновлявшемся, как «бессмертные» персов, из поколения в поколение? Я склонен скорее думать, что это был отборный отряд, набранный во время боевых действий. Действительно, эти триста воинов принадлежали другой элите — из легковооруженных воинов (ψιλοί)[1199], что вряд ли было возможно в начале V в. до н. э.[1200]
Существовала ли связь между эфебами или их эквивалентом и этими отборными отрядами? Это кажется вероятным для некоторых полисов Крита. Согласно знаменитому фрагменту Эфора[1201], после того как мальчик, похищенный своим любовником и проживший с ним некоторое время вдали от города, охотясь и кочуя, возвращался в город, он становился членом отряда, состоявшего из κλεινοί, «выдающихся». Нам известно, что аргосское подразделение из 1000 логадов (о которых Фукидид говорит, что они обучались на государственный счет — δημοσίαι), в качестве профессиональных воинов набиралось из νεώτεροι. Эти юноши «были одновременно самыми сильными и самыми богатыми», что не мешало государству, как сообщает Диодор, «освобождать их от всех других общественных обязанностей и обучать полностью на свой счет... поэтому они, как из-за того, что тратится на них, так и из-за постоянных упражнений, быстро становятся отрядом атлетов, натренированных для военных действий»[1202]. Для Спарты, вероятно, можно принять предположение А. Жанмера, доказавшего, что чрезвычайно элитарное подразделение криптов, когда его члены становились взрослыми, принимало название ιππείς (всадников)[1203]. Однако ни в Аргосе, ни в Элиде, ни в Мегарах мы не находим ничего похожего на спартанские криптии[1204].
Наконец, если считать достоверным то, что говорит Плутарх о фиванском «священном отряде», состоявшем из гомосексуальных любовников, придется тем самым допустить, что в Фивах эфебы (как бы они там ни назывались) включались в число 300 вместе со старшими. Впрочем, мы знаем также, что этот институт реформировался по крайней мере дважды в течение IV в. до н. э. — сначала Горгидом, а потом — Пелопидом или Эпаминондом[1205].
В других местах разделение между эфебами и отборными воинами, логадами, исчезает. У Гесихия[1206] есть указание, ясно показьвзающее, что «триста» — это не что иное, как «эфебы и их организация». Таков был, вне всякого сомнения, обычай в Кирене. В этом городе официальные документы начиная с конца IV в. до н. э. разделяют тех, кто достиг и кто не достиг зрелости, ήβη[1207]. Здесь существовал отряд «трехсот», τριακάτιοι, который состоял просто из воинов самого младшего призыва. Их начальники, τριακατιάρχαι, иногда причисляемые к начальникам пелтастов, в императорскую эпоху принимают более общее название эфебархов. Так же как афинские эфебы в системе, описанной Аристотелем, члены этого подразделения находятся по эту сторону ήβη, т. е. являются уже воинами. Однако, вероятно, они не включали в себя весь возрастной класс; даже название «триста» является фикцией, наследием древней традиции[1208]. Таким образом, Афины, Спарта, Фивы, полисы Пелопоннеса и Кирена предоставляют нам очень разные пути эволюции.
Действительно, афинский эфеб IV в. до н. э. — это лишь очень дальний родственник спартанского крипта. Откровенно говоря, в классических Афинах единственной группой молодежи, которую можно было бы сопоставить со спартанскими криптами и всадниками, были не юноши, а девушки. Я говорю о тех маленьких «медведицах» Бравроний, о которых нам дают некоторые сведения знаменитые стихи «Лисистраты» (ст. 664—670). Они были, разумеется, немногочисленны, однако это не мешало им представлять афинских девушек. Некоторые сведения об этих «медведицах», правда не без трудностей, можно найти в материалах раскопок Браврона[1209]. В Афинах трансформация древней системы возрастных классов, которую применительно к Спарте изучили А. Жанмер и А. Брелих, была весьма радикальной, и рассказ Аристотеля точно отражает настоящее, а не прошлое. Между спартанским криптом и афинским эфебом в конечном счете была та же разница, что и между буле и герусией, между экклесией и апеллой, что, впрочем, вовсе не удивительно.
Существует еще один греческий, или, лучше сказать, афинский институт, который мне необходимо здесь рассмотреть, — театр.
Поскольку трагический поэт смотрит на древность (т. е. в первую очередь на мир эпоса) глазами гражданина, встреча Черного охотника с трагедией была неизбежна и необходима. Древние мифы наполнены рассказами, ядром которых является обряд инициации, рассказами, в которых герой растет среди дикой природы или в изгнании и воспитывается животными, кентавром или просто чужеземцем, а став взрослым, приходит требовать отцовское наследство. Многие из этих героев стали персонажами трагедий, такие как Орест, Ясон, Парис-Александр, о котором я уже говорил, и другие[1210]. Тот же Эдип может рассматриваться как эфеб, не понимающий, что его подвиг-испытание ведет к катастрофе. В примечании к «Черному охотнику»[1211] я заявил, что собираюсь изучить «Филоктета» Софокла. Что касается этого обещания, я его сдержал[1212], но в конце концов оказалось, что в этом рассказе гораздо интереснее не взятый отдельно образ Неоптолема, а пара, состоящая из изгнанника Филоктета (раненого старца, живущего среди дикой природы и владеющего только луком) и юного воина Неоптолема (эфеба, который совершает подвиг, позволяющий ему перейти в мир взрослых с помощью хитрости). Оба становятся в конце трагедии воинами-гражданами под стенами Трои. Этот пример по-прежнему кажется мне хорошим, в то время как существуют, конечно, лучшие — например, «Ион» Еврипида, в котором показан мальчик, в начале пьесы сражающийся с птицами, а в конце становящийся афинским гражданином и предком-эпонимом ионийцев[1213]. Лучше «Вакханки», где Пентей — царь-гоплит — первым делом пытается использовать гоплитские методы для изгнания нового бога Диониса, а затем — переодевается в женщину (как бы регрессируя до статуса эфеба) и отправляется в горы шпионить за женщинами, против которых не мог применить оружие. Он действует как настоящий Черный охотник, но сам становится объектом охоты и гибнет[1214].
Мое исследование «Филоктета» вызвало решительные возражения в форме как резкой, так и любезной[1215]. Не отвечая здесь подробно на эти возражения, я сделаю три замечания относительно них, одно специальное, два других — более общие. Р. Виннингтон-Инграм охотно допускает что «афинская аудитория вполне могла смотреть на Неоптолема в свете эфебии», но у него есть возражение, которое он считает решающим. «Неоптолем, — пишет он, — не действует на самом деле в окружении дикой природы» (does not in fact operate within the wild environment). Так рушится (falls to the ground) моя гипотеза, и английский ученый величественно добавляет: «Это изящная модель, которая могла бы лечь в основу какой-нибудь пьесы, но она не соответствует именно этой»[1216]. Вот прекрасный пример полного непонимания. Можно отрицать, что Неоптолем является эфебом в техническом смысле слова, но как можно отрицать, что он действует как раз на окраинах (έσχατιαί, 144), на необитаемом острове (ουκ οικουμένη, 221), что совершенно не предписывается мифом?
Мое второе замечание опирается на одно замечательное совпадение. Благодаря М. Чьяни[1217] я узнал о существовании фантастического романа Р. Силверберга «Человек в Лабиринте»[1218], опубликованного в 1969 г. (т. е. не под влиянием моей гипотезы, которая в то время была высказана лишь в одном постраничном примечании). Действие этого романа происходит на планете под названием Лемнос. На ней находится одинокий человек, обладающий очень важным для людей даром. На его поиски отправляются зрелый политик и молодой честный воин (сын погибшего героя), для которого этот поход — первое военное предприятие. Разумеется, нет никакого сомнения, что это произведение вдохновлено трагедией Софокла. То, что Р. Силверберг истолковал трагедию так же, как я, не является доказательством правильности моей интерпретации, однако показывает по крайней мере, что она не просто отвечает моей личной фантазии и моей склонности находить повсюду «черных охотников».
Но вот что, пожалуй, самое удивительное: ни мои критики (что, впрочем, вполне естественно), ни я сам (что вовсе не так естественно) не обращали внимание на миф о Неоптолеме вне трагедии Софокла[1219]. В то же время я давно должен был заметить, что имя героя «Неоптолем» означает по наиболее распространенной этимологии «новая война»[1220], имя, наиболее подходящее для эфеба, нового воина. И это еще не все — ведь у него двойное имя: Неоптолем является также Пирром, как Парис — Александром[1221]. Согласно традиции, на которую, очевидно, делает аллюзии Еврипид, Пирр был изобретателем «пиррихи»[1222]. Это изобретение было им сделано после того, как он, очевидно, впервые убил в битве врага. Его жертвой был Еврипил, сын Телефа[1223]. Пирриха — это исполняемый вооруженными детьми (ένοπλοι παίδες) военный танец, который легко (с каким угодно количеством доказательств) может быть истолкован в качестве изображения перехода от детства ко взрослости. Именно так его понимал Платон[1224], и именно так его интерпретируют современные комментаторы[1225]. Пирриха может быть определена в качестве эквивалента клятвы эфебов в сфере танца. Что касается Неоптолема, то он, как Парис-Александр или Дориан Грей, является символом вечной молодости. Разве не был Неоптолем юношей в момент своей смерти?[1226] Мне кажется, что этих данных должно быть достаточно, чтобы сделать приемлемой идею о связи между системой возрастных классов и, по крайней мере некоторыми трагедиями.
Можно ли пойти еще дальше и сделать данное утверждение еще радикальнее? В замечательном исследовании, опубликованном в 1970 г.[1227], Ж.-П. Морель прокомментировал знаменитый экскурс VII книги «Римской истории» Тита Ливия[1228] о происхождении театра в Риме. Он показал, что в раннее время iuventus, которая не была классом эфебов, а скорее всей совокупностью воинских возрастных классов, сыграла решающую роль в возникновении театра, по меньшей мере согласно тексту Тита Ливия, хотя и не создала трагедию. Морель, согласно Титу Ливию, предполагает, что iuventus способствовала возникновению ателланы и некой разновидности пародического театра, включающего сатиру. Параллели такой реконструкции многочисленны в разных обществах[1229]. Позже Ж. Винклер посчитал, что можно пойти гораздо дальше и поэтому назвал свою статью: «Песня эфебов: трагедия и полис»[1230]. Хотя эта статья содержит множество интересных наблюдений, я не считаю возможным принять общую идею, которая там развивается. Однако поскольку в этой статье объявляется о преемственности с «Черным охотником», я чувствую себя обязанным высказать некоторые сомнения в законности этого родства[1231].
Ж. Винклер стремится доказать две главные гипотезы. Первая касается значения слова τραγωιδός. Его объясняют чаще всего как «козлиный певец», а трагедию как «козлиную песнь». И то, и другое, бесспорно, маловразумительно. Ж. Винклер предлагает другое решение: слово τραγίζειν, особенно у Аристотеля[1232], означает ломку голоса, которая обычно происходит у подростков. Τραγωιδοί, трагические певцы в таком случае должны означать не реальных подростков с ломающимися голосами (никто не может петь в это время), а подростков, обозначенных так метафорически по данному периоду их жизни. Таким образом, трагический хор будет «блеющим» (разумеется, метафорически), откуда и обращение к козлу (τράγος), голос которого кажется постоянно ломающимся[1233]. Самое малое, что можно сказать по этому поводу — это то, что речь идет в данном случае об утверждении, ложность которого (в том смысле, котором К. Поппер употребляет глагол to falsify) невозможно показать, и оно ускользает тем самым от возможности верификации.
Другой вопрос еще более важен. Винклер утверждает, что он может доказать, будто трагический хор действительно состоял из эфебов. У него нет никаких текстов, которые можно было бы привлечь. Источник, используемый Винклером в качестве главного доказательства, — так называемая ваза Пронома[1234], знаменитый аттический кратер с волютами конца V в. до н. э., роспись которого обычно толкуется как изображение сатировой драмы[1235]. Этот источник, столь же важный в аттической вазописи для изображений театра, как ольпа Чиджи в коринфской — для изображений различных форм боя[1236]. Р. Сифорд отмечает, что художник «...вероятно, имел в виду вполне определенную Сатарову драму, поскольку большинство сатиров имеют обозначенные надписями имена, принадлежащие обычной афинской ономастике»[1237]. На этой вазе играющие определенные роли актеры и участники хора сатиров держат в руках соответствующие маски. Все маски бородаты, но носители масок сатиров, в противоположность актерам, безбороды, из чего Винклер заключает: «Как свидетельствует иконография, они — эфебы»[1238]. Впечатляющий аргумент, поскольку контраст между актерами и хоревтами бесспорен, хотя безбородый мужчина может быть с таким же успехом νέος, как и эфеб. Однако даже если допустить, как это делается обычно, что в V в. до н. э. трагические поэты использовали один и тот же хор в трагедиях и сатировой драме, данный источник слишком поздний и изолированный для того, чтобы делать такие обобщения. Более того, можно утверждать, что между сатирами и эфебами вообще существует некоторое родство, на аттических вазах они взаимозаменяемы. И те, и другие находятся μεταξύ (между), одни — между дикостью и цивилизацией, другие — между детством и зрелостью, причем эти четыре понятия попарно совпадают. Как отметил еще Р. Сифорд[1239], освобождение сатиров из плена или рабства — одна из основных тем Сатаровых драм, а это действие можно сблизить с обрядом инициации. Не совсем ясно, как можно отклонить эта аргументы, говоря о персонажах, которых представляет хор. Пора подводить итоги. Однако прежде чем сделать это, я упомяну еще одну проблему, которая была совершенно определенно поставлена в самом конце «Черного охотника» 1968 г. В противопоставлении архаического эфеба или крипта, с одной стороны, и гоплита — с другой подразумеваются два противоположных способа ведения войны: война ночная и дневная, хитрость и сражение лицом к лицу, поединок и коллективный бой, беспорядок и порядок. Разумеется, «беспорядок» прекрасно выстроен — это организованный и в какой-то степени концептуальный беспорядок. Нельзя считать историчной противоположность, которая отмечается, например, между яростью (λύσσα) гомеровского воина и самообладанием (σωφροσύνη) воина-гражданина или (τάξις) порядком гоплитской фаланги[1240]. Ведь гомеровская война также имела свою форму порядка, а война граждан — свой беспорядок. Здесь можно прибегнуть к сравнительному методу для объяснения этого противопоставления. Существует множество его видов, и социология, как и этнология, могла бы быть нам полезной. Однако я говорю сейчас о той специфической разновидности компаративистики, которой мы обязаны Ж. Дюмезилю и его исследованиям индоевропейцев.
В 1940 г. в первом издании своего труда «Митра — Варуна» Дюмезиль открыл двоичность первой из своих трех функций — функции верховной власти. Митра в ней воплощает порядок, Варуна — беспорядок и насилие. То же противопоставление, перенесенное в область истории, существует в Риме между двумя первыми царями — Ромулом (со стороны «Варуны») и Нумой (со стороны «Митры»). Я задаюсь вопросом: не было ли аналогичной двоичноста внутри второй воинской функции? В некоторых основных работах Ж. Дюмезиля можно встретить указания на ход его мысли именно в этом направлении, как относительно индийцев, так и относительно скандинавов[1241], однако, насколько мне известно, он не подвергал образ римского воина систематическому исследованию под этим углом зрения[1242].
Работы двух очень разных, хотя и являющихся учениками Ж. Дюмезиля исследователей, ираниста и медиевиста, которые оба оказали мне честь поддержать их мнением аргументацию «Черного охотника», позволяют думать, что это предположение не лишено смысла. О. М. Дэвидсон открыла эта два способа ведения войны в «Шах-наме» Фирдоуси, правда, связанные там не с юношами и взрослыми, а с иранцами, которые, очевидно, относятся к сфере порядка (τάξις), как сказали бы греки, и их врагами туранцами[1243]. Со своей стороны, Дж. Грисворд нашел в героических песнях цикла о Гильоме Коротконосом то же противопоставление, которое Дюмезиль отмечал в скандинавском мире между Тором и Одином, а в «Махабхарате» — между тяжеловооруженным воином (при этом лучником! — все зависит от назначения лука) Арджуной и вольтижером Бхимой. Я же указал на тот же характер противопоставления в «Черном охотнике» — между гоплитом и спартанским криптом[1244].
Если эта идея — идея двоичноста воинской функции — имеет какую-то ценность и какое-то будущее, будь то в изучении греческого мира[1245] или любой другой области, не мне, а кому-то другому предстоит ее развить. Как бы то ни было, здесь я заканчиваю свою работу.
Атлантида и нации[1246]
Это странная история[1247]. Ее начало относится к 355 г. до н. э. — времени появления «Тимея» и «Крития» Платона. Именно «начало», поскольку несмотря на попытки никто еще не сумел доказать, что миф об Атлантиде появился до того, как о нем поведал Платон. Сам рассказ достаточно хорошо известен, поэтому я не буду подробно останавливаться на его содержании. Платон называет его «сказанием» (μΰθος), услышанным афинским законодателем и поэтом Солоном, «мудрейшим из семи мудрецов» (Платон. Тимей. 20d, здесь и далее — пер. С. С. Аверинцева), от старого жреца египетской богини Нейт Саисской. Перед этим Солон изложил жрецу самые древние, на его взгляд, предания греков, однако египтянин оказался более осведомленным. «Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца!» (там же. 22b). Афиняне не знают своей истории, записанной в египетских архивах. Эти архивы насчитывают 8000 лет, а за 9000 лет до Солона ( там же. 23d) Афины были образцовым полисом, иными словами полисом, который соответствовал идеальной модели Платона. Государству совершенному, полису земледельцев и гоплитов, Афинам пришлось вступить в бой со своим антиподом в облике Атлантиды, огромного острова, своими размерами превосходившего «Ливию и Азию, вместе взятые» (там же. 24е). Это царство, основанное Посейдоном для детей, прижитых им с нимфой Клейто, со временем превратилось в морскую державу, а значит в «империю зла» — в представлении Платона эти понятия близки или, скорее, тождественны[1248]. Действительно, империя атлантов, хотя и находится на Западе, скорее напоминает Персию времен Греко-персидских войн. Направив свои полчища и корабли на покорение Средиземноморья, Атлантида натолкнулась на афинское войско. Афиняне одержали победу, но страшный потоп поглотил и побежденных, и победителей. Атлантида исчезла в пучине океана с тех пор носящего ее имя. Прекратив существование, она осталась в памяти египтян и в записях их архивов. Афины же уцелели, но превратились в жалкое подобие древнего града. С легкой руки саисского жреца Солон привез на родину рассказ о героическом прошлом Афин и поведал его Критию, тогда еще ребенку, а Критий передал его своим потомкам, самым знаменитым среди которых оказался Платон.
Я не собираюсь в деталях раскрывать «смысл» данного рассказа, остановлюсь лишь на двух существенных моментах. Платон преподносит свою историю как «сказание хоть и весьма странное, но, безусловно, правдивое»[1249]. Эти слова, переведенные почти на все языки мира, как правило, цитируют в оправдание самых разных фантастических домыслов. В этом нет ничего странного, ведь в рассказе Платона успешно применен новаторский литературный прием[1250]: выдавать вымысел за правду. По собственной прихоти, принесшей ему большой успех, Платон явился родоначальником исторического романа, то есть романа, имеющего конкретные пространственно-временные рамки[1251], жанра, давно для нас привычного. Нам также известно, что в любом детективном рассказе сыщик рано или поздно признается, что реальная жизнь мало похожа на происходящее в «полицейском романе» — она намного сложнее. В IV в. до н. э. все обстояло иначе. Слова Платона воспринимались вполне серьезно пусть не всеми, но многими — и это наблюдалось в течение тех столетий, что отделяют платоновскую эпоху от нашей. Не будет открытием, если я скажу, что и сегодня кое-кто продолжает относиться к ним так же доверчиво.
Что касается собственно смысла платоновского рассказа, то я вслед за другими и наряду с другими авторами[1252] в свое время попытался показать, что он в сущности прост. Атлантида и Афины — это две стороны Афин Платона. Легендарные Афины являют собой мечту философа и гражданина об идеальном государстве, тогда как Афины времен Перикла и Клеона — морская империя, само существование которой таит угрозу греческим полисам[1253].
Таково начало нашей истории, а есть ли у нее конец? Чтение газет, этих, по словам Гегеля, «утренних молитв реалиста», не дает нам утвердительного ответа. Так, сравнительно недавно, в сентябре 1984 г. эскадра советских подводных лодок прекратила «поиски Атлантиды» в районе Гибралтара[1254]. Аналогичный десант к берегам Швеции можно было бы объяснить, как увидим позже, теми же причинами. Наконец, несколько лет тому назад один археолог из Гента в поисках стоянки викингов обнаружил в окрестностях Санса столицу Атлантиды. Это открытие принесло его автору широкую известность[1255].
Впрочем, оставим напрасные плутания по бесконечным и запутанным тропам. Когда же ученые (по крайней мере те, кого можно считать учеными) прекратили поиски Атлантиды? В 1841 г. Тома-Анри Мартэн, ученик Виктора Кузена, профессор философии в Ренском университете, издал в Париже ставшую классической работу «Исследования о "Тимее" Платона». В нее было включено пространное и увлекательно написанное «Рассуждение об Атлантиде»[1256], в котором подробно рассматривались практически все предполагаемые локализации описанного Платоном континента. По мнению Мартэна, уже сам их длинный перечень свидетельствовал против них. Ученый сделал следующий вывод: «Некоторые полагают, что ее (Атлантиду] надо искать в Новом Свете, тогда как она находится в другом мире, относящемся скорее к области мысли, чем географии»[1257]. 1841 год не положил конец поискам Атлантиды[1258] и даже не приостановил их, но для историков, живущих в «реальном мире», его можно считать этапным.
Упомянутое время примечательно и в другом отношении. Именно в те годы в исторической науке утвердилось новое направление — архивоведение. Использование архивов стало для историков критерием научности[1259]. Однако мифы не были отброшены и они учитывались при поисках истоков. Это было время, когда от Финляндии до Балкан нарождавшиеся нации искали свою «Илиаду», но их мифы стояли в стороне от национальных историй. Если прежде архивы служили правителям, то теперь они превратились в «лаборатории» историков.
Мартэн говорил об «области мысли». Мы тоже будем вести разговор о вымышленном царстве, чья история зиждется не только на «фактах», но и на «толкованиях»[1260]. Мартэн сформулировал основные принципы интерпретации подобных историй, но так и не рассмотрел ни одной из них. Удивительно, что, приведя свой «список», он не провел различие между версиями о местонахождении Атлантиды и толкованиями текста. Мартэну достаточно того, что Атлантида, которую не раз пытались отыскать на карте, попросту не существует. Однако необходимо понять, как многочисленные фантастические толкования повлияли на саму идею Атлантиды[1261]. В рамках настоящей статьи, конечно, невозможно рассмотреть данную проблему во всей ее полноте, поэтому я ограничусь одним ее аспектом — тем, что я бы назвал «национальной стороной» мифа об Атлантиде.
Оставим в стороне вызванный «Тимеем» и «Критием» ученый спор о том, понимать ли рассказ Платона буквально или нет. Например, Аристотель и Эратосфен относились к нему скептически. Спор даже расколол Академию, о чем сообщает Прокл в своем подробном «Комментарии к "Тимею"».
Отправной точкой для нас должны послужить события, в которых теологи, а вслед за ними историки пытаются найти рациональное начало. Со II—III вв. н. э. средиземноморский мир начинает превращаться в мир христианский. Для античных мыслителей, которых не могла не волновать данная метаморфоза, это означало замену их мифологии и истории от гигантомахии до Троянской войны — еврейской мифологией и историей от Адама до рождения Христа.
Разумеется, все обстояло не так просто. Компромисс между греческой и еврейской историческими традициями начинает складываться еще во II в. до н. э., о чем свидетельствуют наиболее ранние фрагменты «Оракулов Сивилл». При этом инициатива исходит от евреев, пытающихся приспособиться к греческой хронологии. Когда христианская церковь, претендовавшая на господство, добилась его при Константине и Феодосии, трудившиеся в ее лоне греческие интеллектуалы, такие как Евсевий Кесарийский и Климент Александрийский, продолжили разработку этого компромисса[1262]. Они признавали реальность Троянской войны и авторитет Платона, который, что примечательно, объявлялся учеником еврейского законодателя Моисея, якобы жившего до Ахилла. Этому «компромиссу» Евсевия была суждена долгая жизнь — вплоть до XVII в.
Как происходившие колоссальные перемены повлияли на платоновский миф об Атлантиде? На него не раз ссылались и еврейские, и христианские авторы[1263], но единственный по-настоящему значительный отрывок мы найдем в «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова, монаха, жившего в VI в. и оставившего описание своего путешествия на Восток. В его описании история об Атлантиде представлена одновременно как вымысел греков и как правдивый рассказ восточных мудрецов; Моисей и халдеи объявлены авторами этой истории, а Запад «перемещен» на Восток; Солон, встречавшийся с египетским жрецом, заменен Платоном, к которому один египтянин (почему-то по имени Соломон) обратился с восклицанием: «Вы, эллины, вечно остаетесь детьми»[1264]. Запомним эту дату первого, но не последнего, упоминания о встрече евреев с Атлантидой.
Будучи стесненным небольшим объемом настоящей публикации, я бы мог теперь перешагнуть через девять столетий, чтобы обратиться к событию, которое все круто изменило, — к открытию Америки. Но все же я не могу не задержаться ненадолго на веках, этому событию предшествовавших.
Мы, европейцы, привыкли думать, что наша национальная история началась на развалинах Западной Римской империи. Так, одна недавно вышедшая книга называется: «От готов к готской нации. Рождение национальной идеи на Западе в V—VII вв.»[1265]. В книге речь идет о «готском происхождении» испанцев. Но есть, по крайней мере, еще одна нация, чьи «истоки» восходят к «готским» мифам и традиции (не всегда легко проводить различие между этими двумя понятиями), — шведская. Без сомнения, такое же исследование могло быть посвящено и франкам. В мою задачу не входит подробный разбор весьма ученой книги Сюзанны Тейе. Особо выделим лишь несколько моментов, которым автор не уделила должного внимания.
Нарождавшиеся «нации», а если быть более точным, выступавшие от их имени интеллектуалы, которых я буду называть «идеологами», выбирали между двумя моделями верховной власти: римской императорской и еврейской царской, между Цезарем и Давидом. В формировавшихся королевствах Франции и Испании выбор был сделан (за исключением непродолжительного каролингского периода) в пользу Израиля, что способствовало возникновению легенды о «королях-чудотворцах»[1266].
Вестготский король Вамба, возможно, был первым европейским государем, помазанным на трон в 672 г. по израильскому образцу, переосмысленному Исидором Севильским и Юлианом Толедским, чья «Vita Wambae» подражала библейской Книге Царств[1267]. Попутно замечу: когда Григорий Турский перечисляет gentes, с которыми пришлось воевать Хлодвигу, он явно уподобляет их враждебным Израилю племенам goyim[1268].
Важным следствием такого выбора стало расширение числа «избранных народов». Старт этому «процессу» был дан в древнем Израиле, и следы его сохраняются до сегодняшнего дня. Данный феномен, постепенно распространившись после падения Западной Римской империи, с эпохи Возрождения начинает занимать видное место в идеологическом пейзаже Европы, а затем и Америки. Однако недостаточно просто быть избранным народом, к тому же этот эпитет едва ли применим ко всему народу целиком. Родовая знать и королевские семьи нуждались в собственных генеалогиях. Испанские готы, несмотря на их малочисленность и полное исчезновение после арабского завоевания, продолжали считаться легендарными предками испанских аристократов, и «чистая готская кровь» передавалась через столетия. Во Франции заимствованная из языческой традиции легенда о Трое служила укреплению авторитета трех королевских династий[1269]. Подобно Испании и в отличие, скажем, от Швеции, Франция являлась страной двух «рас». Троянский миф использовался здесь для того, чтобы придать одной из этих лжерас чувство собственного превосходства.
Эти традиции, поддерживаемые на протяжении столетий, пышно расцвели с наступлением Ренессанса и с обновлением латинской культуры. Не забылись ни библейские мифы, ни возникшая во II—IV вв. странная смесь греческой и еврейской литератур.
В эпоху Возрождения исключительно важным персонажем становится Ной[1270]. Всеми признавалось, что род людской произошел от Ноя, но, перефразируя слова Оруэлла, одни имели лучшее происхождение и являлись более прямыми потомками, чем другие. Если потомство Хама было проклято, то дети Сима и Иафета имели право претендовать и претендовали на первородство.
Достойнейшим из прародителей считался Иафет: его преимущество, о котором известно благодаря «Оракулам Сивилл» (III. 110), состояло в том, что он был одновременно сыном Ноя и (как титан греческих мифов Иапет) отцом Прометея и Атланта, эпонима Атлантиды.
Естественно, простых людей мало волновали подобные теории, однако с усилением с конца VI в. имперских тенденций в политике, свидетельством чего можно считать войны за Италию, постепенно возрастала роль идеологов. Приведем один замечательный пример. В 1498 г. Джованни Нанни, более известный как Анний да Витербо, издал серию сфальсифицированных текстов, якобы принадлежавших знаменитым историкам античности, причем таким разным, как, например, Катон, Ксенофонт или халдейский жрец Берос. Оказывается, эти язычники были хорошо осведомлены о Ное, которого они называли Янусом, и о его сыновьях. Хам оставался проклятым. Не упоминаемый в Библии Ноев сын Туискон (его имя созвучно имени Туистона — родоначальника германцев согласно Тациту) правил в германских землях. Сын Иафета Гомер, или Галл, отправил своего сына Самота из Италии во Францию, чтобы тот основал там королевство[1271]. На каком языке говорили сии далекие предки?[1272] Классический ответ, в свое время вызвавший критику у Данте[1273], гласил: на иврите.
Не удивительно, что идеологи разных наций были склонны объявлять праязыком свой родной язык. В XVI в. флорентиец Джованни Баттиста Джелли доказывал, что Ной-Янус, путешествуя по Италии, основал Флоренцию[1274], а впоследствии был погребен в Риме под Янику-лом. Кстати, Анний из Витербо отводил эту честь — быть основанным Ноем-Янусом — своему родному городу.
Как и следовало ожидать, французские идеологи не замедлили дать отпор претензиям итальянцев. По мнению Гийома Постеля, мистика и каббалиста, одного из отцов кельтомании, Иафет, изгнанный из Италии ужасным Хамом, прибыл в Галлию, где продолжил занятия астрономией. Относительно же Ноя утверждалось, что он обошел все земли, включая Атлантиду[1275].
Следующий шаг был сделан учеником Постеля Ги Лефевром де Лабродери, который в своем сочинении под названием: «Галлиада, или О перевороте в искусствах и науках» (1578 г.) писал, что первым участком суши, появившимся после потопа, была Галлия. Столетием позже Пьер Одижье делает еще одно потрясающее открытие: настоящее имя Ноя было Галл[1276]. Добавим, наконец, что французские короли считали себя потомкам и Сима, и Иафета, поскольку это позволяло им заявлять о своем родстве с Иисусом и Марией[1277].
Обрисовав общий фон, вернемся к вопросу о судьбе Атлантиды. Рассказ из пролога к «Тимею» благополучно пережил средние века благодаря латинскому переводу Кальцидия[1278]. Возможно, это его следы проступают в ирландской легенде о Святом Брендане[1279]. Средневековые карты пестрели сказочными названиями: от рая земного до страны Гога и Магога, от царства пресвитера Иоанна до места, где явится Антихрист. Упомянем, в частности, «Каталонский атлас» 1375 г., а также карту эпохи Великих географических открытий, составленную в 1459 г. венецианцем Фра Мауро по заказу Альфонсо Португальского. Однако Атлантида не значилась среди всех этих мифических мест. Более того, ни одна нация тогда еще не предъявляла монопольных прав на Атлантиду. В 1485 г. гуманист Марсилио Фичино перевел и прокомментировал «Крития». Он пришел к выводу, что рассказ об Атлантиде правдив, но правдив в «платоническом» смысле, поэтому напрасно искать Атлантиду на карте. Кроме того, Фичино смешивал Платона с библейской традицией[1280].
Семь лет спустя произошло событие, которое все изменило: была открыта Америка. Не известно, знал ли Христофор Колумб о легенде Платона (догадки об этом высказывались в свое время[1281]), но, как бы там ни было, очертания Атлантиды виднелись вдали. По словам Клода Леви-Стросса, «девственный континент простирался перед людьми, которые уже не могли насытить свою алчность у себя дома. Этот второй грех заставит усомниться в Боге, морали и законе. Все будет оправдываться делами и, одновременно, весьма противоречиво опровергаться на словах. Библейский Эдем, золотой век предков, источник вечной молодости, Атлантида, сад Гесперид, идиллические острова блаженных — все станет зримой реальностью, но будет подвергнуто сомнению»[1282]. Данное событие оказалось решающим. Очень скоро стало ясно, что открыт «новый мир», другой мир[1283]. Этот «brave new world», к которому Шекспир обращался в «Буре», можно было постичь (разве не об этом говорит Леви-Стросс?), лишь опираясь на двойную культурную традицию: классическую и христианско-еврейскую. Отпечаток двух культур лежал на просвещенных представителях той эпохи, и большинство их воспринимало эти две культуры как одно целое[1284].
Если говорить о логике, следует заметить, что в появлявшихся после 1492 г. теориях Атлантиде отводилось вполне логичное место, с которым можно априорно соглашаться. Если же говорить о торжестве разума, необходимо добавить, что по крайней мере на исходе XVI в. стали раздаваться голоса скептиков: Монтеня во Франции и «отца современной антропологии» Хосефа де Акосты в Испании[1285].
Какие теории выдвигались? Америка могла быть либо библейской, либо платоновской, или «атлантической». Саму Атлантиду теперь можно было истолковать, либо опираясь на Библию, либо — на Великие географические открытия. Данные умозрительные теории или дополняли, или исключали друг друга. Общей и первоочередной для всех оставалась отвергаемая лишь скептиками проблема локализации Атлантиды. Эта проблема, отсутствующая в трактатах Фичино[1286], уже встречается в сочинениях XVI в.
В комментариях к «Тимею» и «Критию» Жана де Серра (Серрануса), издавшего Платона[1287], повторяется мысль египетского жреца о «младенчестве» эллинов. Если, по мнению комментатора, сравнить рассказ Платона с «бесхитростной и правдивой историей Моисея», то станет понятно, что в мифе об Атлантиде дана картина мира до потопа и до Ноя. Запомним эту работу, т. к. в XVIII в. подобные сентенции будут на вооружении у многих эрудитов, которые станут «доказывать», что под Атлантидой следует подразумевать «обетованную землю» Палестины.
Чем, в таком случае, могла быть Америка? Для многих, кто верил преданию об исчезновении и появлении евреев, это была земля, где десять колен Израилевых нашли убежище. Впрочем, подобные домыслы не ограничивались одной лишь Америкой: в 1944 г. мне на полном серьезе говорили, что потомки Дана осели в Дании. Начало преданию было положено одним из неканонических ветхозаветных отрывков: «Это десять колен, которые отведены были пленными из земли своей во дни царя Осии, которого отвел в плен Салманассар, царь Ассирийский, и перевел их за реку, и переведены были в землю иную. Они же положили в совете своем, чтобы оставить множество язычников и отправиться в дальнюю страну, где никогда не обитал род человеческий, чтобы там соблюдать законы свои, которых они не соблюдали в стра-
coloniale (1500-1700). Firenze, 1977. P. 177-246. Что касается в высшей степени ученого исследования: Gerbi Α. La Natura delle Indie nuove da Cristoforo Colombo a Gonzalo Fernandez de Oviedo. Milano-Napoli, 1975, - то в нем об Атлантиде сказано лишь несколько слов в единственном примечании на с. 379. не своей»[1288]. Указанный отрывок был широко известен в христианской литературе XVI в. К нему обращались также еврейские богословы, например, житель Амстердама и друг Рембрандта, Манассия бен Израэль, который в своем сочинении «Esperança de Israel» (1648 г.) положил этот отрывок в основу романтического рассказа, где настаивал на том, что лишь часть индейцев, причем только самых красивых, можно считать евреями[1289].
Некоторые, впрочем, пытались раскрыть «тайну» Америки, не прибегая к помощи Библии, а опираясь лишь на Платона[1290]. Самые ранние попытки (кстати, более ранние, чем принято думать[1291]) датируются 1527 г. — временем выхода в свет книги знаменитого Бартоломе де Лас Касаса, по мнению которого у Колумба имелись веские основания считать, что по крайней мере часть описанного Платоном континента уцелела от гибели[1292]. «Атлантическую» и «библейскую» версии совместил Фрэнсис Бэкон в своей утопии «Новая Атлантида», опубликованной посмертно в 1627 г.[1293] Атлантида здесь предстает островом, расположенным в «южных морях» к западу от Перу. В этом идеальном царстве ученых говорят на еврейском, греческом и прекрасном испанском языках. Население острова, образовавшегося в результате отделения части суши от Атлантиды — еврейское по происхождению и христианское по вере. Есть на острове небольшая, но влиятельная еврейская община. Таким образом, в утопии Бэкона Платон и Библия дополняют друг друга.
В 1655 г. появилась совсем иная версия, связанная с именем Исаака де Лапейрера, протестанта и юдофила, автора сочинения «Pre-Adamitae», в котором Адам объявлялся не первым человеком, но первым евреем. Традиционная библейская хронология, по мнению автора, несовместима с упомянутыми в рассказе Платона девятью тысячами лет, которые предшествовали Солону. Следовательно, Атлантиду населяли люди, жившие до Адама[1294].
Центральной для нас по-прежнему остается старая проблема о соотношении легендарных земель, из которых Атлантида, пожалуй, наиболее известна, и национальных мифов, проросших сквозь руины Римской империи и давших пышные всходы в эпоху Возрождения. Один немецкий юрист XVII в., обратившись к языку индейцев, который казался ему похожим на язык «либо кимвров, либо древних тевтонов» (nescio quid Cimbricum seu priscum Teutonicum), нашел в нем слово «папа», по его мнению, «общее как для нас, европейцев, так и американцев»[1295], и можно не сомневаться, — он не был одинок в своих «открытиях».
По понятным причинам идеальным местом, где старые легенды о баснословных временах и сказочных странах уживались с более поздними теориями об избранном народе, была Испания времен конкистадоров.
Легенды, надо заметить, начинались не с Атлантиды, а с сада Гесперид. Назначенный в 1532 г. официальным летописцем Индий, Гонсало Фернандес де Овьедо писал в своей «Всеобщей истории Индий», первый том которой вышел в 1535 г., что Антильские острова, или края Гесперид, с давних времен принадлежали испанской короне. Карл V, уведомленный о работе придворного историка, выразил 25 октября 1533 г. монаршее удовлетворение от того, что «3091 год острова принадлежали Испании, поэтому не удивительно, что через столько лет Бог вернул их законной владелице»[1296].
Еще дальше пошел Ян Ван Гороп (Горопий Беканус), фламандский подданный испанской короны. Он считал колыбелью Испании и столицей Атлантиды древний Тарсис (Тартесс Библии и Геродота). По его мнению, город был основан внуками Иафета, братьями Атлантом Тартессом и Улиссом-Геспером. Старший из них, Атлант-Тартесс, правил по праву первородства, поэтому его потомки — испанские короли, имеют законные права на Атлантический берег Африки и на Америку[1297].
Четкая формулировка идеи, которую я бы назвал «национал-атлантической», содержится в работе Педро Сармиенто де Гамбоа, написанной в 1572 г. для Филиппа II Испанского[1298]. Ссылаясь на слова Платона о том, что Атлантида находилась за Геракловыми столбами, Сармиенто утверждал, что в глубокой древности Испания соседствовала с легендарным континентом. Являясь его уцелевшей частью, Америка, таким образом, принадлежит Испании по Божьему промыслу[1299].
Итак, в Испании знали и готский, и атлантический мифы, хотя, как мне кажется, не пытались установить какую-либо связь между ними. На другой родине «готской идеи», в Швеции, все обстояло иначе.
Мы переходим теперь к следующему важному вопросу: что происходило с мифом об Атлантиде в век Просвещения — с 1670 г., когда, по выражению Поля Азара, начался «кризис европейского сознания», и до Великой французской революции? В начале этого бурного периода появилась работа, автор которой с гораздо большим мастерством, чем Сармиенто, воспел «национал-атлантический» миф. Это был швед Олоф Рудбек[1300].
Сделаем несколько кратких пояснений. Эпоха Просвещения должна была решить одну большую проблему, диаметрально противоположную той, с которой столкнулись Отцы церкви во II—IV вв. и которую от них унаследовали гуманисты эпохи Возрождения. Перед греческой патристикой стояла задача максимального, насколько возможно, сближения античной и библейской традиций. Интеллектуалам эпохи Просвещения, напротив, предстояло покончить с историей еврейского народа как «вектором» всемирной истории (именно с таких позиций историю иудеев с блеском изображал Ж. Б. Боссюэ в своих «Рассуждениях о всеобщей истории», датируемых 1681 г.). Взамен следовало найти новый «избранный народ» — пусть даже ценой временного воскрешения язычества[1301]. Причем действовали не одни лишь сторонники Просвещения. Их противники пытались навязать свои правила игры. В XVIII в. с одинаковым успехом находили еврейского пророка за спиной Платона или Гомера, а языческого бога — за святым образом Иисуса Христа. Стоит ли говорить о том, что движение Просвещения не на всех его уровнях и не для всех его участников было осознанным и организованным? Многие помогали «раздавить гадину», даже не задумываясь о своем участии в этом движении.
В эпоху Просвещения Атлантида как бы заняла место иудеев в мировой истории. Если быть более точным, Атлантида (об этом я как раз буду говорить) стала чем-то вроде «национальной замены». Народ, изначально населявший Атлантиду, считался избранным и поэтому заслуживал главенства, на которое всегда претендовали империи.
Итак, мы имеем дело с феноменом «национальной замены», хотя в эпоху Просвещения миф об Атлантиде не сводился лишь к данной функции. Атлантиду, родину «национальной» идеи, считали также прародиной всего человечества, его золотым веком, о чем, например, свидетельствуют работы астронома Жан-Сильвена Байи. Никола Буланже рассуждал об Атлантиде как о явлении над-человеческой, космической истории, прерываемой вселенскими потопами-катастрофами[1302]. Но, как видим, феномен «замены» присутствует и здесь.
Вернемся, однако, к шведскому ученому, ректору Уппсальского университета Олофу Рудбеку (1630—1702), который в своей грандиозной работе «Adantica (Atland eller Manheim)» (1679—1702) попытался доказать, что Атлантида находилась в Швеции, а столицей этой «колыбели человеческой цивилизации» являлась Уппсала[1303].
Мне удалось познакомиться с произведением Рудбека четверть века тому назад, но, признаюсь, автор и его труд продолжают меня восхищать. Крупный ученый, анатом, открывший лимфатическую систему, автор-строитель амфитеатра в Уппсале, Рудбек был не только медиком или биологом. В своей поздней работе он продемонстрировал обширные, практически всеобъемлющие для эпохи знания в области языка и истории. Утверждать, что на самом деле было два Рудбека (один — медик, другой — историк)[1304], так же нелепо, как сомневаться в существовании одного Декарта — автора cogito и трактата о системе кровообращения.
На протяжении всей своей деятельности Рудбек оставался верным эмпиризму, заимствованному им у Фрэнсиса Бэкона. Впрочем, некоторые современники шведского ученого, в частности Пьер Бейль, полагали, что эмпиризм Рудбека граничил с паранойей[1305]. Несомненно, ученый сознавал всю рискованность своего грандиозного замысла (подобного чувства часто не хватает современным исследователям). В первом томе сочинения Рудбек приводит спор об Индии. Спор, судьей в котором выступает сам Аполлон, ведется между выдающимися учеными и обыкновенным садовником (hortulanus)[1306]. Аполлон и почтенные служители муз приводят пространные доводы, но садовник с ними не соглашается, называя их «выдумками и вздором» (chimerae atque deliramenta). Он говорит своим оппонентам: «И мы люди (et nos homines), и вы люди (et vos homines)». На фронтисписе своего «Атласа»[1307] Рудбек поместил надпись: «Et nos homines». Ученый муж, бесспорно, хитрил, заигрывая с простым садовником — возможно, Рудбек опасался нападок на свой труд какого-нибудь «садовника».
Посвятив тайне Атлантиды значительную часть своей жизни, Рудбек создал национальный миф, где оказались объединенными предание о Ное и его потомках и готская легенда, одно из первых упоминаний о которой было связано с вестготской Испанией[1308]. Оставим в стороне историю этой легенды — от ее возникновения в VI в. до официального признания на Базельском соборе в 1434 г., когда епископ Николай Рагвальди был вынужден провозгласить Шведское королевство древнейшим, сильнейшим и благороднейшим из всех других государств, поскольку оно не только не покорилось римскому императору, но даже заставило его объявить Швецию своим союзником.
Именно в XVII в., во время правления Густава-Адольфа (1611—1632), когда Швецию называли «великой державой», идея о готском первородстве стала национальным скандинавским мифом.
Чтобы выяснить, каким образом Ной оказался связанным с этим мифом, рассмотрим два документа из книги Рудбека.
Рис. 5. Деревья Сима и Атланта: Религия и Власть.
Фронтиспис первого тома книги О. Рудбека «Атлантика»
Первый документ (рис. 5) — это карта на фронтисписе первого тома «Атлантики» (1679 г.). От места, где Ной восседает у горы Арарат, тянутся три корня. Корень Хама теряется в африканской пустыне. Родословные Сима и Иафета — в духе представлений французского двора — тесно переплетены. Генеалогическое древо Сима — виноградная лоза, орошаемая сверху кровью Иисуса (воздадим должное Рудбеку-христианину). Большое дерево, произрастающее от Иафетова корня, принадлежит Атланту, титану из греческой мифологии. Оно растет в Швеции. Подобно райскому дереву — это яблоня, чьи плоды, символизирующие различные народы, раскатились по земле. Здесь и турки, и троянцы, и испанские готы, и мавры, и галлы. Отметим отсутствие греков. По вертикали прямым наследником Атланта является Борей, которого, в свою очередь, сменяют Эрик и прочие короли с шведскими именами.
Ветви древа власти оплетены древом религии. Последнее пока стоит, но не за горами день, когда оно упадет.
Рис. 6. Рудбек - анатом и географ: открытие Атлантиды в Швеции. Фронтиспис атласа «Атлантики»
Второй документ (рис. 6) — картина, в центре которой изображен Рудбек-ученый: географ, анатом и археолог[1309]. Он ищет Атлантиду под «кожей» Швеции. Его окружают 11 человек. Общее число персонажей картины, равное числу апостолов, — единственная библейская реминисценция. По правую руку Рудбека стоит человек с косой, это неумолимое Время-Хронос. Имена остальных персонажей, изображенных стоящими вокруг большого глобуса, также хорошо известны: Гесиод, Платон, Аристотель, Аполлодор, Тацит, Улисс, Птолемей, Плутарх и Орфей. Анонимный слепец в лавровом венке, стоящий рядом с Орфеем, без сомнения, — Гомер. Здесь явно недостает Геродота, чья «вина» состоит в том, что он не написал ни слова о германских народах. Рудбек собрал вокруг себя самых выдающихся мужей античности, чтобы провозгласить вместе с ними Швецию прародиной человечества.
Против тоталитарных притязаний Рудбека выступил роттердамский изгнанник Бейль, взявший на себя роль «простого садовника»[1310]. Он утверждал, что в мире много наций, и каждая с равным успехом могла бы претендовать на право быть «первой». И действительно, в 1676 г. один француз по имени Одижье приводил не менее убедительные аргументы, доказывая «первородство» Галлии[1311].
Представитель страны, являвшейся тогда лишь «географическим понятием», страны, где роль «готов» сыграли ломбарды, но где можно было опереться еще и на этрусков, серьезных претендентов на звание легендарных царей-прародителей, Джамбаттиста Вико во время работы над своей первой книгой «De Antiquissima Italorum Sapientia» (1710 г.) находился в плену идей, близких идеям Рудбека, чей труд он читал; вскоре, однако, он отказался от этих взглядов и объявил, что все нации равны перед Богом и историческим циклом[1312]. В других странах, прежде всего во Франции и Германии, идеи Рудбека о «началах» были истолкованы в христианском духе: да, Атлантида — прародина человечества, но находиться она могла только в Палестине и более нигде[1313].
«Национал-атлантизм» Рудбека, подобно готскому мифу, был типичным продуктом эпохи так называемых «великих держав». В 1779 г. в обстановке иной политической атмосферы, спустя семь лет после прихода к власти Густава III, построившего на обломках оппозиционных партий просвещенный абсолютизм, пьемонтский эрудит Джузеппе Бар-толи издал и прокомментировал тронную речь, которую шведский король произнес в риксдаге в 1778 г. Основанная на готском мифе идеология потерпела крах после провала авантюры последнего шведского националиста — короля Карла XII (правил с 1697 по 1718 г.). Убедительно доказывая, что Атлантида — символ афинского империализма, Бартоли одновременно подразумевал Швецию, но Швецию, лишенную всяческих иллюзий[1314].
Между тем подтверждалась мысль Бейля. Идеологи других стран тоже желали быть преемниками атлантов. Назовем некоторых из них, попутно заметив вслед за Жоржем Дюмезилем и Клодом Леви-Строссом, что в данном случае миф опустился до уровня романа[1315].
Франция избежала этого недуга, что объясняется просто: от великого короля[1316] до великих нации и императора — Франции хватало собственного величия. Если ее идеологи и пускались в рассуждения о «первоистоках», то галлы, римляне и франки предоставляли достаточно материала для удовлетворения жажды поисков. Безусловно, Атлантида оставалась излюбленной темой разговоров для просвещенной публики, но это была Атлантида либо доисторическая (золотой век), либо космическая или христианская (Палестина), либо географическая (Канарские острова, Америка), а вовсе не национальная. Но одно исключение подтверждает общее правило. Некий авиньонец по имени Фортиа д'Урбан опубликовал в 1808 г. диссертацию, посвященную доказательству того, что цивилизация атлантов была привнесена во Францию из Испании ордами диких кельтов и иберов[1317]. Здесь мы имеем дело со своего рода «атланто-провансализмом», влияние которого на современников было, впрочем, незначительным.
В Италии эпохи Просвещения вопрос о «началах» занимал видное место. Кандидатов на первородство здесь было множество, среди них — италики, этруски, германцы и греки. И в этой стране «национал-атлантизм» нашел способ выразить себя. Первым его проповедником был граф Джанринальдо Карли (1720—1795), интересная фигура из числа реформаторов[1318]. Карли выдвинул неожиданную идею о существовании связи между «американской» Атлантидой и Италией — колыбелью цивилизации. Во времена Атлантиды Италия являлась соединительным «мостом» между Америкой и Восточным Средиземноморьем. После того как местного царя Януса сменил атлант Сатурн, Италия смогла передать Греции все достижения атлантической цивилизации.
Много лет спустя, в 1840 г., Анджело Маццольди[1319] утверждал, что в действительности Атлантидой была сама Италия, которая цивилизовала все Восточное Средиземноморье. Цивилизаторская роль Греции отходила (в отношении этой идеи Маццольди не был первым) к Италии. Его сравнительно поздно написанная книга встретила благосклонный прием читателей.
В Англии проблема Атлантиды рассматривалась иначе. Насколько мне известно, в XVI—XVIII вв. «национал-атлантизм» там не пользовался успехом. Книга Джеймса Харрингтона «Commonwealth of Oceana» (1656 г.), посвященная Кромвелю (которому этот факт, впрочем, не помешал заточить автора в тюрьму), была написана, как пояснил издавший ее в начале XVIII в. Джон Толанд, «в подражание рассказу Платона об Атлантиде». Однако, за исключением литературного жанра, эта апология республиканско-купеческой Англии ничего общего с Платоном не имела[1320].
Две английские националистические трактовки Атлантиды, с которыми мне удалось познакомиться, скорее связаны с мистическими и предромантическими течениями, чем с традициями Просвещения, и эти интерпретации лучше сравнивать с произведениями Фабра д'Оливе, а не Рудбека.
Тем не менее назовем имена их авторов. Уильям Блейк (1757—1827) причудливым образом соединил атлантов с кельтами и евреями. Атлант — это бретонский патриарх Альбион, Ной и Авраам — друиды, а исчезнувший континент некогда связывал Англию с той самой новой Америкой, которую Блейк воспел в своих многочисленных поэмах. Главная мысль поэта состоит в том, что «древности любого народа под этим небом не менее священны, чем иудейские древности»[1321]. Однако идея «национал-мессианизма» служит Блейку, чтобы смешивать народы, а не разделять их. Именно Англия, считает он, являлась страной двенадцати колен Израилевых[1322].
К оригинальным выводам пришел современник Блейка, капитан и индолог Ф. Уилфорд, нашедший в пуранах упоминание о «дальних белых островах Запада». Сопоставив сведения индийских текстов с данными греческих источников, исследователь заявил, что «белые острова» (sweta dwipa) — это одновременно Британия и Атлантида. «Если мое открытие и соответствует истине, — чистосердечно признается капитан, — оно едва ли что-либо добавит к славе Британии»[1323]. Из Англии миф, естественно, попал в Ирландию, где он пользовался в XIX в. большим успехом[1324].
Итак, хронологические рамки моего исследования исчерпаны, и мне следовало бы на этом остановиться, но я все же упомяну еще о двух националистических мифах об Атлантиде, относящихся к новейшему времени.
Искренний патриотизм Платона породил миф об Атлантиде, антиподе вымышленных Афин. Среди современных искателей платоновского континента особенно популярна гипотеза о связи гибели Атлантиды с катастрофой, произошедшей в середине II тысячелетия до н. э. на острове Санторин. Столь же абсурдная, как и все предыдущие гипотезы[1325], она обязана своим появлением патриотизму греческого археолога Спиридона Маринатоса и его учеников. И сегодня Атлантиду продолжают эксплуатировать в патриотических целях[1326]. По иронии судьбы греческое судно, приплывшее в Бейрут в августе 1982 г. за Ясиром Арафатом, называлось «Атлантида». Обратившись к более оптимистическому сюжету, вспомним, что американский космический корабль конца 80-х годов тоже носил это имя.
Атлантида германских национал-социалистов была мифом с далеко идущими последствиями, которые ощущаются до сих пор. Запоздалых учеников Рудбека можно было найти в партии Гитлера еще до ее прихода к власти. А. Розенберг, автор «Мифа XX века», писал, что атланты, предки германцев, обитали повсюду, включая Палестину. На основании этого делался вывод, что галилеянин, а значит «чужеземец», Иисус не был евреем[1327]. После захвата фашистами власти А. Германн, профессор географии в Берлинском университете и одновременно «фюрер» германской прессы, посвятил Атлантиде целую книгу[1328]. Это был шедевр империалистической пропаганды, объявлявшей Северную Африку частью «атланто-германского» наследства. Так, построенный римлянами амфитеатр в Эль-Джеме (Тунис) выдавался за творение рук атлантов. Сходные идеи распространялись в оккупированных странах, в том числе во Франции[1329].
В данном случае речь шла не об узком явлении. В стенах печально известного «Института наследия предков» (Ahnenerbe Institut), где разрабатывались эсэсовские доктрины, часто поднимался вопрос об Атлантиде, и им интересовался сам рейхсфюрер СС Гиммлер[1330].
Именно в этом институте было придумано название острову Гельголанд: «das heilige Land» — «святая земля»[1331]. Идеологи фашизма стремились придать германским «началам» независимый окрас, что позволяло бы нацистам ощущать свою исключительность, ничем не обязанную Аврааму. После войны нацистские идеи были подхвачены пастором Юргеном Спанутом, который отождествлял Атлантиду с Гельголандом и даже какое-то время был популярным в Германии[1332]. Стоит ли напоминать о том, что и сегодня подобные попытки все еще в моде?
Пора подвести итоги моему исследованию. Рассмотренные в нем в хронологической последовательности «национальные Атлантиды» являют собой лишь одно из проявлений бесконечно разнообразного феномена, называемого «поисками начал», которые ведутся как великими нациями, так и малыми народами. В процессе этих поисков используются различные памятники, древние тексты, сведения о неизвестных, малоизвестных или, как в случае с Атлантидой, вымышленных народах. Семь греческих городов оспаривали право быть родиной Гомера. Но где находилась воспетая поэтом Троя? Согласно одной гипотезе, недавно еще популярной в Югославии, гомеровскую Трою следует искать не на холме Гиссарлык в Турции, а между Сплитом и Дубровником, в устье Неретвы[1333]. Эта идея почему-то не попала в Албанию, жители которой считают себя потомками древних иллирийцев[1334], а ее ученые вполне серьезно обсуждают вопрос о решающей роли иллирийцев в событиях Троянской войны[1335]. Ну а кто такие этруски? Разумеется, турки[1336]. Поистине ответ, позволяющий свести старые счеты с греками!
Рис. 7. Современная Атлантида: платоновский полис и его каналы.
Рисунок из альбома: Stahel H.-R. Adantis Illustrated. Ν. Y., 1982. P. 91
Что же нам делать с Атлантидой, опутанной паутиной фантастических домыслов? Прежде всего, рассматривать ее как одну из выдумок человеческого гения — именно этой задаче я посвятил свое исследование. Наконец, почему бы не запечатлеть на листе бумаги схему выдуманной Платоном геометрически правильной колонии (рис. 7) ?[1337] Сегодня это, пожалуй, лучший способ использовать миф об Атлантиде.
Библиография[1338]
Acosta 1954 — Acosta J. De Historia natural y moral de las Indias. Seville, 1590; φρ. Пер.: (Histoire naturelle et morale des Indes tant orientalles qu'occidentalles / par Robert Regnault Cauxois. P., 1598) переизд.: Des Obras del P.José de Acosta. Procurée par le P. Francisco Mateos. Madrid, 1954.
Amandry 1960 —Amandry P. Sur les Epigrammes de Marathon //Mélanges W. H. Schuch-hardt. Baden-Baden, 1960.
Amandry 1961a — Amandry P. Athènes au lendemain des guerres médiques // Revue de l'Université de Bruxelles. 1961. Avril — mai.
Amandry 1961 — Amandry P. Thémistocle: un décret et un portrait // Bulletin de la Faculté des lettres de Strasbourg. 1961.
Amelung 1907 — Ame lung W. Di alcune sculture antiche e di un rito del culto délie di-vinita sotterranee // Dissertazioni délia Pontifica Accademia romana di archeologia. 1907. 9.
Anderson 1961 — Anderson J.K. Ancient Greek Horsemanship. Berkeley; Los Angeles, 1961.
Anderson 1970 — Anderson J.K. Military Theory and Practice in the Age of Xenophon. Berkeley; Los Angeles, 1970.
Anderson 1974 — Anderson P. Lineages of the Absolute State. L., 1974 (фр. пер.: Anderson P. L'Etat absolutiste. Ses origines et ses voies. П. L'Europe de l'Est/Trad. D. Niemetz. P., 1978).
Andrewes 1961a — Andrewes A. Philochoros on Phratries //Journal of Hellenic Studies. 1961. 81.
Andrewes 19616 — Andrewes A. Phratries in Homer// Hermes. 1961. 89.
Apel 1910 - Apel H. Die Tyrannis von Heraklea. Halle, 1910.
Arrigoni 1977 —Arrigoni G. Atalanta e il Cinghiale Bianco // Scripta philologica. 1977. 1.
Asheri 1966 — Asheri D. Distribuzioni di terre nell' antica Grecia // Memoriendell'Accademia délie scienze di Torino. Torino, 1966.
Asheri 1972 — Asheri D. Uber die Frühgeschichte von Herakleia Pontike // Ergängungs-bände zu der Tituli Asiae Minoris n° 5. Forschungen an der Nordküste Fvleinasiens. I. Wien, 1972.
Asheri 1977 —Ashen D. Tyrannie et Mariage forcé, essai d'histoire sociale //Annales E. S. C. 1977. 32.
Audiat 1933 — Audiat J. Fouilles de Delphes. IL 4: Le Trésor des Athéniens. P., 1933.
Austin, Vidal-Naquet 1973 — Austin M., Vidal-Naquet P. Economies et Sociétés en Grèce ancienne2. P., 1973.
Aymard 1943 — Aymar d A. Hiérarchie du travail et autarcie individuelle dans la Grèce archaïque // Revue d'histoire de la philosophie et d'histoire générale de la civilisation. 1943. 11; переизд.: Aymard A. Etudes d'histoire ancienne. P., 1967.
Aymard 1951 — Aymard J. Les Chasses romaines des origines a la fin du siècle des Antonins. P., 1951.
Aymard 1954 — Aymard A. Philippe de Macédonie otage à Thèbes // Revue des études anciennes. 1954. 56; переизд.: Aymard A. Etudes d'histoire ancienne.
Aymard 1959 — Aymard A. Mercenariat et Histoire grecque //Études d'archéologie classique. II. Annales de l'Est. 1959; переизд.: Aymard A. Études d'histoire ancienne.
Bachofen 1861 — Bachofen J. J. Das Mutterrecht. Stuttgart, 1861.
Bader 1965 — Bader F. Les Composés du type de Démiourgos. P., 1965.
Bambrough 1968 — Bambrough R. Plato, Popper and Politics // Some contributions to a modern controversy / Ed. R. B. Cambridge, 1967.
Barbagallo 1927 — Barbagallo C. Le Déclin d'une civilisation ou la fin de la Grèce antique Trad. G. Bourgin. P., 1927.
Barron 1962 — Barron J. Milesian Politics and Athenian Propaganda //Journal of Hellenic Studies. 1962. 82.
Barron 1964 — Barron J. Religious Propaganda of the Delian League //Journal of Hellenic Studies. 1964. 84.
Bartoli 1779 — Bartoli G. Essai sur l'explication historeque que Platon a donnée de sa République et de son Adantide et qu'on n'a pas considérée jusqu'à maintenant. Stockholm; Paris, 1779.
Bellour 1979 — Be Hour R. Entretien avec Cl. Lévi-Strauss // Claude Lévi-Strauss / Éd. R. Bellour, C. Clément. P., 1979.
Belmont 1974 - Belmont N. Arnold Van Gennep. P., 1974.
Beloch 1914-1916 - Beloch K. J. Griechische Geschichte2. Strassburg, 1914-1916.
Benardete 1963 — Benardete S. Eidos and Diairesis in Plato's Statesman //Philologus. 1963.107. Benedetto 1978 - Benedetto V. dl II Filottete e l'Efebia secondo P. Vidal-Naquet // Belf-agor. 1978. 33.
Bengtson 1962 — Bengtson H. Die Staatsverträge des Altertums. II. Die Verträge des griechischrömischen Welt von 700 bis 338 v. Chr. München, 1962.
Bengtson 1969 — Bengtson H. Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit4. München, 1969.
Benveniste 1940 — Benveniste E. Latin Tempus // Mélanges A. Ernout. P., 1940.
Benveniste 1951 — Benveniste E. La Notion de iythme dans son expression linguistique // Journal de psychologie. 1951; переизд.: Benveniste E. Problèmes de linguictique générale. I. P., 1966.
Benveniste 1956 — Benveniste E. Remarques sur la fonction du langage dans la découverte freudienne //La Psychanalyse. 1956; переизд.: Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. I. P., 1966.
Benveniste 1969 — Benveniste E. Le Vocabulaire des institutions indo-européennes: En. 2 vol. P., 1969.
Bérard 1970 — Bérard Cl. L'Hérôon à la porte de l'Ouest (Eretria, Fouilles et Recherches, III). Berne, 1970.
Bérard 1974 — Bérard Cl. Anodoi: Essai sur l'imagerie des passages chthoniens. Neuchâ-tel, 1974.
Bérard 1978 — Bérard CL Topographie et Urbanisme de l'Érétrie archaïque: l'Hérôon // Eretria, VI. Berne, 1978.
Bérard 1982 — Bérard Cl. Récupérer la mort du prince // La mort, les morts dans les sociétés anciennes /Ed. G. Gnoli,J. P. Vernant. Cambridge; Paris, 1982.
Bérard 1957 — Bérard J. La Colonisation grecque de la Sicile et de l'Italie méridionale2. P, 1957.
Bérard 1929 - Bérard V. Calypso et la Mer de l'Adantide: Les Navigations d'Ulysse. III. P., 1929.
Berger 1958 — Berger E. Das Urbild des Kriegers aus der Villa Hadriana und die marathonische Gruppe des Phidias in Delphi // Römische Mitteilungen. 1958. 65.
Bersanetti 1949 - Bersanetti G. Pelopida // Athenaeum. 1949. 27.
Bertier 1972 — Bertier J. Mnésithée et Dieuchès. Leyde, 1972.
Berve 1967 — Berve H. Die Tyrannis bei den Criechen. 2 Bde. München, 1967.
Bettelheim 1972 - Bettelheim B. Les Blessures symboliques / Trad. Cl. Monod. P., 1972.
Beverley 1707 — Beverley R. Histoire de la Virginie «par un auteur natif et habitant du Pais» /Trad, de l'anglais. Amsterdam, 1707.
Bidez 1945 - Bidez J. Eos ou Platon et l'Orient. Bruxelles, 1945.
Bisinger 1925— Bisinger J. Der Agrarstaat in Piatons Gesetzen. Leipzig, 1925.
Bleeker 1965 — Inititation. Contributions to the Theme of the Study: Conférence de Strasbourg, 17-22 sept. 1964/Ed. Bleeker C.J. Leyden, 1965.
Boardman 1972 — Boardman J. Herakles, Peisistratos and Sons // Revue archéologique. 1972.
Boardman 1975 — Boardman J. Herakles, Peisistratos and Eleusis //Journal of Hellenic Studies. 1975. 95. Boeckh 1819 - Boeckh A. Philolaos. Berlin, 1819.
Bollack, von Salin 1963 — Bollack J., von Salin E. Platon, Phaidros. Francfurt, 1963.
Bollack 1965 — Bollack J. Empédocle. 1. Introduction à l'ancienne physique. P., 1965.
Bonnefoy 1981: Dictionnaire des mythologies /Ed. Bonnefoy Y: En. 2 vol. P., 1981.
Bourdieu 1972 — Bourdieu P. Esquisse d'une théorie de la pratique. P., 1972.
Bourgey 1953 — Bourgey L. Observation et expérience chez les médecins de la collection hippocratique. P., 1953.
Bourguet 1909 - Bourguet E. Fouilles de Delphes. III. 1. P., 1909.
Bourguet 1914 — Bourguet E. Les Ruines de Delphes. P., 1914.
Bousquet 1942—1943 —Bousquet J. Inscriptions de Delphes //Bulletin de correspondance hellénique. 1942-1943. 66-67.
Bousquet 1964 — Bousquet J. Delphes et les Aglaurides d'Athènes //Bulletin de correspondance hellénique. 1964. 88.
Bowra 1950 — Bowra C. M. Atalanta in Calydon // Royal Society of Literature of the U. К. Oxford, 1950.
Boyancé 1941 — Boyancé P. La Doctrine d'Euthyphron dans le Cratyle//Revue des études grecques. 1941. 54.
Boyancé 1947 — Boyancé P. La Religion de Platon // Revue des études anciennes. 1947. 49.
Boyancé 1952 — Boyancé P. La Religion astrale de Platon à Cicéron // Revue des études grecques. 1952. 65.
Bradeen 1964 — Bradeen D. W. Athenian Casualty Lists // Hesperia. 1964. 33.
Bradeen 1967 - Bradeen D. W. The Athenian Casualty list of 464 В. С. // Hesperia. 1967. 36.
Bradeen 1969 - Bradeen D. W. The Athenian Casualty Lists // Classical Quarterly. 1969. 13.
Bradeen 1974 — Bradeen D. W. The Athenian Agora, XVII: Inscriptions: the Funerary Monuments. Princeton, 1974.
Brandenstein 1951 — Brandenstein W. Adantis: Crosse und Untergang eines geheimnissvollen Inselreiches. Wien, 1951.
Bravo 1980 — Bravo В. Sulân: Représailles et justice privée contre des étrangers dans les cités grecques //Annali délia Scuola Normale Superiore di Pisa. Série III. 1980. 10.
Brelich 1955-1957 - BrelichA. Les Monosandales //La Nouvelle Clio. 1955-1957. 7-9.
Brelich 1958 - Brelich A. Gli eroi greci. Rome, 1958.
Brelich 1961 — Brelich A. Guerre, Agoni e Culti nella Grecia arcaica. Bonn, 1961.
Brelich 1965 - Brelich A. Initiation et Histoire: Initiation.//Éd. C.J. Bleeker. Leyden, 1965.
Brelich 1969 - Brelich A. Paides e Parthenoi. Rome, 1969.
Bremmer 1977 — Bremmer J. Es Kynosarges // Mnemosyne. 1977. 30.
Brémond 1964 — Brémond CL Le Message narratif // Communications. 1964. 4.
Brémond 1968 — Brémond CL Postérité américaine de Propp // Communications. 1968. 11; переизд.: Brémond CL Logique du récit. P., 1973.
Breslin 1978 - Breslin J. A Greek Prayer. Pasadena, 1978.
Briant 1973 — Briant P. Antigone le Borgne: Les débuts de sa carrière et les problèmes de l'assemblée macédonienne. Besançon; Paris, 1973.
Briant 1973a — Briant P. Remarques sur laoi et esclaves ruraux en Asie Mineure hellénistique //Actes du Colloque 1971 sur l'esclavage. Paris, 1973.
Brisson 1970 — Brisson L. De la philosophie politique à l'épopée, le Critias de Platon // Revue de métaphysique et de morale. 1970.
Brisson 1970—1971 — Brisson L. L'Instant, le Temps et l'Éternité dans le Parménide (155e—157b) de Platon //Dialogue. 1970-1971. 9.
Brisson 1974 — Brisson L Le Même et l'Autre dans la structure ontologique du Timée de Platon. P., 1974.
Brisson 1977- Brisson L Platon 1958-1975//Lustrum. 1977 (1979). 20.
Brommer 1957 - Brommer F. Attische Könige // Festschrift E. Langlotz. Bonn, 1957.
Broneer 1949 - Broneer 0. Plato's Description of Early Athens and the Origin of Metageitnia//Hesperia. Suppl. 8. 1949.
Brumbaugh 1957 — Brumbaugh R. S. Plato's Mathematical Imagination. Bloomington, 1957.
Bruneau 1970 - Bruneau Ph. Recherches sur les cultes de Délos à l'époque hellénistique et à l'époque impériale. P., 1970.
Brunn 1853 — Brunn H. Geschichte der griechischen Künstler. Braunsweig, 1853.
Buffïère 1956 - Buffière F. Les Mythes d'Homère et la Pensée grecque. P., 1956.
Bulle, Wiegand 1898 - Bulle #., Wiegand Th. Zur Topographie der delphischen Weil-hgeschenke // Bulletin de correspondance hellénique. 1898. 22.
Burford 1972 - Bur ford A. Craftsmen in Greek and Roman Society. L., 1972.
Burkert 1962 - Burkert W. Weisheit und Wissenschaft Studien zu Pythagoras, Philolaos und Piaton. Nuremberg, 1962 // англ. пер.: Burkert W. Lore and Science in Ancient Pythagorism / Transi. E. L. Minar,Jr. Cambridge, Mass., 1972.
Burkert 1966 - Burkert W. Kekropidensage und Arrhephoria//Hermes. 1966. 94.
Burnet 1952 - Burnet J. L'Aurore de la philosophie grecque /Trad. A. Reymond. P., 1952.
Burrow 1966 - Burrow J. W. Evolution and Society: A Study in Victorian Social Theory. Cambridge, 1966.
Busolt 1892 - Busolt G. Griechische Geschichte2. Gotha, 1892.
Busolt, Swoboda 1920 - Busolt G.y Swoboda H. Griechische Staatskunde, Bd. I3 München, 1920.
Bywater 1868 - By water I. On the Fragments Attributed to Philolaos the Pythagorean //Journal of Philology. 1868. 1.
Caillois 1975 — Caillois R. Temps circulaire, Temps rectiligne //Diogène. 1936. 42; переизд.: Caillois R. Obliques. P., 1975.
Calame 1971 — Calame Cl. Philologie et Anthropologie structurale; à propos d'un livre récent d'Angelo Brelich // Quaderni Urbinati di cultura classica. 1971. 11.
Calame 1976 - Calame CL Mythe gres et Structures narratives: le mythe des Cyclopes dans VOdyssée // Ziva Antika. 1976. 26.
Calame 1977 — Calame Cl. Les Choeurs déjeunes filles en Grèce archaïque. I. Morphologie, fonction religieuse et sociale; II. Alcman. Rome, 1977.
Cambiano 1971 — Cambiano G. Platone e le tecniche. Turin, 1971.
Cambiano 1975 — Cambiano G. Le Médecin, la main et l'artisan // Corpus hippocraticum.
Colloque de Möns, 1975. Septembre. Möns, 1977.
Carandini 1975 — Carandini A. Archeologia e cultura materiale. Bari, 1975.
Carrière 1979 — Carrière J.-C. Le Carnaval et la Politique. Besagçon; Paris, 1979.
Casabona 1966 — Casabona J. Recherches sur le vocabulaire des sacrifices en grec des origines à la fin de l'époque classique. Aix-Gap, 1966.
Castoriadis 1975 — Castoriadis G L'Institution imaginaire de la société. P., 1975.
Cawkwell 1972 - Cawkwell G. Epaminondas and Thebes // Classical Quarterly. 1972. 22. Certeau 1980 — Certeau M. de. Writing Vs. Time: History and Anthropology in the Works of Lafitau //Yale French Studies. 1980. 59.
Chadwick 1976 - Chadwick J. Who were the Dorians? //Parola del passato. 1976. 31.
Chaignet 1873 - Chaignet A. E. Pythagore et la philosophie pythagoricienne. P., 1873.
Chantraine 1933 — Chantraine P. La Formation des noms en grec ancien. P., 1933.
Chantraine 1955 — Chantraine P. Les Noms de la gauche en grec // Comptes Rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres. 1955.
Chantraine 1956a — Chantraine P. Trois noms grecs de l'artisan // Mélanges A. Diès. P., 1956.
Chantraine 19566— Chantraine P. Etudes sur le vocabulaire grec. P., 1956.
Châtelet 1956 - Châtelet F. Le Temps de l'histoire et l'évolution de la fonction historienne //Journal de psychologie. 1956. Châtelet 1962 - Châtelet F. La Naissance de l'histoire. P., 1962.
Cherniss 1947 — Cherniss H. Compte rendu de E. Gegenschatz, Piatons Atlantis, Zürich, 1943 //American Journal of Philology. 1947. 68.
Cherniss 1957 - Cherniss H. The Relation of the Timaeus to Plato's Later Dialogs // American Journal of Philology. 1957. 78; переизд.: Studies in Plato's Metaphysics / Ed. R. E. Allen. L., 1965. Cherniss 1959 - Cherniss H. Plato 1950-1957//Lustrum. 1959. 4.
Cherniss 1960 - Cherniss H. Plato 1950-1957 // Lustrum. 1960. 5.
Clarke 1967 - Clarke H. W. The Art of the Odyssey, Englewood Cliffs, N.J., 1967.
Clerc 1891 - Clerc M. Les Métèques athéniens. P., 1891.
Cochrane 1929 - Cochrane С. N. Thucydides and the Science of History. Oxford, 1929.
Cole 1967 - Cole T. Democritus and the Sources of Greek Anthropology. Ann Arbor, 1967.
Collingwood 1946 - Collingwood R. G. The Idea of History. Oxford, 1946.
Compernolle 1975 — Compernolle R. Van. Le Mythe de la gynécocratie-doulocratie argienne // Mélanges Claire Préaux. Bruxelles, 1975.
Compernolle 1976 — Compernolle R. Van. Le Tradizioni sulla fondazione e sulla storia arcaica di Locri Epizefiri e la propaganda politica alla fine délie V e nel IV secolo av.
Cr. // Annali délia Scuola normale superiore di Pisa. 3e série. 1976. 6. 2.
Connor 1968 - Connor W. R. Theopompus and Fifth Century Athens. Washington, 1968.
Cook 1914-1940 - Cook А. В. Zeus: A Study in Greek Religion. Cambridge, 1914-1940.
Cornford 1907 - Cornford F. M. Thucydides Mythistoric. L., 1907.
Cornford 1914 - Cornford F. M. The Origin of Attic Comedy. L., 1914.
Cornford 1937 - Cornford F. M. Plato's Cosmology. L., 1937.
Cornford 1939 - Cornford F. M. Plato and Parmenides. L., 1939.
Cornford 1952 - Cornford F. M. Principium Sapientiae: The Origins of Greek Philosophical Thought. Cambridge, 1952.
Corsano 1979 — Corsano M. Sparte et Tarente: le mythe de fondation d'une colonie // Revue de l'histoire des religions. 1979. 196. 2.
Corssen 1913 — Corssen P. Die Sendung der Lokrerinnen und die Gründung von Neue Ilion//Sokrates. 1913. 1.
Coste-Messelière 1936 — Coste-Messelière P. de la. Au musée de Deplhes. P., 1936.
Coste-Messelière 1957 — Coste-Messelière P. de la. Fouilles de Delphes. IV, 4. Sculptures du trésor des Athéniens. P., 1957.
Couissin 1927 - Couissin P. Le Mythe de l'Atlantide // Mercure de France. 1927. 15 février.
Couissin 1928 — Couissin P. L'Adantide de Platon et les origines de la civilisation. Aix-en-Provence, 1928.
Crahay 1956 — Crahay R. La Littérature oraculaire chez Hérodote. Liège; P., 1956.
Crosby 1941 - Crosby M. A Poletai Record of the Year 367/6 В. С. //Hesperia. 1941. 10.
Cuffel 1966 - Cuff el V. The Classical Greek Concept of Slavery //Journal of the History of Ideas. 1966. 27.
Cuillandre 1944 — Cuillandre J. La Droite et la Gauche dans les poèmes homériques en concordance avec la doctrine pythagoricienne et avec la tradition celtique. P., 1944.
Cullmann 1966 - Cullmann 0. Christ et le Temps2. Neuchâtel; P., 1966.
Cumont 1942 — Cumont F. Recherches sur le symbolisme funéraire. P., 1942. Cumont 1949 — Cumont F. Lux perpétua. P., 1949.
Curtius 1899 — Curtius E. Die Weihgeschenke der Griechen nach der Perserkriegen // Gesammelte Abhandlungen. Berlin, 1899. Bd. II. (статья датирована 1861 г.). Daux 1936— Daux G. Pausanias à Delphes. P., 1936.
Daux 1965 — Daux G. Chronique des fouilles // Bulletin de correspondance hellénique. 1965.
Davies 1971 - Davies J. K. Athenian Propertied Families 600-300 В. С. Oxford, 1971.
Debidour 1979 — Debidour M. Réflexions sur les timbres amphoriques thasiens //Thasi-aca, Bulletin de correspondance hellénique. Suppl. V. Athènes, 1979.
Defradas 1954 — Defradas J. Les Thèmes de la propagande delphique. P., 1954.
Delatte 1915 — Delatte A. Etudes sur la littérature pythagoricienne. P., 1915.
Delcourt 1958 — Delcourt M. Hermaphrodite. Mythes et Rites de la bissexualité dans l'Antiquité classique. P., 1958.
Delcourt 1965 — Delcourt M. Pyrrhos et Pyrrha. Recherches sur les valeurs du feu dans les légendes helléniques. P., 1965.
Delvoye 1975 - Delvoye Ch. Art et Politique à Athènes à l'époque de Cimon // Mélanges Cl. Préaux. Bruxelles, 1975.
Deonna 1935 — Deonna W. Monokrêpides // Revue de l'histoire des religions. 1935. 89.
Deonna 1940 — Deonna W. Les Cornes gauches // Revue des études anciennes. 1940.
Despotopoulos 1970 — Despotopoulos C. La Cité parfaite de Platon et l'Esclavage: Sur République 433d // Revue des études grecques. 1970. 83.
Détienne 1965 — Détienne M. En Grèce archaïque: géométrie, politique et société //Annales E.S.C. 1965. 20.
Détienne 1972 — Détienne M. Les Jardins d'Adonis. P., 1972.
Détienne 1977a — Détienne M. Dionysos mis à mort. P., 1977.
Détienne 19776 — Détienne M. La Panthère parfumée // Dionysos mis à mort. P., 1977.
Détienne 1977b — Détienne M. Ronger la tête de ses parents // Dionysos mis à mort. P., 1977.
Détienne 1979a — Détienne M. Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque3. P., 1979.
Détienne 19796 — Détienne M. Repenser la mythologie //La Fonction symbolique. Essais d'anthropologie / Ed. by M. Izard, P. Smith. P., 1979.
Détienne - Détienne M. La Phalange: problèmes et controverses // Problèmes de la guerre / Éd. J.-P. Vernant. Paris; La Haye, 1968.
Détienne, Vernant 1978 — Détienne M.; Vernant J.-P. Les Ruses de l'intelligence. La métis
des Grecs2. P., 1978.
Détienne, Vernant 1979 — La Cuisine du sacrifice en pays grec / Éd. M. Détienne, Vernant J.-P. P., 1979. Deubner 1932 - Deubner L. Attische Feste. Berlin, 1932.
Diels 1954 - Diels H. Die Fragmente der Vorsokratiker7 / Hg. W. Kranz. 3 Bde. Berlin, 1954.
Diller 1956 - Diller A. Pausanias in the Middle Ages //Transactions of the American Philological Association. 1956. 87.
Diller 1957 - Diller A. The Manuscripts of Pausanias // Transactions of the American Philological Association. 1957. 88. Dodds 1951 - Dodds E. R. The Greeks and the Irrationnal. Berkeley, 1951 (фр. пер.:
Dodds E. R. Les Grecs et l'Irrationnel2 / Trad. M. Gibson. P., 1977).
Domaszewski 1925 - Domaszewski A. von. Die attische Politik der Zeit der Pentekontaetie. Heidelberg, 1925.
Dow, Healey 1965 - Dow S., Healey R. F. A Sacred Calendar of Eleusis. Cambridge, Mass., 1965.
Ducat 1974a - Ducat J. Le Mépris des hilotes //Annales E.S.C. 1974. 29.
Ducat 19746 - Ducat J. Les Thèmes des récits de la fondation de Rhégion // Mélanges G. Daux. P., 1974.
Ducat 1978 - Ducat J. Aspects de l'hilotisme //Ancient Society. 1978. 9.
Duchet 1971 — Duchet M. Anthropologie et Histoire au siècle des Lumières. P., 1971.
Duchet 1976 — Duchet M. Discours ethnologique et Discours historique: le texte de Lafitau // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. 151-155. Oxford, 1976.
Ducrey 1968 — Ducrey P. Le Traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, des origines à la conquête romaine. P., 1968.
Dumézil 1924 — Dumézil G. Le Crime des Lemniennes. P., 1924.
Dumézil 1935-1936 -Dumézil G. Temps et mythe //Recherches philosophiques. 1935-1936. 5.
Dumézil 1942 - Dumézil G. Horace et les Curiaces. P., 1942.
Dumézil 1949 - Dumézil G. L'Héritage indo-européen à Rome. P., 1949.
Dumézil 1956 — Dumézil G. Aspects de la fonction guerrière chez les Indo-Européens. P., 1956.
Dumézil 1958 - Dumézil G. L'Idéologie tripartite des Indo-Européens. Bruxelles, 1958.
Dumézil 1967 — Dumézil G. La Religion romaine archaïque. P., 1967.
Dumézil 1968 - Dumézil G. Mythe et épopée. P., 1968. I.
Dumont 1966 — Dumont J-C. A propos d'Aristonicos // Eirene. 1966. 5.
Dunn 1982 - Dunn S. P. The Fall and Rise of the Asiatic Mode of Production. London; Boston; Melbourne. Henley, 1982. Durand 1977 - Durand J.-L. Le Corps du délit // Communications. 1977. 26.
Effenterre 1937 — Effenterre H. Van. A propos du serment des Drériens // Bulletin de correspondance hellénique. 1937. 61.
Effenterre 1948a - Effenterre H. Van. Fortins crétois // Mélanges Ch. Picard. P., 1948.
Effenterre 19486 - Effenterre H. Van. La Crète et le monde grec de Platon à Polybe. P., 1948.
Effenterre 1963 - Effenterre H. Van. Politique et religion dans la Crète minoenne // Revue historique. 1963. Janv. — mars. Effenterre 1976 - Effenterre H. Van. Clisthène et les mesures de mobilisation // Revue des études grecques. 1976. 89.
Effenterre 1980 — Effenterre H. Van. Le Palais de Mallia et la cité minoenne: En 2 vol. Rome, 1980.
Eitrem 1904 — Eurem S. Die Phaiakenepisode in der Odyssee // Videnskabs — Selskabet Skrifter. Hist. Filos. Kl. 1904 (2).
Eitrem 1915 — Eitrem S. Opferritus und Voropfer der Griecher und Römer. Kristiania, 1915.
Eitrem 1938 - Eitrem S. Phaiaker // R. E. 1938. 19.
Eliade 1949 - Eliade M. Le Mythe de l'éternel retour. P., 1949.
Eliade 1971 - Eliade M. Nostalgie des origines. P., 1971.
Ellinger 1978 — Ellinger P. Le Gypse et la Boue. I. Sur les mythes de la guerre d'anéantissement // Quaderni Urbinati di cultura classica. 1978. 29.
Farnell 1909a - Farnell L. R. Cults of the Greek States: In V vol. Oxford, 1909.
Farnell 19096 - Farnell L. R. The Megala Dionysia and the Origin of Tragedy //Journal of Hellenic Studies. 1909. 29.
Faure 1965 — Faure P. Fonction des cavernes Cretoises. P., 1965.
Ferguson 1938 - Ferguson W. S. The Salaminioi of Heptaphylon and Sounion//Hesperia. 1938. 7.
Fernandez Nieto 1975 — Fernandez Meto F. J. Los Acuerdos belicos en la Antigua Gre-cia (época arcaica y clâsica). SaintJacques-de-Compostelle, 1975.
Festugière 1949a — Festugière A. J. A propos des arétalogies d'Isis // Harvard Theological Review. 1949; переизд.: Etudes de religion grecque et hellénistique. P., 1972.
Festugière 19496 - Festugière A. J. La Révélation d'Hermes Trismégiste. 1949.
FGrH - см.: Jacoby FGrH.
Fidio 1971 — Fidio P. de. Il Demiurgo e il ruolo délie technai in Platone // Parola del passato. 1971. 26.
Finley 1959 — Finley M. L Was Greek Civilisation based on Slave Labour? // Historia. 1959. 8; переизд.: Slavery in classical Antiquity / Ed. M. I. Finley. Cambridge, 1968.
Finley 1960 — Finley M. I. The Servile Statuses of Ancient Greece // Revue internationale des droits de l'Antiquité. 1960. 7.
Finley 1964 — Finley M. I. Between Slavery and Freedom // Comparative Studies in Society and History. 1964. 6.
Finley 1965a - Finley M. I. The World of Odysseus. N. Y., 1965; (фр. пер.: Finley M. L Monde d'Ulysse: Le Monde d'Ulysse, nouvelle éd. augmentée / Trad. M. Alexandre, Cl. Vernant-Blanc. P, 1978).
Finley 19656 — Finley M. L Myth, Memory and History // History and Theory. 1965. 4.
Finley 1967 — Finley M. I. Utopianism Ancient and Modern //The Critical Spirit: Essays in Honor of Herbert Marcuse. Boston, 1967; переизд.: Finley M. I. Use and Abuse. 1975.
Finley 1968a — Finley M. I. Ancient Sparta // Problèmes de la guerre en Grèce ancienne / Ed. J.-P. Vernant. Paris; La Have, 1968; переизд.: Finley M. L The Use and Abuse of History. L., 1975.
Finley 19686 - Slavery in Classical Antiquity2 / Ed. M. I. Finley. Cambridge, 1968.
Finley 1970 — Finley M. I. Aristotle and Economie Analysis //Past and Present. 1970. 47; переизд.: Studies in Ancient Society /Ed. M. I. Finley. L., 1974.
Finley 1971 — Finley M. I. The Ancestral Constitution. Cambridge, 1971; переизд.: FinFinley M. I. The Use and Abuse of History. L., 1975.
Finley 1973 — Finley M. I. The Ancient Economy. Berkeley; Los Angeles, 1973; (фр. пер.: Finley M. L L'Économie antique /Trad. M. P. Higgs. P., 1975).
Finley 1975 - Finley M. L The Use and Abuse of History. L., 1975.
Finley 1979 - Finley M. I. Ancient Sicily2. L., 1979.
Finley 1980 — Finley M. L Ancient Slavery and Modem Ideology. L., 1980.
Foley 1978 — Foley H. Reverse Similes and Sex Roles in the Odyssey // Arethusa. 1978. 11.
Fortina 1958 — Fortina M. Epaminonda. Torino, 1958.
Fourgous 1976 — Fourgons D. L'Invention des armes en Grèce ancienne //Annali délia Scuola normale superiore di Pisa, série III. 1976. 6. 4.
Frank 1923 — Frank E. Plato und die sogenannten Pythagoreer. Halle, 1923.
Frankel 1924 — Frankel H. Eine Stileigenheit der frühgriechischen Literatur // Göttingen Nachrichten. 1924; переизд.: Frankel H. Wegen und Formen der frühgriechischen Denkens. München, 1955.
Frankel 1931 - Frankel H. Die Zeitauffassung in der frühgriechischen Literatur// Zeitschrift für Aesthetik. Beilagenheft. 1931; переизд.: Frankel H. Wegen und Formen der frühgriechischen Denkens. München, 1955.
Frankel 1946 - Frankel H. Man's Ephemer os Nature according to Pindar //Transactions of the American Philological Association. 1946. 77.
Frankfort 1948 - Frankfort H. Kingship and the Gods: A Study of Ancient Near Eastern Religion as the Interpretation of Society and Nature. Chicago, 1948; фр. пер.: Frankfort H. La Royauté et les Dieux. Intégration de la société et de la nature dans la religion de l'ancien Proche-Orient/Trad.J. Marty, P. rCrieger. P., 1951.
Frazer 1898 - Frazer J. G. Pausanias' Description of Greece: In 6 vol. L., 1898.
Frazer 1922 - Frazer J. G. The Golden Bough. A Study in Magic and Religion. Part II (Vol. 3). Taboo and the Perils of the Soul. L., 1922; фр. пер.: Frazer J. G. Le Cycle du rameau d'or. II. Tabou et les Périls de l'âme / Trad. H. Peyre. P., 1927.
Friedländer 1954 - Friedländer P. Platon. I2. Berlin, 1954 (англ. пер.: A.J. Meyerhoff: In 2 vol. Ν. Y, 195&-1964).
Fritz 1973 - Fritz K. von. Philolaos//R. E. 1973. Suppl. 13.
Froidefond 1971 - Froidefond Ch. Le Mirage égyptien. P., 1971.
Frontisi-Ducroux 1975 — Frontisi-Ducroux F. Dédale. Mythologie de l'artisan en Grèce ancienne. P., 1975.
Frontisi-Ducroux 1976 — Frontisi-Ducroux F. Homère et le temps retrouvé // Critique. 1976. 348.
Frost 1913 - Frost К. T. The Critias and Minoan Crete //Journal of Hellenic Studies. 1913. 33.
Fuks 1968 - Fuks A. Slave War and Slave Troubles in Chios in the Third Century В. C. // Athenaeum. 1968. 46.
Furtwängler 1904 - Furtwängler Α. Zu früheren Abhandlungen. I. Zu den marathonischen Weihgeschenken der Athener in Delphi // Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Klasse der К. B. Akademie der Wissenschaften zu München. München, 1904.
Gaidoz 1884-1885 - Gaidoz H. La Mythologie comparée, un mot d'explication // Melusine. 1884-1885. П.
Gaiser 1963 - Gaiser К. Piatons ungeschriebene Lehre. Stuttgart, 1963.
Gaisford 1820 - Gaisford Th. Lectiones Platonicae. Oxford, 1820.
Garaudy 1969 — Sur le «mode de production asiatique» / Éd. Garaudy R. P., 1969.
Garlan 1968 - Garlan Y. Fortifications et Histoire grecque // Problèmes de la guerre en Grèce ancienne. / Ed. Vernant J.-P. Paris; La Haye, 1968.
Garlan 1972a - Garlan Y. La Guerre dans l'Antiquité. P., 1972.
Garlan 19726 - Garlan Y. Les Esclaves grecs en temps de guerre //Actes du Colloque d'histoire sociale (1970). Besançon; P., 1972.
Garlan 1974a - Garlan Y. Quelques travaux récents sur les esclaves drecs en temps de
guerre //Actes du Colloque 1972 sur l'esclavage. Besançon; Paris, 1974.
Garlan 19746 — Garlan Y. Recherches de poliorcétique drecque. Athènes; P., 1974.
Garlan 1979 — Garlan Y. Koukos: Données nouvelles pour une nouvelle interprétation des timbres amphoriques thasiens //Thasiaca. Bulletin de correspondance hellénique. Suppl. V. Athènes, 1979.
Gauer 1968 — Gauer W. Weihgeschenke aus den Perserkriegen. Tübingen, 1968.
Gauthier 1971 — Gauthier Ph. Les Xénoi dans les textes les textes athéniens de la seconde moitié du Ve siècle av.J.-C. //Revue des études grecques. 1971. 84.
Gauthier 1976 — Gauthier Ph. Un commentaire historique des Poroi de Xénophon. P., 1976.
Gegenschatz 1943 — Gegenschatz E. Piatons Adantis. Zürich, 1943.
Gennep 1909 — Gennep A. Van. Les Rites de passage. P., 1909.
Gennep 1913 — Gennep A. Van. Contributions à l'histoire en France de la méthode ethnographique // Revue de l'histoire des religions. 1913. 67.
Germain 1954a — Germain G. Genèse de l'Odyssée. P., 1954.
Germain 19546 — Germain G. Homère et la mystique des nombres. P., 1954.
Gernet 1928 — Gernet L. Frairies antiques // Revue des études grecques. 1928. 41; переизд.: Gernet L. Anthropologie de la Grèce antique. P., 1976.
Gernet 1933 — Gernet L. La Cité future et le pays des morts // Revue des études grecques. 1933. 46; переизд.: Gernet L. Anthropologie de la Grèce antique2. P., 1976.
Gernet 1936 — Gernet L. Dolon le loup //Mélanges F. Cumont. Bruxelles, 1936; переизд.: Gernet L. Anthropologie de la Grèce antique. P., 1976.
Gernet 1938 — Gernet L. Les Dix archontes de 581 // Revue de philologie. 1938. 64.
Gernet 1945 — Gernet L. Les Origines de la philosophie // Bulletin de l'enseignement public du Maroc. 1945 oct.-déc. 183: переизд.: Gernet L. Anthropologie de la Grèce antique. P., 1976.
Gernet 1948—1949 — Gernet L. Droit et Prédroit en Grèce ancienne //Année sociologique. 1948—1949; переизд.: Gernet L. Anthropologie de la Grèce antique. P., 1976.
Gernet 1956 — Gernet L. Le Temps dans les formes archaïques du droit //Journal de psychologie. 1956; переизд.: Gernet L. Anthropologie de la Grèce antique. P., 1976.
Gernet 1976 — Gernet L. Anthropologie de la Grèce antique2. P., 1976.
Gernet, Boulanger 1932 — Gernet L., Boulanger A. Le Génie grec dans la religion. P., 1932.
Gill 1976 - Gill С. The Origin of the Adantis Myth //Trivium. 1976. 11.
Gill 1977 - Gill C. The Genre of the Adantis Story // Classical Philology. 1977. 72.
Gill 1979 - Gill C. Plato and Politics: the Critias and the Politicus //Phronesis. 1979. 24.
Glotz, Cohen 1928 - Glotz G., Cohen R. Histoire grecque. IL La Grèce au Ve siècle. P., 1928.
Glotz, Cohen 1936 — Glotz G., Cohen R. Histoire grecque. III. La Grèce au IVe siècle. La lutte pour l'hégémonie (404-336). P., 1936.
Godelier 1969 — Préface // Sur les sociétés précapitalistes, textes choisis de Marx, Engels, Lénine / Éd. Godelier M. P., 1969.
Göttling 1854 — Göttling G. W. Das Kynosarges // Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft. 1854. 6; переизд.: Göttling G. W. Gesammelte Abhandlungen. II. München, 1863. Goldschmidt 1940 - Goldschmidt V. Essai sur le Cratyle. P., 1940.
Goldschmidt 1947 — Goldschmidt V Le Paradigme dans la dialectique platonicienne. P., 1947.
Goldschmidt 1948 — Goldschmidt V. Le Problème de la tragédie d'après Platon //Revue des études grecques. 1948. 59; переизд.: Goldschmidt V Questions platoniciennes. P., 1970.
Goldschmidt 1950 - Goldschmidt V Theologia // Revue des études grecques. 1950. 61; переизд.: Goldschmidt V. Questions platoniciennes. P., 1970.
Goldschmidt 1953 — Goldschmidt V. Temps historigue et temps logique dans l'interprétation des systèmes philosophiques // Actes du XIe Congrès international de philosophie. 1953. XII; переизд.: Goldschmidt V Questions platoniciennes, P., 1970.
Goldschmidt 1959 — Goldschmidt V. La Religion de Platon, P., 1959; переизд.: Platonisme et Pensée contemporaine. P., 1970.
Goldschmidt 1963 — Goldschmidt V Les Dialogues de Platon. Structure et méthode dialectique2. P., 1963.
Goldschmidt 1970 — Goldschmidt V. Platonisme et Pensée contemporaine. P., 1970.
Goldschmidt 1973 — Goldschmidt V. La Théorie aristotélicienne de l'esclavage et sa méthode // Mélanges E. de Strycker. Anvers, 1973.
Goldschmidt 1979 — Goldschmidt V. Le Système stoïcien et l'Idée de temps4. P., 1979. Gomme 1937 — Gomme A. W. Essays in Greek History and Literature. Oxford, 1937. Gomme 1945 — Gomme A. W. A Historical Commentary on Thucydides: In 5 vol. Oxford, 1945. Vol. I.
Gomme 1954 — Gomme A. W. Greek Attitude to Poetry and History. Berkeley, 1954.
Gomperz 1904—1910 — Gomperz Th. Les Penseurs de la Grèce: Histoire de la philosophie antique /Trad. A. Reymond: En 3 vol. P., 1904-1910.
Goossens 1962 — Goossens R Euripide et Athènes. Bruxelles, 1962. Gornatowski 1936 — Gornatowski A. Rechts und Links im antiken Aberglauben. Breslau, 1936.
Graf 1978 - Graf F. Die lokrische Mädchen // Studi storico-religiosi. 1978. 2.
Griffith 1955 — Griffith J. G. Three Notes on Herodotus Book II // Annales du Service des antiquités d'Egypte. 1955. 53.
Groningen 1946 — Groningen B. A. Van. Herodotos Historien. Commentaar. Leyden, 1946.
Groningen 1953 — Groningen B. A. Van. In the Grip of the Past. Essay on an Aspect of
Greek Thought. Leyden, 1953.
Grundy 1948 — Grundy G. Thucydides and the History of his Age. Oxford, 1948. Gschnitzer 1958 — Gschnitzer F. Abhängige Orte im griechischen Altertum. München, 1958.
Guarducci 1937—1938 — Guarducci M. L'Istituzione della fratria nella Grecia antica e nelle colonie greche d'Italia. I, II. Roma, 1937—1938; переизд.: Memorie della classe di sci-enze morali, storiche e filologiche delT Accademia dei Lincei. VI, 6; VI, 8, 2.
Guérin 1932 — Guérin P. L'Idée de justice dans la conception de l'univers chez les premiers philosophes grecs de Thaïes à Heraclite. P., 1932.
Habicht 1961a — Habicht Ch. Falsche Urkunden zur Geschichte Athens im Zeitalter der Perserkriege //Hermes. 1961. 59.
Habicht 19616 — Habicht Ch. Neue Inschriften aus dem Kerameikos // Athenische Mitteilungen. 1961. 76.
Halliay 1926 — Halliay W. R. Xanthos-Melanthos and the Origin of Tragedy // Classical Review. 1926. 40.
Hansen 1977 — Hansen W. F. Odysseus' Last Journey // Quaderni Urbinati di cultura clas-sica. 1977. 24.
Harrisson 1962 — Harrisson J. E. Themis. A Study of the Social Origins of Greek Religion. N. Y, 1962.
Harrison 1968 — Harrison A. R. W. The Law of Athens. I. The Family and Property. Oxford, 1968.
Hartog 1980 - Hartog F. Le Miroir d'Hérodote: Essai sur la représentation de l'autre. P., 1980.
Haussleiter 1935 - Haussleiter J. Der Vegetarismus in der Antike. Berlin, 1935.
Havelock 1957 - Havelock E. The Liberal Temper in Greek Politics. L., 1957.
Heidel 1937 - Heidel W. A. The Frame of the Ancient Greek Maps. N. Y., 1937.
Heiter 1928 - Herter H. Piatons Atlantis // Bonner Jahrbücher. 1928.
Herter 1936 - Herter H Theseus der Ionier // Rheinisches Museum. 1936. 85.
Herter 1939 - Herter H Theuseus der Athener // Rheinisches Museum. 1939. 88.
Herter 1969 - Herter H Urathen der Ideal Staat // Festschrift R. Stark. Wiesbaden, 1969; переизд.: Herter H. Kleine Schriften. München, 1975.
Hertz 1909 - Hertz R. La Prééminence de la main droite, étude sur la polarité // Revue philosophique. 1909; переизд.: Hertz R. Mélanges de sociologie religieuse et de folklore2. P., 1970.
Hill 1952 - Hill G. F. The Roman Middle Class. Oxford, 1952.
Hiller von Gaertringen 1919 - Hiller von Gaertringen F. Voreuklidische Steine // Sitzungsberichte Berlin. Berlin, 1919.
Hirvonen 1968 — Hirvonen К Matriarchal Survivals and Certain Trends in Homer's Female Characters. Helsinki, 1968.
Hitzig, Bluemner 1907-1910 - Hitzig H, Bluemner H. Das Pausanias Beschreibung von Griechenland. Leipzig, 1907-1910. III.
Hobsbawm 1965 - Hobsbawm E. J. Primitive Rebels: Studies in the Archaic Forms of Social Movement in the Nineteenth and Twentieth Centuries. N. Y., 1965; фр. Пер.:
Hobsbawm E. J. Les Primitifs de la révolte dans l'Europe moderne / Trad. R. Laars. P., 1966.
Hodgen 1936 - Hodgen M. T. The Doctrine of Survivals. A Chapter in the History of Scientific Method in the Study of Man. L., 1936.
Höpfner 1966 - Höpfner W. Herakleia Pontike-Eregli, Eine Baugeschichtliche Untersuchungen. Wien, 1966.
Homolle 1897 - Homolle Th. Topographie de Delphes // Bulletin de correspondance hellénique. 1897. 21.
Homolle 1898 - Homolle Th. Topographie du sanctuaire de Delphes // Bulletin de correspondance hellénique. 1898. 22.
Houtte 1953- Houtte M. Van. La Philosophie politique de Platon dans les Lois. Louvain, 1953.
Humphreys 1974 - Humphreys S. The Not hoi of Kynosarges //Journal of Hellenic Studies. 1974. 94.
Huxley 1966 - Huxley G. Troy VIII and the Locrian Maidens // Ancient Society and Institutions: Studies Presented to Victor Ehrenberg. Oxford, 1966.
Immerwahr 1855 - Immerwahr W. De Atalanta Diss. Berlin, 1855.
Jacoby FGrH - Die Fragmente der griechischen Historiker / Ed. Jacoby F: In 15 vol. Berlin; Leyden, 1923-1969.
Jacoby 1926 -Jacoby F. Griechische Geschichtschreibung //Die Antike. 1926; переизд.:
Jacoby F. Abhandlungen zur griechischen Geschichtschreibung. Leyden, 1956.
Jacoby 1945 - Jacoby F. Some Athenian Epigrams from the Persian Wars // Hesperia. 1945. 14; переизд.:
Jacoby F. Kleine Schriften. Berlin, 1961. I. Jacoby 1947 - Jacoby F. The First Athenian Prose Writer // Mnemosyne. 1947.
Jaeger 1945 -Jaeger W. Paideia: In 3 vol. / Transi, by G. Highet. N. Y., 1945.
Jaeger 1966 —Jaeger W. A la naissance de la théologie. Essai sur les présocratiques. P., 1966.
Jameson 1963 —Jameson M. H The Provision for Mobilization in the Decree of Themisto- cles//Historia. 1963. 12.
Jaulin 1967 -Jaulin R. La Mort sara. P., 1967.
Jeanmaire 1913 —Jeanmaire H La Cryptie lacédémonienne//Revue des études grecques. 1913. 26.
Jeanmaire 1939 -Jeanmaire H. Couroi et Courètes. Essai sur l'éducation Spartiate et les rites d'adolescence dans l'Antiquité hellénique. Lille; Paris, 1939.
Joly 1956 —Joly R. Le Thème philosophique des genres de vie dans l'Antiquité classique. Bruxelles, 1956.
Joly 1974 -Joly H. Le Renversement platonicien: Logos, Épistémè, Polis. P., 1974.
Kahil 1965 - Kahil L. G. Autour de ГArtémis attique // Antike Kunst. 1965. 8.
Kahil 1976 — Kahil L. G. Artémis attique // Comptes Rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 1976.
Kahil 1977 - Kahil L. G. L'Artémis de Brauron: rites et mystères //Antike Kunst. 1977. 20.
Kahn 1960 — Kahn Ch. Anaximander and the Origins of Greek Cosmology. N. Y., 1960. Kahn 1963 - Kahn Ch. Plato's Funeral Oration: the Motive of the Menexenus II Classical Philology. 1963. 58.
Kahn 1978 — Kahn L. Hermès passe, ou les ambiguïtés de la communication. P., 1978. Kahn 1980 - Kahn L. Ulysse, la Ruse et la Mort //Critique. 1980. 393.
Kahn, Loraux 1981 — Kahn L. Ulysse //Dictionnaire des mythologies. P., 1981. IL
Kahn 1981 - Kahn К, Loraux N. Mort // Dictionnaire des mythologies. P., 1981. IL
Karo 1909 — Karo G. En marge de quelques textes delphiques//Bulletin de correspondance hellénique. 1909. 33.
Kaspar 1943 - Kaspar К. Indianer und Urvölker nach Jos. Fr. Lafitau (1681-1746). Fri-bourg, 1943.
Kember 1971 - Kember 0. Right and Left in the Sexual Theories of Parmenides //Journal of Hellenic Studies. 1971. 91.
Kenner 1970 - Kenner H. Das Phänomen der Verkehrten in der griechisch-römischen Antike. Klagenfurt, 1970.
Kerenyi 1952 - Kerenyi K. II Dio Cacciatore //Dioniso. 1952. 15.
Kiechle 1963 — Kiechle Fr. Lakonien und Sparta. München; Berlin, 1963.
Kirchhoff 1869 - Kirchhoff A. Die Composition der Odyssee. Berlin, 1869.
Kirk 1954 — Kirk G. S. Heraclitus. The Cosmic Fragments. Cambridge, 1954.
Kirk 1962 - Kirk G. S. The Songs of Homer. Cambridge, 1962.
Kirk 1970 - Kirk G. S. Myth, its Meaning and Functions in Ancient and Other Cultures. Cambridge; Berkeley; Los Angeles, 1970.
Kirk, Raven 1957 — Kirk G. S., Raven J. E. The Presocratic Philosophers. Cambridge, 1957.
Kleingünther 1933 — Kleingünther A. Prôtos Heurétês: Untersuchungen zur Geschichte einer Fragestellung // Philologus. Suppl. Leipzig, 1933. 26.
Kluwe 1958 — Klnwe E. Das perikleische Kongressdekret, das Todesjahr des Kimon und seine Bedeutung für die Einordnung der Miltiadesgruppe in Delphi // Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock, Gesellsch, und Sprachwiss. 1958. 7-8.
Kobler 1932 - Kobler R. Der Weg des Menschen vom Links zum Rechtshänder. Wien, 1932.
Koch 1894 — Koch E. Lexiarchicon grammateion // Festschrift H. Lipsius. Leipzig, 1894.
Koechly 1835 — Koechly H. De Lacedaemoniorum Cryptia commentatio. Leipzig, 1835; переизд.: Koechly H. Opuscula philologica. Leipzig, 1881. I.
Kromayer, Veith 1926 — Kromayer J, Veith G. Schlachten-Atlas zur antiken Kriegsgeschichte. Leipzig, 1922. I; Leipzig, 1926. IV.
Kromayer, Veith 1928 — Kromayer J, Veith G. Heerwesen und Kriegführung der Griechen und Römer. München, 1928.
Kromayer, Veith 1931 — Kromayer J., Veith G. Antiken Schlachtfelder in Griechenland. Berlin, 1931. IV.
Kron 1976 - Krön U. Die Zehn attischen Phylenheroen: Geschichte, Mythos, Kult und Darstellung. Berlin, 1976.
Kurtz, Boardman 1971 - Kurtz D., Boardman J. Greek Burial Customs: Ithaca, 1971. Labarbe 1949 - Labarbe J. L'Homère de Platon. Liège, 1949.
Labarbe 1953 — Labarbe J. L'Age correspondant au sacrifice du koureion et les données historiques du sixième discours d'Isée // Bulletin de l'Académie royale de Belgique, classe des lettres. 1953. 39.
Labarbe 1957 - Labarbe J. La Loi navale de Thémistocle. P., 1957.
Labat 1939 - Labat R. Le Caractère religieux de la monarchie assyro-babylonienne. P., 1939.
Lafitau 1724 - Lafitau J. F. Moeurs des sauvages américains comparées aux moeurs des premiers temps: In 6 vol. P., 1724. Lammert 1919 - Lammert F. Katalogos // R. E. 1919. 10.
Lang 1896 - Lang A. Mythes, Cultes et Religion / Trad. L. Marillier: In 2 vol. P., 1896.
Lang 1969 - Lang M. Homer and Oral Technique // Hesperia. 1969. 38.
Laroche 1949 - Laroche E. Histoire de la racine пет en grec ancien. P., 1949. Lauffer 1979 - Lauffer S. Die Bergwerkssklaven von Laureion: In 2 vol. Wiesbaden, 1979.
Launey 1950 - Launey M. Resherches sur les armées hellénistiques: En 2 vol. P., 1950.
Leach 1961 - Leach E. Rethinking Anthropology. L., 1961; φρ. Пер.:
Leach Ε. Critique de l'anthropologie/Trad. D. Sperber, S. Thion. P., 1968.
Leach 1980 - Leach E. Frazer and Malinowcki: on the «Founding Fathers» // Current Anthropology. 7; φρ. пер.: Leach Ε. Frazer et Malinowcki / Trad. A. Lyotard-May //
L'Unité de autres essais. P., 1980.
Leach 1965 - Leach E. Claude Lévi-Strauss - Anthropologist and Philosopher//New Left Review. 1965. 34; φρ. пер.: Leach E. Cl. Lévi-Strauss anthropologue et philosophe / Trad. A. Lyotard-May // Raison présente. 1967. 3.
Leaf 1912 - Leaf W. Troy. A Study in Homeric Geography. L., 1912. Ledl 1914 - LedlA. Studien zur Älteren athenischen Verfassungsgeschichte. Heidelberg, 1914.
Le Goff, Le Roy-Ladurie 1971 - Le Goff J., Le Roy-Ladurie E. Melusine maternelle et défricheuse //Annales E. S. C. 1971. 26.
Le Goff, Vidal-Naquet 1979 - Le Goff Vidal-Naquet P. Lévi-Strauss en Brocéliande // Lévi-Strauss / Ed. R. Bellour, С. Clément P., 1979.
Legrand 1955 - Legrand Ph. E. Introduction à Hérodote2. P., 1955.
Lemay 1976 — Lemay E. Histoire de l'antiquité et découverte du nouveau monde chez deux auteurs du XVIIIe siècle // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. Oxford, 1976. 151-155.
Ленцман 1963 — Аенцман Я. А. Рабство в микенской и гомеровской Греции. М., 1963.
Lenschau 1941 - Lenschau Th. Phyleus//R. E. 1941. 20.
Lerat 1952 - Lerat L. Les Locriens de l'Ouest: En 2 vol. P., 1952.
Lévêque, Vidal-Naquet 1983 - Lévêque P., Vidal-Naquet P. Clisthène l'Athénien. Essai sur la représentation de l'espace et du temps dans la pensée politique grecque de la fin du VIe siècle à la mort de Platon3. P., 1983.
Lévi-Strauss 1962a - Lévi-Strauss Cl. La Pensée sauvage. P., 1962.
Lévi-Strauss 19626 - Lévi-Strauss Cl. Le Totémisme aujord'hui. P., 1962.
Lévi-Strauss 1964 - Lévi-Strauss Cl. Le Cru et le Cuit. P., 1964.
Lévi-Strauss 1966 - Lévi-Strauss Cl. Le Triangle culinaire // L'Arc. 1966. 26.
Lévi-Strauss 1971 - Lévi-Strauss Cl. L'Homme nu. P., 1971.
Lewis 1963 - Lewis D. M. Cleisthenes and Attica // Historia. 1963. 12.
Levinson 1953 - Levinson R. C. In Defense of Plato. Cambridge, Mass., 1953.
Lissarrague 1980 — Lissarrague F. Iconographie de Dolon le loup //Revue archéologique.
Lloyd 1963 - Lloyd G. E. R. Who is attacked in On Ancient Medicine? //Phronesis. 1963. 8.
Lloyd 1966 - Lloyd G. E. R. Polarity and Analogy. Two Types of Argumentation in Early Greek Thought. Cambridge, 1966.
Lloyd 1973 - Lloyd G. E. R. Right and Left in Greek Philosophy// Right and Left / Ed. R. Needham. 1973.
Lloyd 1979 - Lloyd G. E. R. Magic, Reason and Experience: Studies in the Origins and Development of Greek Science. Cambridge, 1979.
Loeff 1915 - Loeff A. R. Van der. De Oschophoriis//Mnemosyne. 1915.
Loewy 1897 - Loewy E. Sopra il Donario degli Ateniesi a Delphi // Studi italiani di filologia classica. 1897. 5.
Loewy 1900 -Loewy E. Zu Mitteilungen oben s. 144//Römische Mittelungen. 1900. 14.
Loraux 1973a - Loraux N. L'Interférence tragique // Critique. 1973. 317.
Loraux 19736 - Loraux N. Marathon ou l'histoire idéologique //Revue des études anciennes. 1973. 75.
Loraux 1975 - Loraux N. Hébe et Andreia. Deux versions de la mort du combattant athénien //Ancient Society. 1975. 6.
Loraux 1977 - Loraux N. La Belle Mort Spartiate // Ktèma. 1977. 2.
Loraux 1978a — Loraux N. Mourir devant Troie, tomber pour Athènes: De la gloire du héros à l'idée de la cité // Information sur les sciences sociales. 1978. 17.
Loraux 19786 — Loraux N Sur la race des femmes et quelques-unes de ses tribus //Arethu- sa. 1978. 11. 1-2.
Loraux 1979 — Loraux N L'Autochtonie: une topique athénienne: Le mythe dans l'espace civique //Annales E. S. C. 1979. 34.
Loraux 1980 - Loraux N Thucydide n'est pas un collègue // Quaderni di storia. 1980. Juillet — décembre. 12.
Loraux 1980-1981 - Loraux N. L'Acropole comique //Ancient Society. 1980-1981. 11-12. Loraux 1981a - Loraux N. Les Enfants d'Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes. P., 1981.
Loraux 19816 — Loraux N L'Invention l'Athènes. Histoire de l'oraison funèbre dans la «cité classique». La Haye; Berlin; Paris, 1981.
Lord 1960 - Lord A. B. The Singer of Taies. Cambridge, Mass., 1960.
Lotze 1959 - Lotze D. Métaxy éleuthérôn kai doulôn. Berlin, 1959.
Lotze 1962 - Lotze D. Zu den Woikees von Gortyn // Klio. 1962. 40. Louis 1945 - Louis P. Les Métaphores de Platon. P., 1945.
Lovejoy, Boas 1936 - Lovejoy A. 0, Boas G. Primitivism and Related Ideas in Antiquity. Baltimore, 1936.
Luccioni 1959 - LuccioniJ. Platon et la Mer //Revue des études anciennes. 1959. 61.
Luce 1969 - Luce J. V. The End of Adantis (in USA: Lost Adantis). L.; N. Y., 1969.
Luce Sources. - Luce J. V. The Sources and literary Form of Plato's Adantis Narrative // Adantis / Ed. E. S. Ramage.
Lugebil 1864-1872 - Lugebil K. Zur Geschichte der Staatsverfassung von Athen. Untersuchungen//Jahrbücher für klassische Philologie. 1864-1872. 5.
Luria 1932 — Luria S. Frauenpatriotismus und Sklavenemanzipation in Argos//Klio. 1932. 8.
Lyons 1963 - Lyons J. Structural Semantics: An Analysis of Part of the Vocabulary of Plato. Oxford, 1963.
Lyotard 1965 - Lyotard J.-F. Les Indiens ne cueillent pas les fleurs //Annales E. S. C. 1965. 20 (воспр. с доп.: Claude Lévi-Strauss / Ed. R. Bellour, C. Clément. P., 1979.
Maas 1889 - Maas E. Compte rendu de J. Toepffer: Attische Genealogie // Göttingische Gelehrte Anzeiger. 1889.
Manni 1963 - Mannt E. Le Locridi nella letteratura del III sec. А. С. // Mélanges A. Rostagni. Torino, 1963.
Manns 1888-1890 - Manns 0. Über die Jagd bei den Griechen. Progr. Cassel, 1888- 1890.
Mansfeld 1971 - Mansfeld J. The Pseudo-Hippocratic Tract Réri Hebdomadôn, chap. 1, 2 and Greek Philosophy. Assen, 1971.
Marett 1908 - Anthropology and the Classics / Ed. Marett R. Oxford, 1908.
Margarido 1971 — Margarido A. Proposiçôes teoricas para a leitura de textos iniciaticos // Correio do povo (Porto Alegre). 1971. 21, VIII.
Marienstras 1965 — Marienstras R. Prospero ou le Machiavélisme du bien // Bulletin de la Faculté des lettres de Strasbourg. 1965. 42.
Marinatos 1971 — Marinatos S. Some Words about the Legend of Atlantis. Athènes, 1971.
Marrou 1950 — Marrou H.-I. Rapport sur l'histoire de la civilisation: Antiquité // IXe Congrès international des sciences historiques. I. P., 1950.
Marrou 1965 - Marrou H.-I. Histoire de l'éducation dans l'Antiquité6. P., 1965.
Martin 1886 — Martin A. Les Cavaliers athéniens. P., 1886.
Martin 1841 — Martin T. H. Dissertation sur l'Atlantide // Études sur le Timée de Platon. I. P, 1841.
Marx 1969 - Marx K. Le Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte / Trad. fr. P., 1969.
Masson 1973 — Masson 0. Les Noms des esclaves dans la Grèce antique // Actes du Collogue 1971 sur l'esclavage. P., 1973.
Matarasso 1973 — Matarasso M. Robert Hertz, notre prochain: sociologie de la gauche et de la mort // L'Armée sociologique. 1973. 24.
Mathieu 1937 —Mathieu G. Remarques sur l'éphébie attique //Mélanges Desrousseaux. P., 1937.
Maurin 1975 — Maurin J. Remarques sur la notion de puer à l'époque classique // Bulletin de l'Association G.-Budé. 1975.
Maxwell-Stuart 1970 — Maxwell-Stuart P. G. Remarks on the Black Coats of the Ephebi // Proceedings of the Cambridge Philological Society. 1970. 196.
Mazon 1914 — Mazon P. Hésiode: Les Travaux et les Jours, édition nouvelle. P., 1914.
Mazzarino 1966 — Mazzarino S. Il Pensiero storico classico. Bari, 1966.
Meiggs, Lewis 1969 — Meiggs R., Lewis D. A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century В. C. Oxford, 1969.
Meillet 1955 — Meillet A. Aperçu d'une histoire de la langue grecque7. P., 1955.
Mêle 1968 — Mêle A. Società e Lavoro nei poemi omerici. Napoli, 1968.
Mercier 1971 — Mercier P. Histoire de l'anthropologie. P., 1971.
Meritt 1936 — Meritt B. D. Greek Inscriptions // Hesperia. 1936. 5.
Meritt 1962 - Meritt B. D. Greek Historical Studies. Cincinnati, 1962.
Merkelbach 1972 — Merkelbach R. Aglauros: Die Religion der Epheben // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 1972. 9.
Meuli 1921 — Meuli K. Odyssee und Argonautika. Berlin, 1921.
Meyerson 1956 — Meyerson L Le Temps, la mémoire et l'histoire //Journal de psychologie. 1956.
Michel 1950 - Michel P.-H. De Pythagore à Euclide: Contribution à l'histoire des mathématiques préeuclidiennes. P., 1950.
Mitchel 1975 - Mitehel F. W. The So-Called Earliest Ephebic Inscription // Zeitscrift für Papyrologie und Epigraphik. 1975. 19.
Momigliano 1931 — Momigliano A. Teopompo //Rivista di filologia e istruzione classica, 1931. 9: переизд. в: Terzo Contribute alla storia degli studi classici e del mondo anti-co, Roma, 1966. I.
Momigliano 1945 — Momigliano A. The Locrian Maidens and the Date of Lycophron's Alexandra // Classical Quarterly. 1945. 39 (переизд. с доп. в: Secondo contributo alla storia degli studi classici. Roma, 1960).
Momigliano 1975 - Momigliano A. Alien Wisdom: The Limits of Hellenization. Cambridge, 1975; фр. пер.: Momigliano A. Sagesses barbares: Les limites de l'hellénisation / Trad. M.-C. Roussel. P., 1979.
Momigliano 1966a — Momigliano A. Studies in Historiography, L., 1966.
Momigliano 19666 — Momigliano A. Time in Ancient Historiography // History and Theory, 1966. 6; переизд. в: Quarto Contributo alla storia degli studi classici nel mondo antico. Roma, 1969.
Mommsen 1898a — Mommsen A. Feste der Stadt Athen im Altertum. Leipzig, 1898.
Mommsen 18986 — Mommsen A. Die zehn Eponymen und die Reihenfolge der nach ihnen genannten Phylen Athens // Philologus. 1889. 47. Moreau 1939 - Moreau J. L'Ame du monde de Platon aux stoïciens. P., 1939.
Moreau 1955 — Moreau J. Compte rendu de Ch. Mugler, Deux Thèmes //Revue des études grecques. 1955. 68.
Morel 1964 — Morel J.-P. Pube praesenti in contione omni poplo // Revue des études latines. 1964. 42.
Morel 1969a — Morel J.-P. La Juventus et les Origines du tréâtre romain // Revue des études latines. 1969. 47.
Morel 19696 — Morel J.-P. Pantomimus allectus inter juvenes //Mélanges M. Renard. Bruxelles, 1969. II.
Morel 1976 — Morel J.-P. Sur quelques aspects de la jeunesse à Rome // Mélanges J. Heurgon. P., 1976.
Morenz 1957 — Morenz S. Rechts und Links im Totengericht // Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Altertumskunde. 1957.
Moret 1902 — Мог et A. Du caractère religieux de la royauté pharaonique. P., 1902. Morgan 1857 — Morgan L. H. Laws of Descent of the Iroquois // Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. 1857. 11. II.
Morgan 1877 — Morgan L H. Ancient Society. N. Y., 1877; фр. пер.: Morgan L. H. La Société archaïque /Trad, franc. P., 1971.
Morin 1965 — Morin E. Introduction à une politique de l'homme, suivi d'Arguments politiques. P., 1965.
Morrow 1939 — Morrow G. E. R. Plato's Law of Slavery in its Relation to Greek Law. Urbana, 1939.
Morrow 1954 — Morrow G. E. R. The Demiurge in Politics: the Timaeus and the Laws // Proceedings and Adresses of the American Philosophical Association. 1954. 27.
Morrow 1960 — Morrow G. E. R. Plato's Cretan City: A Historical Interpretation of the Laws. Princeton, 1960.
Moscovici 1968 — Moscovici S. Essai sur l'histoire humaine de la nature. P., 1968.
Mossé 1953— Mossé Cl. Sur un passage de l`Archidamos d'Isocrate //Revue des études anciennes. 1953. 55.
Mossé 1961 — Mossé CL Les Rôle des esclaves dans les troubles politiques du monde grec à la fin de l'époque classique // Cahiers d'histoire. 1961. 6.
Mossé 1962 - Mossé CL La Fin de la démocratie athénienne. P., 1962.
Mossé 1963 - Mossé CL Armée et Cité grecque (A propos de Thucydide, VII, 77, 4-5) // Revue des études anciennes. 1963. 65.
Mossé 1964a — Mossé Cl. Le Rôle de l'armée dans la révolution de 411 à Athènes // Revue historique. 1964. 231.
Mossé 19646 — Mossé Cl. Un tyran grec à l'époque hellénistique: Nabis, roi de Sparte // Cahiers d'histoire. 1964. 9.
Mossé 1967 — Mossé Cl. Les classes sociales à Athènes au IVe s. // Ordres et Classes. Colloque d'histoire sociale. Saint-Cloud. 1967. 24—25 mai / Ed. D. Roche. Paris; La Haye, 1973.
Mossé 1977 — Mossé Cl. Les Périèques lacédémoniens: A propos d'Isocrate, Panathénaïque, 177 et s. //Ktèma. 1977. 2.
Mossé Rôle politique — Mossé Cl. Le Rôle politique des armées dans le monde gres à l'époque classique // Problèmes de la guerre // Ed. J.-P. Vernant.
Motte 1973 — Motte A. Prairies et Jardins de la Grèce antigue: De la religion à la philosophie. Bruxelles, 1973.
Mugler 1953 — Mugler Ch. Deux Thèmes de la cosmogonie grecque: Devenir cyclique et pluralité des mondes. P., 1953.
Muehll 1940 - Muehll P. von der. Odyssee // R. E. Suppl. 1940. VII.
Mumford 1965 — Mumford L Utopia, the City and the Machine // Daedalus. 1965. 94.
Murakawa 1957 — Murakawa K. Demiourgos // Historia. 1957. 6.
Musti 1963 — Musti D. Sull'idea di syngeneia in iscrizioni greche // Annali della Scuola normale superiore di Pisa. 1963. 32.
Musti 1977 — Musti D. Sviluppo e Crisi di un oligarchia greca: Locri tra il VII e il IV sec. // Studi storici. 1977. 2.
Musti 1978 — Musti D. Per una richerca sul valore di scambio nel modo di produzione schiavistico // Istituto Gramsci. Analisi marxista e società antiche. Rome, 1978.
Myres 1953 — Myres J. L. Herodotus, Father of History. Oxford, 1953. Needham 1973 — Right and Left; Essays on Dual Symbolic Classification / Ed. Needham R. Chicago; London, 1973.
Nenci 1958 — Nenci G. Introduzione alle guerre persiane et altri saggi di storia antica. Pisa, 1958.
Neugebauer 1962 — Neugebauer 0. The Exact Sciences in Antiguity. N. Y., 1962.
Nicolet 1966—1974 — Nicolet Cl. L'Ordre équestre àl'épogue républicane (312-43 av.J—С): En 2 vol. P., 1966-1974.
Никитский 1913 — Никитский A. Aianteia // Журнал министерства народного просвещения (отдел по классической филологии). 1913. Январь—февраль. 43.
Nilsson 1911 — Nilsson M. Р. Der Ursprung der Tragödie // Neue Jahrbuch für das klassische Altertum. 1911.
Nilsson 1912 — Nilsson M. P. Die Grundlagen des Spartanischen Lebens //Klio. 1912. 12. переизд.: Nilsson M. P. Opuscula Selecta: In 2 vol. Lund, 1952.
Nilsson 1920 — Nilsson M. P. Primitive Time Reckoning. Lund, 1920.
Nilsson 1938 — Nilsson M. P. The New Inscription of the Salaminioi // American Journal of Philology. 1938. 59.
Nilsson 1953 — Nilsson M. P. Political Propaganda in Sixth Century Athens // Studies Presented to D. M. Robinson. Saint Louis, 1953. II.
Oliva 1961 — Oliva P. On the Problem of the Helots //Historica. Les Sciences historiques en Tchécoslovaquie. 1961. 3.
Onians 1953 — Onians R. B. The Origins of the European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate2. Cambridge, 1953.
Oppenheim 1964 — Oppenheim A. L. Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization. Chicago, 1964; фр. пер.: Oppenheim A. L. La Mésopotamie. Portrait d'une civilisation/Trad. P. Martory. P., 1970.
Orth 1914 - Orth F. Jagd // R. Ε. 1914. 9.
Overbeck 1868 — Overbeck J. Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen. Leipzig, 1868.
Owen 1953 — Owen G. E. L. The Place of Timaeus in Plato's Dialogues // Classical Quarterly. 1953. 47; переизд.: Studies in Plato's Metaphysics /Ed. R. E. Allen. L., 1965.
Page 1955 — Page D. The Homeric Odyssey. Oxford, 1955. Pallotino 1952 - Pallotino M. Adantide // Archeologia Classica. 1952. 4. Panoff 1972 - Panoff M. Bronislaw Malinowski. P., 1972.
Panofsky 1967 — Panofsky E. Essais d'iconologie / Trad. CI. Herbette, В. Teyssèdre. P., 1967.
Pareti 1920 — Pareti L. Storia di Sparta arcaica. I. Firenze, 1920.
Parke 1934 - Parke H W. Greek Mercenary Soldiers. Oxford, 1934.
Parry 1966 — Parry A. Have we Homer's Iliad? // Yale Classical Studies. 1966. 20.
Patzig 1890 — Patzig Ε. De Nonnianis Commentariis. Progr. Leipzig, 1890.
Paulhan 1953 — Paulhan J. La Preuve par l'étymologie. P., 1953.
Paulmier de Grentemesnil 1768 — Paulmier de Grentemesnil J. Le (Palmerius). Exercitationes in optimos fere auctores Graecos. Ley den, 1768.
Pearson 1917 — Pearson А. С. The Fragments of Sophocles: In 3 vol. Cambridge, 1917. Pease 1937 - Pease A. S. Ölbaum // R. E. 1937. 17.
Pélékidis 1962 — Pélékidis С. Histoire de l'éphébie attique, des origines à 31 avant Jésus-Christ. P., 1962.
Pembroke 1965 — Pembroke S. G. Last of the Matriarchs: a Study in the Inscriptions of Lycia //Journal of the Economic and Social History of the Orient. 1965. 8.
Pembroke 1967 — Pembroke S. G. Women in Charge: the Function of Alternatives in Early Greek Tradition and the Ancient Idea of Matriarchy //Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1967. 30.
Pembroke 1970 — Pembroke S. G. Locres et Tarente: Le rôle des femmes dans la fondation de deux colonies grecques //Annales E. S. C. 1970. 25.
Pembroke 1979 - Pembroke S. G. The Early Human Family: Some Views 1770-1870 // Classical Influences on Western Thought A. D. 1650-1870. / Ed. R. R. Bolgar. Cambridge, 1979.
Pépin 1953 — Pépin J. A propos du symbolisme de la mer chez Platon et dans le néoplatonisme // Congrès de l'Association Guillaume-Budé. Tours; Poitiers, 1953.
Petersen 1891 — Petersen E. Griechische Bronze //Römische Mitteilungen. 1891. 6.
Petersen 1901 — Petersen E. Die marathonische Bronzegruppe des Pheidias//Römische Mitteilungen. 1901. 14.
Petre 1978 — Petre Z. Eschule, Salamine et les Epigrammes de Marathon // Revue roumaine d'histoire. 1978. 17.
Petre 1979a — Petre Z. Trophonios ou Γ Architecte. A propos du statut des techniciens dans la cité grecque // Studii Classice. 1979. 18.
Petre 19796 — Petre Z. Un âge de la représentation; artifice et image dans la pensée gnecque du VIe s. av. notre ère //Revue roumaine d'histoire. 1979. 18.
Philippson 1936 — Philippson P. Genealogie als Mythischeform, Studien zur Théogonie des Hesiod // Symbolae osloenses. Fase, suppl. VII. 1936; переизд.: Philippson P. Untersuchungen über den griechischen Mythos. Basel, 1944.
Picard 1931 — Picard Ch. Les Luttes primitives d'Athènes et l'Eleusis //Revue historigue. 1931. 166. 1.
Picard 1939 — Picard Ch. Manuel d'archéologie grecque: Sculpture. P., 1939. II. 1.
Picard 1940 — Picard Ch. Représentation d'une école de philosophie à Athènes //Revue archéologique. 1940. 16.
Picard 1945 — Picard Ch. Chez le marchand d'huile, le maître charpentier ou le philosophe // Revue archéologique. 1945. 23.
Piérart 1974 — Piérart M. Platon et la Cité grecque: Théorie et réalité dans la constitution des Lois. Bruxelles, 1974.
Pippidi 1969 — Pippidi D. M. Luttes politiques et troubles sociaux à Héraclée du Pont à l'époque classique //Studii Classice. 1969. 11.
Plassart 1913 — PlassartA. Les Archers d'Athènes //Revue des études grecques. 1913. 26. Pleket 1969 —Pleket H. W. Collegium Juvenum Nemesiorum: A Note on Ancient Youth Organisation //Mnemosyne. 1969. 22.
Podlecki 1966 — Podlecki A. J. The Political Background of Aeschylean Tragedy. Ann Arbor, 1966.
Poliakov 1971 - Poliakov L. Le Mythe aryen. P., 1971.
Pomtow 1902 — Pomtow H. Vortrag über die athenischen Weihgeschenke in Delphi // Archäologischer Anzeiger. 1902.
Pomtow 1908 — Pomtow H. Studien zu den Weihgeschenken und der Topographie von Delphi, // Klio. 1908. II. 8. Pomtow 1924 - Pomtow H. Delphoi // R. E. 1924. IV.
Popper 1966 — Popper K. R. Open Society and Its Enemies. The Spell of Plato.
Princeton, 1966.1; переизд.: Popper K. R. La Cité ouverte et ses ennemis / Trad. J. Bernard, Ph. Monod. I. L'Ascendant de Platon. P., 1979.
Posner 1960 - Posner G. De la divinité du Pharaon. P., 1960.
Pouilloux, Roux 1963 — Pouilloux J., Roux G. Enigmes à Delphes. P., 1963.
Poulsen 1908 — Poulsen F. La Niche aux offrandes de Marathon // Bulletin de l'Académie royale des sciences et des lettres de Danemark. 1908.
Préaux 1966 — Préaux Cl. De la Grèce classique à l'Egypte hellénistique: Les troupeaux immortels et les esclaves de Nicias // Chronique d'Egypte. 1966. 41.
Pritchett 1960 - Pritchett W. K. Marathon. Berkeley, 1960.
Pritchett 1965a — Pritchett W. K. Marathon Revisited // Studies in Ancient Greek Topography. Berkeley; Los Angeles, 1965.
Pritchett 19656 — Pritchett W. K. Studies in Ancient Greek Topography. I. Berkeley; Los Angeles, 1965.
Pritchett 1979 - Pritchett W. K. The Greek State at War: In 3 vol. Berkeley; Los Angeles, 1974-1979.
Propp 1970 — Propp V. Morphologie du conte // Les Transformations du conte merveilleux/Trad. M. Deridda, T. Todorov, C. Kahn. P., 1970.
Pucci 1977 — Pucci P. Hesiod and the Language of Poetry. Baltimore; London, 1977.
Pucci 1979 - Pucci P. The Song of the Sirens // Arethusa. 1979. 12. 2.
Puech 1951a — Puech H. Ch. La Gnose et le Temps //Eranos Jahrbuch. 1951. 20; переизд.: Puech H. Ch. En quête de la gnose. I.
Puech 19516 —Puech H. Ch. Temps, Histoire et Mythe dans le christianisme des premiers siècles // Proceedings of the Seventh Congress for the History of Religions. Amsterdam, 1951; переизд.: Puech H. Ch. En quête de la gnose. P., 1978. I.
Radke 1936 — Radke G. Die Bedeutung der weissen und der schwarzen Farbe im Kult und Brauch der Griechen und Römern. Diss. Berlin, 1936.
Ramage 1978a — Atlantis: Fact or Fiction? / Ed. E. S. Ramage Bloomington; L., 1978.
Ramage 19786 — Ramage E. S. Perspectives Ancient and Modem / Ed. E. S. Ramage. Atlantis. 1978.
Randall 1953 — Randall R. H., Jr. The Erechtheum Workmen // American Journal of Archaeology. 1953. 57.
Raubitschek 1949 — Raubitschek A. E. Dedications from the Athenian Akropolis. Cambridge, Mass., 1949.
Raven 1948 — Raven J. E. Pythagoreans and Eleatics. Cambridge, 1948.
Rawson 1969 — Rawson E. The Spartan Tradition. Oxford, 1969.
R. E. 1894 — Realencyclopädie der classichen Altertum Wissenschaft / hg. Α. F. Pauly, G. Wissova, W. Kroll. Stuttgart, 1894.
Reinach 1914 — Reinach A. J. L'origine de deux légendes homériques, I: Le viol de Cassandre // Revue de l'histoire des religions. 1914. 69.
Reinmuth 1955 — Reinmuth 0. W. The Ephebic Inscription Athenian Agora, I, 286 // Hesperia. 1955. 24.
Reinmuth 1971 — Reinmuth 0. W. The Ephebic Inscriptions of the Fourth Century В. С. Leyden, 1971.
Rémondon 1964— Rémondon R. Problèmes de bilinguisme dans l'Egypte lagide (U. P. Z., I, 148) // Chronique d'Egypte. 1964. 39.
Reverdin 1945 — Rêver din О. La Religion de la cité platonicienne. P., 1945. Rey 1933 — Rey A. La Jeunesse de la science grecque. P., 1933.
Richter 1968 — Richter W. De Landwirtschaft im Homerischen Zeitalter. Göttingen, 1968.
Ricoeur 1963 — Ricoeur P. Structure et Herméneutique // Esprit, nov. 1963.
Riemann 1956 — Riemann H. Hippothontis//R. E. Suppl. 1956. VIII. RIJ — Dareste R., Haussoullier B.y Reinach Th. Recueiel des inscriptions juridiques grecques: In 2 vol. P., 1894-1904.
Ritter 1910 — Ritter С. Neue Untersuchungen über Plato. Tübingen, 1910.
Robert 1895 - Robert C. Die Marathonschlacht in der Poikile. Halle, 1895.
Robert 1923 - Robert C. Criechische Heldensage. Berlin, 1923. II.
Robert 1944 — Robert F. Compte rendu de J. Cuillandre, Droite et Gauche // Revue archéologique. 1944. 22. 2.
Robert 1950 - Robert F. Homère. P., 1950.
Robert. Bulletin — Robert J., L. Bulletin épigraphique (сноски отсылают к году публикации) в «Revue des études grecques» и к номеру по классификации, принятой авторами).
Robert 1939 — Robert L. Etudes épigraphiques et philologiques. P., 1939.
Robert 1940 — Robert L. Amphithalès // Athenian Studies Presented to W. S. Ferguson. Cambridge, Mass., 1940; переизд.: Robert L. Opera minora selecta. I. Amsterdam, 1969.
Robert 1940-1965 - Robert L. Hellenica. P., 1940-1965.
Robert 1959 — Robert L. Compte rendu de A. Rehm et R. Harder, Didyma, 2 Teil. Die Insschriften. Berlin, 1958 // Gnomon. 1959; переизд.: Robert L. Opera minora selecta. Amsterdam, 1969. III.
Robert 1960 — Robert L. Inscriptions de Lesbos //Revue des études anciennes. 1960. 62; переизд.: Robert L. Opuscula minora selecta. Amsterdam, 1969. II.
Robert 1962 - Robert L. Villes d'Asie Mineure2. P., 1962.
Robert 1966 — Robert L. Monnaies antiques en Troade. P., 1966.
Robert 1980 — Robert L. A travers l'Asie mineure, poètes et prosateurs, monnaies grecques, voyageurs et géographie. Athènes; P., 1980.
Robin 1916 — Robin L. Sur la conception épicurienne du progrès // Revue de métaphysique et de morale. 1916; переизд.: Robin L. La Pensée hellénique des origines à Epicure. P., 1942.
Robin 1935 - Robin L. Platon. P., 1935.
Robinson 1931 — Robinson D. M. Bouzyges and the First Plough on a Krater of the Painter of the Naples Hephai'stos // American Journal of Archaeology. 1931. 35.
Rodier 1911 — Rodier G. Note sur la politique d'Antisthène: le mythe du Politique // Année philosophique. 1911; переизд.: Rodier G. Etudes de philosophie grecque. P., 1926.
Rhode 1928 — Rhode E. Psyché. Le culte de l'âme chez les Grecs et leur croyance en l'immortalité /Trad. A. Reymond. P., 1928.
Rolley 1965 — Rolley Cl. Le Sanctuaire des dieux Patrôoi et le Thesmophorion de Thasos // Bulletin de correspondance hellénique. 1965. 89.
Romilly 1956 — Romilly J. de. Histoire et Raison chez Thucydide. P., 1956.
Romilly 1966 — Romilly J. de. Thucydide et l'Idée du progrès // Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Série II. 1966. 25.
Romilly 1975 — Romilly J. de. Cycles et cercles chez les auteurs grecs de l'épogue classique // Mélanges Cl. Préaux. Bruxelles, 1975.
Rose 1931 - Rose H. J. A Handbook of Greek Literature. L., 1931.
Rosellini, Said 1978 — Rosellini M., Said S. Usages de femmes et autres Nomoi chez les sauvages d'Hérodote // Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Série Ш. 1978. 8.
Roussel 1921 — Roussel P. Compte rendu de A. Brenot, Recherches sur Véphébie attidue et en particulier sur la date de Vinstitution (P., 1920) // Revue des études grecques. 1921.
Roussel 1941 — Roussel P. Les Chlamydes noires des éphèbes athéniens // Revue des études anciennes. 1941. 43.
Roussel 1951 — Roussel P. Essai sur le principe d'ancienneté dans le monde hellénique du Ve siècle avant Jésus-Christ à l'épogue romaine // Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 1951 (1941). 43. 2.
Roussel 1960 - Roussel P. Sparte2. P., I960.
Roussel 1976 — Roussel D. Tribu et Cité. Etudes sur les groupes sociaux dans les cités gracgues aux époques archaïque et classique. P., 1976.
Rudbeck 1679—1702 — Rudbeck 0. Adand eller Manheim — Adantica sive Manheim: In 4 vol. Uppsala, 1679-1702.
Rudberg 1956 — Rudberg G. Platonica Selecta. Stockholm, 1956. Rudhardt 1958 — Rudhardt J. Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grèce classique. Genève, 1958.
Ruschenbush 1958 — Ruschenbush E. Patrios Politeia: Theseus, Drakon, Solon und Kleis- thenes in Publizistik und Geschichts-schreibung des 5 und 4. Jahrhunderts ν. Chr. // Historia. 1958. 7.
Rüstow, Koechly 1852 — Rüstow W., Koechly H. Geschichte der griechischen Kriegswesen. Aarau, 1852.
Said 1979 — Said S. Les Crimes des prétendants, la maison d'Ulysse et les banquets de l`Odyssée // Cahiers de l'École normale supérieure. 1979.
Sainte-Croix 1975 — Sainte-Croix G. E. M. de. Karl Marx and the History of Classical Antiquity //Arethusa. 1975. 8.
Sakellariou 1958 — Sakellariou M. La Migration grecque en Ionie. Athènes, 1958. Santillana, Pitts 1951 — Santillana G. de, Pitts W. Philolaos in Limbo or what happened to the Pythagoreans //Isis. 1951. 42.
Sauer 1889 — Sauer В. W. Die Anfänge der statuarischen Gruppe. Diss. Leipzig, 1889. Saunders 1982 — Saunders T. J. Artisans in the city-planning of Plato's Magnesia //BISC. 1982. XXIX.
Sauppe 1846 — Sauppe H. De demis urbanis Athenarum. Leipzig, 1846.
Schaerer 1948 — Schaerer R. La question platonicienne. Neuchâtel, 1948.
Schaerer 1953 — Schaerer R. L' Itinéraire dialectique des Lois et sa signification philosophique // Revue philosophique. 1953. 143.
Schaerer 1958 — Schaerer R. L' Homme antique et la Structure du monde intérieur. P., 1958.
Schefold 1946 — Sehe fold К. Kleisthenes. Der Anteil der Kunst an der Gestaltung des jungen attischen Freistaates // Museum Helveticum. 1946.
Schmitt 1977— Schmitt P. Athéna Apatouria et la Ceinture. Les aspects féminins des Apatouries à Athènes // Annales E. S. C. 1977. 32.
Schmitt 1979 — Schmitt P. Histoire de tyran ou Comment la cité greegue construit ses marges // Les Marginaux et les Exclus dans l'histoire / Ed. B. Vincent. P., 1979.
Schmitt, Bengtson 1969 — Schmitt H., Bengtson H. Die Staatsverträge des Altertums / Hg. H. H. Schmitt: Die Verträge der griechischrömischen Welt von 338 bis 200 v. Chr. München, 1969. III.
Schmitz-Kahlmann 1939 — Schmitz-Kahlmann G. Das Beispiel der Geschichte im politischen Denken des Isokrates // Philologus. Leipzig, 1939. 31.
Schnapp 1973a — Schnapp A. Les Représentations de la chasse dans les textes littéraires et la céramique. Thèse de 3e cycle. P., 1973.1.
Schnapp 19736 — Schnapp A. Représentation du territoire de guerre et du territoire de chasse dans l'œuvre de Xénophon // Problèmes de la terre en Crèce ancienne / Éd. M. I. Finley. La Haye; Paris, 1973.
Schnapp 1979 — Schnapp A. Pratiche e Immagini di caccia nella Grecia antica //Dialoghi di Archeologia. N. S. 1979. 1.
Schnapp-Gourbeillon 1981 — Schnapp-Gourbeillon, Annie. Lions, héros, masgues: Les représentations de ranimai chez Homère. P., 1981.
Schuhl 1932 — Schuhl P.-M. Sur le mythe du Politique // Revue de métaphysique et de morale, 1932; переизд.: Schuhl P.M. La Fabulation platonicienne. P., 1947.
Schuhl 1946 — Schuhl P.-M. Platon et la prééminence de la main droite // Cahiers internationaux de sociologie. 1946; переизд.: Schuhl P.M. Le Merveilleux, la Pensée et l'Action. P., 1952.
Schuhl 1949a — Schuhl P.M. Essai sur la formation de la pensée grecque2. P., 1949.
Schuhl 19496 — Schuhl P.-M. Platon et la prééminence de la main droite // Cahiers internationaux de sociologie. 1949.
Schuhl 1960 — Schuhl RM. Épaminondas et la Manibuvre par la gauche // Revue philosophique. 1960. 150.
Schwyzer 1928 — Schwyzer E. Zum Edid der Drerier // Rheinisches Museum. 1928. 77.
Scranton 1949 — Scranton R. L. Lost Adantis found again? // Archaeology. 1949. 2. Segal 1962 — Segal Ch. P. The Phaeacians and the Symbolism of Odysseus' Return //Arion. 1962. 1. 4.
Segal 1964 — Segal Ch. P. Sophocles' Praise of Man and the Conflict of the Antigone // Arion. 1964. 3. 2.
Segal 1967 — Segal Ch. P. Transition and Ritual in Odysseus' Return// La Parola del pas-sato. 1967. 116.
Segal 1968 — Segal Ch. P. Circean Temptations: Homer, Vergil Ovid //Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1968. 99.
Severyns 1938 — Severyns A. Recherches sur la Chrestomathie de Proclus. P., 1938. II.
Shear 1976 — Shear T. L, Jr. The Monuments of the Eponymous Heroes in the Athenian Agora // Hesperia. 1976. 39.
Shimron 1966 — Shimron B. Nabis of Sparta and the Helots // Classical Philology. 1966. 61.
Siegel 1960 — Siegel R. Ε. On the Relation between Early Greek Scientific Thought and Mysticism: Is Hestia, the Central Fire, an Abstract Astronomical Concept? // 1960. Janus. 49.
Siewert 1977 — Siewert P. Ephebic Oath in Fifth Century Athens //Journal of Hellenic Studies. 1977. 97.
Simon 1960 — Simon E. Réveil national et culture populaire en Scandinavie: La genèse de la hpjskole nordique 1844-1978. P., 1960.
Simon 1963 — Simon E. Polygnotan Painting and the Niobid Painter //American Journal of Archaeology. 1963. 67.
Snodgrass 1977 — Snodgrass A. M. Archaeology and the Rise of the Greek State. Cambridge, 1977.
Société et Colonisation eubéennes — Contribution à l'étude de la société et de la colonisation eubéennes // Cahiers du Centre Jean-Bérard. Napoli, 1975. II.
Sofri 1969 — Sofri G. Modo di produzione asistico, Storia di una contra versia marxista. Torino, 1969.
Sokolowski 1962 — Sokolowski F. Lois sacrées des cités gracques. Supplément. P., 1962.
Sokolowski 1969 — Sokolowski F. Lois sacrées des cités gracques. P., 1969.
Sordi 1972 — Sordi M. Propaganda politica e senco religioso nell' azione di Epaminon-da // Propaganda e Persuasione occulta nell' antichità / Ed. M. Sordi. Milano, 1972.
Sourvinou-Inwood 1971a — Sourvinou-Inwood Chr. Aristophanes, Lysistrata, 641—647 // Classical Quarterly. 1971. 21.
Sourvinou-Inwood 19716 — Sourvinou-Inwood Chr. Compte rendu de A. Brelich, Paides e Parthenoi //Journal of Hellenic Studies. 1971. 91.
Sourvinou-Inwood 1971в — Sourvinou-Inwood Chr. Theseus lifting the Rock and a Cup near the Pithos Painter //Journal of Hellenic Studies. 1971. 91.
Sourvinou-Inwood 1974 — Sourvinou-Inwood Chr. The Votum of 477/6 В. C. and the Foundation Legend of Locri Epizephyrii // Classical Quarterly. 1974. 24. 2.
Spahn 1977 - Spahn D. Mittelschicht und Polisbildung. Francfurt, 1977.
Sprague de Camp 1954 — Sprague de Camp P. Lost Continents: the Atlantis Theme in History and Literature. Ν. Y., 1954.
Stanford 1954 — Stanford W. B. The Ulysses Theme: A Study in the Adaptability of a Traditional Hero. Oxford, 1954.
Stevens, Raubitschek 1946 — Stevens G. P., Raubitschek A. E. The Pedestal of the Athena Promachos //Hesperia. 1946. 15.
Strauss-Clay 1980 - Strauss-Clay J. Classical Quarterly. 1980. 30. 2. December.
Strauss-Clay 1983 — Strauss-Clay J. The Wrath of Athena: Gods and Men in the Odyssey. Princeton, N.J., 1983.
Stroud 1971 — Stroud R. S. Theozotides and the Athenian Orphans //Hesperia. 1971. 40.
Svenbro 1976 — Svenbro J. La Parole et le Marbre: Aux origines de la poétique grecque. Lund, 1976.
Svenbro 1980 — Svenbro J. L'idéologie gothisante et YAtlantica d'Olof Rudbeck // Quadern! di Storia. 1980. 11.
Swoboda 1905 — Swoboda H. Epameinondas // R. E. 1905. 5.
Taillardat 1965 — Taillardat J. Les Images d'Aristophane2. P., 1965.
Tannery 1904 — Tannery P. A propos des fragments philolaïques sur la musique // Revue de philologie. 1904; переизд.: Tannery P. Mémoires scientifiques. P., 1915. III.
Taylor 1928 — Taylor Α. Ε. A Commentary of the Timaeus. Oxford, 1928.
Terres et Paysans 1979 — Terres et Paysans dépendants dans les sociétés antiques. P.: Centre de recherches d'histoire ancienne de Besançon. 1979.
Thompson, Wycherley 1972 — Thompson H. Α., Wycherley R. E. The Athenian Agora, XIV: The Agora of Athens // The History, Shape and Uses of an Ancient City Center. Princeton, 1972.
Thomson 1941 — Thomson G. Aeschylus and Athens. L., 1941. 2.
Thomson 1961 — Thomson G. The First Philosophers. L., 1961; фр. пер.: Thomson G. Les Premiers Philosophes / Trad. M. Chariot. P., 1973.
Tigerstedt 1965 — Tigerstedt E. N. The Legend of Sparta in Classical Antiquity. Stockholm; Göteborg; Uppsala, 1965.
Timpanaro Cardini 1946 — Timpanaro Cardini M. Il Cosmo di Filolao //Rivista di storia délia filosofia. 1946. 1.
Timpanaro Cardini 1958 — Timpanaro Cardini M. Pitagorici: Testimonianze e Frammenti. Firenze, 1958. II.
Tod 1948 — Tod M. N. A Selection of Greek Historical Inscriptions: In 2 vol. Oxford, 1948.
Todorov 1967 - Todorov T. Le Récit primitif//Tel quel. 1967. 30.
Toepffer 1889 - Toepffer J Attische Genealogie. Berlin, 1889.
Toepffer 1895 — Toepffer J. Das attische Gemeindebuch // Hermes. 1895. 30.
Toynbee 1969 — Toynbee A. J. Some Problems of Greek History. Oxford, 1969.
Travlos 1971 — Travlos J. Bildlexikon zur Topographie des antiken Athen. Tübingen, 1971.
Treves 1942 — Treves P. The Meaning of consenesco and King Arybbas of Epirus //American Journal of Philology. 1942. 63.
Triantaphyllopoulos 1971 — Triantaphyllopoulos J. Varia graeco-romana. Ill //Flores leg-um H.J. Scheltema antecessori Grononganae oblati. Groningen, 1971.
Trumpf 1960 - Trumpf J. Kydonische Äpfel // Hermes. 1960. 88.
Tylor 1871 - TylorE. B. Primitive Culture. L., 1871; фр. пер.: Ту lor Ε. В. La Civilisation primitive / Trad. P. Brunet et Α. Barbier: En 2 vol. P., 1876.
Usener 1898 — Usener H. Göttliche Synonyme // Rheinisches Museum. 1898.
Usener 1904 — Usener H. Heilige Handlung //Archiv für Religionswissenschaft. 1904. 7.
Valenza Meie 1977 — Valenza Meie N. Hera ed Apollo nella Colonizzazione euboica d'Occidente//Mélanges de l'École française de Rome. 1977. 89.
Vallet 1958 - Vallet G. Rhégium et Zancle. P., 1958.
Vanderpool 1966 — Vanderpool Ε. A Monument to the Battle of Marathon // Hesperia. 1966. 35.
Vernant 1968 — Vernant J.-P. La Guerre des cités // Problèmes de la guerre en Grèce ancienne. Paris; La Haye, 1968. Introduction; переизд.: Vernant J.-P. Mythe et Société.
Vernant 1974 — Vernant J.-P. Mythe et Société en Grèce ancienne. P., 1974.
Vernant 1981a — Vernant J.-P. Les Origines de la pensée grecque4. P., 1981.
Vernant 19816 - Vernant J.-P. Mythe et Pensée chez les Grecs6: En. 2 vol. P., 1981. Vol. 1.
Vernant 1981b - Vernant J.-P. Mythe et Pensée chez les Grecs6: En. 2 vol. P., 1981. Vol. 2.
Veyne 1971 — Veyne P. Comment on écrit l'histoire. P., 1971.
Vian 1963 — Vian F. Les Origines de Thèbes: Cadmos et les Spartes. P., 1963.
Vian Fonction guerrière — Vian F. La Fonction guerrière dans la mythologie grecque // Problèmes de la guerre /Ed. J.-P. Vernant.
Vidal-Naquet 1964 — Vidal-Naquet P. Avant-propos // Wittfogel K. A. Le Despotisme oriental / Trad. Anne Marchand. P., 1964.
Vidal-Naquet 1965 — Vidal-Naquet P. Economie et Société en Grèce ancienne: l'œuvre de Moses I. Finley //Archives européennes de sociologie. 1965. 6; переизд.:
Vidal-Naquet P. La démocratie grecque vue d'ailleurs. P., 1990).
Vidal-Naquet 1971 — Vidal-Naquet P. Le Philoctete de Sophocle et l'Ephébie //Annales E. S. C. 1971. 26; переизд.: Vernant J.P., Vidal-Naquet P. Mythe et Tragédie en Grèce ancienne4. P., 1979.
Vidal-Naquet 1982 - Vidal-Naquet P. Hérodote et l'Atlantide: entre les Grecs et les Juifs: Réflexions sur l'historiographie du siècle des lumières // Quaderni di Storia. 1982. Juillet — décembre 16.
Vincent 1940 — Vincent A. Essai sur le sacrifice de communion des rois atlantes // Mémorial Lagrange. P., 1940.
Vlastos 1947 — Vlastos G. Equality and Justice in Early Greek Cosmology // Classical Philology. 1947. 42.
Vries 1953 — Vries G. J. de. Antisthenes Redivivus, Popper's Attack on Plato. Leyden, 1953.
Vürtheim 1907 — Viirtheim J. De Aiacis origine, cultu, patria. Leyden, 1907.
Wachsmuth 1844 — Wachsmuth W. Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkt des Staats. Halle, 1844. 2.
Wachtel 1971 — Wachtel W. Pensée sauvage et Acculturation: l'espace et le temps chez Felipe Guaman Roma de Ayala et l'Inca Garcilaso de la Vega //Annales E. S. C. 1971. 26.
Wade-Gery 1958 - Wade-Gery H. T. Essays in Greek History. Oxford, 1958. Walbank 1967 - Walbank F. W. A Historical Commentary to Polybius. Oxford, 1967. II.
Walbank 1981 - Walbank F. W. Artemis Bear Leader // Classical Quarterly. 1981. 31.
Wallon 1850 — Wallon H. Explication d'un passage de Plutarque sur une loi de Lycurgue nommée la Cryptie. P., 1850.
Weber 1966 - Weber M. The City //Trad, by D. Martindale, G. Neuwirth. N. Y.; L., 1966.
Weil 1959 - Weil R. L' Archéologie de Platon. P., 1959.
Welliver 1977 — We Hiver W. Character, Plot and Thought in Plato's Timaeus-Critias. Leyden, 1977.
Welwei 1974 — Welwei K. W. Unfreie im antiken Kriegdienst. Wiesbaden, 1974. West 1971 - West M. L. Early Greek Philosophy and the Orient. Oxford, 1971.
Whitehead 1977 — Whitehead D. The Ideology of the Athenian Metic. Cambridge, 1977.
Wicherley 1957 — Wie her ley R. E. The Athenian Agora. Princeton, 1957. III.
Wiedemann 1880 — Wiedemann A. Geschichte Aegyptens von Psammetik I bis auf Alexander den Grossen. Leipzig, 1880.
Wilamowitz 1886 — Wilamowitz. Oropos und die Graer//Hermes. 1886. 21.
Wilamowitz 1893 — Wilamowitz. Aristoteles und Athen. Berlin, 1893. 2.
Wilamowitz 1916 — Wilamowitz. Die Ilias und Homer. Berlin, 1916.
Wilamowitz 1920 - Wilamowitz. Platon. Berlin, 1920. 2.
Wilamowitz 1927 — Wilamowitz-Möllendorf V. von (=Wilamowitz). Aristophanes Lysistrata. Berlin, 1927.
Wilcken 1933 - Wilcken U. Alexandre le Grand/Trad. R. Bouvier. Ρ, 1933.
Wilhelm 1911 — Wilhelm A. Die lokrische Ma:dcheninschrift//Jahreshefte des Oesterre- ichischen Archaeologischen Instituts in Wien. 1911. 14.
Wilhelm 1934 — Wilhelm A. Untersuchungen zu Xenophous Poroi// Wiener Studien. 1934. 52.
Will 1955 — Will Ed. Korinthiaka: Recherches sur l'histoire et la civilisation de Corinthe des origines aux guerres médiques. P., 1955.
Will 1956 — Will Ed. Doriens et Ioniens: Essai sur la valeur du critère ethnique appliqué à l'étude de l'histoire et de la civilisation grecque. P., 1956. Will 1972 - Will Ed. Le Monde grec et l'Orient. P, 1972.1.
Will 1979 — Will Ed. Histoire politique du monde hellénistique. I2. Nancy, 1979.
Willetts 1955 - Willetts R. F Aristocratie Society in Crete. L., 1955.
Willetts 1959 - Willetts R. F. The Servile Interregnum at Argos//Hermes. 1959. 87.
Willetts 1962 - Willetts R. F. Cretan Cults and Festivals. L., 1962.
Willetts 1963 — Willetts R. F. The Servile System of Ancient Crete: a Reappraisal of the Evidence // GERAS: Studies Presented to George Thomson. Prague, 1963.
Willetts 1967 - Willetts R. F. The Law Code of Gortyn. Berlin, 1967.
Willetts 1972-1973 - Willetts R. F. Early Cretan Social Terminology // Epétèris. 1972- 1973. 6.
Wolska 1962 — Wolska W. La Topographie chrétienne de Cosmas Indicopleustes. P., 1962.
Woodhouse 1898 — Woodhouse W. J. The Greeks at Plataiai //Journal of Hellenic Studies. 1898. 18.
Woodhouse 1916—1918 — Woodhouse W. J. The Campaign and Batde of Mantineia in 418 В. C. // Annual of the British School at Athens. 1916-1918. 22.
Wuilleumier 1939 — Wuilleumier P. Tarente, des origines à la conquête romaine. P., 1939.
Yalman 1967 — Yalman N. The Raw: the Cooked: Nature: Culture. Observations on Le Cru er le Cuit // The Structural Study of Myth and Totemism / Ed. E. Leach. L., 1967.
Zafiropulo 1956 — Zafiropulo J. Diogène d'Apollonie. P., 1956.
Zeitlin 1978 — The Dynamics of Misogyny: Myth and Mythmaking in the Oresteia // Arethusa. 1978. 11. 1-2.
Zeller 1876 - Zeller Ε. Aristoteles und Philolaos // Heimes. 1876. 10.
Zeller 1889 - Zeller E. Die Philosophie der Griechen. Leipzig, 1889. II. 1.
Zeller, Mondolfo 1950 - Zeller E., Mondolfo R. La Filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico. I. 2: Ionici e Pitagorici2. Firenze, 1950.
Ziehen 1939 - Ziehen L Opfer//R. E. 1939. 18.
Zilsel 1926 - Zilsel E. Die Entstehung des Geniebegriff. Tübingen, 1926.
Zimmermann 1974 - Zimmermann F. Géométrie sociale traditionnelle: Castes de main droite et castes de main gauche en Inde du Sud // Annales E. S. C. 1974. 29.
Ziomecki 1975 - ZiomeckiJ. Les Représentations d'artisans sur les vases attiques. Wroclaw, 1975.
Züidema 1971 - Zuidema R. I. Etnologia e Storia: Cuzco e le strutture dell' impero inca. Torino, 1971.
Примечания
Бессмертные рабыни Афины Илионской
27
Примечания
1
Цит. по книге: Pierre Vidal-Naquet, un historien dans la cité / Ed. F. Hartog, P. Schmitt, A. Schnapp. P., 1998. P. 138.
(обратно)2
Ibid. P. 5.
(обратно)3
Помимо вышеуказанного сборника см. великолепное предисловие Бернарда Нокса к английскому изданию «Черного охотника»: Vidal-Naquet P. The Black Hunter: Forms of Thought and Forms of Society in the Greek World. Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 1986. P. XI-XV.
(обратно)4
Vidal-Naquet P. Mémoires: En 2 vol. P., 1995-1998.
(обратно)5
См. с. 25.
(обратно)6
О П. Видаль-Накэ сказана лишь пара фраз в учебном пособии (см.: Историография античной истории. М., 1980. С. 279, 316), где он причислен к представителям «прогрессивного направления во французском антиковедении», близкого к марксизму, и по недоразумению назван «бельгийцем по происхождению, в настоящее время работающим во Франции». Критический разбор одной из книг историка (Vidal-Naquet P. Le Bordereau d'ensemencement dans l'Egypte ptolémaïque. Bruxelles, 1967) дан в работе: Пику с H. H. Царские земледельцы (непосредственные производители) и ремесленники в Египте III в. до н. э. М., 1972. С. 68—71. В 1989 г. была опубликована на русском языке статья: Видаль-Накэ П. Возвращение к Черному охотнику // ВДИ. 1989. № 4. С. 11—32, которая включена в настоящее издание в виде приложения.
(обратно)7
Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 2. P. 232.
(обратно)8
Vernant J. -P. Postface // Pierre Vidal-Naquet, un historien dans la cité / Ed. F. Hartog, P. Schmitt, A. Schnapp. P., 1998. P. 226.
(обратно)9
Vidal-Naquet P. L'Affaire Audin. P., 1958.
(обратно)10
См.: Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 2. P. 84.
(обратно)11
Ibid. P. 159—160; ср.: Schwartz L. L'engagement de Pierre Vidal-Naquet dans la guerre d'Algérie //Pierre Vidal-Naquet, un historien dans la cité... P. 38. В последнее время (в связи с недавним выходом в свет книги «откровений» генерала П. Осареса «Спецслужбы, Алжир, 1955—1957») во Франции вновь остро обсуждается вопрос о военных преступлениях французов в Алжире, и снова один из активных участников этой дискуссии — П. Видаль-Накэ.
(обратно)12
Из многочисленных публикаций историка на эти и другие «горячие» темы современности назову в первую очередь его книги: Vidal-Naquet Р. La Raison d'État. P., 1962; Vidal-Naquet P., Schnapp A. Journal de la commune étudiante. P., 1969; Vidal-Naquet P. Les Juifs, la Mémoire et le Présent: En 2 vol. P., 1991.
(обратно)13
Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 1. P. 290-291.
(обратно)14
Ibid. Vol. 2. P. 369.
(обратно)15
Ibid. P. 20.
(обратно)16
См.: Vidal-Naquet P. Les Assassins de la mémoire. P., 1987; Idem. Le Trait empoisonné: Réflexions sur l'affaire Jean Moulin. P., 1993.
(обратно)17
Первый том воспоминаний П. Видаль-Накэ посвящен в основном его детству и юности, совпавшим с военными и послевоенными годами, а также его родителям, арестованным и отправленным в концентрационный лагерь, откуда они уже не вернулись; книга носит подзаголовок «Надлом и ожидание».
(обратно)18
См., напр.: Vidal-Naquet P. Les Crimes de l'armée française. P., 1975; Idem. Réflexions sur le génocide: Les Juifs, la mémoire et le présent: En 3 vol. P., 1995; Vernant J.P., Vidal-Naquet P. Mythe et Tragédie en Grèce ancienne: En 2 vol. P., 1972—1986.
(обратно)19
П. Видаль-Накэ по этому поводу пишет в «Мемуарах» следующее: «Трагедия или история — мне доводилось формулировать это противопоставление; трагедия и история — мне пришлось пережить эту связь, размышляя над ней». Vidal-Naquet Р. Mémoires... Vol. 2. P. 240.
(обратно)20
Ср.: Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 1. P. 170.
(обратно)21
Ibid. P. 289.
(обратно)22
Список этих работ см.: Brunschwig J. Le philosophe, héros secret de l'historien? // Pierre Vidal-Naquet, un historien dans la cité... P. 139, n. 3.
(обратно)23
Подробнее об этом см. главы «Черного охотника»: «Время богов и время людей», «Афины и Атлантида. Содержание и смысл одного платоновского мифа» и «Платоновский миф в диалоге "Политик": двусмысленность золотого века и истории».
(обратно)24
Vidal-Naquet P. La Démocratie grecque vue d'ailleurs. P., 1990. P. 121.
(обратно)25
Вернан П. Происхождение древнегреческой мысли. М.: Прогресс, 1988.
(обратно)26
Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 2. P. 214.
(обратно)27
См. с. 41, 279.
(обратно)28
Помимо указанного в примеч. 18 двухтомника см. также: Vernant J.-P., Vidal-Naquet P. La Grèce ancienne: En 3 vol. P., 1990—1992; ср.: Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 2. P. 111-112.
(обратно)29
Murray O. Pierre Vidal-Naquet et le métier d'historien de la Grèce: l'«école de Paris» // Pierre Vidal-Naquet, un historien dans la cité... P. 155.
(обратно)30
Levêque P., Vidal-Naquet P. Clisthène l'Athénien: Sur la représentation de l'espace et du temps en Grèce de la fin du Vie siècle à la mort de Platon. P., 1964.
(обратно)31
См. c. 51.
(обратно)32
См. c. 86.
(обратно)33
См. c. 106.
(обратно)34
Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 2. P. 229.
(обратно)35
Murray О. Ор. cit. Р. 164.
(обратно)36
Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 2. P. 229.
(обратно)37
Ibid. P. 226-227.
(обратно)38
См. с. 115 сл.
(обратно)39
Ср.: Murray О. Ор. cit. Р. 156 sq.
(обратно)40
Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 2. P. 230.
(обратно)41
Finley M. I. The World of Odysseus. L., 1954.
(обратно)42
См.: Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 2. P. 214—215. Тема гомеровской Греции проходит через все творчество П. Видаль-Накэ, ей посвящена недавно вышедшая книга: Vidal-Naquet P. Le monde d'Homère. P., 2000.
(обратно)43
Austin M., Vidal-Naquet P. Economies et Sociétés en Grèce ancienne. P., 1973.
(обратно)44
Ср.: Mossé C. Rencontre avec M. I. Finley: L'histoire économique et sociale dans l'oeuvre de Pierre Vidal-Naquet // Pierre Vidal-Naquet, un historien dans la cité... P. 115.
(обратно)45
См. c. 29.
(обратно)46
Vidal-Naquet P. Économie et Société dans la Grèce ancienne: L'oeuvre de Moses I. Finley // Archives européennes de sociologie. 1965. № 6. P. 111—148. Статья переиздана в сборнике: Vidal-Naquet P. La Démocratie grecque vue d'ailleurs. P., 1990. P. 55—94; Ibid. P. 55 (здесь содержится список работ M. Финли, переведенных на французский язык).
(обратно)47
Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 2. P. 234-235.
(обратно)48
Vidal-Naquet P. La Démocratie grecque vue d'ailleurs... P. 161—264. Этим же проблемам посвящена и самая последняя книга историка: Idem. Les Grecs, les historiens, la démocratie. P., 2000.
(обратно)49
Idem. Mémoires... Vol. 2. P. 341-342.
(обратно)50
См. c. 25; ср.: Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 2. P. 236: «Окольный путь, подход с другой стороны был одним из законов моей научной жизни, как, впрочем, и всей моей жизни — методологические, временные и пространственные подходы со стороны».
(обратно)51
Ibid. Р. 49.
(обратно)52
Ibid. Р. 340; ср.: Idem. Les Grecs, les historiens, la démocratie. P. 6.
(обратно)53
Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 2. P. 215.
(обратно)54
Idem. Le Bordereau d'ensemencement dans l'Egypte ptolémaïque. Bruxelles, 1967.
(обратно)55
См.: Скифский роман / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1997. С. 586 сл.
(обратно)56
Ср.: Vidal-Naquet P. Mémoires... Vol. 2. P. 239-240.
(обратно)57
Ibid. Vol. 1. P. 205.
(обратно)58
Ibid. Vol. 2. P. 370.
(обратно)59
См.: Murray. Op. cit. P. 163-164.
(обратно)60
Перевод выполнен по французскому изданию: Vidal-Naquet P. Le Chasseur noir: Formes de pensée et formes de société dans le monde grec. P., 1991.
(обратно)61
Много времени ушло на приведение в более или менее упорядоченный вид громоздкого научного аппарата книги. При оформлении примечаний и библиографии было учтено английское издание: Vidal-Naquet P. The Black Hunter: Forms of Thought and Forms of Society in the Greek World. Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 1986. Ссылки на научную литературу были отредактированы в соответствии с «кембриджской системой», согласно которой указывается фамилия автора, год издания работы и страница. Ссылки на источники, как правило, даются в тексте, при этом имена авторов и названия их трудов, как правило, приводятся по-русски. Сокращенные названия трудов античных авторов и сборников фрагментов даются по системе, принятой в журнале «Вестник древней истории». В очерках приложения примечания сохранены в своем изначальном (как и в авторском оригинале) виде. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную благодарность Н. С. Ивановой, С. Г. Карпюку и С. А. Степанцову за помощь, которую они мне оказали во время работы над переводом.
(обратно)62
Revue philosophique. 1964. 89. P. 179.
(обратно)63
Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов/Пер. А. В. Лебедева. М., 1989. Ч. I. (Примеч. Пер.)
(обратно)64
Сокращенный вариант статьи см. в: Encyclopaedia Universalis. P., 1970. T. VII. P. 1009-1018.
(обратно)65
Клод Леви-Стросс (Lévi-Strauss Cl.) ясно говорит об этом: «Сведения, получаемые в результате анализа первобытных мифов, в греческих мифах, я бы сказал, лежат на самой поверхности» (цит. по: Bellour 1979: 176).
(обратно)66
См. гл. «Значение земли и жертвоприношения в религии и мифологии (по "Одиссее")».
(обратно)67
См. ниже: «Платоновский миф в диалоге "Политик": двусмысленность золотого века и истории».
(обратно)68
Книга Ф. Артога (Hartog 1980) посвящена исследованию (на примере скифов) того, что означает быть варваром по Геродоту.
(обратно)69
О карийцах см.: Fourgous 1976.
(обратно)70
См. ниже: «Существовал ли класс рабов в Древней Греции?», «Древнегреческие историки о рабстве», «Рабство и гинекократия в традиции, мифе и утопии».
(обратно)71
Об этом списке см.: Аристотель. Метафизика. А 5. 98ба. 22—64.
(обратно)72
Я заимствую это выражение из названия работы П. Русселя (Roussel 1951).
(обратно)73
См. гл. «Черный охотник и происхождение афинской эфебии» и «Сырое, греческий ребенок и вареное».
(обратно)74
См. гл. «Традиция афинской гоплитии».
(обратно)75
См. гл. «Эпаминонд-пифагореец, или Проблема правого и левого фланга».
(обратно)76
Название работы С. Московичи (Moscovici 1968).
(обратно)77
См. гл. «Этюд о двусмысленном: ремесленники в городе-государстве Платона».
(обратно)78
Ср.: Платон. Гиппий Меньший. 368b—с; Суда, s.v. Hippias autarkeia; см. также: Vernant 1981в: 64.
(обратно)79
В первоначальном виде опубликовано в: Annales E.S.C. 1970. Sept. — Oct. № 25; затем в: Problèmes de la terre en Grèce ancienne /Ed. M. I. Finley P.: La Haye; 1973. P. 269—292.
(обратно)80
Гесиод. Труды и дни. 112—119; здесь и далее я несколько изменяю перевод Мазона (Mazon Р.). Относительно «мифа о поколениях» ср.: Vernant 19816: 13—41; 42—79. (Текст поэм Гесиода приводится в стихотворном переводе В. В. Вересаева. — Примеч. пер.)
(обратно)81
По правде говоря, противопоставляются «поколение железа» и все предшествующие ему. Даже медные люди, которые бронзой работы свершали (χαλκω δ'είργάζοντο, 151), не трудились в собственном смысле слова, а исполняли военный ритуал (ср.: Vernant 19816: 28); лишь о «золотом поколении» определенно сказано, что оно не трудилось.
(обратно)82
Гесиод. Труды и дни. 167—173; я восстанавливаю строку 169 о «царской власти Кроноса» на том месте, какое ей и отводят рукописи.
(обратно)83
Ж.-П. Вернан показал, насколько тесно этот миф взаимосвязан с мифом о поколениях; ср.: Vernant 19816: 32, 51—54, а также: Vernant 1974: 192-194.
(обратно)84
Гесиод. Труды и дни. 90—93. Строка 93, которую я здесь восстанавливаю, представляет собой цитату из «Одиссеи» [Гомер. Одиссея. XIX. 360).
(обратно)85
Некоторые — Лерс (Lehrs), а вслед за ним, в частности, Мазон (Mazon) — несколько поспешно объявили интерполированной строку 108 «Трудов», которая вводит миф о поколениях, связывая его с мифом о Пандоре: Ώς όμόθεν γεγάασι θεοί θνητοί τ' άνθρωποι, «так как у богов и смертных одно и то же происхождение».
(обратно)86
Гесиод. Труды и дни. 232—237. Известно, что эти мотивы не раз появляются в текстах присяг; ср. клятву амфиктионов (Эсхин. Против Ктесифона. 111) и присягу дреросцев (Inscr. Cret. I, IX (Dreros] I. 85—89). В мире торжества hybris, описываемом в конце мифа о поколениях, говорится: «Отец тогда больше не будет похож на своих сыновей, а дети его — на отца» (Гесиод. Труды и дни. 182).
(обратно)87
Там же. 59—82; ср.: Vernant 19816: 32—33; Pucci 1977: 82—135 и, в особенности, Loraux 19786: 44—52. Пандора изображается как дар богов, несущий погибель «хлебоядным мужам», πήμ'άνδράσιν άλφηστήσιν (Гесиод. Труды и дни. 82). Нелишне здесь напомнить, что встречающееся у Гомера прилагательное alphêstês, «тот, кто ест хлеб», образовано от корня ed — od, «есть, поедать», так же как и противоположное ему по смыслу слово ômêstês, «тот, кто ест сырое; хищник»; ср.: Chantraine 1933: 315.
(обратно)88
Параллелизм подчеркивается повторяющимся употреблением слова έπειτα (Гесиод. Теогония. 536, 562). Все дело разворачивается в одном и том же длительном времени (там же. 535): «это было в те времена, когда боги с людьми препирались» (οτ' έκρίνοντο). См.: Vernant 1974: 178-194.
(обратно)89
Заметим, что в гесиодовских рассказах совсем не остается места для периода кочевой жизни в истории человечества. Человек либо земледелец, либо это не человек.
(обратно)90
Характерный пример представляет собой книга Хэйвлока (Havelock Ε.), где во второй главе (Havelock 1957: 36—51) миф о поколениях рассматривается наряду с мифами из «Политика» и «Законов» Платона. Есть ли необходимость повторять, что в эпоху Гесиода ни понятия прогресса, ни понятия регресса и быть не могло, поскольку не существовало собственно и понятия истории? Напротив, книга ученика Хэйвлока Т. Коула (Cole 1967) весьма полезна, так как в ней внимание сосредоточено на определенной эпохе и рассматриваются реальные идеологические конфликты.
(обратно)91
Самым полезным подспорьем для их изучения является, конечно, вышеупомянутая хрестоматия Лавджоя (Lovejoy А.) и Боаса (Boas G.). О мифе из «Политика» см. ниже, с. 310-311.
(обратно)92
Например, в числе сотни прочих, Эмпедокл. Очищения, (fr. 128, Diels): царицу Киприду хотели умилостивить приношениями только душистой смирны, ладана и меда. Кровавое жертвоприношение считалась скверной, как и всякая мясная пища; так же и в мифе из «Политика» Платона (Платон. Политик 272а—b). Вегетарианство подразумевается в текстах Гесиода. Для общего обзора данных традиции ср.: Haussleiter 1935. См. также: Détienne 1977а: 135—160.
(обратно)93
Евгемер в переводе Энния (Lact. Div. Inst. I. 13. 2): «Сатурн и его супруга, так же как и другие люди того времени, имели обыкновение поедать человеческое мясо, и первым запретил этот обычай Юпитер»; Дионисий Галикарнасский (Ant. Rom. I. 38. 2): «Говорят, что древние приносили жертвы Кроносу так, как это делалось в Карфагене, покуда существовал этот город»; Секст Эмпирик (Hypomnemata. III. 208): «Некоторые приносили в жертву Кроносу человека, подобно тому, как скифы приносили чужеземцев в жертву Артемиде». Прочие ссылки: ср.: Lovejoy, Boas. 1936: 53—79.
(обратно)94
Ср.: Диоген Лаэртский. VI. 34. 72—73; Дион Хрисостом. X. 29—30; Юлиан. Речи. VI. 191—193. Другие упоминания: Haussleiter. 1935: 167-184.
(обратно)95
Гесиод. Теогония, 459 сл. О теме людоедства и поедания друг друга (аллелофагии) в греческой литературе в целом, кроме уже цитировавшихся книг Хаусслейтера (Haussleiter I.), Лавджоя и Боаса и М. Детьена, см.: Festugière 1949.
(обратно)96
Ουτ1 άγριον ήν ουδέν ούτε αλλήλων έδωδαί, πόλεμος τε ουκ ένήν ουδέ στάσις τό παράπαν — «не было тогда никого дикого (среди животных), ни взаимного пожирания, как не было ни войн, ни раздоров». Речь идет о животных, но лексика намеренно «человеческая».
(обратно)97
Ср. изображение на вазе и соответствующий комментарий: Robinson 1931. См.: Krön 1976: 95-96.
(обратно)98
Ср. подборку текстов: Pembroke 1967: 26—27, 29—32, а также мой очерк «Рабство и гинекократия в традиции, мифе и утопии» (ниже).
(обратно)99
Гомер. Одиссея. XIII. 354. Формулу κύσε δε ζείδωρον αρουραν поэт уже использовал однажды при описании прибытия Одиссея на остров феаков (там же. V. 463), но, конечно, первое полустишие там другое. Мы увидим, что это совпадение неслучайно.
(обратно)100
Различие двух миров в «Одиссее» очень четко прослежено в: Germain 1954а: 511-582.
(обратно)101
Ср.: Segal 1962: 17. О значении этого различия в «Буре» см.: Marienstras 1965.
(обратно)102
Точнее, девятидневной, поскольку десятый день отмечен прибытием к лотофагам (Гомер. Одиссея. IX. 82—83). «Число 9 служит главным образом для выражения срока, по истечении которого, на десятый день или на десятый год, должно произойти решающее событие» (Germain 19546: 13).
(обратно)103
«Шторм забрасывает героя в сказочную страну» (Muehll 1940: 720).
(обратно)104
Гомер. Одиссея. IV. 555—558; XVII. 138—144. Менелай возвратился, как говорит Нестор (там же. III. 319—320), «из мира, откуда у людей, что попали туда, немного надежды вернуться».
(обратно)105
Ср.: Segal 1962. Однако есть еще одно место возможного, но не состоявшегося контакта: это остров Эола, впрочем, плавучий (Гомер. Одиссея. X. 3).
(обратно)106
Гомер. Одиссея. XIV. 191—359; XIX. 165—202. Настоящее затруднение вызывает второй рассказ, адресованный Пенелопе (там же. XIX. 262—306), ибо Одиссей выводит феаков там, где им явно нечего делать, поскольку Пенелопа все еще не догадывается ни о приключениях Одиссея, ни о том, кто перед ней. Поэтому среди выявленных критикой XIX в. «интерполяций» именно стихи 273—286 представляют собой тот крайне редкий случай, когда таковую следует признать. В первом рассказе Одиссей, обогнув мыс Малею, направляется на Крит (Гомер. Одиссея. XIX. 187), что совершенно разумно и восстанавливает «географическое» правдоподобие там, где оно было нарушено. Элементы «правды», проскальзывающие в «неправде» и противостоящие «неправде», из которой состоят «истинные» рассказы, — основополагающее свойство гомеровского повествования, как превосходно показал Тодоров (Todorov 1967). См. также: Kahn 1981.
(обратно)107
Нужно ли говорить, что я не питаю ни малейшей надежды, что смогу обескуражить любителей гомеровской географии и отождествления топонимов, хотя эта игра в конечном счете столь же лишена смысла (используя сравнение моего друга Ж.-П. Дармона), как и та, что состоит в поисках кроличьей норы, через которую Алиса попала в «страну чудес»? Разумеется, это не мешает гомеровским «чудесам», как и всем на свете чудесам, находиться в определенных отношениях с «реалиями того времени», главным образом, с западным Средиземноморьем, а в более древнюю эпоху, несомненно, и с восточным (ср.: Meuli 1921). В конце концов, увиденные Алисой «чудеса» имеют куда больше общего с викторианской Англией, чем с маньчжурским Китаем!
(обратно)108
«Движение Одиссея направлено по существу внутрь, домой, к нормальности» (Stanford 1954: 50); см. особенно: Segal. 1962: 274, примеч. 3.
(обратно)109
Гомер. Одиссея. IX, 89; X, 101. Так же и циклоп не похож на добропорядочного поедателя хлеба (там же. X. 200).
(обратно)110
На это не обратил внимания Рихтер (Richter 1968).
(обратно)111
Гомер. Одиссея. IX. 45. 46; IX. 165, 197. Я просто не понимаю, почему Хаусляйтер считает киконов каннибалами! (Haussleiter 1935: 23). Ни о чем таком в тексте нет и речи.
(обратно)112
Еврипид. Киклоп. 115—116, пер. И. Анненского. Ср.: Garlan. Fortifications: 255.
(обратно)113
Выражение ζείδωρος· άρουρα, «хлебодарная земля» (она же подательница жизни) не может служить вполне достаточным критерием, так как Гесиод использует его применительно к золотому веку; и все же я отмечу, что только в трех случаях из девяти у Гомера им обозначается точно определенное место: это Итака (Гомер. Одиссея. XIII. 354), земля феаков (там же. V, 463) и Египет (там же. IV. 229); в остальных оно используется в обобщенном смысле и означает что-то вроде «сей дольний мир».
(обратно)114
Гомер. Одиссея. X. 98; дым поднимается также и у Цирцеи (там же. X. 196). Когда Одиссей, следуя от Эола, приближается к Итаке, ему удается различить людей вокруг огня (πυρπολέοντας" — там же. X. 30).
(обратно)115
Там же. XII. 159; ср.: Гомеровские гимны. К Гермесу, 72; Еврипид. Ипполит. 74. О «луге» (λειμών) см.: Motte 1973, а также: Kahn, Loraux 1981.
(обратно)116
Там же. IX, 320; V. 236; ср.: Segal. 1962: 45, 62, 63.
(обратно)117
Там же. IX. 232. О неудавшемся принесении в жертву быков Солнца см. ниже: с. 57-58.
(обратно)118
Близость между персонажами, повстречавшимися Одиссею в его странствиях, и дикими племенами отчетливо проявляется в других стихах (Гомер. Одиссея. I. 19В—199), когда Афина в облике Мента задает вопрос, не захватили ли Одиссея в плен люди, определяемые как χαλεποί и άγριοι, и когда сам герой задумывается над тем, к какому виду людей отнести хозяев земли циклопов: ύβριστα'ι τε καΐ άγριοι ουδέ δίκαιοι, ήέ φιλόξέΐνοι (там же. IX. 175—176); тот же вопрос снова встает на Итаке (там же. XIII. 201—202), прежде чем Одиссей понял, что он у себя дома. Возникал он также и в момент высадки в стране феаков (там же. VI, 120—121). Эти страницы были уже написаны, когда я ознакомился с главой о циклопах в книге Кэрка (Kirk 1970: 162—171). См. также семиологичекий анализ в статье Кл. Калама (Calame 1976).
(обратно)119
Гомер. Одиссея. IX. 109-111; ср.: там же. IX. 123.
(обратно)120
Мало просто написать, как делает Хаусляйтер: «Людоедство циклопа Полифема не кажется простой случайностью» (Haussleiter 1935: 23).
(обратно)121
Гомер. Одиссея. IX. 190—191, 234, 292—293. Эти детали очень удачно подчеркнул Пэйдж (Page 1955: 1—20), сравнив Гомерова циклопа с фольклорным.
(обратно)122
Fr. 196 Nauck (2 Aug.); 329 Mette; этот фрагмент приводится и в книге Лавджоя и Боаса (Lovejoy, Boas 1936: 315). Ср. также сведения о abioi, или gabioi, или hippomolgoi у Николая Дамасского (FGrH 90 F 104).
(обратно)123
Самые важные тексты собраны в книге Лавджоя и Боаса (Lovejoy, Boas. 1936: 304, 358, 411). Пожалуй, самый замечательный среди них — речь, приписываемая Плутархом одному из спутников Одиссея, который, будучи превращен Цирцеей в свинью, изведал опыт жизни животного и человека и теперь произносит хвалу «жизни циклопов», сравнивая богатую землю Полифема с тощей почвой Итаки (Платон. Грилл. 968f — 987а).
(обратно)124
FGrH 70 F 42; ср. также «андрофагов» Геродота (Геродот. IV. 18) — персонажей, помещенных на краю пустыни, у предела, за которым других человеческих существ уже нет.
(обратно)125
Ср. выше, с. 41. В «Илиаде», когда Ахилла и Гекубу переполняет горе или ярость, они мечтают пожирать своих врагов (Гомер. Илиада. XXII. 347; XXIV. 212).
(обратно)126
Δεινοΐο πελώρου (Гомер. Одиссея. X. 168); θηριον (там же. X. 171); о Цирцее см.: Segal 1968.
(обратно)127
Нет никаких оснований в стк. 235 исправлять стоящее в рукописях слово σίτω.
(обратно)128
Гомер. Одиссея. X. 304. В стк. 287 Гермес просто говорит Одиссею, что, «имея при себе чудесное снадобье», τόδε φάρμακον έσθλόν έχων, тот будет в безопасности. То есть речь идет не о талисмане, который используют, а о предмете, который оберегает.
(обратно)129
Именно близкий людям бог Гермес вручает Одиссею «моли», и ему же Евмей приносит в жертву свинью (Гомер. Одиссея. XIV. 435). См.: Kahn 1978: 139—140.
(обратно)130
Гомер. Одиссея. XII. 42-43. Ср.: Kahn 1980. О пении сирен, понимаемом как критическое прочтение «Илиады» поэтом-автором «Одиссеи», см.: Pucci 1979.
(обратно)131
По крайней мере именно так представляет дело Цирцея (Гомер. Одиссея. XII, 45— 46). Когда же об этом эпизоде рассказывает сам Одиссей, кости исчезли, а луг усыпан цветами (там же. XII, 159).
(обратно)132
Гомер. Одиссея. I. 8-9. Ср.: Vernant 1979: 240-249.
(обратно)133
Гомер. Одиссея. XII. 357-358; ср.: Евстафий. Комментарии к «Одиссее». XII. 359: καΐ τα εξής της πολλαχου δηλωθεί σθης θυτικής διασκευής; см. также: там же. 357. О роли ούλαι-ούλόχυται в гомеровском жертвоприношении ср.: Rudhardt 1958: 253.
(обратно)134
Там же. Одиссея. XII. 362—363; любопытнее всего то, что в гомеровском жертвоприношении вода, собранная в chernibes, как правило, играет свою роль по ходу приготовлений к закланию жертвы (ср.: Rudhardt. 1958: 254); поэт же предпочел не говорить об этом, но подчеркнул важность возлияния вина, которое совершалось вслед за умерщвлением животного. Некогда этот пассаж привлек внимание Айтрема (Eitrem 1915: 278—280), усмотревшего в нем свидетельство более архаичного, нежели кровавая жертва, ритуала, будто бы сохранившегося в обряде phyllobolia (бросание листьев), засвидетельствованном в ряде погребальных обрядов. «Они (спутники Одиссея] знали, что так поступали в более древние времена или где-то в другом месте». Не стоит и говорить, что при таком «объяснении» гомеровский текст лишается всякого смысла. В противоположность Айтрему, Циэн (Ziehen L.) считал, что это «фантазия поэта, порожденная определенной ситуацией» (Ziehen 1939: 582).
(обратно)135
Сказочные эфиопы, в «Одиссее» сотрапезники Посейдона, у Геродота (Геродот. III. 18. 23—4) наслаждаются пищей, которая представляет собой полную противоположность святотатственной трапезе спутников Одиссея. Земля доставляет им прямо на лугу, расположенном перед городом, трапезу солнца, отварное мясо четвероногих. Эфиопы-«долгожители», имеющие в своем распоряжении благоухающий источник молодости, едва ли могут быть причислены к смертным. Даже тела умерших у них не распространяют дурного запаха. Для Солнца они, таким образом, гости, а не совершенные чужаки, каковыми являются спутники Одиссея.
(обратно)136
То же относится и к прочим, лишь мимоходом упомянутым странам; и все же один остров, родина Евмея, Сирое, ставит особую проблему. Да, речь идет о земле, богатой вином и пшеницей (Гомер. Одиссея. XV. 406). Но там неведомы ни болезни, ни голод, а смерть там легка (там же. XV. 406-409). Поскольку Сирос помещается на дальнем западе, «где поворот совершает свой солнце» (там же. XV. 404), его затруднительно отождествлять с одноименным островом в Эгейском море. Я благодарен Ф. Артогу, обратившему мое внимание на эту деталь. Равным образом здесь я оставляю в стороне вопросы, вызываемые таинственными «тафиями».
(обратно)137
Гомер. Одиссея. XIII. 244-246; ср.: там же. XIII. 354 («плододарная земля»); XX. 106-110 (мельницы); XVII. 181 (быки); Одиссей также владеет стадом коров в Кефалонии (там же. XX. 210).
(обратно)138
Там же. XIX. 111-114; об этом тексте, вписывающемся в ставшее очень архаичным уже в гомеровскую эпоху представление о царской власти, см.: Finley 1965а: 119—120.
(обратно)139
Там же. XI. 128; XXIII. 275; ср.: Hansen 1977.
(обратно)140
Ср., например: Гомер. Одиссея. III. 495: ες πεδίον πυρηφόρον (о Пилосе); там же IV. 41. 602-604 и т. д. (о Спарте).
(обратно)141
Там же. III. 382 сл.; 425 сл.; ср. отдельные детали: ячмень и вода для омовения рук (там же. 440 сл.); крики женщин (там же. 450); о том же еще раз (там же. XV. 222-223)
(обратно)142
Ср.: там же. IV. 71-74 и VII. 86.
(обратно)143
См.: там же. IV. 617; XV. 113-119; VII. 92.
(обратно)144
Там же. IV. 563—569; напротив, Одиссей может сказать: «Нет, я не бог» (там же XVI. 187).
(обратно)145
См.: там же. I. 296-297 и замечания М. Финли (Finley 1965а: 103-108). Несмотря на былые и все еще до недавнего времени возобновляющиеся попытки соответствующего прочтения (Hirvonen 1968: 135-162), в образе Пенелопы нет ничего, что позволяло бы говорить о матриархате, даже в виде «пережитков». Особенность положения Пенелопы объясняется просто отсутствием Одиссея. См.: Vernant 1974: 78-81.
(обратно)146
Гомер. Одиссея. II. 56; XIX. 74; XVI. 454; XVII. 181; XVII. 600; XX. 2; XX. 264.
(обратно)147
Там же. XVIII. 153-156, 414-428; XXII. 94 (Амфином убит); XX. 276-279 (гекатомба совершается анонимно, во всяком случае, не женихами).
(обратно)148
Там же. XXI. 265-268. Лиодея, который был thyoskoos женихов, убивает Одиссей (там же. XXII, 312-329); так что жертвоприношения, совершенные женихами прежде, не были приняты, θυοσκόος· — жертвогадатель (ср.: Casabona 1966: 118— 119).
(обратно)149
Там же. XIV. 420-421; ср. там же: II, 432-433 (Телемах); IV. 761. 767 (Пенелопа); XIV. 445-448 (Евмей); XVIII. 151 (Одиссей); XIX. 198 (выдуманный рассказ Одиссея); I, 60-62; IV, 762-764; XVII, 241-243 (воспоминания о жертвоприношениях Одиссея); XIX. 397-398 (воспоминание о жертвоприношениях Автоликона, деда Одиссея). Не забудем и про обеты Одиссея (ср. выше, с. 53, 59, примеч. 60).
(обратно)150
Казабона (Casabona J.) пишет: «На первый план выходит идея трапезы» (Casabona 1966: 23); действительно, это самое малое, что можно сказать.
(обратно)151
Гомер. Одиссея. I. 71; XIII, 96 сл. Ср.: Segal 1962: 48.
(обратно)152
Segal 1962: 17, 27: «Феаки, будучи средством возвращения Одиссея в мир реальности, представляют собой также и последний отсвет воображаемого царства, которое тот вот-вот покинет». По-моему, следует принять всю аргументацию Сигала, но не его подчас «символистскую» и «психологическую» лексику; см. также: Segal 1967 и Clarke 1967: 52—56. На эту тему Ф. Артог защитил в июне 1970 г. сочинение на степень магистра на филологическом факультете университета в Нантере.
(обратно)153
Гомер. Одиссея. V. 32; все же он воспользовался помощью Ино-Левкотеи и бога реки, текущей в стране феаков (там же. V. 333—353; V. 445—452).
(обратно)154
Там же. V. 477; у обоих деревьев общий ствол. На протяжении всей античности слово phyliê понимали как обозначение дикой оливы (см. ссылки: Richter 1968: 135). Лишь в современную эпоху некоторые стали считать, что могло иметься в виду миртовое дерево (Pease 1937: 2006).
(обратно)155
Там же. VI, 10. Историки колонизации, разумеется, заметили эту строку; ср., например: Asheri 1966: 5.
(обратно)156
Там же. VI. 177, 191; ср. также: δήμόν τε πόλιν (там же. VI. 3).
(обратно)157
Там же. VII. 112—132; само собой разумеется, не может быть и речи о том, чтобы выбросить из «Одиссеи» это знаменитое описание под совершенно нелепым предлогом, будто никогда «внутри мощных, но тесных стен (микенских городов] не могло найтись места для четырех десятин сада, виноградника и огорода» (Берар (Bérard) в издании «Одиссеи» (CUF. Р., 1962. I. Р. 186). Стоит также заметить, что утопический и мифологический характер данного текста прекрасно ощущался в античности; так, в эллинистической утопии Ямбула цитируются строки 120—121 (Diod. II, 56). О саде Алкиноя см. также: Motte 1973: 21.
(обратно)158
Там же. XXIV. 342-344; ср.: Segal 1967: 47; здесь встает вопрос, который я разрешить не в состоянии. Все сопоставления, сделанные на этих и последующих страницах, как мне кажется, ведут к упрочению позиции тех, кто допускает существование по крайней мере некоего главного «архитектора» (monumental composer, пользуясь словами Кэрка), который будто бы и придал гомеровским поэмам их нынешнюю завершенность и соразмерность (см.: Kirk 1962: 159-270; с учетом: Parry 1966). Это и моя точка зрения, но надо признать, что песнь XXIV вызывает особые затруднения и имеются многочисленные отклонения, в особенности лингвистического порядка (см.: Page 1955: 101—136, как выражение крайней точки зрения, и Kirk 1962: 248-251). Впрочем, известно, что в эпоху эллинизма критики Аристарх и Аристофан считали, что «Одиссея» заканчивалась стихом 296 двадцать третьей песни. Если в порядке гипотезы допустить обоснованность всех этих соображений, то следует ли из этого, что сопоставление, проводимое между седьмой и двадцать четвертой песнями, лишено смысла? Для тех, кто занимается структурным анализом, основываясь исключительно на лингвистической модели, вопрос едва ли имеет смысл, да и вряд ли что-нибудь может помешать им «структурировать» некое целое, составленное из «Илиады», «Махабхараты» и «Потерянного рая». В таком случае историк с поклоном удаляется! Но можно относиться ко всему этому совсем иначе. Исследования Проппа, его учеников и последователей (см.: Propp 1970; Bremond 1964; 1968) показывают, что в определенном общем культурном пространстве огромное множество рассказов может быть сведено к малому числу простых элементов, занимающих различные позиции. Действительно, мне представляется очевидным, что в «Одиссее» мотив сада золотого века противостоит мотиву девушки, направляющей путников к смерти. Мне кажется также, что анализ отдельных мотивов эпического повествования (в том виде, как это делается последователями Милмана Парри (Parry M.): см.: Lord 1960: 68— 98) в конечном счете ведет в том же направлении, поскольку показывает, что древний мотив (а трудно представить, каким образом могла бы не быть таковым окончательная встреча Одиссея с Лаэртом) мог быть зафиксирован в более позднюю эпоху. Было бы интересно объединить эти два направления исследования. Так что я не считаю, что «Одиссея», которая была бы отчасти (со временем) составлена из отдельных частей, не может считаться однородной с точки зрения структурализма, но я должен признать, что приводить детальную аргументацию еще только предстоит.
(обратно)159
Вернее, здесь перед нами то, что называли так Гесиод и его последователи, поскольку я не забыл, что Зевс оплодотворял также и землю Циклопа (Гомер. Одиссея. IX. 111, 358). Гомеровский Кронос, как известно, всего лишь отец Зевса, заключенный в Тартаре (Гомер. Илиада. VIII. 478-481).
(обратно)160
Гомер. Одиссея. VII. 91—92; XVII. 290—327; у Евмея тоже были совершенно реальные злые собаки (там же. XIV. 21—22).
(обратно)161
Там же. VII. 190-191; ср.: там же. VII. 180-181.
(обратно)162
Там же. XIII. 26 и XIII. 50 сл. (возлияния Зевсу).
(обратно)163
Там же. VII. 201—203. Таким образом, феаки пользуются той же привилегией, что и мифические эфиопы (там же. I. 24—25); ср.: там же. VI. 203—205:
...нас боги бессмертные любят; живем мы Здесь, от народов других в стороне, на последних пределах Шумного моря, и редко нас кто из людей посещает.См.: Eitrem 1938: 1523. Они столь близко знакомы с богами, что это проявляется в теоксениях (т. е. гостеприимстве по отношению к богам) и сочетается с удаленностью от людей. Когда Афина принимает участие в жертвоприношении, которое совершает Нестор с сыновьями (Гомер. Одиссея. III. 43 сл.), она это делает в облике Ментора; напротив, Алкиной подчеркивает, что у феаков боги не скрываются (ού τι κατακρύπτο-υσιν — там же. VII. 205). Жертвенной трапезой они угощаются совместно (δαίνυνταί те παρ' αμμι καθήμενοι evθa περ ημείς· — там же. VIL 203). Точно так же и у эфиопов Посейдон присутствует на пиру (δοατί παρήμενο? — там же. I. 26). По всей видимости, то же самое делала у Нестора и переодетая Афина (ήλθε èç δαίτα — там же. III. 420). Но после того как она обнаружила себя, обратившись в птицу (там же. III. 371—372), она приходит принять жертву как невидимая богиня (там же. III. 435—436). Итак, Нестор и Телемах не пользуются той же привилегией, что и феаки.
(обратно)164
Напротив, в гесиодовском фрагменте (fr. 1 Merkelbach-West) сотрапезничество характеризует отношения между людьми и богами до учреждения жертвоприношений.
(обратно)165
Ср.: Гомер. Одиссея. VII. 196-198; XIII. 59-62.
(обратно)166
Там же. VI. 8. Дж. Страусс-Клэй (Strauss-Clay 1980) выдвинула удачное предположение, что остров, где прежде жили феаки, — не что иное, как расположенный по соседству с островом циклопов козий остров; в другой, неопубликованной работе (Eadem. Cyclopes) она развивает эту тему родственной близости между двумя народами.
(обратно)167
Впрочем, гостеприимство это довольно двусмысленное, поскольку Афина, явившаяся Одиссею в облике феакийской девушки, предупреждает его: «Иноземцев не любит народ наш: он с ними не ласков; / Люди радушного здесь гостелюбия вовсе не знают» (Гомер. Одиссея. VII. 32—33); правда, в дальнейшем ничто из предостережений Афины не сбывается. Но и Навсикая ранее отмечала (там же. VI. 205), что редко кто из людей посещает феаков (ср. выше, примеч. 84), да и сама Афина окутала Одиссея облаком, «чтоб не был замечен / Он никаким из надменных граждан феакийских, который / Мог бы его оскорбить, любопытствуя выведать, кто он» — там же. VII. 14—17). Так что сквозь радушное гостеприимство феаков просвечивает образ страны, подобной стране циклопов.
(обратно)168
Гомер. Одиссея. VI. 16, 67, 102, 103; VII. 291; VIII. 457.
(обратно)169
В этом кроется вся проблема, которая в гесиодовских поэмах предстанет в виде Пандоры, первой женщины, воплощающей сразу и облик девы и образ богини (Loraux 19786: 45-49).
(обратно)170
Гомер. Одиссея. VIII. 499-531. См.: Frontisi-Ducroux 1976: 542-543.
(обратно)171
Ср.: Détienne 1979а.
(обратно)172
Ср.: Гомер. Одиссея. X. 31; XIII. 92; по поводу мотива сна в «Одиссее» см.: Segal 1967: 324-329.
(обратно)173
В одной схолии указывается, что «Гесиод» считал Алкиноя и Арету братом и сестрой (см.: Schol. Odys. VII, 54 (p. 325 Dindorf) - (Hesiod.) fr. 222 Merkelbach-West; см. также: Eustath. ad VII, 65). Исходя из этого, возможны два решения: либо констатировать вместе с автором схолии, что «это не согласуется с тем, что говорится дальше» (τούτο μάχεται toιç εξής), и следует, — как и делалось со времени Кирхгофа (Kirchhoff 1869: 54-56), - считать интерполированными стк. 56—68, а также стк. 146 песни VII (где Арета названа дочерью Рексенора), либо предположить, что поэт придал царской чете видимость кровосмешения, чтобы тут же исправить произведенное впечатление; о сопоставлении и сближении Эола и Алкиноя ср.: Germain 1954а: 293.
(обратно)174
И прежде всего, конечно, царь и царица; так, при описании отхода ко сну царской четы в Пилосе, Спарте и на Схерии используются одинаковые формулы (см.: Гомер. Одиссея. III. 402-403; IV. 304-305; VII. 346-347).
(обратно)175
К примеру, ключница есть на Схерии (Гомер. Одиссея. VII. 166, 175; VIII. 459) и на Итаке (там же. XVII. 94), впрочем, как и в Пилосе (там же. III. 392); кормилица — на Схерии (там же. VII. 12) и на Итаке (там же. IX. 27; XIX. 357 сл.); аэд — на Схерии (там же. VIII. 261 сл.) и на Итаке (там же. XXII. 320 сл.). Эпизод с феаками и сцены жизни на Итаке часто сопоставлялись. Например, стоит сравнить аргументы, разделенные промежутком в 65 лет, но удивительно похожие несмотря на изменение методов интерпретации - соответственно теории следующих одна за другой «интерполяций» (Eitrem 1904) и модели устного сочинительства (Lang 1969).
(обратно)176
Достаточно обратиться к строкам (VII. 146 сл.) и прочесть их непредвзято, не прибегая к схеме матриархата в той ее форме, которая все еще сохраняется у Лэнга (Lang 1969: 163).
(обратно)177
Ср. выступление Ехенея (Гомер. Одиссея. VII. 155—Î66).
(обратно)178
Сравним с речью Ехенея выступление старого Египтия (там же. II. 15—34).
(обратно)179
На это совершенно справедливо обращает мое внимание М. Финли.
(обратно)180
На эту тему см.: Finley 1967. В теоретическом плане я целиком и полностью согласен с соображениями Финли, но считаю необходимым заметить, что политические представления смешивались с архаическими и милленаристскими мифами в утопиях эллинистической эпохи (ср.: Gernet 1933). В V в. до н. э. было не так; и утопию, скажем, Гипподама Милетского (Аристотель. Политика. II. 1267b. 30 сл.) объяснить обращением к мифологическому мышлению невозможно.
(обратно)181
Высказанные в данной статье идеи нашли свое продолжение в различных работах, в частности, см.: Foley 1978; Said 1979.
(обратно)182
Опубликовано в: Revue de l'histoire des religions (1960. Janvier — mars. P. 55-80) с подзаголовком «Эссе о некоторых аспектах понимания времени у греков».
(обратно)183
Ср. также: Puech 1951а: 217-224. Изложение классической концепции см.: Eliade 1949; Cullmann 1966; Cornford 1952: 168; Meyerson 1956. Для представления противоположной точки зрения укажем на обязательную теперь работу Момильяно (Momigliano 1966б) и соображения Кайуа (Caillois), сформулированные отчасти под влиянием данной моей статьи, но, быть может, заходящие слишком далеко (Caillois 1975).
(обратно)184
См. общие соображения Гольдшмидта и Шатле (Goldschmidt 1979: 49-64; Châtelet 1956: 363, примеч. 1).
(обратно)185
Ср. оригинальную попытку ван Гронингена (Groningen 1953).
(обратно)186
Ср.: Goldschmidt 1979: 50.
(обратно)187
Anthol. Palat. VI. 197; приводится в: Meiggs, Lewis 1969: 60.
(обратно)188
См. замечания Φ. Якоби (Jacoby 1945: 510-517), Η. Λορο (Loraux 1981: 60-61).
(обратно)189
См. в особенности (с. 16) анализ надписи на стеле в честь победы Меша, царя Моава (IX в. до н. э.). Сравнения между греческими надписями и этим типом «сообщений, адресованных богам» без труда можно было бы умножить.
(обратно)190
Данный очерк слишком беглый и с систематической точки зрения неполный. Разбирать еще раз, после других, например, «софизм элеатов» ни к чему. Не станем мы рассматривать время и так, как могло бы его представить феноменологическое исследование греческой религии. Ср., например: Dumézil 1935—1936.
(обратно)191
В момент написания этих строк я не знал, что на взгляд Дж. Б. Вико (Vico G. В.), в данном случае идущего за Диодором Сицилийским, все человеческие народы последовательно проходили через время богов, время героев и время людей. Это не более чем просто омонимическое совпадение.
(обратно)192
Ср.: Nilsson 1920: 110, 111, 362.
(обратно)193
См. прежде всего: Onians 1953. Автор предпринял попытку этимологической интерпретации основных терминов, обозначающих у Гомера время. Но ему можно возразить: с одной стороны, предлагаемые им этимологии часто малоубедительны; с другой, ничто не доказывает, что выводимые значения и есть значения воспринимаемые. Даже если допустить, например, сближение слов τέλος- (цель) и πόλος- (ось вращения), едва ли выражение τελεσφόρος ένιαυτός (Гомер. Илиада. XIX. 32) могло означать «годовой круг в целом, круглый год» (Onians 1953: 443). Об опасностях, которыми чревата используемая Онайэнсом (Onians R.) методика, см. также: Meillet 1955: 65-67; Paulhan 1953.
(обратно)194
В переводе Мазона, которого цитирует Видаль-Накэ, эта строка выглядит так: «в момент, когда (έπεί) славный потрясатель земли склонил исход битвы в их пользу». (Примеч. пер.)
(обратно)195
См. также: Гомер. Илиада. XII. 175. 176. Ф. Робер (Robert Г.) замечает: «Кажется, что божественная составляющая поэтического вдохновления состоит, главным образом, в способности оживить своей властью множество фактов во всем их разнообразии, упомнить, изложить и выразить столь обширную информацию, что удержать ее одна человеческая память была бы не в состоянии» (Robert 1950: 13). См. также: Groningen 1953: 99.
(обратно)196
Приведем типичный пример: когда Главк рассказывает свою собственную историю (Гомер. Илиада. VI. 145, 146), начинает он с упоминания о бесполезности этого начинания, и вот эти знаменитые слова: «Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков...», а дальше возводит свой род к богам.
(обратно)197
Известно, что день - нечто, падающее с неба (Onians 1953: 411). Этот образ весов и его смысл в греческой литературе исследовал Шерер (Schaerer 1958); см. также: Détienne 1979а: 37-39.
(обратно)198
Можно было бы продолжить такого рода анализ и продемонстрировать, например, непоследовательность гомеровской хронологии. Пенелопа не стареет, а Нестор стар всегда. Идет ли речь в последнем случае о некоем законе «мифического времени», как считает ван Гронинген (Groningen 1953: 96), или, напротив, о затруднении поэта при столкновении с «хроникой» (Gomme 1954)? Наконец, с точки зрения исследования прочих аспектов времени у Гомера, сошлемся на работу Френкеля (Frankel 1931). Он, в частности, отмечает (с. 2-5), что Хронос никогда не выступает субъектом действия, но всегда обозначает какой-то отрезок времени, длительность которого не ясна и определяется чувственным восприятием.
(обратно)199
Значение Гесиода для истории греческой философии и в особенности ионийской физики (натурфилософии?) отмечалось не раз (Goldschmidt 1950; Cornford 1952: 193, 194). Ко времени первой публикации этих страниц мне не была знакома статья Ж.-П. Вернана (Vernant: 19816). Кроме того, см.: Philippson 1936.
(обратно)200
Это та «квазиистория», которую Р. Дж. Коллингвуд называет просто «мифом» (Collingwood 1946: 15).
(обратно)201
«Weltstufe», по выражению П. Филипсона (Philippson Р.).
(обратно)202
Уран — Крон (Гесиод. Теогония. 137); Крон — Зевс (457).
(обратно)203
Гесиод. Теогония, 836-837:
Και νυ κεν επλετο εργον άμήχανον ήματι κείνω, καΐ κεν ο γε θνητοίσι καΐ άθανάτοισι άναζεν И совершилось бы в этот же день невозвратное дело, Стал бы владыкою он над людьми и богами Олимпа.Расчленение Тифона вызывает в памяти один из древнейших мотивов древневосточной космогонии - убийство Тиамат богом Мардуком. Вавилонский царь регулярно «повторял» эту космогонию (ср.: Cornford 1952: 218 s.).
(обратно)204
Там же. 465. П. Мазон (ad. loc) не решился вычеркнуть этот стих, поскольку в «Теогонии» «не раз встречаются примеры такого рода противоречий».
(обратно)205
Сформулированная П. Мазоном проблема такого перерыва в процессе упадка (Mazon 1914: 60) у Голдшмидта (Goldschmidt 1950) и Вернана (Vernant 19816) решается иначе.
(обратно)206
Гесиод. Труды и дни. 765. Сказанное выше стоит сопоставить с замечаниями Э. Бенвениста (Benveniste 1940: 15): для крестьянина-латинянина время - «это прежде всего состояние неба, пропорция соотношения элементов, которые образуют атмосферу и определяют ее свойства в каждый отдельный момент, и в то же время это - соответствие данной метеорологической ситуации тому, за что стоит браться». Таково первое значение слова tempus, более близкое к weather, чем к time.
(обратно)207
Вспомним строки Пиндара (Пиндар. Пифийские оды. VIII. 95—97): Έπάμεрог τί δε τις; τί δ'οιπτς; σκιάς οναρ άνθρωπος· («Однодневки,/Что — мы? что — не мы? Сон тени — /Человек»; пер. М. Л. Гаспарова). Значение слова Εφήμερος разъяснил Френкель (Frankel 1946; Frankel 1931: 23-39).
(обратно)208
Fr. 66 Bergk, стк. 7 в пер. В. Вересаева. Э. Бенвенист показал, что ρυθμός означает: «форма в то мгновение, когда ее принимает нечто подвижное, изменчивое, текучее; форма того, что органической формы не имеет» (Benveniste 1951: 407)
(обратно)209
Пиндар. Пифийские оды. I. 178—180 (пер. М. Л. Гаспарова). См. также тексты, приведенные Шерером (Schaerer 1958: 135).
(обратно)210
Fr. 4, 16 Bergk.
(обратно)211
Пиндар. Олимпийские песни. X. 53—55 (пер. М. Л. Гаспарова).
(обратно)212
Там же. П. 66 сл. Вечность символизирует выражение с нередко встречающейся игрой слов: «твердыня Крона» (Κρόνου τύρσίς). От существа, привязанного ко времени, до того, кто проживает три жизни, пролегает некоторая эволюция, которую следует отметить, но речь еще не идет о всеобъемлющем возрождении (палингенесии), о котором говорит Геродот (Геродот. II. 123). Здесь я не стану затрагивать проблемы, связанные с представлениями о времени в религиозных сектах и в особенности у орфиков, относительно которых в моем тексте 1960 г. содержится немало заблуждений, на что сразу же обратил мое внимание П. Буайансэ (Boyancé Р.).
(обратно)213
Ср.: Frankel 1931: 35.
(обратно)214
Геродот. I. 74; Аристотель. Политика. I. 11. 1259 а. 9—19; Диоген Лаэртский. I. 26. О вымышленном характере предсказания Фалеса ср.: Neugebauer 1962: 142—143.
(обратно)215
Fr. 1 Diels, пер. А. В. Лебедева.
(обратно)216
См. замечания общего характера: Vernant 1981в.
(обратно)217
Общее, во многом гипотетическое, описание системы Анаксимандра можно найти: Mugler 1953: 17, 18; прежде всего см.: Kahn 1960: 166—198.
(обратно)218
См., например: fr. 67, 88 Diels.
(обратно)219
Fr. 103 Diels, пер. А. В. Лебедева. Этой-то привилегии и лишены люди, по словам Алкмеона Кротонца: «Люди погибают потому, что не могут соединить начало с концом» (пер. А. В. Лебедева).
(обратно)220
Fr. 57 Diels; ср.: Гесиод. Теогония. 123, 124.
(обратно)221
Fr. 106 Diels.
(обратно)222
Ср.: Аэций. II. 32. 3 и Цензорин. XVIII. 11 = fr. 22 (12]. А 13 Diels. См., однако: Kirk 1954: ЗОЮ: по его мнению, «великий год» имел не космологическое, а антропологическое значение. Если согласиться с этим суждением, придется допустить, что в философии Гераклита существовала связь между человеческими и небесными циклами.
(обратно)223
Понятно, что в рамках данного исследования мы не стали рассматривать последствия открытия Анаксимандра у других ионийских или италийских «физиологов» (натурфилософов?). Мысль Эмпедокла, к примеру, развивалась совершенно параллельно.
(обратно)224
Евдем. Физика. В III, fr. 51. Этот фрагмент цитирует Симпликий (Симпликий. Комментарий к «Физике». 732. 23). Таким образом, текст этот дошел до нас в передаче весьма позднего автора. (Правда, и первый фрагмент Анаксимандра знаком нам благодаря тому же самому Симпликию, византийскому философу VI в.) Независимо от того, древний это текст или нет, он прекрасно показывает, что же такое «вечное возвращение» — рассуждение на пределе, свойственное некоторым теоретикам. См. комментарий к этому тексту: Gomperz 1904—1910/1: 175, 176. Гомперц (Gomperz Th.) соглашается с пифагорейской его атрибуцией, но справедливо замечает, что возрождение (палингенесия) и вечное возвращение не обязательно связаны друг с другом.
(обратно)225
Развитие во второй половине IV в. до н. э. того, что Фестюжьер (Festugière Α.-J.) назвал религией «космического Бога», дает нам возможную дату, тем более вероятную, что, если взгляды Платона по этому поводу остановились в своем развитии на полпути, то Аристотелю данное учение было знакомо в самом чистом виде (Аристотель. Problemata. XVII. 916а. 28 сл.).
(обратно)226
Ср.: Mugler 1953: 145, 146. Это в самом деле сложный вопрос, еще более запутанный вследствие многочисленности послеэпикуровскоих источников. Придерживаясь самых древних свидетельств, ограничимся простой констатацией: в одном-единственном тексте (Аристотель. Физика. VIII. 1. 25lb. 16 = fr. 69 (55]. А 71 Diels.) упоминается о времени у Демокрита, — в связи с тем, что тот считал время «нерожденным». Заметим, однако, что тот же Аристотель (там же. VIII. 252а. 34 = fr. 68 (55]. А 65 Diels. ) упрекает Демокрита за то, что тот объясняет природную причинность всех вещей их историей, а еще в одном месте (там же. П. 4. 196а. 25 = fr. 68 (55]. А 69 Diels.), метя, очевидно, в Демокрита, он подвергает критике тех, кто объясняет возникновение мира случайностью, а возникновение живых существ — законами природы. Возможно, таким образом у Абдерита и разрешался один из аспектов очень сложной проблемы отношений между физикой и этикой. Действительно, у Демокрита человеческая жизнь организована в зависимости от времени или скорее вопреки времени (ср.: fr. 66, 119, 183, 203 Diels.). Вопреки тому, что я писал раньше, конечно, необходимо дополнить эти ссылки фрагментами из «Малого Миростроя» (fr. 68 (55]. А 5. Р. 135, 136 Diels.). В этих текстах противопоставляются технический и нравственный прогресс в истории человечества, и дилемма эта находит свое частичное разрешение в рассуждении о политике; принадлежность текста Демокриту, на мой взгляд, теперь вполне доказана. См.: Cole. 1967.
(обратно)227
Ксенофан. Fr. 18 Diels, пер. А. В. Лебедева.
(обратно)228
Об оригинальности Ксенофановой теологии см.: Jaeger 1966: 45—62.
(обратно)229
Ср.: fr. 27 Diels: «Ибо все из земли и в землю все умирает».
(обратно)230
Ксенофан. Fr. 1, 14 Diels.
(обратно)231
У софистов эта тема выступает в тесной связи со спорами о природе и законе.
(обратно)232
Критий. Fr. 25 Diels.
(обратно)233
Такова же и основная мысль знаменитого хора из «Антигоны» (стк. 331, 332): «Много в природе дивных сил, / Но сильней человека нет», — где превозносятся мастерство и могущество человека: «И речь, и воздушную мысль, / И жизни общественной дух / Себе он привил» (пер. Φ. Ф. Зелинского), но заканчивается этот хор вполне традиционно (Segal 1964). Данное направление мысли породило внушительные списки изобретений, которые мы находим у Плиния (Плиний. Естественная история. VII. 57) и Климента Александрийского (Климент Александрийский. Строматы. I. 74). Наряду с этим, Продик (fr. 5 Diels) связывает изобретение богов с открытием полезных вещей, тогда как, по мнению Протагора (fr. 4 Diels), человеческая жизнь слишком коротка, чтобы решить, существуют ли боги.
(обратно)234
Cp.:Jacoby 1926: 1-2.
(обратно)235
См. принципиально важную статью: Finley 19656.
(обратно)236
Геродот. III. 122 (курсивом выделена часть фразы, отличающаяся от перевода Г. А. Стратановского; к ней, собственно, и относится следующий комментарий П. Видаль-Накэ. - Примеч. пер.): дословно: «из поколения людей». По моему разумению, в этом тексте содержится противопоставление людей, рожденных от людей, людям, рожденным от богов, как в случае с Миносом.
(обратно)237
Т. е. в данном случае «генеалогиям» Гекатея. Но и те уже ограничивались повествованием о «деяниях» людей. Эта диалектика обернется против Геродота в труде Фукидида.
(обратно)238
Геродот. II. 143—144. Было бы интересно рассмотреть такой открытый характер времени у Геродота параллельно с открытым же характером пространства. У ионийских историков пространство представляло собой символическое и геометрическое пространство; у Геродота пространство сохраняет многочисленные следы этого архаизма, но отчетливо виден переход к пространству, которое, как я считаю, не совпадает с пространством торговцев; эту тему, как я писал, еще только предстояло исследовать, и она действительно была изучена в работе Ф. Артога (Hartog 1980), который продемонстрировал, как у Геродота повсюду, даже там, где речь идет об этнографии, неотвратимо присутствует гражданское пространство греческого, полисного типа. Кроме того, сошлюсь на: Heidel 1937.
(обратно)239
Там же. VI. 109 (слегка измененный пер. Г. А. Стратановского); ср.: Myres 1953: 52—54. Разумеется, не всегда боги воздают по справедливости. Но они только утверждают или поддерживают решения, принятые людьми. Нет ничего более поразительного, чем сравнение того, как Афина участвует в совете ахейцев, с рассказом Геродота о трех совещаниях у Ксеркса, прерываемых его сновидениями (там же. VII. 8—19), до вмешательства богов. По сравнению с Гомером, все переворачивается. Порядок, или скорее ясность, теперь на стороне людей. Гомер писал с высоты Олимпа, Геродот же о воле богов знает лишь благодаря сомнительному посредничеству оракулов.
(обратно)240
Как это делает Мейерсон (Meyerson 1956: 339).
(обратно)241
Геродот. II. 123. Равным образом и слова о том, что «существует круговорот человеческих дел» (там же. I. 207), он вкладывает в уста Креза, дающего совет Киру.
(обратно)242
В статье это место цитируется по французскому переводу, приведенному: Meyerson 1956: 339.
(обратно)243
Фукидид. III. 82. 2 (слегка измененный пер. Г. А. Стратановского).
(обратно)244
Ср.: Gomme 1945/1.
(обратно)245
Фукидид. I. 22. Не думаю, что можно утверждать, как это делает Гомм (Gomme Α.), будто будущее, о котором идет речь, для греков, читавших Фукидида, уже стало настоящим (ср.: Gomme 1945/1).
(обратно)246
Гиппократ. Prognosticon. I. Связь между Фукидидом и медициной была выявлена в: Cochrane 1929, а затем и в многих других работах.
(обратно)247
Ср.: Grundy 1948: 419; Romilly 1956: 276—278. Последняя отмечает: «Можно сказать, что его изложение фактов рискует оказаться как раз слишком рациональным, в той мере, в какой он производит некую унификацию истории» (с. 276). Лучше и не скажешь, но я не уверен, что здесь мы имеем дело (как, видимо, считает Ж. де Ромийи) с относительной неудачей Фукидида. Таковой она может считаться лишь на взгляд современного историка. А Фукидид как никогда близко подошел к поставленной цели. Именно это и имел в виду Коллингвуд, сказав, что тот, скорее, был отцом исторической психологии, а не истории (Collingwood 1946: 29).
(обратно)248
Ср. замечания Ж. Де Ромийи по поводу рассказа о прибытии Гилиппа в Сиракузы (Romilly 1956: 57).
(обратно)249
Ср.: Фукидид. III. 82. 2: «во время мира и процветания как государство, так и частные лица в своих поступках руководствуются лучшими мотивами, потому что не связаны условиями, лишающими их свободы действий (ανάγκας)» (пер. Г. А. Стратановского).
(обратно)250
Для общего обзора см.: Romilly 1966.
(обратно)251
Анализ соответствующих текстов см.: Schmitz-Kahlmann 1939. Любопытно, как Исократ обращается с мотивом первооткрывателей. Он используется ради пользы полиса (ср.: Исократ. Панегирик. 47. 48), но сам полис всем обязан богам (там же. 28. 29). Историзм Исократа, как и всякий другой, накладывает отпечаток на заботы о настоящем. Афины должны явиться как полубожественный эвергет (благодетель) Греции. Подобной же должна быть участь царей, к которым он обращается.
(обратно)252
Теперь я могу сослаться на главы II. 3 и IIIb: Loraux 1981, где к тому же можно найти богатую библиографию.
(обратно)253
Все эти факты хорошо разобрал ван Гронинген (Groningen 1953). Но он ошибался, считая, что мы здесь имеем дело с одной из неизменных характеристик греческой мысли. С другой стороны, характерно, что в одном из редких текстов Демосфена, где ощущается течение времени (Демосфен. Филиппика. III. 47, 48), упоминается о прогрессе в единственном искусстве (τέχνη), которое действительно переживает массовое развитие в IV в. — в военном искусстве.
(обратно)254
Эсхин. Против Ктесифонта. 132; ср.: Он же. О посольстве. 75.
(обратно)255
Tod 1948/2: 176. Как мы видели, тема эта встречается при развязке некоторых трагедий. Я не слишком уверен, что такое вторжение бога времени в мир людей в самом деле было признаком оптимизма IV в., как полагает Фестюжьер (Festugière 19496: 155, 156). Найти ссылки на ораторов касаются лишь исторического времени, однако было бы интересно рассмотреть, насколько в судебных речах IV в. вследствие развития торговли исчезла старая концепция времени как некоего чудовища, которое очень трудно заключить в рамки договора. Ср.: Gernet 1956.
(обратно)256
Платон. Парменид. 155е сл. Это очень хорошо отметил Корнфорд (Cornford 1939).
(обратно)257
Он же. Теэтет. 155b—с.
(обратно)258
Он же. Федон. 70d.
(обратно)259
Там же. 60Ь, пер. С. П. Маркиша.
(обратно)260
Он же. Парменид. 152Ь сл. См. также: Теэтет. 155b—с.
(обратно)261
Там же. 156d—е, пер. H. Н. Томасова. Вслед за Корнфордом (Cornford 1939, ad loc.) и Брессоном (Brisson 1970—1971) напомним что «третья гипотеза», откуда я привел данный текст, есть не что иное, как дополнение ко второй, выводы из которой (если существует единое, то оно причастно всем противоположностям, и в частности тем, что порождаются временем) повторяются в начале третьей.
(обратно)262
Аристотель. Метафизика. А 6. 987b сл. Ср.: Платон. Филеб. 24с—d; Он же. Тимей. 52d. Эта мысль идет от Гераклита (ср.: fr. 22 (12]. А 22 Diels.).
(обратно)263
Платон. Федон. 72b. С другой стороны Голдшмидту удалось доказать, что критика трагедии как подражания человеческой жизни, «сделанного из необратимых слов, непоправимых поступков и событий, строгая последовательность которых механически задана причинностью возникновения» (Goldschmidt 1948: 58), предполагает и критику линейного времени. Заметим на это, что критика метила не столько в трагедии Софокла или Эсхила, у которых в заключительной сцене действие переносилось во время богов (см.,например, финал «Прометея» или «Эдипа в Колоне»), сколько в «гуманистические» трагедии Еврипид а.
(обратно)264
Там же. 70с; 77е; 72а-b. Ср.: Goldschmidt 1963: 183-185.
(обратно)265
Он же. Государство. 498d, пер. А. Н. Егунова.
(обратно)266
Он же. Законы. 888а—b, пер. А. Н. Егунова.
(обратно)267
Там же. 908е, выражение «исправительные дома» (maisons de correction) в переводе Диэса (Dies) кажется мне слабоватым.
(обратно)268
Там же. 904с.
(обратно)269
Там же. 909а—с. По крайней мере, таковы взгляды Платона начиная с «Государства». Ни миф об Эре (Платон. Государство. 614b сл.), ни миф из «Федра» (Платон. Федр. 246а сл.) не предусматривают ни окончательного спасения (т. е. в случае «Федра» уверенности обретшей крылья души в том, что она снова не упадет), ни вечной кары, которая допускалось в «Федоне» (Платон. Федон. 113е сл.) и в «Горгии» (Платон. Горгий. 525с сл.): следовательно, возможность вырваться из времени перестала существовать (однако см.: Платон. Государство. 615d).
(обратно)270
Платон. Филеб. 54с. А не «ради бытия», как понимают Диэс и Робэн (Robin L.). Выше ουσία определялась именно как αυτό καθ ' αυτό (там же. 53d).
(обратно)271
Там же. 26d. Смысл этого выражения именно таков (ср.: Robin 1935: 155).
(обратно)272
Он же. Тимей. 37с—d сл. К этому тексту не следует приступать, не показав предварительно те моменты платоновской философии, которые позволяют его понять. См. комментарий Бриссона (Brisson 1974: 392—393). (Ниже используется перевод «Тимея», выполненный С. С. Аверинцевым. — Примеч. пер.)
(обратно)273
В «Тимее», из-за фикции демиурга, эта зависимость не проявляется. В «Законах» (Платон. Законы. 898d) «душа вращает все». Очевидно, что речь идет о круговом движении (κατ' αριθμόν κυκλουμένου? — Платон. Тимей. 38а); нет никакой необходимости опровергать ни Тэйлора, который говорит о ньютоновском времени (Taylor 1928: 678— 691), ни Мюглера, который говорит о времени «монодромном» (Mugler 1953: 59, 60). Ср.: Cornford 1937; Moreau 1955: 365-366.
(обратно)274
Платон. Государство. 546а.
(обратно)275
Он же. Тимей. 43d—е.
(обратно)276
Там же. 39d.
(обратно)277
Там же. 22d.
(обратно)278
Там же. 44b. Лишь достигнув пятидесяти лет философы в «Государстве» получают право созерцать Благо (Платон. Государство. 540а), т. е. выйти из времени. Таким образом Платон занимает позицию, противоположную точке зрения Демокрита (fr. 183 Diels), согласно которой возраст не делает нас мудрее. «Известно, что вопрос о том, "возрастает ли со временем счастье", постоянно дебатировался в философских школах, задолго до того, как ему посвятил трактат Платон» (Goldschmitd 1979: 55).
(обратно)279
Он же. Законы. 659с—d, см.: Houtte 1953: 24. О функции старцев в последнем сочинении Платона ср.: Schaerer 1953.
(обратно)280
Там же. 721с (пер. А. Н. Егунова); ср.: Он же. Пир. 207а сл.
(обратно)281
Там же. 828b—с, 745b—е, 967а сл.; ср.: Reverdin 1945: 62—73; Boyancé 1952; см. также: Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 140—146 и мой очерк «Этюд о двусмысленном» (ниже).
(обратно)282
Он же. Письма. VII. 325е — 326d, пер. С. П. Кондратьева.
(обратно)283
Он же. Законы. 626а.
(обратно)284
Платон. Законы. 889b-е.
(обратно)285
Он же. Государство. 516с—d, пер. А. Н. Егунова.
(обратно)286
Он же. Тимей. 21е — 22b. Знаменитый разговор Солона с саисским жрецом представляет собой параллель разговору Гекатея с фиванским жрецом Аммона у Геродота.
(обратно)287
Он же. Законы. 676b—с, пер. А. Н. Егунова. Геродот же не думал, что эволюция обратима: «Затем в продолжение моего рассказа я опишу сходным образом как малые, так и великие людские города. Ведь много когда-то великих городов теперь стали малыми, а те, что в мое время были могущественными, прежде были ничтожными» (Геродот. История. I. 5, пер. Г. А. Стратановского).
(обратно)288
Он же. Политик. 273d, пер. С. Я. Шейнман-Топштейн. См. ниже очерки «Афины и Атлантида» и «Платоновский миф в диалоге "Политик"».
(обратно)289
Люди в цикле Кроноса рождаются стариками, а умирают детьми.
(обратно)290
См.: Goldschmidt 1959: 118-120; Robin 1935: 278.
(обратно)291
В этом, как и во многих других случаях, Аристотель делает вид, будто воспринимает Платона буквально (Аристотель. Политика. V. 1316а сл.). По этому пути за ним последовал Поппер (Popper 1966/1). Его смелая книга, сделавшая из Платона предтечу Гегеля, Маркса и Гитлера, вызвала немалую полемику, подчас блестящую, почти всегда ненужную. Ср.: Vries 1953; Bambrough 1968; Levinson 1953; а также: Brisson 1977: 191 (где собрана библиография).
(обратно)292
Платон. Законы. 677b сл. В мифе из «Политика» (Платон. Политик. 274c-d) человеческие изобретения описываются как дары богов. Речь идет о передаче одной и той же реальности в двух разных регистрах. Рисуя в «Политике» неотвратимый упадок, Платон подчеркивает полную зависимость этих «первобытных» людей. Но в перспективе платоновской философии «изобретение» имеет смысл лишь в той степени, в какой оно подражает божественным образцам.
(обратно)293
Там же. 683а.
(обратно)294
Там же. 678а.
(обратно)295
Там же. 691d сл.
(обратно)296
Там же. 686а сл., 625с сл.
(обратно)297
Там же. 736d.
(обратно)298
Статья написана в соавторстве с П. Левеком и опубликована в: «Historia». 1960. Vol. 9. P. 294-308.
(обратно)299
Впрочем, первое из них опиралось на фиванскую традицию (ср.: Фукидид. История. IV. 93).
(обратно)300
Главные свидетельства источников об этом сражении следующие: Ксенофонт. Греческая история. VI. 4. 1-16; Диодор. XV. 51-56; Павсаний. Описание Эллады. IX. 13; Плутарх. Пелопид. 20—23. Основная библиография приводится в: Kromayer, Veith 1931: 290; Kromayer, Veith 1926: 33-34 (карта 5); Glotz, Cohen 1936: 148-149; Bengtson 1969: 247, примеч. 4, 5.
(обратно)301
Плутарх. Пелопид. 23, пер. С. П. Маркиша.
(обратно)302
Ксенофонт. Греческая история. VII. 5. 18-27; Диодор. XV. 84-87. Библиографию см.: Kromayer, Veith 1931: 24, 317; Kromayer, Veith 1926: 35-36, карта 5, 7, 8; Glotz, Cohen 1928: 176-177; Bengtson 1969: 284, примеч. 4.
(обратно)303
Там же. VII. 5. 23-24.
(обратно)304
В своей интерпретации хода сражения мы следуем за Ж. Гатцфельдом (Hatzfeld J.) (см. его издание «Греческой истории» Ксенофонта CUF). Однако в его перевод вкралась досадная ошибка: слова άπό του ευωνύμου κέρατος («с левого фланга» — Ксенофонт. Греческая история. VII. 5. 24) он переводит «с правого фланга». Изменения, вносимые Кромайером (Kromayer J.), не имеют отношения к нашей теме (ср.: Kromayer, Veith 1926). Эта тактика, примененная фиванским военачальником, впоследствии вполне могла считаться просто неким фиванским приемом; отсюда риторическое преувеличение у Плутарха: «Ведь и фиванцы, к примеру, с тех пор, как они при Левктрах левым крылом войска одолели и обратили неприятеля в бегство, во всех сражениях первенство стал отдавать левому крылу» (Плутарх. Римские вопросы. 78. 282е, пер. Н. В. Брагинской).
(обратно)305
Ясно, что здесь речь идет только о пехоте; конница обычно делилась на два равновеликих и симметрично расположенных отряда.
(обратно)306
На правом фланге находился архонт-полемарх при Марафоне (Геродот. VI. 111). Там же было место царя, как в трагедии (Еврипид. Просительницы. 656—657), так и в спартанском войске (Ксенофонт. Лакедемонская полития. XIII. 6). Другие ссылки на источники по этому вопросу можно найти в: Lugebil 1864-1872: 602-624.
(обратно)307
То, что командование правым флангом означало также и гегемонию, подчеркивает в частности Плутарх (Плутарх. Аристид. 16), ссылаясь на Геродота (IX. 46): «Спартанцы добровольно отдают им (афинянам) правое крыло и в какой-то мере уступают первенство»; ср. также: Плутарх. Римские вопросы. 78. 282е. Стоит также напомнить занятный анекдот, приведенный Диодором (I. 67): будто бы во время одного из походов Псамметиха греческие наемники были поставлены справа от царя к великому ужасу египтян, которые бежали (ср.: Геродот. II. 30). Относительно достоверности этого эпизода см. библиографическую сводку в: Griffith 1955: 144—149.
(обратно)308
Тегейцы тщетно оспаривали у афинян право сражаться на левом фланге (Геродот. IX. 26). Чтобы как-то удовлетворить тегейцев, их поставили непосредственно слева от спартанцев, как явствует из текста Геродота: «Рядом с собою спартанцы поставили тегейцев из-за почета и доблести» (IX. 28, пер. Г. А. Стратановского). По чисто техническим причинам спартанцы затем предложили афинянам, которым уже доводилось сражаться с персами, поменяться с ними местами и построиться таким образом против персов. Это решение было с радостью принято афинянами, усмотревшими в нем отказ спартанцев от гегемонии (ср.: Геродот. IX. 46; Плутарх. Аристид. XVI). Однако осуществление этого маневра сорвалось из-за персов. Весь этот рассказ как выдумку афинян подверг критике Плутарх (Плутарх. О злокозненности Геродота. 872а сл.); ср. также: Woodhouse 1898: 41-43.
(обратно)309
Фукидид. V. 67. 2, пер. Г. А. Стратановского. В том же самом пассаже Фукидид сообщает, что скириты (легковооруженные войска из горной области на севере Лаконии) занимали левое крыло. Но это не было собственно говоря «привилегией», как получается в переводе Ж. Вуалкена (Voilquin J.) и Ж. де Ромийи (в пер. Г. А. Стратановского — «право». — Примеч. пер.). Историк просто замечает: «Они одни из лакедемонян сами занимали это место в боевом порядке» (там же. V. 67. 1).
(обратно)310
Всегда существовала возможность победы правого фланга каждой из сторон, что обычно приводило к своего рода ничейному исходу. Отсюда восхищение Ксенофонта действиями Агесилая в битве при Коронее: разбив левый фланг неприятеля, он повернул войско, чтобы разбить и его правый фланг, одерживавший верх над орхоменцами (Ксенофонт. Греческая история. IV. 3. 16—19).
(обратно)311
Ксенофонт. Киропедия. VII. 1. Крезовы египтяне построены в 100 рядов (там же. VI. 4. 17) подобно фиванцам при Левктрах, строй которых «имел в глубину не менее 50 щитов» (Ксенофонт. Греческая история. VI. 4. 12) против 12 рядов у спартанцев. (Заметам, что уже в битве при Делии боевые порядки фиванцев насчитывали 25 рядов в глубину: Фукидид. IV. 93). Колесницы Кир применяет в бою точно таким же образом, как Эпаминонд - кавалерию при Мантинее. По приказу Кира его войска вступают в бой дважды, причем оба раза сначала на правом фланге. Первое действие: удар на неприятеля с флангов с целью не допустить окружения сильно растянутыми войсками Креза; Кир атакует справа, и лишь затем Артагерс вступает в бой на левом фланге. Второе действие: настоящее сражение началось атакой Абрадата, о котором особо сказано, что он занимал правый фланг. В этой картине присутствует органическая связь между двумя флангами, что было одним из больших достижений в области военной тактики конца V в. Еще до Александра этим сумел воспользоваться Эпаминонд, но, конечно, это ничуть не лишает оригинальности его атаку левым крылом.
(обратно)312
Ср.: Wilcken 1933: 85, 103, 134, 182.
(обратно)313
Геродот. VI. 12. Ср. соответствующие замечания Ф. Леграна (Legrand P. H.) в издании «Истории» Геродота (CUF).
(обратно)314
То, что сражение началось на левом фланге, было случайностью: греки были готовы отступить перед натиском флота варваров, когда афинянин Аминий из Паллены напал на вражеский корабль и таким образом подал сигнал к бою.
(обратно)315
Точно так же и в битве при Сесте Миндар с самыми быстроходными кораблями занимал левый фланг (ср.: Фукидид. VIII. 104).
(обратно)316
Под «старым способом» сражения, как определенно говорит Фукидид (ср.: Фукидид. I. 49; II. 89; VII. 62), следует понимать бой, в котором более важную роль играют сосредоточенные на палубах воины, нежели маневрирование судов. О порядке построения кораблей речь не идет.
(обратно)317
Ксенофонт. Греческая история. VII. 5, пер. С. Я. Лурье.
(обратно)318
Традиционная теория, в частности, изложена в: Rüstow, Köchly 1852: 126, 143. К. Люгебиль (Lugebil К.) рассматривает социологическое объяснение, но тут же отвергает его под предлогом того, что в сражениях классической эпохи левый фланг был не наихудшим местом, а вторым после правого (Lugebil 1864—1872: 605). Это неоспоримо: см.: Геродот. VI. 111 (Марафон); IX. 26 сл. (Платеи), а также слова Плутарха (Плутарх. О злокозненности Геродота. 872а) о том, что спор между афинянами и тегейцами велся περί των δευτερβίων; ср. также примеры из Еврипида (Просительницы. 659; Гераклиды. 671). Но совершенно ясно, что в мире, разделенном на правое и левое, середина имеет гораздо меньшее значение. Зато Кромайер и Байт (Veith G.) проводят различие между склонностью наступать правым флангом и привычкой ставить справа лучшие войска (Kromayer, Veith 1928: 85, 94).
(обратно)319
Фукидид. V. 71. 1, пер. Г. А. Стратановского. Едва ли стоит упоминать, что щит держали левой рукой. Предложенное Фукидидом объяснение решительно оспаривал У. Вудхауз (Woodhouse Ж), который желал бы приписать этому явлению причину чисто физического свойства: каждый воин должен был нести тяжелый щит, отчего его шаг и сбивался направо (Woodhouse 1916-1918: 72-73). Против этой идеи см.: Gomme 1937: 134-135.
(обратно)320
Собственно правый фланг занимали тегейцы: вероятно, эту привилегию они получили потому, что битва происходила в Аркадии, на земле их соседей и традиционных врагов — мантинейцев. Мы уже видели, что на противоположной стороне правый фланг союзных сил по той же самой причине занимали мантинейцы, а по соседству с ними стояли аркадяне.
(обратно)321
Фукидид. V. 70, пер. Г. А. Стратановского.
(обратно)322
Ср., в частности, замечания Павсания (Павсаний. III. 17. 5) о том, что в Спарте было воздвигнуто святилище Муз — покровительниц флейтистов, кифаристов и игроков на лире, задававших такт движению воинов.
(обратно)323
Приведем довольно странный комментарий Гомма к этому месту (Gomme 1945: 283): «Именно необутая правая нога препятствовала увязанию в глине, а не, как полагали некоторые (Маршан), обутая левая нога. Обычно для этой цели и при такой погоде следовало бы надевать обувь определенного типа; одна сандалия могла быть снята по какой-то особой причине. Арнолд к месту цитирует "Последнего менестреля" В. Скотта (Скотт В. Последний менестрель, песнь IV, 18):
У каждого с колен одежду прочь, чтоб воинам карабкаться помочь. Each better knee was bared, to aid the warriors in the escalade».Странно видеть, как колени при этом сравниваются со ступнями ног, а скалы — с грязью.
(обратно)324
Так называется одна из статей В. Деонна. См. также: Deonna 1940. На основании этих двух работ можно сделать вывод, что левое, скорее всего, было посвящено подземным богам. О изображениях monokrêpides в скульптуре см.: Amelung 1907. Следует отметить, что в исследованиях Деонна приводится очень много примеров из военной жизни. Допуская явную ошибку, автор пишет (Deonna 1940: 57), что платейцы были обуты только на правую ногу, и затем проводит аналогии между этим фактом и devotio у римлян. В действительности же интерпретация действия, ритуальное значение которого не подлежит сомнению, возможна лишь на основе широкого сравнительного исследования. На сходном обряде основан сюжет «Атласной туфли» (Claudel P. «Soulier de satin») Поля Клоделя. Другое, также связанное с религией объяснение «моносандализма» не так давно предложил А. Брелих (Brelich 1955—1957: 469, 470): ношение только одной сандалии означало смягченный вариант дефектности нижних конечностей, которая часто поражала героев, поскольку недостаток воспринимался как условие совершенства; о разбираемом тексте Фукидида ср.: Brelich 1955—1957: 473—474.
(обратно)325
Всем этим мы не хотим вовсе отказывать фукидидовскому объяснению в ценности. Перед собой же мы ставим именно проблему истоков.
(обратно)326
Здесь можно сослаться на классическую работу Р. Гертца «Правая рука» (Hertz 1909). П.-М. Шуль (Schuhl 1946) напомнил, что Бишат (Bichat) был первым современным ученым, который подчеркивал важность социологического объяснения проблемы правого и левого.
(обратно)327
Это выражение принадлежит Р. Гертцу (Hertz 1909: 21). Может быть, его стоило бы несколько смягчить.
(обратно)328
В древнегреческом языке полярность правого и левого превосходно выражается в использовании обозначающих эти понятия прилагательных: ср.: Chan traîne 1955.
(обратно)329
Для общего обзора этого вопроса в античности ср. диссертацию ученика В. Кролля (Kroll W.) Горнатовски (Gornatowski 1936). К сожалению, автор почти не использует огромное количество текстов, которые цитирует. Можно было бы рассмотреть и то, как данная проблема ставится в современную эпоху: так, в одной наукообразной книге (Kobler 1932) автор стремится доказать, что преобладание правой руки — это одно из завоеваний цивилизации, своим появлением обязанное привычке обращаться с оружием, поскольку первобытные люди были левшами.
(обратно)330
Ср. суждение Ж. Робера в: Robert 1944.
(обратно)331
«Пифагорейцы просто выработали определения и придали форму древнейшим народным представлениям» (Hertz 1909: 25, примеч. 50).
(обратно)332
Аристотель. Метафизика. I. 5. 598а 15 = fr. 54 (45) В 5 Diels.
(обратно)333
По нашему мнению, в силу самой своей двусмысленности это утверждение исключает совершенно ненужную гипотезу, представленную, например, в работе А. Рея (Rey 1933: 374), который возводил «систойхию» только к Филолаю.
(обратно)334
Аристотель. О небе. II. 2. 284b 6 = fr. 58 (45) В 30 Diels. Ср. также далее в этом же тексте (там же. II, 285а 10 = fr. 58 (45] В 31 Diels) уточнение, касающееся этой теории: «Можно поэтому только удивляться тому, что пифагорейцы полагали лишь эти два начала: право и лево» (пер. А. В. Лебедева).
(обратно)335
Arist. Fr. 200 Rose = fr. 58 (45) В 30 Diels, пер. А. В. Лебедева. Далее Симпликий замечает, что понятие добра и зла связано прежде всего с правым и левым, гораздо больше, чем с верхом и низом, передом и тылом.
(обратно)336
Ямвлих. О пифагорейской жизни. 83; Протрептик. 21. 11 = fr. 58 (45) С 4 Diels, р. 464. С двумя этими текстами следует сопоставить любопытное замечание Плутарха (Плутарх. О вредной стыдливости. 8): скрещивая ноги, пифагорейцы заботились о том, чтобы левая ни в коем случае не оказалась положена поверх правой. Во всех этих примерах именно начало действия должно совершаться с правой, божественной стороны; ср.: Delatte 1915: 300; Cuillandre 1944: 470.
(обратно)337
Cumont 1949: 279—280. Об изображениях пифагорейского «Y» на надгробных стелах см.: Cumont 1942: 427; Picard 1940; 1945: 154. Систематический характер этой топографии подтверждают и тексты. Они были собраны в книге: Gornatowski 1936: 48. Самый известный — знаменитая «орфическая» табличка из Петелии (fr. I (66] 17 Diels), в которой указывается, что нужно избегать источника, расположенного слева от чертогов Аида, чтобы пойти направо к озеру Памяти. Об этой проблеме в целом см.: Rohde 1928: 444, примеч. 4. Исследования Дж. Гриффитса (Griffiths 1955) и С. Моренца (Morenz 1957) дают основания распространить эти соображения и на загробный суд у древних египтян. Это хочется подчеркнуть тем более, что долгое время преобладало противоположное мнение: ср., например: Wiedemann 1880: 135. Поэтому и можно было писать, что у египтян левое представляло собой почетное место: ср.: Groningen 1946: 121.
(обратно)338
Отсюда и стих Парменида (fr. 28 (18] В 17 Diels): «Справа — мальчики, слева — девочки». Врач — автор «Афоризмов» более осмотрителен в суждениях (Гиппократ. Афоризмы. V. 48. 545 Littré): «мужские зародыши располагаются скорее справа, а женские — скорее слева». «Афоризмы» датируют концом V в. (Bourgey 1953: 36—37). Тексты сходного содержания, которые встречаются на всем протяжении античности, собраны: Gornatowski 1936: 39—44. Ср. также: Rey 1933: 444.
(обратно)339
Гиппократ. Эпидемии. II. 6. 16 (р. 136 Littré).
(обратно)340
Он же. Афоризмы. V. 38. (р. 544 Littré).
(обратно)341
Он же. Болезни. 3 (р. 154 Littré). Похожие «утверждения» встречаются еще у Аристотеля. Так, у животных лучшее находится справа (Аристотель. О частях животных. 665b. 22 сл.). У человека сердце расположено слева, чтобы компенсировать чрезвычайный холод этой стороны тела (там же. 666b. 7).
(обратно)342
Ср., в частности: Jaeger 1945: 445.
(обратно)343
Напомним, что в «Илиаде» правый край лагеря ахейцев занимает Ахилл, а левый — Аякс: ср.: Cuillandre 1944: 18, 19. Едва ли можно усматривать в этом проявление случайности, если вспомнить о роли, которую два этих героя играют в эпосе и в трагедиях.
(обратно)344
Ср.: Cuillandre 1944: 471 и прим. 4 (антропологическая дискуссия).
(обратно)345
Характерные для «эпохи Просвещения» (Aufklärung) признаки во второй половине V в. до н. э. превосходно освещены: Schuhl 1949а: 318 сл.
(обратно)346
«С точки зрения Анаксагора, именно благодаря использованию рук человек и является самым разумным из животных» (Аристотель. О частях животных. 687а. 8 = fr. 59 (46] А 102 Diels: «Анаксагор говорит, что человек — самое разумное из всех животных, потому что у него есть руки», пер. А. В. Лебедева).
(обратно)347
Fr. 64 (51] В 6 Diels. Ср.: Zafiropulo 1956: 86, 87.
(обратно)348
Сходные соображения можно было бы высказать и по поводу трактата «О местах в человеке», который, однако, восходит, видимо, к середине V в. (Bourgey 1953: 37). Ссылки на эти трактаты делают еще более замечательными цитировавшиеся выше заблуждения Аристотеля.
(обратно)349
О кабинете врача, 4 Kühlewein. Текст датируется, вероятно, началом IV в. до н. э. (Bourgey 1953: 33—34). Об этом трактате и отразившемся в нем умонастроении ср.: Bourgey 1953: 60-61.
(обратно)350
Эти краткие замечания относительно technê следовало бы дополнить рассмотрением использования обеих рук в приемах работы греческих ремесленников.
(обратно)351
Платон. Законы. 794d—795d; цитируется начало этого рассуждения в переводе А. Н. Егунова.
(обратно)352
При этом Платон рассуждает как практичный законодатель, совсем как в «Государстве» (Платон. Государство. V. 455а сл.), где он оправдывает свой так называемый феминизм прежде всего житейскими соображениями. Процитированный нами текст «Законов» комментировал Шуль (Schuhl 19496); он показал, что этот пассаж тем более поразителен, что во многих других местах Платон в вопросе о правом и левом смыкается с пифагорейской традицией. Отметим также, что Аристотель в «Политике», довольствуясь тем, что приводит мнение Платона (Аристотель. Политика. II. 1274b. 12, однако, по мнению Ньюмена (Newman), эта фраза является глоссой), весьма рассудительно добавляет от себя, что правая рука более полезна, но все могут научиться владеть обеими руками одинаково.
(обратно)353
По причинам, перечислять которые сейчас было бы слишком долго, мы считаем фрагменты Филолая подлинными. Как известно, долгое время преобладала противоположная точка зрения. Здесь мы не станем упоминать о застарелом споре, восходящем главным образом к одной давней статье (Bywater 1868). Э. Франк (Frank Ε.), своим гиперкритицизмом досадивший столь многим пифагорейцам, дошел до того, что стал считать Филолая «мифической личностью», художественным вымыслом, рожденным фантазией Платона — изобретательного фальсификатора, который выстроил вокруг этого придуманного персонажа свой трактат «О природе» (Frank 1923: 294, примеч. 1). Против таких крайностей выступали, например, Э. Целлер и Р. Мондольфо (Zeller, Mondolfo 1950: 367-385), а также Г. Де Сантиллана (De Santillana G.) и У. Питтс (Pitts W) в небольшой, но очень аргументированной статье (Santillana, Pitts 1951). Дж. Рэйвен (Raven J. Ε.) и Дж. Кэрк продолжают настаивать на подложном характере фрагментов (Raven 1948: 93; Kirk, Raven 1957: 306—311). Ряд уточняющих соображений в пользу подлинности текста можно обнаружить в: Wuilleumier 1939: 566—573; Michel 1950: 258 — 261. Здесь мы ограничимся замечанием о том, что основной довод в пользу подлинности фрагментов — это прежде всего слабость выдвигаемых против этого аргументов, которые слишком часто основываются на пристрастной логике, свойственной спорам такого рода. Так, П. Таннери (Tannery 1904) настаивает на том, что трактат «О природе» стали цитировать не ранее I в. до н. э. Но это значит не считаться ни с цитатой у Аристотеля (Аристотель. Евдемова этика. II. 8. 1225а 30 = fr. 44 (32] В 16 Diels), ни с бесспорными упоминаниями у Платона в «Федоне» (Платон. Федон. 86а) и возможными в «Филебе» (Платон. Филеб. Спевсипп. 17d сл.), ни с влиянием, которое это сочинение, видимо, оказало на творчество Спевсиппа («Теологумены арифметики», 82, 10 De Falco = fr. 44 (32] А 13 Diels). См. справедливые замечания Целлера об отношении Аристотеля, о котором слишком часто забывают, что он не был историком (Zeller 1876). Что же касается одного из последних по времени противников подлинности, Дж. Рэйвена, он подчеркивает два основных моменга (Kirk, Raven 1957: 309—310). Прежде всего, говорит он, даже если Мондольфо и удалось найти объяснение всех вызывающих подозрение деталей, это оказывается бессильным против «того, что может считаться самым сильным доводом против подлинности фрагментов, — чрезмерно большого количества таких подозрительных или необычных особенностей» (Kirk, Raven 1957: 309). Но это значит забыть, что в рамках выдвигаемой гипотезы «подозрительными» деталями считаются лишь те, по поводу которых были высказаны подозрения. В конце концов и реальность существования Наполеона можно оценивать на основании количества тех, кто мог усматривать в нем солярный миф. С другой стороны, он утверждает, что Филолаевы фрагменты слишком сильно напоминают то, что пишет о пифагорейцах Аристотель. Обратившись к заподозренным текстам, можно оспорить и этот аргумент, и прежде всего, его легко можно перевернуть. Пора положить предел этой вовремя разоблаченной в книге В. Гольдшмидта (Goldschmidt 1979: 50—52) мании, которая состоит в том, например, чтобы намекать, что та или иная максима Демокрита звучит по-платоновски. До сих пор никто так и не объяснил, зачем какому-то фальсификатору понадобилось, беря за основу Аристотеля или нет, делать из Филолая инакомыслящего пифагорейца, в то время как его инакомыслие не лишено смысла и интереса только в тот период, когда он жил и писал.
(обратно)354
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VIII. 85 = fr. 44 (32] А 1 Diels (со ссылкой на Деметрия); Ямвлих. О пифагорейской жизни. 199 = fr. 44 (32] А 79 Diels.
(обратно)355
Плутарх. Застольные беседы. VIII. 2. 1. 718 е = fr. 44 (32] А 79 Diels.
(обратно)356
Стобей. I. 15. 7 = fr. 44 (32] В 17 Diels. Этот текст помещается среди подлинных фрагментов, но, как отмечает Дильс (Diels H), название сочинения, весьма вероятно, александрийского происхождения. Что же касается транскрипции на «койнэ», которая встречается слишком часто, чтобы это было проблемой, она могла быть выполнена в любую эпоху. Исправления Дильса не вызывают сомнения, по крайней мере в главном. Ср. первый комментарий к этому фрагменту в: Boeckh 1819: 90f. Также см.: Chaignet 1873: 234. У Стобея тексту Филолая предшествует выдержка из доксографического пособия Аэтия «Мнения философов» (Aetius. Placita. II. 10. 1 = Diels. Dox. gr. P. 339), который приписывает Пифагору, Платону и Аристотелю космологию, основанную на разделении правого и левого, и в то же время критику, из которой следует относительность понятий верха и низа в космосе. Здесь мы имеем дело со слишком явным неумелым использованием Платона (Платон. Тимей. 63с), Аристотеля (Аристотель. О небе. II. 2. 284Ь сл.) и, несомненно, рассматриваемого нами текста Филолая.
(обратно)357
Этот текст следует сопоставить с двумя отрывками из доксографического пособия Аэтия (Аэтий. ΙΙ. 7. 7; III. 11. 3 = fr. 44 (32] А 16; 17 Diels), в которых содержится почти все, что мы знаем о космологии Филолая в целом. Там упоминается «верх», но верх этот определяется как περιέχον, «Объемлющий». Верхнюю часть этого Объемлющего Филолай называет Олимпом. Понятие «космос» относится к подзвездному миру, т. е. пространству под сферой Олимпа. Эта деталь представляет трудность, но это не вступает в противоречие с фрагментом 17, как полагал Дильс, тем более что в фрагментах 1, 2, 6 понятие «космос» употреблено в широком смысле слова.
(обратно)358
О новизне философии Филолая в рамках пифагорейства см.: Timpanaro Cardini 1946. Применительно к проблеме движения земли оригинальность его идей отмечает Аэтий (Аэтий. III. 13. 1-2 = fr. 44 (32] А 21 Diels).
(обратно)359
Такая постановка вопроса тем менее удивляет, что Филолай, не слишком твердо придерживаясь той аристотелевской «систойхии», каковую ему странным образом приписали, вводил наряду с четным и нечетным еще и результат их смешения: четнонечетный вид числа (artiopéritton), вероятно, единицу (fr. 55 (32] В 4 Diels; ср.: Аристотель. Метафизика. I. 5. 986а. 17). На эту тему см.: Michel 1950: 335.
(обратно)360
Платон. Тимей. 62с—d, пер. С. С. Аверинцева. Сравнение с фрагментом Филолая проводил уже А. Бек (Boeckh 1819: 92). Аристотель отвергал эти доводы (Аристотель. О небе. II. 2. 285а. 30).
(обратно)361
Т. е. главным образом теория, которой впоследствии придерживался Аристотель. Само собой разумеется, если бы речь шла не о «Тимее», нашлось бы немало эрудитов, считающих, что этот пассаж относится к послеаристотелевскому времени.
(обратно)362
Это было доказано, пусть и с некоторым преувеличением, в комментарии А. Тэйлора (Taylor 1928). Известно, что в последние годы критика склонна отводить пифагорейству главную роль в формировании платоновской системы. См.: Goldschmidt 1940: 117, 118; Boyancé 1941: 146, 147; 1947: 182, 183; 1952: 312, 313. Кроме того, Анри Маргерит в Высшей школе практических исследований на протяжении долгого времени занимался похожими темами.
(обратно)363
Этим и объясняется выдвинутое К. Риттером (Ritter 191Ö: 174; 181—182) бесполезное предположение о том, что таинственный пятый участник «Тимея» и есть Филолай.
(обратно)364
Они собраны у Дильса (fr. 44 (32] А 1; 8 Diels). Рассказ Гермиппа в сочинении Диогена Лаэртского (Диоген Лаэртский. VIII. 85) не содержит упоминания об александрийских шахтах!
(обратно)365
О разных вариантах этого рассказа ср.: Taylor 1928: 39—40; Burnet 1952: 321, 322; Wuilleumier 1939: 568. Невозможно согласиться с Ж. Бюрне (Burnet J.) в том, будто ни один из этих текстов не содержит указания на то, что книга эта была самого Филолая: ср., по крайней мере, сообщение Гермиппа у Диогена Лаэртского (Диоген Лаэртский. VIII. 85).
(обратно)366
Эту жилу, начиная с первой трети III в., разрабатывало сатирическое направление Тимона Силлографа, как свидетельствуют от этом стихи, приведенные Авлом Геллием (Авл Геллий. Аттические ночи. III. 17. 4), в которых, впрочем, Филолай вовсе не упоминается: «Ты сменял маленькую книгу на много денег, и с этими предпосылками взялся писать "Тимея"».
(обратно)367
Ср.: Burnet 1952: 321.
(обратно)368
Платон. Федон. 6Id: «Неужели вы — ты и Симмий — не слышали обо всем этом от Филолая?»; там же. 6le: «Сказать по правде, я уже слышал и от Филолая, когда он жил у нас», — пер. С. П. Маркиша. Следовательно, оба фиванца (ср.: Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. III. 11. 17) входили в пифагорейский кружок, которым руководил Филолай.
(обратно)369
На этой молодости настаивает «Федон» (Платон. Федон. 89а). Эта деталь позволяет отнести пребывание Филолая в Фивах примерно к 400 г. до н. э. Если принять указание Аполлодора в сочинении Диогена Лаэртского (Диоген Лаэртский. IX. 38), сделавшего Филолая современником Демокрита, который и сам родился между 460 и 457 гг. (там же. IX. 41), кротонцу во время его пребывания в Фивах было лет шестьдесят.
(обратно)370
Корнелий Непот. Эпаминонд. II. 2; Цицерон. Об ораторе. III. 139; Он же. Об обязанностях. I. 155; Диодор Сицилийский. X. 11. 12; Плутарх. О демоне Сократа. 16; Павсаний. Описание Эллады. IX. 13, 1; Элиан. Пестрые рассказы. V. 17; Диоген Лаэртский. VIII. 1. 5; Порфирий. Жизнь Пифагора. 55; Ямвлих. О пифагорейской жизни. 250. Диодору Сицилийскому (Диодор Сицилийский. XVI. 2) была известна искаженная версия этой традиции, делавшая Филиппа Македонского соучеником Эпаминонда, слушавшим вместе с ним Лисида: ср.: Aymard 1954: 418, примеч. 4. Эта глупость, сказанная сицилийским историком, не дает оснований считать встречу Эпаминонда и Лисида просто художественным вымыслом (Frank 1923: 294, примеч. 1). О Лисиде ср.: Wuilleumier 1939: 564—565.
(обратно)371
Плутарх. О демоне Сократа, 13: только Филолай и Лисид спасаются при пожаре помещения школы в Метапонте. О различных вариантах этой истории ср.: Wuilleumier 1939: 564, примеч. 3.
(обратно)372
Нонн Панополитанский. Комментарий к речам св. Григория против Юлиана. I. 19 (Patrologia Graeca. T. XXXVI. P. 993-994).
(обратно)373
Аббат Нонн, комментатор св. Григория Назианзина, вероятно, жил в начале VI в.; ср.: Patzig 1890: 30.
(обратно)374
Плутарх. Пелопид. 4. Верно, что эти черты образа Эпаминонда-философа могли быть несколько утрированы в противоположность чисто военному характеру образа Пелопида; ср.: Bersanetti 1949: 86, 87.
(обратно)375
Хронология не создает особых препятствий, тем более что о времени рождения Эпаминонда мы не знаем совсем ничего: ср.: Swoboda 1905: 2675.
(обратно)376
Цитату приводит Аристотель в «Риторике» (Аристотель. Риторика. II. 23. 1398b. 18). Текст фигурирует в ряду других энтимем, т. е. квази-силлогизмов, выдумок, опирающихся на правдоподобие.
(обратно)377
Элиан. Пестрые рассказы. VII. 14.
(обратно)378
Действительно, афинские моряки не нуждались в философе, чтобы расстаться с традицией, которая изначально давила на них. Но открытое море, результат недавних завоеваний, было пространством, менее обремененным запретами, нежели суша. В речи, вложенной им в уста афинского стратега Формиона, обращающегося к своим воинам, Фукидид (Фукидид. II. 89) потрясающе показывает, что в открытом море перед опытными моряками возникали такие возможности для маневра, каких не знали те, кто сражались на суше. Самое древнее изобретение греков в сфере тактики морского боя, diekplous, операция, с помощью которой каждый корабль проскальзывал между двумя вражескими судами, потом разворачивался, приводя этим самым поворотом к забвению превосходства правого фланга.
(обратно)379
Стандартизация примечаний, добавление новой литературы, исправление некоторых деталей, замена нескольких греческих цитат переводами.
(обратно)380
Наиболее важны исследования: Pritchett 19656: 49—58; и особенно: Anderson 1970: 192-224.
(обратно)381
Здесь я отвечаю на возражения, выдвинутые Раймоном Вайлем (Weil R).
(обратно)382
Отмечу более поздний, чем Эпаминонд, но явный пример наступления усиленным левым флангом, но не в битве с равным противником: атака Александра на иллирийских повстанцев (Арриан. Анабасис. 1. 5. 3).
(обратно)383
Здесь я воспроизвожу главные пункты моего выступления в Арбреле (l`Arbresle) в феврале 1977 г., которое было издано ротапринтным образом силами центра Томаса Мора (More Т.). Н. Лоро независимо от меня пришла к весьма близким выводам.
(обратно)384
Я вернусь к чертам Ясона-эфеба ниже, на с. 138.
(обратно)385
См.: Matarasso 1973. В другой связи исследование Роберта Гертца открывает антологию Needham 1973. Как пример анализа символического мира см.: Bourdieu 1972: 45— 69, 211—218 (дом Кабилы как «перевернутый» мир).
(обратно)386
См. выше, с. 105, примеч. 39, с. 99.
(обратно)387
Lloyd 1966: 37—41, а также: Needham 1973, где приведен весь соответствующий материал. Его замечания о Пармениде вызвали возражения: см.: Kembler 1971.
(обратно)388
Подлинность большинства фрагментов была признана в собрании: Timpanaro Cardini 1958: 237. Тот же автор, однако, полагает, что ничто в этом фрагменте не говорит об относительности правого и левого. В. Буркерт (Burkert 1962: 218—298) внес наибольший вклад в подтверждение достоверности традиции о Филолае. Также см.: Fritz 1973.
(обратно)389
Это чтение принимают: Burkert 1962: 268; Mansfeld 1971: 62—63; вместо meros рукописи дают megas, что бессмысленно.
(обратно)390
Буркерт (Burkert 1962: 268) высказывается за подлинность этого фрагмента и сравнивает его с гиппократовским «Péri Hebdomadon». Мансфельд (Mansfeld J.), который в своем исследовании поддерживает мнение о более поздней датировке этого трактата, естественно, придерживается противоположной точки зрения. О геометрической интерпретации космоса Филолая см.: Siegel 1960.
(обратно)391
Так считает М. Фортина (Fortina 1958: 3—6). Этот автор, чья монография оказалась для нас тогда недоступной, упоминает атаку левым флангом только очень кратко (Fortina 1958: 31, 97). M. Сорди (Sordi 1972) пошел дальше. Он обращает внимание на пассаж Диодора (Диодор. XV. 52—54), в котором Эпаминонд, будучи философом, отвергает неблагоприятное знамение. Хотя такое сообщение и является единичным, никто не пересказывал подобных анекдотов, к примеру, о Ификрате или Харидеме.
(обратно)392
Ср.: Matarasso 1973: 141, 146; Zimmarman 1974: 1393, который отмечает, что «направление доминирования может быть изменено на противоположное, и левое может стать более почетным».
(обратно)393
См. комментарий Ж. де Ромийи к изданию Фукидида (CUF).
(обратно)394
Первый вариант опубликован: Problèmes de la guerre en Grèce ancienne / Ed. VernantJ.-P. Paris; La Haye, 1968. P. 161—181. При подготовке этого текста я пользовался советами Ф. Готье и С. Хэмфрис.
(обратно)395
Фундаментальной работой отныне является: Pritchett 1979. Ее можно дополнить: Anderson 1970. Среди старых работ самой полезной остается: Kromayer, Veith 1928.
(обратно)396
Я предлагаю раз и навсегда отказаться от перевода «равные», который неточно передает греческое homoioi. Геродот, а затем Фукидид, обыгрывали значения (обычное и институциональное) этого слова. См.: Loraux 1977: 107.
(обратно)397
Détienne 1965. Среди попыток восстановить это отдаленное прошлое наиболее плодотворной, на мой взгляд, была книга иногда излишне смелая, но, в конечном счете, гениальная: Jeanmaire 1939.
(обратно)398
П. Бриан (Briant 1973: 279—350) показал несостоятельность теории, которой я сам следовал в 1968 г. и согласно которой собрание воинов было фундаментальным, политическим и юридическим институтом в Македонском царстве.
(обратно)399
Ср.: Mossé 1953; Mossé 1963; Mossé 1964а; Mossé Rôle politique.
(обратно)400
Ср.: Pélékidis 1962: 48.
(обратно)401
Фукидид. I. 105; II. 13. Во втором тексте историк ясно показывает, что он считает и presbytatoi, и neotatoi гоплитами, относя к одной группе с ними метеков, служивших гоплитами. Описанный в первом тексте эпизод войны с Мегарами подробно прокомментирован Лисием (Лисий. Надгробное слово. 49—53). Акцент, который он делает на возраст воинов, позволяет считать, что они были гоплитами из-за чрезвычайных обстоятельств. Ср.: Loraux 19816: 136.
(обратно)402
Это следует из текста «Афинской политии» (Аристотель. Афинская полития. 53. 4). Другие тексты, относящиеся к этим эпонимам, — это, прежде всего, Etym. Magn. (который следует Etym. Gen.), s.v. Eponymoi; Суда. Ibid. См. также схолии к Демосфену (XXI. 83), который сообщает об арбитрах, избираемых из тех, кому пошел шестидесятый год; «шестьдесят» соответствует справедливому исправлению Э. Коха (Koch 1894: 16) слова «пятьдесят». Ср.: Pélékidis 1962: 100, примеч. 1, 2.
(обратно)403
Во всяком случае не следует их смешивать с сотней героев, из числа которых Клисфен выбрал десять эпонимов фил, как это делает Пелекидис (Pélékidis. 1962).
(обратно)404
Ср.: Habicht 19616: 143—146. Комментируя посвящение 333/332 г. до н. э., открытое у Помпейона и поставленное эфебами из филы Эантиды, Хр. Хабихт (Habicht Ch.) показывает, что герой Муних, под покровительством которого эфебы одержали победу, может быть лишь героем-эпонимом призывного класса эфебов. Мне кажется, что, следуя за ним, можно идентифицировать и второго героя. Отмечу, что Муних не был эпонимом дема или филы, но в его честь был назван месяц и один из праздников аттического календаря. Другой персонаж, Панопс, определяется как таковой традицией, которой следуют Фотий и Гесихий (s.v. Panops). Этот герой нам известен очень плохо: его упоминал лишь Платон (Платон. Лисид. 203а). Ликург (fr. 3 Durrbach), однако, замечает, что «другие греки» называли панопсиями праздник, соответствовавший четвертому месяцу аттического календаря и называемый афинянами пианепсиями. В этих условиях, пожалуй, весьма соблазнительно идентифицировать двенадцать из сорока двух героев-эпонимов с более или менее искусственными героями двенадцати аттических месяцев. Я не решаюсь настаивать на этом предположении, поскольку возможна и другая интерпретация. А. Жанмэр (Jeanmaire H.) подчеркнул инициационный характер праздников, приходивших на мунихий и пианепсий, и связал этот факт с «эфебовской» инициацией: Jeanmaire 1939: 244—245.
(обратно)405
Ср.: Pélékidis 1962: 87.
(обратно)406
Meiggs, Lewis 1969, также как и М. Джеймсон (Jameson M.H.), «изобретатель» этого документа (Jameson 1963: 399—400), считают, что он напрямую отражает ситуацию в Афинах 480 г. до н. э. Мое мнение совершенно иное; оно основывается на замечаниях: Robert. Bulletin 1961: 320 и Robert. Bulletin 1962: 135-143. Каковы бы ни были высказанные против них возражения, касающиеся деталей, исследования П. Амандри (Amandry 19616) и Хр. Хабихта (Habicht 1961а) представляются мне неопровержимыми в главном.
(обратно)407
Как это делает ван Эффентерра (Effenterre 1976: 11), в статье, которая, впрочем, убедила меня в том, что я ошибался в некоторых существенных вопросах.
(обратно)408
Они собраны: Koch 1894; Toepffer 1895; Effenterre 1976. В основном речь идет об определениях, даваемых лексикографами. Текст Эсхина (Эсхин. Против Тимарха. 103) не доказывает, как я думал, что в lexiarchikon grammateion были записаны только владельцы клеров.
(обратно)409
IG 12, 79, 11, 5—7. Традиционное чтение этого текста было изменено Меритом (Meritt 1962: 26), за которым частично последовал Эффентерра (Effenterre 1976: 11).
(обратно)410
Loraux 19816: 32—37, основываясь на основополагающих трудах Д. Брэдина (Bradeen 1964; 1967; 1969; а также Agora. XVII).
(обратно)411
Agora. XVII. № 23: hopl[itai].
(обратно)412
См. об этом гл. «Сырое, греческий ребенок и вареное». В том, что касается ваз, это будет также показано в работе, которую сейчас готовит Ф. Лиссарраг (Lissarrague F.) книга Φ. Лиссаррага «L'autre guerrier» вышла в 1990 г. (Примеч. пер.)
(обратно)413
Это показывает IG 12, 79.
(обратно)414
IG 12, 948. Другие примеры, также касающиеся пограничных поселков, см.: Bradeen 1969: 150.
(обратно)415
Фукидид. IV. 101. 2. Ср. доказательства: Loraux 19816: 34.
(обратно)416
Тексты собраны: Lammert 1919. Еще Демосфен (Демосфен. XIII. 167. 4) упоминал о воинах «вне списка».
(обратно)417
О роли этого памятника как центра гражданской жизни см.: Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 72; о дате см. ниже: «Дельфийская загадка, или О марафонском постаменте».
(обратно)418
См. необходимые уточнения: Loraux 19816: 23.
(обратно)419
Ср. также ограниченное место (замкнутое поле) мифического сражения между Нестором и Эвриталием у Ариета Тегейского, FGrH 316 F 1. См. комментарий текста Геродота: Garlan 19746: 20-22.
(обратно)420
См.: Garlan 19746: 106-108.
(обратно)421
Ср.: Loraux 19816: 152-153.
(обратно)422
Тексты воспроизведены и прокомментированы: Meiggs, Lewis 1969; здесь же можно найти библиографию, главная статья: Amandiy 1960. Ср. ниже: «Дельфийская загадка, или О марафонском постаменте».
(обратно)423
Мне кажется, что ее лучшая реконструкция дана: Pritchett 1960; дополнения с точки зрения топографии см.: Pritchett 1965а. Ср. также анализ: Labarbe 1957: 162—172. О связанной с Марафоном традиции см. также: Loraux 19736.
(обратно)424
Аристофан. Осы. 1081-1083. О вооружении гоплитов при Марафоне, достаточно хорошо засвидетельствованном стелой гоплита Аристиона, см.: Pritchett 1960: 172—174.
(обратно)425
Откуда пословичное выражение choris hippeis, сохраненное Судой; ср.: Pritchett 1960: 170-172.
(обратно)426
Павсаний. I. 32. 3; VII. 15. 7. Ср.: Welwei 1974: 22-35; 41.
(обратно)427
Об этом приоритете правого, который до Эпаминонда практически не знал исключений в наземных сражениях, см. выше: «Эпаминонд-пифагореец, или Проблема правого и левого фланга».
(обратно)428
Ср.: Habicht 1961а: 20.
(обратно)429
См. обсуждение и подтверждение этих цифр: Labarbe 1957: 162-168.
(обратно)430
См. об обеих концепциях: Goossens 1962: 556-559; Mossé 1962: 251-253.
(обратно)431
См., например: Аристотель. Политика. V. 1303а. 9—10, где упадок Афин объясняется гибелью gnorimoi, составлявших еще в эпоху Пелопоннесской войны корпус гоплитов. См.: Он же. Афинская полития. XVI. 1. Другие ссылки на источники см.: Spahn 1977: 7-14.
(обратно)432
Геродот. IX. 28—29. Что касается легковооруженных, текст Геродота весьма двусмысленен и труден для интерпретации. Я присоединяюсь к комментарию Лабарба (Labarbe 1957: 190), который полагает, что афиняне, в противоположность большинству остальных греков, не выставили легковооруженных воинов.
(обратно)433
Основные ссылки см. выше: «Эпаминонд-пифагореец, или Проблема правого и левого фланга».
(обратно)434
Ср.: Фукидид. I. 71, где новаторство, techne, и Афины напрямую отождествляются. В данном случае мы имеем дело с речью, имеющей вполне прагматические цели; напротив, в надгробной речи о том, что относится к techne, умалчивается.
(обратно)435
Сохранялись, однако, различия между этими гоплитами и гоплитами из реестра. Гарпократион (s.v. thetes kai thetikon) приводит фрагмент Антифона («он предлагает сделать всех фетов гоплитами»), однако нам неизвестно, ни кто был субъектом фразы, ни что именно имел в виду этот текст. В любом случае во время Пелопоннесской войны это было еще недавним событием, поскольку оно обсуждается в «Сотрапезниках» Аристофана, процитированных здесь же.
(обратно)436
Ср.: Аристофан. Ахарняне. 502—508, и комментарий: Taillardat 1965: 391—393.
(обратно)437
Ср.: Фукидид. II. 13.
(обратно)438
Речь идет, вне всякого сомнения, о гражданах союзных полисов, которые присутствовали в Афинах. Это предположил M. Клерк (Clerc 1891: 43) и доказал Готье (Gauthier 1971: 51—52). О метеках и гоплитской службе см. теперь: Whitehead 1977: 82—86.
(обратно)439
См.: Ксенофонт. Греческая история. I. 6. 24; надпись: IG IP, 1951 — является не списком погибших в сражении при Аргинусах, как раньше считалось и как я писал, а морским каталогом. Ср.: Garlan 1972.
(обратно)440
Ликург (Ликург. Против Леократа. 41) говорил о включении в армию рабов и иностранцев и сожалел об этом: первые были освобождены, некоторые из вторых получили права гражданства, в то время как граждане, наказанные атимией (гражданская смерть), были реабилитированы. Об этом эпизоде см. фрагмент Г. Гиперида (fr. 27—29. Jensen).
(обратно)441
Ср.: Plassart 1913.
(обратно)442
В 424 г. до н. э. и ранее до этого времени в Афинах никогда не было обученных легковооруженных воинов (Фукидид. IV. 94).
(обратно)443
Во время Сицилийской экспедиции пращники были родосцами, часть лучников — критянами, а легковооруженные воины — мегарцами (Фукидид. VI. 43).
(обратно)444
В Сицилию афиняне привезли всего тридцать всадников. Основным трудом по развитию афинской конницы остается книга: Martin 1886; ср. также: Anderson 1961: 140— 154; Anderson 1970.
(обратно)445
Появлялись специалисты по «военным делам», вроде софистов Евтидема и Дионисодора, которые служили персонажами диалогов Ксенофонта и Платона.
(обратно)446
Ограничусь отсылкой к: Parke 1934; Aymard 1959.
(обратно)447
См.: Garlan 19746: 156-159.
(обратно)448
Показательно, что Сократ как раз называл гоплитский бой (hoplitikon), отмечая, что он составлял лишь часть военного искусства (Платон. Лахет. 191 d).
(обратно)449
Именно таково было поведение самого Сократа при Делии, как раз рядом с Лахетом (Платон. Пир. 221а—b).
(обратно)450
Платон. Лахет. 190е— 191с. За этим диалогом, очевидно, стоит ссылка на Геродота, как в том, что касается скифов (там же. IV. 120—127), так и в том, что касается спартанского идеала (там же. VII. 104; IX. 71): об этих текстах см.: Hartog 1980: 70; Loraux 1977.
(обратно)451
См. ниже: «Платоновский миф в диалоге "Политик"».
(обратно)452
Ср. ниже: «Афины и Атлантида».
(обратно)453
Об этом тексте см. выше: «Эпаминонд-пифагореец, или Проблема правого и левого фланга», а также: Schuhl 19496.
(обратно)454
Wilamowitz 1893: 193-194; об этой дискуссии см.: Pélékidis 1962: 7-17.
(обратно)455
См.: Robert 1939: 306.
(обратно)456
См. об этом: «Черный охотник и происхождение афинской эфебии» (с литературой).
(обратно)457
Эсхин. О посольстве. 167. Эсхин служил периполом, т. е. в аттических пограничных фортах.
(обратно)458
Ср.: Robert 1939: 296—307. Последующая библиография дана: Pélékidis 1962: 1 ΙΟΙ 13; см. также ниже: «Черный охотник и происхождение афинской эфебии», с. 135, примеч. 1.
(обратно)459
Jeanmaire 1939: 308; ср. также: Merkelbach 1972. О святилище см.: Bousquet 1964: 664.
(обратно)460
Кроме книги А. Жанмэра, здесь следует упомянуть фундаментальный труд: Roussel 1951.
(обратно)461
Демосфен. О посольстве. 303. Для информации обо всех этих документах, являющихся продуктом историографии IV в. до н. э., я опять отсылаю к: Habicht 1961а.
(обратно)462
Тем не менее эфебы обучались не только «сражаться как гоплиты, но также стрелять из лука, бросать дротики, управлять катапультой» (Аристотель. Афинская полития. 42. 3). Нововведения конца V и IV в. до н. э., следовательно, отразились на прохождении службы эфебами.
(обратно)463
Другая категория афинян, которым государство предоставляло оружие, — сироты павших на войне (ср.: Платон. Менексен. 248e-249d). В работе: Mathieu 1937 -несколько преувеличено значение этого института для формирования эфебии IV в. до н. э. Новый документ был опубликован Р. Страудом (Stroud 1971); ср.: Loraux 1980: 61—64.
(обратно)464
См.: Roussel 1921.
(обратно)465
Смысл этого выражения был прояснен: Labarbe 1957: 61—73.
(обратно)466
Этот параллелизм вполне устоялся в IV в. до н. э. (см., например: Исей. II. 14): приемный сын объясняет, каким образом его приемный отец придал ему легальный статус, введя его в свой дем, свою фратрию и свой оргеон: «Он ввел меня в свою фратрию в присутствии этих людей и вписал меня в свой дем и в свое братство (в свои оргеоны)».
(обратно)467
Фундаментальным трудом отныне является: Roussel 1976: 93—157. Кроме того, основная предыдущая библиография содержится в: Rolley 1965. Показав, что ничто не позволяет возводить гражданскую фратрию к возможной предгражданской, Д. Руссель укрепил меня в скептицизме, который я уже питал по отношению к теориям наподобие теории Гвардуччи (Guarducci 1937—1938).
(обратно)468
Ср.: Andrewes 1961а.
(обратно)469
IG II2, 1237; Демотиониды были фратрией, располагавшейся в деме Деселия; см.: Roussel 1976: 141—147, который, однако, не касается поднятой здесь проблемы.
(обратно)470
Sylloge3, 921, 26—28. Э. Эндрюс попытался показать, опираясь на заслуживающие внимания аргументы, что эта diadikasia была, в некотором роде, исключительной и что данная процедура отнюдь не была характерной для всех фратрий и даже не была правилом в той, о которой говорит надпись: Andrewes 1961а: 3.
(обратно)471
Ср.: Labarbe 1953.
(обратно)472
Гезихий s.v. Oinisteria; Поллукс. VI. 22; Фотий. Лексикон s.v. Oinisteria. Oinisteria, вероятно, праздновались во время Апатурий (ср.: Deubner 1932: 233, впрочем, ср. сомнения: Pélékidis 1962: 63-64).
(обратно)473
Для участников праздника Апатурий характерны бритые головы (Ксенофонт. Греческая история. I. 7. 8), но значение этого свидетельства не вполне ясно.
(обратно)474
Etym. Magn. s.v. Apatouria.
(обратно)475
Гомер. Илиада. I. 362—363. Ср.: Andrewes 19616, который считает фратрию порождением аристократического государства IX и VIII вв. до н. э.
(обратно)476
Основной источник — это Гелланик (FGrH 323а F 23). Все известные мне источники процитированы ниже, «Черный охотник и происхождение афинской эфебии», примеч. 14, с. 139.
(обратно)477
См. присягу эфебов в: Pélékidis 1962: 113, 119-120, с пер. Г. До (Daux G.).
(обратно)478
Reinmuth 1971: 224, 228; Pélékidis 1962: 271.
(обратно)479
Я не могу закончить эти страницы, не напомнив, с какой твердостью Макс Вебер (Weber M.) определял греческий полис в противоположность средневековому городу как ассоциацию воинов (Weber 1966: 196—226). Что бы ни говорил Д. Руссель (Roussel 1976: 123, 131, примеч. 2), я отнюдь не полагал, ссылаясь на М. Вебера, что «полис был прежде всего военным учреждением людей, организованных для ведения войны».
(обратно)480
Значительно переработанный текст исследования, появившегося в: Annales E.S.C. 1968. 23. Р. 947-964; (англ. пер.: Vidal-Naquet P. The Black Hunter and the Origin of the Athenian Ephebeia // Proceedings of the Cambridge Philological Society. 1968. 194. P. 49-64. Я учел многочисленные наблюдения, которые были сделаны, среди других, О. Пикаром (Picard О.), а также критические замечания в: Maxwell-Stuart. 1970.
(обратно)481
Об этой дискуссии см.: Wilamowitz 1893/1: 193-194; Robert 1939: 297-307 (с официальным текстом присяги эфебов); Jeanmaire 1939; Pélékidis 1962 (с полной библиографией); Marrou 1965: 163-168, 521-522; 539-544. Основанное на надписях доказательство того факта, что эфебия существовала в 361 г. до н. э., т. е. задолго до того, как Ликург стал играть решающую роль в политической жизни Афин, принадлежит: Reinmuth 1971: 123—138. Правда, дата надписи, на которую опирался Рейнмут, была поставлена под вопрос Митчелом (Mitchel 1975), но М. Мицос (Mitsos M.), открывший надпись, успешно защитил свою точку зрения (ср.: Robert. Bulletin 1976: 194). Φ. Готье привел решающие аргументы, прокомментировав до того не использовавшееся свидетельство «Доходов» Ксенофонта (Ксенофонт. Доходы. IV. 51—52), которое доказывает как то, что эфебия существовала до Ликурга (трактат относится к 355 г.), так и то, что до его времени она не была службой, обязательной для всех молодых граждан (Gauthier 1976: 190—195).
(обратно)482
Roussel 1921: 459, комментируя «Афинскую политик»» (Аристотель. Афинская полития. 42. 5).
(обратно)483
Эсхин. О посольстве. 167.
(обратно)484
Платон. Законы. VI. 760b. См. об этом ниже: «Платоновский миф в диалоге "Политик"».
(обратно)485
О периполах в греческом мире в общем см.: Robert 1940—1965: 283—292. К этому можно добавить два новых свидетельства, происходящих из Акарнании и Эпира, ср.: Robert 1973: 229, 260.
(обратно)486
Так, Ксенофонт (Ксенофонт. Доходы. IV. 52) использовал глагол πελταζειν вместо οπλιτευειν: пелта представляла собой легкий щит (ср.: Gauthier 1976: 192—193).
(обратно)487
Всякое участие юношей в военных действиях было исключением и потому всегда упоминалось, как, например, в одном эпизоде Мегарской войны, где neotatoi участвовали рядом с presbytatoi (ср.: Фукидид. I. 105. 4; Лисий. Надгробная речь. 50—53 с замечаниями: Loraux 19816: 136).
(обратно)488
Эсхин. О посольстве. 168.
(обратно)489
Фукидид. IV. 67-68; 8. 92. 2; Лисий. Против Агората. 7; Sylloge3, 108 (Meiggs, Lewis 1969: 85). Противоречия в деталях между этими текстами в данном случае не представляют для нас интереса.
(обратно)490
Ср.: Inscr. Cret. I. IX (Drepos). 1. 126—127, ο ούρεύω, «служить в качестве молодого воина в пограничных крепостях» ср.: Effenterre 1948а. О четком и официальном разграничении территории двух полисов (Аргоса и Спарты) и разделяющей их пограничной зоны, см.: Фукидид. V. 41. 2 (Bengtson 1962: 192).
(обратно)491
Текст ясно противопоставляет сражение и тайные интриги. Ниже я скажу подробнее о значении этого противопоставления.
(обратно)492
Labarbe 1953. О смысле выражения επι διετες ήβήσαι, см.: Labarbe 1957: 67—75; Pélékidis 1962: 51-60.
(обратно)493
Sylloge3. 921.27-28.
(обратно)494
Вот список, наверняка неполный, «источников», если можно так выразиться, которые нам сообщают об этом мифе: Гелланик — FGrH 4 F 125 (323а 23); Эфор — FGrH 70 F 22 = Гарпократион, s.v. Apatouria; Конон — FGrH 26 F 39; Страбон. IX. 393; Фронтин. Strateg. 2. 5. 41; Полиен. Strateg. I. 19; Юстин. II. 6. 16-21; Павсаний. II. 18. 8-9; IX. 5. 16; Евсевий. Хроника. 56 Schoene; Ioan. Antioch. — FHG IV 539, 19; Прокл. Комментарии к «Тимею». 27е. 88. II Diehl; Nonn. Dion. XXVII. 301-308; Apostol. Paroem. gr. III. p. 294 Leutsch; Psell. De Act. nomin.: in Migne. PG, 122, p. 1018; Tzetz. Comm ad. Aristoph. Gren. 798; Lycoph. 776; Etym. Magn. s. w. Apatouria, Koureotis; Lex. Seguier: Bekker, Anecd. gr. I, p. 416-417; Schol. Ael. Aristid. III, p. Ill Dindorf; Schol. Aristoph. Acharn. 146, Pax, 89; Суда, p. 265, 350, 451, 458 Adler; Georg. Syncel: FHG IV 359. Тексты были недавно собраны и прокомментированы в: Fernandez Nieto 1975/2: 15—20.
(обратно)495
Ср.: Robert 1960: 304-305.
(обратно)496
Sylloge3. 485, — с очень вероятным восстановлением.
(обратно)497
Плутарх. Застольные беседы. 692с; Суда, s.v. Mêlas. Р. 350 Adler.
(обратно)498
Здесь присутствует нечто большее, чем просто этимологическая игра слов. Как показала П. Шмитт (Schmitt 1977), по свидетельству Павсания (Павсаний. II. 33. 7) на острове Сферия, у побережья Трезены, существовал храм Афины Апатурии, игравший важную роль в инициации девушек. Apate, которой приписывалось его основание, был союз Посейдона и Этры, матери Тесея.
(обратно)499
Usener 1898: 365—369. Он следовал одному предположению Э. Мааса (Maas 1889); ср. также: Usener 1904: 301—313.
(обратно)500
Farnell 19096: 130—131; 134—136, толкование Нильсона, близкое описанному; Cook 1914-1940/1: 689; Rose 1931: 131-133.
(обратно)501
Jeanmaire 1939: 382-383. Ср. также: Garlan 1972: 15-17.
(обратно)502
Плутарх. Греческие вопросы. 13. 294b—с.
(обратно)503
Источники: Will 1955: 381-383.
(обратно)504
Brelich 1961: 56—59. Замечания M. Делькур (Delcourt 1965: 18), изначально неудовлетворительны, поскольку основываются на неточных данных.
(обратно)505
Gernet 1936; см.: Schnapp-Gourbeillon 1981: 104-131; Lissarrague 1980.
(обратно)506
Мелантей, сьш Долия: Гомер. Одиссея. XVII. 212; XXII. 159; Меланто, дочь Долия: там же. XVIII. 322. Но сам Долий, старый слуга Лаэрта, — персонаж симпатичный (ср.: Гомер. Одиссея. XXIV. 222. 387. 397 сл.).
(обратно)507
Это положение было подвергнуто сомнению в: Maxwell-Stuart. 1970: 113—115. Автор попытался уменьшить важность свидетельства Филострата (Филострат. Жизнь софистов. II. 550), согласно которому эфебы носили черные хламиды в собраниях и публичных процессиях. Однако его предположение неудачно, поскольку, хотя ему и известна решающая, на мой взгляд, статья П. Русселя, процитированная в следующем примечании, Максвелл-Стюарт (Maxwell-Stuart P. G.) продолжает считать, что надпись IG П2, 1132, которая воздает честь Героду Аттику за его щедрость, имеет в виду его отца, Клавдия Аттика, обет которого Герод якобы исполнил. На самом деле в этом тексте идет речь о «забвении своего отца сыном Эгея», λήθην πάτρος Αίγείδεω, т. е. о Тезее. С другой стороны, ничто не позволяет доказать, что эта надпись намекает на Элевсинские мистерии. Напротив, я учитываю два важных замечания моего критика и убираю из моего «черного» досье текст Ксенофонта (Ксенофонт. Греческая история. I. 7. 8), неправильно истолкованный мною, и свидетельства вазописи, которые я ошибочно использовал.
(обратно)508
Платон. Законы. I. 633b, и очень важные схолии, которые сопровождают этот текст; Гераклид в FGrH II F210; Плутарх. Ликург. 28. Некий Дамател был главой «криптии», т. е. подразделения, предназначенного для засад, в Спарте III в., при Клеомене (Плутарх. Клеомен. 28).
(обратно)509
Koechly 1835; Wachsmuth 1844/1: 462; Wachsmuth 1844/2: 304. Забавно сопоставить с этими военными толкованиями либеральную и немного «луи-филипповскую» интерпретацию «отца Республики» (Wallon 1850). В его глазах криптия была в основном полицейским институтом.
(обратно)510
Плутарх. Ликург. 28. 7. См. защиту серьезности этой традиции в: Finley 1968а: 147.
(обратно)511
Разумеется, я говорю здесь об уровне представлений. Как подчеркивает Н. Лоро (Loraux. 1977), социальная практика спартанской гоплитии была более сложной.
(обратно)512
Ср.: Lévi-Strauss 1966; Lévi-Strauss 1964; Yalman 1967. Ср. Также: Jaulin 1967: 40-119; 141—171, вполне удовлетворительный отчет об «инициации» его автора одним племенем в Чаде. О другом типе противопоставления между «голым» и «вооруженным» воином см.: Dumézil 1968: 63—65.
(обратно)513
Gennep 1909. По поводу понятия логической инверсии следует обратиться ко всему творчеству К. Леви-Стросса. О его роли в мифологической логике и иногда псевдо-истории у греков, см.: Pembroke 1967.
(обратно)514
Об Осхофориях см.: Mommsen 1898а: 36; 278-282; Loeff 1915; Deubner 1932: 142— 146; Severyns 1938: 243-254; Jeanmaire 1939: 346-347, 524, 588; FGrH ΙΙΙb I. P. 285-304; ΙΙΙb II. P. 193-222; Faure 1965: 170-172.
(обратно)515
Ф. Якоби в своем комментарии к фрагментам 14—16 Филохора (FGrH ΙΙΙb. 1 suppl. P. 286—289) собрал все литературные и лексикографические источники. Единственный существенный эпиграфический документ — большая надпись 363 г. до н. э., содержащая текст договора между двумя подразделениями genos саламиниев, которая была опубликована с подробными комментариями: Ferguson 1938. Ср.: Sokolowski 1962.
(обратно)516
Ср. процитированную выше надпись. Тот же genos выставлял также «дейпнофоров», «носителей трапезы», которые кормили юношей-«затворников» во время церемоний в Фалере. Ср. также: Nilsson 1938.
(обратно)517
FGrH ΙΙΙb. II P. 200—203. Святилище Афины Скирас само по себе определяется как εξω της· πόλεως, «загородное» (Etym. Magn. 717, 28).
(обратно)518
Это слово означает собственно «двое детей, оба родителя которых живы», но под влиянием слова thallos, «молодая ветвь», и церемоний, подобных Осхофориям, amphithales эволюционировало к значению «носители ветвей». Ср.: Robert 1940.
(обратно)519
Ср.: Плутарх. Тесей. 23, который цитирует аттидографа Демона; Прокл. Хрестоматия. 88—91 (в: Фотий. Библиотека. 239).
(обратно)520
Ср. также: Аристофан. Лягушки. 204. Эти факты остались незамеченными.
(обратно)521
Прокл. Хрестоматия, 91—92: «Хор следовал за юношами / процессией с двумя мальчиками, переодетыми девочками, / и пел (осхофорийские) мелодии. Эфебы из каждой филы соревновались между собой в беге». Ср. также: Schol. Nicandr. Alexipharm. 109а. 69—70 Gaymonat. Упомянутая выше надпись, кажется, имеет в виду именно это состязание (hamillos) в стк. 61—62: «Два подразделения рода (genos) приносят по очереди подготовительное к состязанию жертвоприношение». Литературная традиция безнадежно запутана. Источники, как кажется, смешивают даже имена четырех праздников: Осхофории, Скиры, Скирофории и Фесмофории. Первый и четвертый праздновались в месяц пианепсий (Фесмофории праздновались женщинами). Но как обстоит дело со Скирами? Аристодем (FGrH 383 F 9, процитирован Афинеем. ΙΙ. 495е), беотийский автор конца эллинистической эпохи, приписывает празднику Скир, связанному, как и Осхофории, с Афиной Скирас, состязание в беге эфебов, который мы отнесли вслед за Проклом к Осхофориям. Если Скиры, как это говорит другой текст (Схолии к Аристофану. Женщины в народном собрании. 18), праздновались двенадцатого числа месяца скирофорий, т. е. в июне, невозможно представить себе бегунов, несущих лозы винограда со зрелыми гроздями, как то говорят источники! Поэтому я не могу согласиться с Ф. Якоби, когда он пишет (FGrH ΙΙΙb, I. 302): «Наша традиция совершенно ясна: процессия засвидетельствована для Осхофорий, состязание в беге — для Скирофорий» (или Скир) и проясняет эту традицию, провозглашая весь пассаж Прокла интерполированным. Существование в Спарте ритуального состязания в беге, очень близкого к тому, что описывают наши тексты, которое было связано с праздником фратрий и участники которого также несли гроздья винограда, является еще одним аргументом в пользу защищаемой здесь интерпретации. О Скирах см.: Dow, Healey 1965: 16—17, 33, 39—41, 44. Эту книгу, однако, следует использовать с осторожностью, как показали: Robert. Bulletin, 1963. 217, и процитированные выше авторы, особенно Ж. Пуйу и Ж. Ру (Roux G).
(обратно)522
Аристодем. Указ. соч.; Прокл. Указ. соч.; Плутарх. Тесей. 22.
(обратно)523
Ср.: Willetts 1955: 11-14.
(обратно)524
Inscr. Cret. I, XVI (Лато), 5, 21.
(обратно)525
«На Крите эфебов называют apodromoi, поскольку они еще не участвуют в коллективных состязаниях в беге» (Евстафий. Комментарии к «Илиаде». 1952—1958). Ср.: Willetts 1955.
(обратно)526
Источники собраны: Harrison 1962: 234.
(обратно)527
Ср.: Jeanmaire 1939: 354—355; Delcourt 1958: 5—27, где собраны многочисленные примеры; см. также: Bettelheim 1972: 132—148.
(обратно)528
Схолии к Еврипиду. Алкеста. 489.
(обратно)529
Плутарх. Тесей. 23. 3; Прокл. Хрестоматия. 89. Следует напомнить, что некоторые праздники, как Pannychis Панафиней, были одновременно ночными и праздниками юношей (Еврипид. Гераклиды. 780—783); ср. также ритуал, упомянутый Геродотом (Геродот. III. 48) и изученный: Schmitt 1979: 226-227.
(обратно)530
Ср.: Inscr. Cret. I, IX (Дрер), 1, 11-12, 99-100, XIX (Малла), 1, 18, с комментариями M. Гвардуччи (р. 87); см.: Schwyzer 1928; Effenterre 1937.
(обратно)531
Ср.: Антонин Либерал. Метаморфозы. 17, с комментариями M. Папатомопулоса, в издании PUF., см.: Willetts 1962: 175-178.
(обратно)532
FGrH 70 F 149, из: Страбон. 10. 483.
(обратно)533
Фундаментальным трудом по охоте в классической Греции остается: Manns 1888— 1890. Обобщение: Aymard 1951 также содержит некоторую информацию о греческом мире. Ср. также: Brelich 1958. Когда я впервые публиковал эти страницы, мне была неизвестна статья Kerenyi 1952, которая ставит некоторые проблемы, близкие к обсуждаемым здесь. Защищенная в декабре 1973 г. диссертация (Schnapp 1973а) позволила подойти к проблеме с новой точки зрения. Ср. его статью: Schnapp 1979, а также: Brelich 1969: 198-199, и яркую статью: Pieket 1969.
(обратно)534
В знаменитой дискуссии о доблестях гоплита и лучника (Еврипид. Гераклиды. 153— 158) лучник подвергается осуждению как охотник на диких зверей.
(обратно)535
Ср.: Chantraine 19566: 64—65, который опирается на: Coste-Messeliére 1936: 130—152.
(обратно)536
Антонин Либерал. Метаморфозы. 12.
(обратно)537
Гомер. Илиада. XI. 670—762, текст, решающий комментарий которого дан в: Bravo 1980.
(обратно)538
Оппиан. Об охоте. II. 28—29. Орион первоначально также был истребителем диких зверей, вооруженным бронзовой палицей; ср.: Гомер. Одиссея. II. 572 сл.; первым охотником, «ставившим западни против зверей» был, согласно Плутарху (Плутарх. De amor. 757b), Аристей.
(обратно)539
Fr. 530 Nauck; Феогнид. 1291-1294; fr. 73, 2; 76, 5, 20 Merkelbach-West; Аполлодор. III. 9. 2; Элиан. Пестрые рассказы. XIII. 1; Ксенофонт. Об охоте. I. 7; Павсаний. V. 19. 2. Литературные источники об Аталанте см., например, в диссертации: Immerwahr 1855. Эссе: Bowra 1950, хотя и посвящено в основном стихотворению Свинборна (Swinburne), будит мысль. Фундаментальной статьей отныне является: Arrigoni 1977, ср. также: Détienne 19776: 82—88, 99—102, 105—110. Об эпизоде, связанном с яблоками, см.: Trumpf 1960: 20.
(обратно)540
«Мужчина-ребенок», говорил Эсхил (Эсхил. Семеро против Фив. 533); само имя означает «с девичьим лицом».
(обратно)541
Аполлодор. III. 9. 2; Овидий. Метаморфозы. 10. 560-607; Mythogr. Vat. I. 39 Mai; Гигин. Басни. 185; Сервий. Комментарии к «Энеиде». III. 113. Имя супруга Аталанты варьируется в разных источниках.
(обратно)542
Этот тип мифологического персонажа должен быть сопоставлен со всеми теми, кто выражает отказ от инициации. Этот предмет исследования еще не изучался.
(обратно)543
В «Филоктете» я попытался показать, используя собранные здесь данные, что можно предложить «эфебовское» толкование «Филоктета» Софокла.
(обратно)544
Ксенофонт во всей той части своих трудов, которая посвящена войне и охоте, прекрасно отражал эту эволюцию. Когда он рекомендовал юношам и взрослым охоту как эффективный способ подготовки к войне, Ксенофонт полемизировал с гоплитской традицией. Весь этот полемический аспект, как кажется, остался практически незамеченным.
(обратно)545
Только в этой мере я готов принять замечания Плекета (Pieket 1969: 294) об эфебе как будущем гоплите. О присяге эфебов как гоплитской присяге, см.: Siewert 1977.
(обратно)546
Ср., например: Dumézil 1958: 57-58.
(обратно)547
Ср.: Dumézil 1942: 37; Dumézil 1956: 23; ср. также: Vian. Fonction guerrière. Что касается Рима, то несколько работ Ж.-П. Мореля (Morel J.-Р.) дали много нового относительно положения Juventus внутри системы возрастных классов см.: Morel 1964; Morel 1969а; Morel 19696; Morel 1976.
(обратно)548
Первоначальная версия была опубликована в: Goff J. le, Nora P. Faire de l'histoire. (1974. Vol. III. P. 137-168. При переводе этого текста на английский язык Р. Гордон (Gordon R.) сделал мне очень ценные замечания.
(обратно)549
Lafitau 1724. Цитируется по второму изданию, в четырех томах, duodecimo. Книга была переведена на голландский в 1751 г., на немецкий - в 1752 г. и, в конце концов, на английский в 1974 г.
(обратно)550
См., в особенности: Kaspar 1943, а также авторов, цитируемых им, среди которых следует отметить: Gennep 1913. Некоторую дополнительную информацию можно найти в: Duchet 1971: 14, 15, 72, 99, 101, 105. Ср. также: Lemay 1976 и Pembroke 1979: 277-279.
(обратно)551
Lafitau 1724/1: «Объяснение гравюр и рисунков первого тома». Для детального комментария с использованием важной библиографии см.: Certeau 1980.
(обратно)552
Трудно сказать, действительно ли бородатая фигура снизу от Марии — это пророк, или, что более вероятно, Вечный Отец, обращающийся к Адаму и Еве. Лафито никак это не комментирует. (Ирокезская «черепаха» была эмблемой одного из трех ирокезских кланов, «черепахи», другие — кланы «волка» и «медведя». — Примеч. пер.)
(обратно)553
Acosta 1954: 34. Французский перевод 1598 г. смягчает оригинал.
(обратно)554
Ср.: Poliakov 1971: 125.
(обратно)555
См., например, дискуссии в: Garaudy 1969; Godelier 1969; Vidal-Naquet 1964; Sofri 1969; Andersonl974: 397-431, а теперь: Dunn 1982.
(обратно)556
Нужно отметить своеобразный манифест, изданный в: Marett 1908. В нем приняли участие пять историков и филологов-классиков: Артур Эванс (Evans Α.), Гилберт Меррей (Murray G.), Φ. Б. Джевонс (Jevons F. B.), Дж. Майрс (Myers J.), У. Уорд-Фоулер (Warde-Fowler W.), а также антрополог-историк Эндрю Лэнг. Этот манифест подвел итог работе целого поколения.
(обратно)557
См.: Gaidoz 1884—1885: 97—99. Об этом и некоторых других изменениях см.: Détienne 19796: 72-77.
(обратно)558
Tylor 1871/1: 7. Главы третья и четвертая посвящены «пережиткам в культуре». О Тайлоре и его современниках см.: Mercier 1971: 50—79. Некоторые сведения о тайлоровской концепции «пережитка» могут быть найдены в: Hodgen 1936: 36—66, и, особенно: Burrow 1966: 228-259.
(обратно)559
Lang 1896/2: 255—258. Следует отметить, что здесь отдается должное Лафито: «(Он) был, возможно, первым автором, который объяснил определенные черты греческих и других древних мифов и ритуалов как пережитки тотемизма» (Lang 1896/1: 73). Современный критический взгляд см.: Détienne 1977b: 231—233.
(обратно)560
Ср.: Leach 1980: 109.
(обратно)561
См.: Lévi-Strauss 1971: 559— 661, книга написана с этой точки зрения.
(обратно)562
Ср. об одной легенде не из Бретани, а из Пуату: Le Goff, Le Roy Ladurie 1971: 587— 622.
(обратно)563
Leach 1961: 125. О ван Геннепе и обрядах перехода см.: Belmont 1974: 69—81.
(обратно)564
В статье Маргаридо (Margarido 1971) было продемонстрировано, что в ритуалах инициации одно и то же место может быть иногда миром дикости, иногда — цивилизованным миром. В самом деле, функцией ритуала инициации является очеловечивание как возрастных классов, так и «дикого» мира.
(обратно)565
См.: Berard 1970 и дискуссию, вызванную этой книгой, в сборнике Société et Colonisation eubeennes (особенно замечания Оберсона (Auberson Р.), Меле (Mele Α.), Мартена и Лепора (Lepore Ε.)). Я считаю, что Берар ответил на все их возражения (Berard 1978). См. также: Snodgrass 1977.
(обратно)566
Berard 1970: 50. Подобным образом в Марафоне взрослые мужчины - афинские граждане были кремированы, а тела платейцев и афинских рабов, которые вместе с афинянами, но не в одном строю с ними, были погребены, ср.: Kurtz, Boardman 1971: 246 и выводы: Loraux 1978а: 810.
(обратно)567
Археологи часто пренебрегают погребениями детей и подростков, потому что их тела лежат чуть ли не на поверхности земли, однако они тщательно вскрывают захоронения младенцев (их тела лежат в амфорах) и взрослых (погребальные урны). Но ведь кто-то же должен был умирать между вторым и восемнадцатым годом жизни! Ср.: Berard 1970: 52.
(обратно)568
См.: Labarbe 1953; Vernant 1974; см. также: «Традиция афинской гоплитии» и «Черный охотник и происхождение афинской эфебии».
(обратно)569
Особое значение имеют: Jeanmaire 1913; Jeanmaire 1939; Nilsson 1912; Roussel 1951; Roussel 1941; Thomson 1941; см. также работы самого Брелиха: (Brelich 1961; Brelich Initiation). По поводу работы Брелиха (Brelich 1969) так же, как по поводу более ранних работ Нильсона, Джейн Харрисон, Жанмэр и др., см.: Calame 1971; Sourvinou-Inwood 1971б. См. выше: «Традиция афинской гоплитии».
(обратно)570
Vernant 1974; о замужестве см.: Calame. 1977/1: 239-240; Schmitt 1977.
(обратно)571
См.: Roussel 1941: 163-165; Maxwell-Stewart. 1970: 113-116; См. выше: «Черный охотник и происхождение афинской эфебии».
(обратно)572
См.: Vidal-Naquet 1971: 175—176, где содержится обзор более ранних дискуссий.
(обратно)573
Существует обширная литература по этому поводу, но следует особо отметить: Gernet, Boulanger 1932: 39-^0; Jeanmaire 1939: 442; Delcourt 1958; Vernant 1974; См. выше: «Черный охотник и происхождение афинской эфебии».
(обратно)574
См.: Brelich 1961, а также Ellinger 1978 (исследование одной особенно радикальной формы мифа о военных уловках или стратегемах).
(обратно)575
См.: Lloyd 1966.
(обратно)576
См.: Dumézil 1968: 63-65; Le Goff, Vidal-Naquet 1979: 273-275. В греческом мире, как и в мире средневековом, были «луки с плюсом» и «луки с минусом»... Лук, который натягивает Одиссей в финале «Одиссеи», — образец «лука с плюсом».
(обратно)577
См. очень детальный комментарий Пелекидиса на 42-ю главу «Афинской политии»: Pélékidis 1962: 83-86, 87-152; см. также: Brelich 1969: 216-227.
(обратно)578
Roussel 1921: 459.
(обратно)579
См., например: Cornford 1914: 53—69 в особенности.
(обратно)580
См. выше: «Традиция афинской гоплитии».
(обратно)581
Vidal-Naquet 1971, фундаментальных выводов которого я придерживаюсь до сих пор, несмотря на возражения: Benedetto 1978.
(обратно)582
(Дословно: «Я молола зерно для Архегеты».) Кто эта покровительница (архегета)? Вместе с многими комментаторами я полагал, что это могла быть только Афина. Однако есть серьезные основания полагать, что это в действительности была Артемида. Впрочем, ни порядок слов, ни пунктуация этого пассажа окончательно неясны: ср.: Sourvinou-Inwood 1979а, и, недавно, Уолбэнк (Walbank 1981), который считает, что весь этот пассаж имеет отношение к Бравронскому циклу.
(обратно)583
См.: Brelich 1969: 229—230, который справедливо критикует подобное предположение. Я по-прежнему согласен с Брелихом, несмотря на аргументы Калама (Calame 1977/1: 67-69).
(обратно)584
Главным источником является Павсаний (Павсаний. I. 27. 3). Данные об этом ритуале собраны и довольно странно прокомментированы Куком (Cook 1914—1940: 165— 191) и, в особенности, Буркертом (Burkert 1966), который подчеркивает инициационные аспекты обряда. Однако ему не удалось, как мне представляется, связать его с переходом из одного возрастного класса в другой. О числе аррефор см.: Brelich 1969: 233, 282.
(обратно)585
См.: Loraux 1980—1981 — о комическом значении пассажа.
(обратно)586
См.: Brelich 1969: 247—249; не совсем доказанные археологические «свидетельства»; см.: Kahil 1965; Kahil 1976; Kahil 1977.
(обратно)587
Эти две стадии часто объединяли в одну.
(обратно)588
См.: Brelich 1969: 263-264.
(обратно)589
Ср.: Détienne 1972: 149-159; Détienne, Vernant 1979: 183-214.
(обратно)590
Ср.: Wachsmuth 1844/1: 462; Wachsmuth 1844/2: 304.
(обратно)591
Из последних работ см.: Brelich 1969: 116—117.
(обратно)592
У Фукидида Перикл играл на этом смешении возрастов в Спарте, утверждая, что «ценой мучительных тренировок» спартиаты с юности исполняли обязанности мужчин (Фукидид. II. 39. 1). Ср.: Loraux 1975: 6.
(обратно)593
Brelich 1969: 136; Ксенофонт. Лакедемонская полития. 2. 9. Этот обычай нельзя смешивать с тем, во что он превратился в римский период, — неприкрытым представлением для публики.
(обратно)594
Плутарх. Ликург. 16. 4—5; Ксенофонт. Лакедемонская полития. 2. 11. Нильсон (Nilsson 1912: 312) придерживался мнения, что плутархова агела — это перевод илы. Официальный титул лидера подобной группы, который зафиксирован в эпиграфике, — «пастух» (bouagos).
(обратно)595
Павсаний. III. 14. 8—10; 20. 8. Одно из состязаний молодых спартиатов, известное нам по посвящениям Артемиде Орфии, носит название, несомненно, обозначавшее охоту; другие состязания, кажется, были музыкальными. Ср.: Brelich 1969: 175.
(обратно)596
Мы можем проследить за игрой этих инсттпуциональных метафор: так, как отмечено Николь Лоро (Loraux 1977: 116), на последней стадии битвы при Фермопилах триста спартанцев — т. е. бывшие крипты, а теперь проходящие службу как «всадники» — сражались «руками и зубами» или «как стадо кабанов, наточив свои клыки» (Геродот. VII. 225. 3; Аристофан. Лисистрата. 1254—1256).
(обратно)597
См.: Brelich 1969: 157-166 и Calame 1977: 251-357.
(обратно)598
См.: Brelich 1969: 157.
(обратно)599
Я бы хотел отметить среди наиболее успешных усилий в этом направлении: Wachtel 1971 и Zuidema 1971.
(обратно)600
Первоначальный вариант этой статьи см.: Raison présente. 1968. 6; см. также: Ordres et Classes. Colloque d'histoire sociale. Saint-Cloud, 24—25 mai 1967. Paris; La Have, 1973. P. 29-36.
(обратно)601
Пространно цитируя здесь Маркса (цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: В 3-х томах. Т. 1. М., 1979. С. 507. — Примеч. пер.), я отвечаю на возражения, которые были мне высказаны, в частности, Дж. де Сен-Круа (см.: Saint-Croix 1975: 30-31).
(обратно)602
См.: Finley 1965а: 53-55. Иную точку зрения см.: Meie 1968: 107 сл.
(обратно)603
См. выше: «Черный охотник и происхождение афинской эфебии».
(обратно)604
См.: Loraux 1977: 108-112.
(обратно)605
См.: Mossé 1964а.
(обратно)606
Ср.: Mossé 19646.
(обратно)607
См. ниже: «Древнегреческие историки о рабстве»; ср.: Finley 1964.
(обратно)608
Во время второго восстания сицилийских рабов, которое началось в 104 г. до н. э., восставшие во главе с «царем» Сальвием осадили город Моргантину; и осаждавшие, и осажденные обещали свободу рабам Моргантины, если те встанут на их сторону (Диодор. 36. 4. 5—8). Этот эпизод проясняет другую фразу Диодора о том, что бедный, но свободный люд охотно переходил на сторону восставших (там же. 36. 11). В первом случае мы имеем дело с изложением фактов, во втором, возможно, — с домыслом автора. Об этом эпизоде см.: Finley 1979: 139—145; Momigliano 1975: 33—34.
(обратно)609
FGrH 572 F 4 в пересказе Афинея (Афиней. VI. 265с—266 е). Об этом отрывке см.: Mazzarino 1966: 49—50; ср.: Fuks 1968 — попытки автора датировать описываемые события выглядят неубедительными.
(обратно)610
С поддержкой приведенных здесь мною аргументов выступил М. Финли (Finley 1980: 77).
(обратно)611
Первую публикацию этой статьи см.: Actes du Colloque 1971 sur l'esclavage. P., 1973. P. 25—44; ит. пер. (с некоторыми исправлениями) см: Schiavitù antica е moderna / Ed. Sichirollo L. Napoli, 1979. P. 159-181.
(обратно)612
В основу статьи положен доклад, с которым я выступил в Безансоне в 1971 г. Разумеется, я учел замечания, сделанные в ходе обсуждения доклада, а также вышедшие позже работы П. Левека, К. Моссе и Ж. Дюка (Ducat J.), посвященные данной проблеме.
(обратно)613
FGrH 115 F 122 =Афиней. VI. 265b-c. О Феопомпе см.: Momigliano 1931.
(обратно)614
См.: Meiggs, Lewis 1969: № 8. В настоящее время эту надпись датируют примерно 570 г. до н. э.
(обратно)615
Finley 1959: 164; см. также: Finley 1968б: 72; Finley 1980: 67-92.
(обратно)616
Lotze 1959; ср.: Поллукс. III. 83.
(обратно)617
Говорить о двух типах рабства не совсем корректно, поскольку если статус купленного на рынке раба (chattel-slave) не вызывает никакого сомнения, то статус илота не поддается точному определению.
(обратно)618
См. прежде всего: Finley 1960; Finley 1964; Lotze 1962; Mossé 1964à; Oliva 1961; Willetts 1963. Естественно, точки зрения этих авторов существенно различаются, хотя они и ссылаются на Маркса. Так, П. Олива (Oliva Р.) называет «неразвитой» форму рабства, которую Р. Уиллеттс (Willetts R.) справедливо находит совершенно отличающейся от классического рабства. Однако, предлагая термин «крепостные» (serfs), последний автор способствует путанице с европейским средневековьем. Этот вопрос Р. Уиллеттс вновь затрагивает в своей более поздней статье (Willetts 1972—1973: 67—68); несмотря на все его оговорки, я не понимаю, почему он вместо serf использует bondsman.
(обратно)619
Vidal-Naquet 1965: 127 сл.; см. также выше: «Существовал ли класс рабов в древней Греции?»
(обратно)620
См. ниже упоминание о политической борьбе в Гераклее Понтийской в IV в. до н. э. Можно также привести пример (о нем сообщается у историка Малака), связанный с основанием Эфеса (FGrH 552 F 1 = Афиней. VI. 267а—b). Согласно этой традиции, Эфес был основан тысячей восставших самосских рабов, которые в результате переговоров получили возможность покинуть остров. Если этот рассказ опирается на реальные события, то их участниками могли быть лишь зависимые сельские жители, что хорошо показано в: Sakellariou 1958: 127.
(обратно)621
См.: Garlan 1972.
(обратно)622
См. ниже: «Рабство и гинекократия в традиции, мифе и утопии».
(обратно)623
О параллели «женщины — ремесленники» см. ниже: «Этюд о двусмысленном: ремесленники в городе-государстве Платона»; о «Лисистрате» см.: Loraux 1980—1981.
(обратно)624
О датировке «Филиппик» см.: Connor 1968: 5.
(обратно)625
FGrH 566 F 11-12 =Афиней. VI. 264c-d; 272a-b; Полибий. XII. 5. 1 сл.
(обратно)626
См. ряд ссылок ниже. А. Момильяно, беседуя однажды со мной о последователях Феопомпа, сформулировал еще одно интересное направление исследования. По крайней мере два историка конца эллинистической эпохи — Посидоний из Апамеи (FGrH 87 F 38) и Николай Дамасский (FGrH 90 F 95) — собрали сведения о несчастьях, обрушившихся на хиосцев после «открытия» ими товарного рабства (chattel-slavery). В том же ключе следует интерпретировать и эпизод о восстании рабов под предводительством Дримака в изложении Нимфодора Сиракузского (FGrH 572 F 4). Эти анекдоты (их цитирует: Афиней. VI. 266e—f) — характерный пример эмоциональной реакции отдельных авторов конца эллинистической эпохи на практику chattel-slavery.
(обратно)627
См.: Morrow 1939: 32-39.
(обратно)628
Ниже я вернусь к этой проблеме, говоря о мариандинах — зависимых от гераклеотов жителях Вифинии.
(обратно)629
Аристотель. Политика. I. 1255а. 28; II. 1269а. 35 сл.; VII. 1330а. 25 сл. О теории рабства по природе и о ее слабых сторонах см. несколько парадоксальную статью: Goldschmidt 1973.
(обратно)630
См. прежде всего: Lauffer 1979.
(обратно)631
См.: Cuffel 1966.
(обратно)632
В дальнейшем я буду подразумевать под рабством chattel-slavery, за исключением особо оговариваемых случаев.
(обратно)633
Геродот. VI. 137 — цитирует Гекатея; ср.: FGrH 1 F 127.
(обратно)634
Во всех рукописях, за исключением одной, имеется это последнее добавление, которое многие издатели почему-то опускают. Действительно, пеласги должны были похищать девушек, но Геродот, говоря о мифических временах, совершенно естественно приписывает домашний труд женщинам и детям, т. е. всей немужской части населения. Данный отрывок хорошо показывает, как слово pais могло одновременно обозначать и ребенка, и раба; об аналогичных примерах в древнем Риме см.: Maurin 1975.
(обратно)635
В цитируемом отрывке курсивом выделены места, перевод которых дан по французскому оригиналу. (Примеч. пер.)
(обратно)636
Речь не идет о противопоставлении работы вне дома — в Греции, в отличие от Египта (ср.: Геродот. II. 35), это было уделом мужчин — и работы в доме, которая была женским занятием. В рассматриваемом отрывке женщины и дети заменяют работников рабского статуса.
(обратно)637
Ср.: Аристотель. Политика. I. 1253b. 1 сл.
(обратно)638
Ферекрат F 10 Kock = Афиней. VI. 263b.
(обратно)639
Мане с — типичное фригийское имя; Секис, или «маленькая служанка», — характерное «рабское имя»; см.: Masson 1973.
(обратно)640
См. ниже: «Рабство и гинекократия в традиции, мифе и утопии».
(обратно)641
Данный отрывок, возможно, навеян какой-то комедией.
(обратно)642
Например, Архемах (III в. до н. э.?) — FGrH 424 F 1 = Афиней. VI. 264а—b; Каллистрат (ученик Аристофана Византийского, II в. до н. э.) — FGrH 348 F 4 = Афиней. VI. 263d-e; Филократ (IV в. до н. э.?) - FGrH 602 F 2 = Афиней. VI. 264а; Сосикрат (II в. до н. э.) - FGrH 461 F 4 = Афиней. VI. 263f.
(обратно)643
FGrH 87 F 8 = Афиней. VI. 263c—d. Об аналогичных версиях Эфора (илоты) и Феопомпа (мариандины) см. ниже. Эта проблема, наряду с другими, затронута в: Ducat 1978: 5-11.
(обратно)644
Roussel 1960: 20. Дискуссия о реальности дорийского вторжения недавно была поднята вновь и вызвала настоящую бурю. Я не собираюсь вступать в эту дискуссию и лишь замечу, что наличие дорийского диалекта в микенском языке уже никем не оспаривается (см.: Chadwick 1976).
(обратно)645
Такого же внимания заслуживает популярная во Франции в XVII—XVIII вв. теория, согласно которой знатные люди считались потомками завоевателей-франков, а простолюдины — потомками завоеванных галло-римлян. О подобных примерах из английской истории см.: Finley 1971.
(обратно)646
Так, в нашем случае нельзя не учитывать то обстоятельство, что племена, пострадавшие от дорийского нашествия, могли либо всем составом эмигрировать, либо частично остаться на земле предков.
(обратно)647
Исследование этой темы и относящихся к ней сведений значительно облегчается благодаря прекрасной книге: Tigerstedt 1965.
(обратно)648
Геродот. VI. 58, 75, 80-81; VII. 229; VIII. 25; IX. 10, 28-29, 80, 85.
(обратно)649
См. особенно: Фукидид. IV. 80.
(обратно)650
FGrH 555 F 13 = Страбон. VI. 3. 2 (Εκρίθησαν δούλοι και ώνομάσθησαν είλωτες). Вопреки возражениям П. Левека (Lévêque 1979: 115) я вижу здесь рассказ о происхождении илотии, различающий два последовательных этапа: 1) какие-то местные жители были низведены до положения рабов; 2) эти рабы получили название илотов.
(обратно)651
Геродот. VII. 23; Плутарх. Агесилай. 30; Он же. Ликург. 21. 2. Фукидид также наверняка намекает на этот статус (Фукидид. V. 34). О tresantes см.: Loraux 1977: 111—112.
(обратно)652
FGrH 4 F 188 = Гарпократион, s.v. ειλωτεΰειν; см. комментарий Якоби ad loc. Этимологический анекдот о Гелосе был также известен Феопомпу (FGrH 115 F 13 = Афиши. VI. 272а) и другим авторам, которые упоминаются в статье: Ducat 1978: 9.
(обратно)653
FGrH 70 F 116, 117 = Страбон. VIII. 4. 7; VIII. 5. 4. Комментарий Якоби устраняет все неясности, возникающие при первоначальном чтении этого текста.
(обратно)654
Майнеке предлагает читать в отрывке Страбона упоминание об илотах после упоминания о городе Гелос.
(обратно)655
Например, такова точка зрения Л. Парети (Pareti 1920: 190—191).
(обратно)656
Плутарх пишет, что это случилось при царе Сое (Ликург. II. 1).
(обратно)657
Цит. по слегка измененному французскому переводу Э. Шамбри (Chambry Ε.). Интерпретация этого отрывка сопряжена с трудностями, т. к. его надлежит рассматривать в двух плоскостях. С одной стороны, Платон рассказывает, что граждане идеального полиса, которые вначале всем владели сообща, пришли к разделу земли и к военной специализации правящей касты, с другой — предлагает собственную версию становления Спартанского государства. Добавлю, что «гражданский» статус представителей низших сословий платоновского города-государства чрезвычайно спорен, и не случайно Аристотелю доставляло удовольствие находить противоречия — реальные или вымышленные — в этом отрывке (см.: Аристотель. Политика. II. 1264а. 25 сл.). В то же время мы видим, что Платон придерживался «исторической» версии спартанской истории.
(обратно)658
Исократ. Панафинейская речь. 177—180. Существуют различные интерпретации данного отрывка. К. Моссе (Mossé 1977) считает, что Исократ подразумевал только периэков; Ж. Дюка, оспаривая мою точку зрения, одновременно высказывает симпатичную мне мысль о том, что Исократ «возможно, путает (может быть, намеренно — по причине исключительно полемической направленности речи) периэков с илотами» (Ducat 1978: 9).
(обратно)659
На присутствие рабов, например, намекает Платон (см.: Платон. Алкивиад. 122d — на этот отрывок мне указала К. Моссе). С другой стороны, текст Исократа можно интерпретировать иначе и говорить, что речь в нем идет о рабах вообще.
(обратно)660
FGrH 115 F 171 = Афиней. VI. 271c-d; ср.: Pembroke 1970: 1246. Феопомп сближает этих эпевнактов с сикионскими рабами катонакофорами (FGrH 115 F176 = Афиней. VI. 271d).
(обратно)661
См. свидетельство Мемнона в: FGrH 434 F 1 = Фотий. Библиотека. 224.
(обратно)662
Гекатей: FGrH 1 F 198; Геродот. I. 28; III. 90; VII. 72; Ксенофонт. Анабасис. VI. 2. 1. Все источники о мариандинах собраны в: Asheri 1972: 17—23.
(обратно)663
См.: Ферекрат. F 68 Kock = Афиней. XIV. 653а, где высмеиваются диалект мариандинов и связанные с ним загадки и путаница; о погребальных песнях мариандинов см.: Нимфид: FGrH 432 F 5 = Афиней. XIV. 619b—620с. Павсаний (Павсаний. V. 26. 6) сообщает о «варварах мариандинах», говоря о посвящении в Олимпии, сделанном мегарцами и беотийцами — основателями Гераклеи.
(обратно)664
См., например, анонимного автора «Перипла Понта Эвксинского» (F 27 = GGM. I. Р. 408). О «мариандинском» яде аконите упоминает, наряду с другими авторами, Евстафий (см. его комментарий к Дионисию Периэгету в GGM. II. Р. 354)
(обратно)665
Самое позднее свидетельство — надгробная надпись императорской эпохи, приведенная Константином Порфирогенетом в «Книге фемов» (CIG. 3188). В этой надписи, повествующей о карьере одного проконсула, упоминается земля мариандинов, локализуемая между Галатией и Понтом.
(обратно)666
FGrH 115 F 388 = Страбон. XII. 3. 4. В тексте Страбона нет прямых указаний на то, что Феопомп придерживался данной точки зрения. По словам Каллистрата, мариандинам дали имя «носителей дани» (dorophoroi), чтобы не называть их недостойным словом «слуги» (oiketai) (см.: FGrH 347 F 4 = Афиней. VI, 263d—е).
(обратно)667
Об истории Гераклеи, особенно о тирании Клеарха, см. обобщающую работу: Höpfner 1966: 9—14; ср.: Asheri 1972. Основополагающим исследованием о тирании остается книга: Apel 1910.
(обратно)668
У Аристотеля термин «периэки» почти всегда означает зависимое сельское население; см.: Willens 1959: 496.
(обратно)669
См.: Юстин. XVI. 3—5. Plebs у Юстина — очевидно, demos, a senatores — скорее, oligoi, чем bouleutes.
(обратно)670
Ср.: Mossé 1961: 357-359.
(обратно)671
К примерам, приведенным ниже в главе «Рабство и гинекократия в традиции, мифе и утопии», добавлю эпизод о Набисе, устроившем браки между илотами и спартанскими женщинами (Полибий. XVI. 13. 1); см. об этом: Mossé 19646; Shimron 1966. В целом я поддерживаю мнение этих авторов, несмотря на возражения Д. Ашери (Asheri 1977).
(обратно)672
Их фрагменты собраны в издании Якоби FGrH 31; FGrH 430—434; о мариандинах и их железных рудниках см.: Robert 1980: 5—10.
(обратно)673
Нимфид: FGrH 432 F 4 = Схолии к Аполлонию Родосскому. II. 752. Возможно (подчеркиваю: возможно), Геродор тоже упоминал об этом родстве, см.: FGrH 31 F 49; к сожалению, смысл этого испорченного отрывка остается туманным.
(обратно)674
Один из лучших известных мне примеров — надпись из Летоона в Ксанфе, открытая Метцгером (Metzger H.) и датируемая III в. до н. э. В ней говорится об общей родословной ликийцев, которые считались одним из наиболее эллинизованных народов, и дорийцев метрополии. См.: Musti 1963.
(обратно)675
Эта фраза невольно породила оживленную дискуссию, см.: Musti 1978: 170—171. Мне кажется, смысл фразы вполне ясен: классическая античность многие столетия не знала крупных столкновений между свободными и рабами.
(обратно)676
См., впрочем, оговорки Ж. Дюка в: Ducat 1978: 24—38; Ducat 1974а.
(обратно)677
Ксенофонт. Греческая история. II. 3. 36; ср.: Mossé 1961: 354—355.
(обратно)678
Возможно, речь идет о вторжении на Крит Фалека и его наемников в 345 г. до н. э. или Агиса — в 333 г. до н. э.; см.: Effenterre 19486: 80 сл.
(обратно)679
См.: Briant 1973.
(обратно)680
Достаточно одного взгляда на просопографию работы M. Лонея (Launey 1950), чтобы понять, какое видное место среди областей вербовки наемников занимали сельские регионы «старой» Греции.
(обратно)681
Впервые опубликовано в: Le Monde grec / Hommages à Claire Préaux. Bruxelles, 1975. Статья была переработана с учетом замечаний Бенедетто Браво, Филиппа Готье, Виктора Голдшмидта и Кристиана Леруа (Le Roy С), которым я приношу свою благодарность.
(обратно)682
Wilhelm 1911; текст надписи см.: IG. IX. I2. 3, 706 (G. Klaffenbach); Schmitt, Bengtson 1969: 118—126 № 472 (приведена основная библиография). Важнейшим исследованием (особенно в том, что касается восстановления текста) остается: Никитский 1913. О религиозных и ритуальных аспектах отправки девушек в Трою см.: Graf 1978.
(обратно)683
X. Шмитт (Schmitt H.) вслед за другими авторами считает, что, поскольку в надписи нет упоминания о Беотийском союзе, к которому принадлежали локрийцы Опунта, ее следует датировать временем до 272 г. до н. э. (Schmitt, Bengtson 1969: 125). По мнению Г. Клаффенбаха (Klaffenbach G.), надпись, судя по характеру написания букв, относится к началу III в. до н. э. Впрочем, я не буду здесь уделять много внимания этому вопросу.
(обратно)684
Мы не знаем, идет ли речь о филе или фратрии Эантиев — их точный статус не известен. А. Вильхельму пришлось довольствоваться нехитрым выводом о том, что «на первый взгляд, Эантии связаны с Аяксом, они — его потомки» (Wilhelm 1911: 172). Цитируемый ниже фрагмент Сервия ничего не дает для доказательства того, что существовала фила Эантиев.
(обратно)685
Строго говоря, в тексте надписи, по крайней мере в сохранившейся его части, упоминается лишь об отправке девушек, но не уточняется — куда.
(обратно)686
А. Вильхельм восстанавливает текст следующим образом: εντε κα ( èv ' ανδρός ελθη ?] — «вплоть до замужества» (Wilhelm 1911: 220). Другие предлагаемые варианты восстановления см.: Schmitt, Bengtson 1969: 121. Здесь это место благоразумно оставлено пустым, поскольку, помимо замужества девушек, можно с равным успехом рассматривать следующие варианты: прибытие локриянок в Илион, их возвращение на родину, окончание срока обязательств, возложенных на локрийцев после преступления Аякса.
(обратно)687
Ниже я привожу список (надеюсь, полный) этих авторов: Эней Тактик. Полиоркетика. 31. 24; Тимей: FGrH 566 F 146 а (цитируется в «Ранних схолиях» к Ликофрону, 1155), b (спорный фрагмент, цитируется в: Цец. Ликофроника. 1141); Ликофрон. Александра. 1141—1173 и схолии к строке 1141 (цитируют Каллимаха — Aitia. I. F 35 Pfeiffer) и к строке 1172 (цитируют Тимея), а также комментарий Цеца к строке 1141 (со ссылками на Тимея и Каллимаха) — 1162; Полибий. XII. 5. 6—9; Страбон. XIII. 1. 40 (опирается на свидетельство Деметрия из Скепсиса); Плутарх. Об отсрочке божественной справедливости/Моралии. 557d (цитирует анонимного поэта); (Аполлодор]. Эпитома. VI. 20—22; Элиан. Пестрые рассказы. F 47. II. Р. 205—206 Hercher (восстановлен на основе нескольких отрывков из Суды); Ямвлих. Жизнь Пифагора. 42; Иероним. Против Иовиана. I. 41; Сервий. Комментарий к Энеиде. I. 41 (цитирует римского историка Аннея Плацидия); схолии А и D к «Илиаде». XIII. 66 (цитируют Αϊτια Каллимаха). А. Вильхельм и другие исследователи, обращавшиеся к Lokrische Mädcheninschrift, естественно, разбирали эти тексты, которые, насколько мне известно, были впервые собраны и прокомментированы И. Казобоном в одном из примечаний к его изданию Энея Тактика (Paris, 1609. Р. 89), вышедшему вслед за его изданием Полибия и переизданному в Лейпциге в 1818 г. с добавлениями на с. 243—244. Замечу, что Казобону было известно свидетельство Иеронима, пропущенное более поздними исследователями. Значительная часть этих фрагментов собрана и переведена в: Reinach 1914. За исключением тех случаев, где необходимы дополнительные уточнения, далее, ссылаясь на эти тексты, я буду указывать лишь имена их авторов.
(обратно)688
О версии Полибия см.: Pembroke 1970: 1250—1255. Мне представляется убедительной интерпретация этого автора, выступившего против тезиса о существовании матриархата у локрийцев.
(обратно)689
См., например, интересное исследование на эту тему: Lerat 1952: 19—22. Об археологических сведениях, которые представляются мне весьма спорными, см.: Leaf 1912: 126—144 (автор следует Брюкнеру); в «Приложении С» к этой работе собраны и литературные тексты (с. 392—396). Откровенно бредовый опус на тему археологических параллелей — Huxley 1966. Автор заявляет, что якобы обнаружил прах локриянок. Но ведь его развеивали над морем!
(обратно)690
Лучшая работа: Momigliano 1945. Я многим обязан этой статье, хотя и придерживаюсь иной точки зрения.
(обратно)691
Не затрагивая дискуссионный вопрос о дате «Александры», вслед за многими авторитетными специалистами отношу это произведение к первой трети III в. до н. э.
(обратно)692
Т. е. Афину.
(обратно)693
Перевод А. Рейнака (Reinach 1914: 26—27) — перевод на русский язык с французского перевода А. Рейнака. (Примеч. пер.)
(обратно)694
Эта деталь опровергает гипотезу Г. Хаксли (Huxley 1966) о существовании temenos extra muros. В эллинистическую эпоху храм Афины находился в северной части телля, бесспорно, внутри города.
(обратно)695
Закончилась в 347/346 г. до н. э.
(обратно)696
В их принадлежности Тимею очень сомневался Виламовиц (Wilamowitz 1916: 387— 388). Резюме этой дискуссии изложено Ф. Якоби в его комментарии к фрагменту 146 Тимея. Сам Якоби, цитируя Цеца, исключает у него упоминание имени Тимея. Цец также ссылается на Каллимаха, но эта ссылка, если и важна, то лишь для всей легенды в целом.
(обратно)697
Или ένιαυσιαία; о значении этого прилагательного см. ниже.
(обратно)698
О его личности существует такое множество гипотез и мнений (киклический поэт, Евфорион, Каллимах и т. д.), что я не буду добавлять свой голос к этому хору.
(обратно)699
Ср.: Momigliano 1945: 51.
(обратно)700
Этот отрывок порождает ряд вопросов. Во-первых, вслед за Вильхельмом (Wilhelm 1911: 175) я принимаю конъектуру Зауппе (Sauppe) οι Λοκροί вместо ολίγοι, которую Олдфазер (Oldfather) и Дэйн (Dain), последние издатели Энея, к сожалению, забыли упомянуть. Палеографически она вполне допустима и к тому же улучшает смысл отрывка. Во-вторых, в рукописи мы имеем ανετεα с Signum corruptionis на первом «эпсилоне». Орелли (Orelli) и последующие издатели с полным правом предлагают читать это как ανα ετεα или άν' ετεα. Однако значение этого выражения остается под вопросом. Так, Олдфазер и Бон (Bon А.) переводят его: «год за годом», а Момильяно (Momigliano 1945: 50) утверждает, что словосочетание άν ' ετεα «вряд ли случайно было написано слитно». Действительно, у Энея не сказано: άνα πάντα ετεα или άνα πάν eτος, - как, например, у Геродота (Геродот. I. 136; П. 99; III. 160; VIII. 65), и поэтому я перевожу здесь: «в течение времени, со временем». Есть сомнения и относительно πολλά. Олдфазер считает (см. его примечание на с. 169 издания Энея в серии «Loeb»), что прилагательное следует относить к ετεα, но это маловероятно, поскольку идея длительности времени выражена в предшествующей фразе словосочетанием εκ τοσούτου χρόνου. В любом случае, как заметил Момильяно, текст Энея не согласуется с вышеупомянутой первой группой источников. Вопреки возражениям Ф. Графа (Graf 1978: 66, 30), я продолжаю настаивать на своем переводе этого отрывка.
(обратно)701
Заметим, что в отличие от остальных авторов Сервий сообщает об одной девушке. В ранней схолии к стиху 1159 «Александры» Ликофрона говорится, что в позднейшие времена локрийцы посылали к Афине лишь одну рабыню, полагая это достаточным в качестве платы за преступление: πέμπειν ούκέτι. β', άλλα μίαν, αρκούσαν ειναι δοκοΰντας την τιμωρίαν; об этом отрывке см. ниже.
(обратно)702
Восстановление Шеер (Scheer Е.).
(обратно)703
Некоторые авторы (Полибий, Ямвлих, Иероним и схолиаст «Илиады»), ставившие перед собой другие задачи, не приняли участие в «хронологической» дискуссии.
(обратно)704
Ликофрон, схолия к стиху 1141 «Александры», схолиаст Гомера, «Эпитома» Псевдо-Аполлодора, Иероним, Ямвлих, комментарий Цеца к стиху 1141 «Александры».
(обратно)705
Речь идет о схолии к стиху 1159 «Александры» Ликофрона (ο δε χρησμός· ουκ είχε ν ώρισμένον χρόνον); в свою очередь, этот факт свидетельствует о том, что традиция, на которой основывался схолиаст, была далеко не единой.
(обратно)706
Ссылка Шмитта (Schmitt, Bengtson 1969: 125) на «вечного» в таких случаях Поси-дония здесь абсолютно бесполезна.
(обратно)707
Если мы, конечно, не принимаем всерьез маловероятную гипотезу Роберта (Robert 1923: 1274) о том, что надпись сообщает об отправке девушек не в Илион, а в одно из святилищ Западной Локриды.
(обратно)708
Окончание этой фразы в «Эпитоме» следующее: Ικέτίδας έπαύσαντο πέμποντες -«они перестали посылать просящих о милости».
(обратно)709
Ф. Якоби совершенно справедливо указал на это обстоятельство в своем комментарии к фрагменту 146 Тимея. Даже самая ранняя датировка окончания Троянской войны, предлагаемая Дурисом (1334/1333 г. до н. э.), не вписывается в нашу схему. Не потому ли Иероним, которому хронологические факты могли показаться спорными, ограничился фразой о том, что локриянок посылали в Илион per annos circiter mille? Уже Казобон использовал это circiter, чтобы согласовать сведения Тимея со своей хронологией. Манни (Manni 1963) попытался решить проблему иначе, отождествив Фокидскую войну с кельтским вторжением в Дельфы (278 г. до н. э.), — последняя дата почти совпадает с тысячелетием окончания Троянской войны, по версии Геродота. Однако мы не располагаем какими-либо сведениями, которые позволяли бы проводить такое отождествление.
(обратно)710
Насколько мне известно, эту конъектуру впервые предложил Л. Себастьяни (Sebastiani L.) в своем издании Ликофрона и схолий Цеца (Roma, 1803. Р. 297). Издатель счел ее столь очевидной, что даже не нашел нужным уведомить читателей об ее отсутствии в рукописном тексте. Исправление было принято К. Г. Мюллером (Müller С.) в его издании тех же самых авторов (Leipzig, 1811. S. 939, Anm. 29) — аргументы Мюллера основаны на рассуждениях Казобона. Впоследствии об этой конъектуре не вспоминал никто, кроме У. Лифа (Leaf 1912: 132) и А. Момильяно, который отверг ее без всякого обсуждения (Momigliano 1945: 49, примеч. 2).
(обратно)711
Об этом значении καταγηράσκω см.: Treves 1942: 149—153.
(обратно)712
Здесь в предложении явный пропуск; по всей видимости, речь идет не о самых первых посланных в Трою девушках (ср.: Reinach 1914: 35).
(обратно)713
Очевидно, женщины в Локриде, а не «гиеродулы» в Трое, как полагал А. Рейнак (Reinach 1914: 35).
(обратно)714
См.: Wilhelm 1911: 186-187.
(обратно)715
Сторонником первого является Шмитт (Schmitt, Bengtson 1969: 125), в пользу второго приводит аргументы Момильяно (Momigliano 1945: 52—53).
(обратно)716
Согласно Л. Роберу, самое раннее документальное подтверждение существования конфедерации и ее связей с Антигоном относится примерно к 306 г. до н. э. или чуть позже (Robert 1966: 20—22). О вмешательстве Антигона Одноглазого — началу его карьеры посвящена монография П. Бриана (Briant 1973) — в дела греческих полисов хорошо известно — см., например, знаменитую надпись о синойкизме Теоса и Лебедоса (Dittenberger. Sylloge3. 344). Вызывает недоумение следующее замечание Момильяно: «Третейский суд Антигона выглядит более логичным, если Илион не находился в сфере влияния этого царя, иными словами — если речь идет об Антигоне Гонате» (Momigliano 1945: 53, примеч. 1). В пользу Антигона Гоната также высказывается Ф. Граф (Graf 1978: 64), поскольку считает, что эпоха Антигона Одноглазого слишком далеко отстоит от времени составления декрета из Витриницы. Однако в любом случае мы констатируем интервал в несколько десятилетий, и дополнительные двадцать лет здесь не имеют принципиального значения.
(обратно)717
Эта точка зрения представлена в: Corssen 1913: 197—198. Автор пытается восстановить строку 10 Lokrische Mädcheninschrift как: εντε κα (ζώηι].
(обратно)718
Этого мнения придерживается Шмитт (Schmitt, Bengtson 1969: 123).
(обратно)719
Идея об эволюции литургии в сторону ее смягчения не нова; так, Казобон (op. cit.) писал: Puto verum esse quod dixit Timaeus (т. е. Цец) de tempore, quo immane institutum, mitescentibus in dies magis magisque hominum ingeniis, omitti coepit.
(обратно)720
См.: Momigliano 1945: 52: «Соответствующий период их литературного творчества приходится на промежуток времени между прекращением дани и ее возобновлением».
(обратно)721
Vürtheim 1907: 110. Его аргументы были повторены А. Вильхельмом (Wilhelm 1911: 184) и А. Момильяно (Momigliano 1945: 50, примеч. 2). Со своей стороны, А. Никитский пришел к выводу, что упоминание о «годовалых младенцах с их кормилицами» (βρέφη ενιαύσια μετά των τροφών αυτών) могло быть результатом смешения слов trophos (кормилица) и trophe — довольствие, выдаваемое девушкам согласно тексту надписи (Никитский 1913: 15). Однако этот вывод поднимает не интересующую меня здесь проблему контаминации литературной традиции и эпиграфического памятника.
(обратно)722
Это выражение встречается в ранней схолии к стиху 1141 «Александры».
(обратно)723
Разнородный характер текста убедительно показан А. Никитским (Никитский 1913: 16)
(обратно)724
Préaux 1966: 161. Библиографию см.: Robert. Bulletin 1976: № 327; Gauthier 1976: 139; Triantaphyllopoulos 1971: 183-184.
(обратно)725
Геродот. VII. 83. 211. Я не изучал специально вопрос о происхождении эпитета «бессмертные», которым награждают членов французской Академии, но хорошо известно, что их так называют не из-за их творений, уровень которых не всегда высок, а из-за их неизменного числа.
(обратно)726
Этот пример не был приведен И. Триантафиллопулосом (Triantaphyllopoulos 1971), однако он отметил ряд других примеров, не все из которых, впрочем, убедительны. Я разделяю его предположение, что в эпизоде с быками Гелиоса Гомер (Гомер. Одиссея. XII. 127—130) играет на двух возможных смыслах понятия «вечность, бессмертие». Аналогичную игру ведет Платон в «Государстве» (Платон. Государство. X. 611а): «...души всегда самотождественны. И раз ни одна из них не погибает, то количество их не уменьшается и не увеличивается. Ведь если бы увеличилось количество того, что бессмертно, это могло бы произойти... только за счет того, что смертно, и в конце концов бессмертным стало бы все» (пер. А. Н. Егунова). Бессмертие всех и одного у Платона переосмыслено в обратном порядке по сравнению с Гомером. Но кто скажет, какой из двух подходов первоначальный? Упомяну также платоновские диалоги «Тимей» (Платон. Тимей. 4Id) и «Федон» (Платон. Федон. 61а—е), где поднимается тема людского стада, опекаемого божеством. Я благодарю В. Голдшмидта, указавшего мне на эти тексты.
(обратно)727
Ср.: Цец. Схолии к «Александре» Ликофрона, строка 1141: και πάλιν οί ΛοκροΙ ετέρας· έστελλον.
(обратно)728
Без сомнения, именно таков смысл этой фразы, совершенно правильно понятой схолиастом: οσαι γαρ άπέθνησκον, τοσαυται άντ' αυτών έστέλλοντο έν Τρωάδί παρά τών Λοκρών («сколько умирало, столько же на их место посылалось локрийцами в Троаду»). «Ebensoviel wie die Toten», — перевел Виламовиц (Wilamowitz 1916: 387). С эпохи Возрождения начало фразы часто ошибочно переводили как «подобные мертвым». См. замечания по этому поводу: Reinach 1914: 26, примеч. 3; Momigliano 1945: 51.
(обратно)729
Этот глагол встречается почти во всех текстах греческих авторов, за исключением соответствующих мест у Энея, повествующего от лица Трои, и у Полибия, использующего глагол αποστέλλειν. Сервий пишет: ad sacrificium mitti, что передает идею pompe. В строке 2 Mädcheninschrift А. Никитский, возможно, справедливо восстанавливает: πέμψειν.
(обратно)730
Я вынужден говорить об «одной из двух традиций», поскольку не решаюсь открыто использовать somata Энея, который так называет локриянок. Термин soma, если не сопровождается уточняющим смысл прилагательным и если речь идет о человеке, чаще всего обозначает раба, хотя бывают и исключения (см.: Ducrey 1968: 26—29). Даже следуя той традиции, согласно которой девушки доживали до старости в Илионе, мы не сможем определить их статус. Псевдо-Аполлодор называет их «просительницами», Ликофрон и Цец подчеркивают их униженное положение. А. Рейнак обозначает их статус словом «гиеродулия» (Reinach 1914).
(обратно)731
Из всех предлагаемых восстановлений строки 10 надписи наибольшего доверия заслуживает чтение А. Никитского: εντε κα ( έπανέλθωντι] — «вплоть до их возвращения».
(обратно)732
См.: Геродот. IV. 32—34 и комментарий к этому отрывку: Bruneau 1970: 39—44.
(обратно)733
Возражения Ф. Графа по поводу моей концепции (Graf 1978: 66, примеч. 29) свидетельствуют о том, что их автор считает, будто я пытаюсь восстановить текст изначального договора, хотя это не так.
(обратно)734
Значительно измененный вариант статьи, впервые опубликованной в: Recherches sur les structures sociales dans l'Antiquité classique / Ed. Cl. Nicolet. Paris, 1970. P. 63—80; ит. пер. с некоторыми добавлениями и исправлениями: Schiavitù antica е moderna / Ed. L. Sichirollo. Napoli, 1979. P. 117-136.
(обратно)735
Finley 1964: 249; см. также обобщающую работу: Lotze 1959.
(обратно)736
См.: Vidal-Naquet 1965: 127—149; а также опубликованную выше главу «Существовал ли класс рабов в древней Греции?». Весьма полезной для меня оказалась статья: Mossé 1961.
(обратно)737
Mumford 1965: 277; см. также: Finley 1967: 178-192.
(обратно)738
См.: Robert 1962: 264-271; Dumont 1966: 189-196; Finley 1967: 183-184.
(обратно)739
См. выше: «Существовал ли класс рабов в древней Греции?»; попытка исторической интерпретации этих событий предпринята в: Fuks 1968 (выводы автора весьма неубедительны).
(обратно)740
Анаксандрид. F 4 (CAF II 1371) = Афиней. VI. 263b.
(обратно)741
Гекатей: FGrH 1 F 345 (из Стефана Византийского). См. также: Кратин. F 208 (CAF I 76, цит. Стефаном Византийским); Евполид. F 197 (CAF I 312, цит. Гесихием); Эфор: FGrH 70 F 50, цит. Судой; Мнасей, цит. в: Appendix proverbiorum III. 91, s. v. me eni doulon polis (FHG III. P. 155 F 38); Сосикрат: FGrH 461 F 2, цит. Судой; Плиний. Естественная история. V. 44; Олимпиан: цит. Стефаном Византийским, s.v. doulon polis (237 Meinecke); Аристолий. VII. 37 (Corpus paroem. gr. 2. P. 371 s.v. doulon polis). Большинство этих цитат собрано в трех лексиконах (s.v. doulon polis): Гесихия (437 Schmitt), Стефана Византийского (237 Meinecke) и Суды (№ 1423, 2. Р. 133 Adler).
(обратно)742
Плиний. Естественная история. IV. 41; Плутарх. О курьезах / Моралии. 520b; считалось, что этот легендарный город был основан Филиппом Македонским во Фракии.
(обратно)743
Гекатей: FGrH 1 F 345.
(обратно)744
Так, Эфор (FGrH 70 F 29 = Афиней. VI. 263 сл.) сообщает, что в Кидоне устраивались праздники, во время которых ни один свободный не мог войти в город и «всем заправляли рабы» (hoi douloi panton kratousi). Эту информацию мы также найдем у Стефана Византийского.
(обратно)745
Сосикрат: FGrH 461 F 4; ср.: Досиад: FGrH 458 F 2-3; см. также: Vidal-Naquet 1965: 128, примеч. 46.
(обратно)746
На это замечание кто-то может возразить, приведя свидетельства о лагере рабов на Хиосе, упоминаемом Нимфодором Сиракузским (см. выше), или о царстве рабов, существовавшем во II в. до н. э. в Энне на Сицилии. Однако в обоих случаях речь идет не о «полисе рабов», а о других формах организации восставших.
(обратно)747
См. выше: «Древнегреческие историки о рабстве».
(обратно)748
Pembroke 1965; 1967; 1970. Выводы Пемброука не были и не могли быть опровергнуты в: Hirvonen 1968, поскольку последний автор с ними не знаком.
(обратно)749
См.: Rosellini, Said 1978.
(обратно)750
См. подборку текстов в: Dumézil 1924. По крайней мере в одном тексте [(Аполлодор] Мифологическая библиотека. I. 9. 17) по отношению к Лемносу употребляется термин gynaikokratoumene.
(обратно)751
О Клитемнестре греческих трагедий, чей образ наделен рядом мужских черт, см.: Vernant 19816: 134-139; Zeitlin 1978.
(обратно)752
Ср. ниже афинскую традицию.
(обратно)753
Ср.: Плутарх. Изречения лаконцев. 227е; Он же. О доблести женщин. 240е.
(обратно)754
Из огромной массы зачастую бесполезной литературы по данному вопросу укажу лишь две ценные статьи, хотя и не со всеми выводами их авторов я могу согласиться: Luria 1932; Willetts 1959; см. обзор в: Crahay 1956: 172—175. Отрывок из Геродота и ряд других рассматриваемых здесь источников, повествующих об этих событиях, были исследованы моим другом Дэвидом Ашери (Asheri 1977). В отличие от меня, Ашери традиционен в своих подходах, но обилие собранных им свидетельств позволило ему по-новому взглянуть на проблему. Назову также статью: Compernolle 1975, где выражается несогласие с моей работой.
(обратно)755
«Не следует забывать, что ή θηλεια τον άρσενα νικήσασα передает характерный для пословиц и поговорок образ мира, в котором все наоборот» (Willetts 1959: 502).
(обратно)756
Основными источниками являются: Дионисий Галикарнасский. Римские древности. VII. 2—12, особенно VII. 9. 1—11. 4; Плутарх. О доблести женщин. 261e—262d (остальные ссылки см.: Berve 1967/2: 611, хотя его анализ (Berve 1967/1: 160—163) нельзя признать удачным). Из последних работ см.: Asheri 1977: 22—23.
(обратно)757
См. выше главу «Черный охотник и происхождение афинской эфебии».
(обратно)758
См.: Lerat 1952/2: 22—25. Автор склоняется в пользу гипотезы о выходцах из Западной Локриды.
(обратно)759
Полибий. XII. 5—11; текст Тимея см.: FGrH 566 F 12. Информация, аналогичная той, что приведена у Полибия (т. е. у Аристотеля или его последователя), содержится в схолии 366 к географу II в. н. э. Дионисию Периэгету (=GGM. II. Р. 495). См.: Walbank 1967; Pembroke 1970 (автор тщательно анализирует эти источники); Sourvinou-Inwood 1974: 188—194. Р. ван Компернолле (Compernolle R. van) в своем пространном исследовании (Compernolle 1976) рассматривает сообщение Аристотеля — Полибия с позитивистской точки зрения и тем самым лишает его какой-либо исторической ценности; его исследование ни в чем не перекликается с моим.
(обратно)760
Примерно о том же говорится у Афинея (Афиней. VI. 264с; 272а = FGrH 566 F 11).
(обратно)761
Возможно, локрийцы дали обет, подобно спартанцам в легенде об основании Тарента (см. ниже).
(обратно)762
Основным документом является надпись «локрийских девушек», блестяще разобранная А. Вильхельмом (Wilhelm 1911) и воспроизведенная в: Schmitt, Bengtson 1969: 472; см. выше: «Бессмертные рабыни Афины Илионской».
(обратно)763
Meiggs, Lewis 1969: № 20. В их библиографии отсутствует важный комментарий, приведенный в: Inscriptions juridiques grecques. I. 11. P. 180—192; см. также: Lerat 1952: 29—31, 141—142, выводам которой я следую.
(обратно)764
Οίκιήτης ώνητός δούλος.
(обратно)765
Этой точки зрения придерживается С. Пемброук (Pembroke 1970); он считает, что мы не можем извлечь какую-либо информацию в пользу гипотезы о матрилинейном счете родства у италийских локров из эпиграммы «Палатинской антологии» (VI. 265). Ни малейших следов матрилинейного родства Л. Лера (Lerat L.) не обнаружил и у локрийцев Балканской Греции (Lerat 1952/2: 139—140).
(обратно)766
Источники и библиографию см.: Wuilleumier 1939: 39-47; Bérard 1957: 162-175. С. Пемброук посвятил этой традиции значительный раздел своей статьи (Pembroke 1970), из которой я много почерпнул. См. также: Corsano 1979.
(обратно)767
FGrH 555 F 13, цит. Страбоном (Страбон. VI. 3. 2); ср. выше: «Древнегреческие историки о рабстве».
(обратно)768
Геродот. VII. 231; Плутарх. Агесилай. 30; Он же. Ликург. 21. 2; ср.: Loraux 1977: 105-120.
(обратно)769
Эфор: FGrH 70 F 216 (=Страо~он. VI. 3. 3). Из многочисленных подражателей (прямых или косвенных) см.: Полиций. XII. 6Ь. 5, 9; Дионисий Галикарнасский. Римские древности. XIX. 2-4; Юстин. III. 4. 3-11.
(обратно)770
Аналогичные выражения мы найдем у Юстина (promiscuos omnium feminarum concubitus) и Дионисия Галикарнасского (έκ τούτων γίνονται των αδιάκριτων επιμιξιών παίδες·); ср. комментарий Сервия к «Энеиде» (III. 551): sine ullo discrimine nuptiarum, но у него речь идет об отцах-рабах.
(обратно)771
См.: Rosellini, Said 1978, где говорится о подобной практике, упоминаемой Геродотом.
(обратно)772
См.: схолии (Акрона] и Порфириона к «Одам» Горация (II. б. 12); комментарий Сервия к Вергилиевым «Энеиде» (III. 551) и «Эклогам» (X. 57); Гераклид Понтийский. Peri Politeion. 26 (FHG II 209) « Аристотель. F 611. 57 Rose.
(обратно)773
Аристотель. Политика. V. 1306b. 28. Буквально перед этим Аристотель говорит об опасностях, с которыми сталкиваются олигархии, «когда толпа состоит из людей, кичащихся тем, что по своей доблести они равны (вышестоящим] (όταν ή то πλήθος των πεφρονηματισμένων ως· όμοιων κατ' άρετήν); в Лакедемоне этими людьми были так называемые парфении, происходившие от гомеев; спартанцы уличили их в заговоре и отправили основывать Тарент (οίον εν Λακεδαίμονι οι λεγόμενοι Παρθενιαι (εκ των όμοιων γαρ ήσαν) ους φωράσαντες επιβουλεύσαντας απέστειλαν Τάραντος οικιστάς)». Значение выражения εκ των όμοιων не ясно. Оно может переводиться и как «относившиеся к числу гомеев», но тогда весь отрывок теряет смысл. По моему мнению, данный отрывок все же сопоставим с версиями Эфора и Антиоха.
(обратно)774
Диодор. VIII. 21; другой отрывок Диодора (Диодор. XV. 66) практически воспроизводит версию Эфора. Параллельный текст Юстина (Юстин. III. 5) повествует о событиях Второй Мессенской войны.
(обратно)775
Обычно комментаторы этого пассажа Диодора их путают. Первым, кто стал проводить различие между ними, был Пемброук (Pembroke 1970).
(обратно)776
Феопомп: FGrH F 171 (= Афиней. VI. 271c-d).
(обратно)777
Подробнее об этом см.: Pembroke 1970.
(обратно)778
См.: Vallet 1958: 68-77; Ducat 19746; Valenza, Mele 1977: 512-517 - автор заимствует и уточняет основные положения моего исследования; аналогичную точку зрения см.: Musti 1977.
(обратно)779
Диодор. VIII. 23. 2; Гераклид Понтийский. Peri Politeion. 25 (=FHG II 220); Дионисий Галикарнасский. Римские древности. XIX. 2.
(обратно)780
«Фиговое дерево — козел» отыскалось в Таренте; ветви дерева были погружены в море (Диодор. VII. 21с; Дионисий Галикарнасский. Римские древности. XIX. 1).
(обратно)781
Павсаний. X. 10. 6—8. «Чистое небо» — Эфра, жена Фаланфа, основателя Тарента; она плачет, вычесывая вшей из головы мужа.
(обратно)782
Аристофан. Лягушки. 694—695 со схолиями; Ликург. Против Леократа. 41; ср.: Robert 1939: 118-126; Garlan 1972; 1974а; Welwei 1974.
(обратно)783
Ср.: Геродот. IX. 29; Фукидид. IV. 80 и т. д.
(обратно)784
Критские надписи (Inscr. Cret). IV. № 72. Col. VI. 56; VII. 1 сл. Οπυιεν, близкое по смыслу грубому «трахнуть» аттической комедии, в Гортинской надписи используется в качестве термина, обозначающего супружеский союз. Статус dolos является темой нескончаемой дискуссии, поскольку в Гортинских законах упоминается еще один термин, обозначавший раба, woikeus. Ни у кого нет сомнений, что статус этого последнего идентичен статусу спартанского илота. По мнению А. ван Эффентерра (Effenterre 1948: 92), dolos обозначает юридический, а woikeus — социальный статус одного и того же лица. М. И. Финли (Finley 1960: 168-172), развивая аргументацию Липсиуса, пришел к выводу о полной идентичности обеих категорий. Последний издатель законов Р. Ф. Уиллеттс (Willets 1967: 14) более осторожен: «Термин δόλος иногда синонимичен термину Φοικευς, а иногда обозначает купленного на рынке раба (chattel slave)». Действительно, dolos мог быть куплен на агоре (см.: Inscr. Cret. Col. VIL 10). Я полагаю, что ко времени написания Гортинских законов социальная жизнь на острове претерпела изменения (главным образом из-за распространения классического рабства), но эти изменения еще не успели отразиться в языке.
(обратно)785
Макробий. Сатурналии. I. 12. 7; 23. 24; Иоанн Аид. De Mensibus. III. 22. (Wunsch); Юстин. XLIII. 1. 3-5; ср.: Dumézil 1967: 588.
(обратно)786
См.: Vernant 1974.
(обратно)787
Диоген Лаэртский. II. 26; Афиней. XIII. 556а—b, где цитируется приписываемое Аристотелю сочинение «Péri Eugeneias»; Авл Геллий. Аттические ночи. XV. 20. 6, 18—21. См. комментарии Ж. Пепэна (Pépin J.) в: Aristote.« Fragments et témoignages / Ed. P.-M. Schuhl. P., 1968. P. 123—125; об аутентичности этого «декрета» см.: Harrison 1968: 17. В отличие от Диогена Лаэртского, Афиней и Авл Геллий говорят о повторном браке. Д. Ашери ошибочно добавляет к вышеуказанным источникам отрывок из второй речи Диона Хрисостома о рабстве (XV. 3). Согласно этому отрывку (риторическому по своему характеру), в периоды олигантропии афинянки рожали детей от чужеземцев. Но дети от таких союзов не могли быть гражданами.
(обратно)788
Ж. Дюмезиль (Dumézil 1924: 51—53) видел в этом мифе истоки спартанского обычая устраивать процессии с ряжеными; см. также комментарии С. Пемброука (Pembroke 1970: 1266).
(обратно)789
По мнению Ж. Дюмезиля (Dumézil 1924: 11—12), в этом мифе слышны отголоски обряда ухода и инициации. Моя интерпретация не претендует на роль окончательной, я просто пытаюсь показать, почему этот рассказ — типично афинский.
(обратно)790
Разбор этих легенд см.: Sakellariou 1958.
(обратно)791
Заслуга в изучении этого вопроса принадлежит главным образом С. Пемброуку (Pembroke 1967: 26-27, 29-32).
(обратно)792
Цитируется Августином (Августин. О граде Божьем. XVIII. 9).
(обратно)793
См.: Loraux 1981а.
(обратно)794
Клеарх: см.: Афиней. XII. 555d (=FHG II Р. 319 F 49); Юстин. II. 6; Харакс Пергамский: FGrH 103 F 38; Иоанн Антиохийский: FHG IV Р. 547 F 13.5; Нонн Панополитанский. 41. 383; схолии к «Богатству» Аристофана (стк. 773).
(обратно)795
См.: Willetts 1959: 496.
(обратно)796
О «перевернутом мире» в античной комедии см.: Kenner 1970: 69—82; Carrière 1979: 85-91.
(обратно)797
О переодевании женщин и мужчин на празднике Афины Скиры см. выше: «Черный охотник и происхождение афинской эфебии».
(обратно)798
Аристофан. Женщины в народном собрании. 590—594, 601—602, 631—634, 651—653; ср.: Он же. Богатство. 510.
(обратно)799
Мы не можем с точностью сказать, до каких пор. Скорее всего, конец этому был положен законом Перикла 451 г. до н. э. Если цитируемые Плутархом «законы Солона» достоверны, нельзя не отметить разительный контраст между двумя упоминаемыми автором фактами (Плутарх. Солон. XXI. 4; I. 6). С одной стороны, это «закон о завещаниях», согласно которому признавалось недействительным завещание человека, составленное «под влиянием женщины» (γυναικι πείθόμενος), с другой — закон, который запрещал рабам натираться маслом во время гимнастических занятий и практиковать педерастию с мальчиками (из числа юных граждан). Плутарх еще дважды ссылается на последний закон в своих сочинениях «Пир семи мудрецов» (152d) и «Диалог о любви» (75lb). Известна одна эпиграфическая параллель — в надписи «Анданских мистерий» (Sylloge3 736, 109 = Sokolowski. 1962: № 65) читаем: δούλος δέ μηθάς άλείφέσθω («ни один раб не должен умащаться маслом»). Даже если «законы Солона» не достоверны, они хорошо дополняют вышеупомянутые слова Аристотеля. Правда, в «Диалоге о любви» Плутарх утверждает, что Солон не запрещал сексуальные контакты между свободными женщинами и рабами (χρήσθαι δε συνουσίας γυναικών· ουκ έκώλυσε), но это утверждение не может иметь для нас особой ценности, поскольку его контекст показывает, что оно является логическим умозаключением одного из персонажей диалога, а не цитатой, заимствованной Плутархом у более ранних авторов.
(обратно)800
Первоначальный вариант этой статьи был опубликован в сборнике: Les Marginaux et les Exclus dans l'histoire // Cahiers Jussieu. 5. P., 1979. P. 232-261.
(обратно)801
Я отчасти опираюсь здесь на переводы Л. Робена (Robin L.) и А. Диеса. В данном случае более правильным я считаю перевод Л. Робена.
(обратно)802
Р. 91. Not. 1.
(обратно)803
Ср.: Finley 1970: 27-28.
(обратно)804
В целом в древнегреческой традиции предпочтение отдается качеству изделий, а не их количеству. Платон делает исключение из этого правила, утверждая, что «можно сделать все в большем количестве, лучше и легче, если выполнять одну какую-нибудь работу» (Платон. Государство. II. 370с, пер. А. Н. Егунова). Конечно, здесь философ проявляет особую интуицию — я благодарен Ж. Сальвиа (Salviat G.) за указанную цитату, — однако не надо забывать, что в целом аргументация Платона по этому вопросу мало отличается от взглядов остальных греческих мыслителей. Поэтому, в отличие от Дж. Камбиано (Cambiano 1971: 107—201) и многих других исследователей, я считаю нужным говорить скорее о разделении ремесел, нежели о разделении труда. В дальнейшем я буду не раз обращаться (иногда с критикой) к очень важной работе Дж. Камбиано.
(обратно)805
Ср.: Cambiano 1971: 19-21.
(обратно)806
Платон объединяет их в одну группу, но вместе с тем отличает друг от друга. В данном случае мы должны помнить об этом различии и не переводить, подобно Шамбри (Chambry Ε.): «работники и другие ремесленники», но: «и крестьяне, и ремесленники» (Платон. Государство. ΙΙ. 371а). То же самое относится и к «Тимею» (Он же. Тимей. 17с).
(обратно)807
См. ниже «Афины и Атлантида. Содержание и смысл одного платоновского мифа».
(обратно)808
Cambiano 1971: 244; Morrow 1960: 139-148. Интересную главу о ремесленниках -чужеземцах в платоновских «Законах» мы найдем у Д. Уайтхеда (Whitehead 1977* 129-135).
(обратно)809
О метафорах см.: Louis 1945: 203—207; что касается прямого употребления Платоном «технических» сравнений, то в книге Дж. Камбиано содержится их полный список.
(обратно)810
См.: Goldschmidt 1947.
(обратно)811
Ткач в этом диалоге упоминается ниже (Платон. Политик. 288b).
(обратно)812
Ср.: Gernet 1928: 42, п. 29; Gernet 1948-1949: 202. Луи Жерне опирается главным образом на Гортинские законы (II. 51; III. 26).
(обратно)813
Ср.: Taillardat 1965: № 684; Loraux 1980-1981: 171, 191-192.
(обратно)814
Zilsel 1926: 27. Выражаю благодарность М. Финли, указавшему мне на эту книгу.
(обратно)815
Détienne, Vernant 1978. К литературе о metis теперь следует добавить работу: Kahn 1978.
(обратно)816
Détienne, Vernant 1978: 142; ср.: Платон. Пир. 202b-204с.
(обратно)817
Détienne, Vernant 1978: 306. Вторая часть цитаты воспроизводит последнее предложение книги, однако я взял на себя смелость переделать его из вопросительного в утвердительное.
(обратно)818
В дополнение к работе Дж. Камбиано (Cambiano 1971) следует упомянуть статью П. де Фидио (Fidio 1971), и первую главу книги Л. Бриссона (Brisson 1974: 27—106). Полезные сведения приводятся также в: Joly 1974.
(обратно)819
Н. Лоро привлекла мое внимание к этому месту, которое является в «Кратиле» одним из ключевых.
(обратно)820
Cambiano 1971: 90—91. О семантическом поле понятий techne и episteme см. капитальное исследование: Lyons 1963. Его анализ следовало бы дополнить рассмотрением понятия metis.
(обратно)821
Из всей достаточно обширной библиографии хотелось бы специально отметить работу: Murakawa 1957 - ее выводы были использованы Л. Бриссоном (Brisson 1974: 88-97); а также: Bader 1965: 133-141; Fidio 1971: 234-240.
(обратно)822
S.v. demiourgos; ср.: Bader 1965: 133.
(обратно)823
Φ. Бадер (Bader F.) отвергает традиционную интерпретацию: «тот, кто работает для народа» (Bader 1965: 136).
(обратно)824
Другие примеры упоминания Аристотелем демиургии как политического института см.: Аристотель. Политика. IV. 1291а. 33; V. 1301b. 22. Особый случай представляет трудный отрывок из платоновского «Государства» (Платон. Государство. IV. 433d), где ставится вопрос о такой добродетели, как справедливость, которая должна быть у всех людей, участвующих в жизни полиса и выполняющих с помощью этой добродетели свои обязанности: «у ребенка, женщины, раба, свободного, ремесленника (демиурга], правителя и подвластного» (καΐ εν παιδί και ev γυναικι και δούλω και έλευθέρω και δημιουργώ και άρχοντι και άρχομένω). Порядок слов в этой фразе ставит перед нами проблему, которая не может быть решена простым устранением упоминания о рабах, как считает Деспотопулос (Despotopoulos 1970). Перед тем, как упомянуть свободных людей, Платон называет тех, кто временно либо постоянно находится вне гражданского коллектива: женщин, детей, рабов. Расположение слова «демиург» — после «свободного», но до «правителя» — вот что заставляет задуматься. Де Фидио цитирует еще одно место из «Государства» (Платон. Государство. I. 342е), где власть и демиургия ассоциируются друг с другом (Fidio 1971: 238).
(обратно)825
Ср.: Платон. Ион. 531с; Он же. Протагор 327е; Он же. Государство. VII. 529е - соответственно рапсоды, врачи, художники и скульпторы.
(обратно)826
Законодатель определяется как ремесленник самой редкой профессии; см.: Goldschmidt 1940: 147, а также комментарий к процитированному отрывку в: Morrow 1954.
(обратно)827
Ср.: Chantraine 1956а, где сравниваются banausos, demiourgos и cheironax.
(обратно)828
См.: Vernant 19816: 227-229.
(обратно)829
Я привожу лишь резюме этого очень трудного отрывка, поскольку не уверен, что понял его во всех деталях.
(обратно)830
А. Диес переводит: «После этого требуется устроить отдельные жилища для граждан». Вся его интерпретация этого места — ряд неточностей. В переводе Т. Сондерса (Saunders Т.) в серии «Penguin Classics» мы читаем: «Next, the population should have houses grouped in separate localities».
(обратно)831
Но не двенадцать «кварталов», как неверно переводит А. Диес.
(обратно)832
Я понимаю этот отрывок следующим образом: городские ремесленники образуют двенадцать групп, каждая из которых приписана к одной из фил полиса; все филы представляют полис в целом. Платон не указывает, какие должностные лица делят ремесленников на тринадцать частей. Так, в Афинах архонт-полемарх распределял метеков по десяти объединениям, число которых соответствовало числу фил (Аристотель. Афинская полития. 58).
(обратно)833
Бисингер (Bisinger 1925: 72) полагал, что на конструкцию Платона повлияло предместье Гортины, Латосий, отведенное для проживания вольноотпущенников, иностранцев и т. п. (Inscr. Cret. IV. 78). Это идея была поддержана в: Willetts 1955: 40.
(обратно)834
Рис. 3, иллюстрирующий мое описание, был выполнен в Кампобассо Аленом Шнаппом; ему, а также Бруно д'Агостино (d'Agostino В.) я приношу слова благодарности.
(обратно)835
Сравнение с участниками криптий приводится в конце отрывка; см.: Pélékidis 1962: 25-30.
(обратно)836
Интерпретируемый здесь отрывок (Платон. Законы. 760b—с) дошел до нас в очень плохом состоянии. Детальный комментарий связанных с ним различных гипотез и добавлений см.: Piérart 1974: 260—267 — в данном случае я следую выводам этого автора.
(обратно)837
См. комментарий Л. Жерне к его переводу «Законов» Платона в серии «Budé» (P. CXVII—CXIX).
(обратно)838
См.: Détienne, Vernant 1978: 169—243. О двойственной природе Афины, покровительницы воинов и мастеров, см., например: «Гомеровский гимн Афродите» (10—15).
(обратно)839
Но не «с помощью нового мастерства», как переводит А. Диес, поскольку ετερος предполагает противопоставление одного другому.
(обратно)840
И вопреки официальной идеологии демократического полиса, в которой techne постепенно вытесняется arete (ср.: Loraux 19816: 213—214).
(обратно)841
Для большей части населения полиса «Законов» получение процентов запрещено. См.: Gernet L. Op. cit. P. CLXXXIII-CLXXXIV.
(обратно)842
Платон в самом начале диалога отмечает, что было две процессии, одна — афинская, а другая — фракийская (Платон. Государство. I. 327а—328b).
(обратно)843
Ср. замечания Якоби: FGrH 286, Ad loc. Этот отрывок не уточняет, в какой день Апатурий устраивалась процессия в честь Гефеста, но намек на жертвоприношение показывает, что это мог быть упоминаемый в «Тимее» день Куреотиды (Платон. Тимей. 21Ь).
(обратно)844
В прологе к «Тимею» в ссылке на миф об Эрихтонии говорится, что Афина получила от Геи и Гефеста семя, из которого произошли все афиняне (Платон. Тимей. 23е).
(обратно)845
Скрупулезный анализ мифологической стороны вопроса проведен в: Brisson 1970. Об Эрихтонии и Пандоре в Афинах см.: Loraux 1981а.
(обратно)846
Протагоровский миф также связывает эти два божества. Прометей проник на Зевесов акрополь и похитил из мастерской Афины и Гефеста огонь и другие technai, секретами которых владели боги (Платон. Протагор. 321d—е). И вновь Платон теоретизирует в ходе дискуссии со своим великим оппоненгом, Протагором, которого он же и вытащил из небытия.
(обратно)847
См. ниже «Афины и Атлантида. Содержание и смысл одного платоновского мифа». О Гефестейоне см.: Thompson, Wycherley 1972: 140—149; Travlos 1971: 261—262 (с библиографией).
(обратно)848
Я позаимствовал в качестве отправных детальный анализ роли демиурга у Л. Бриссона (Brisson 1974) и тонкие замечания П. де Фидио (Fidio 1971: 244—247).
(обратно)849
См., например: Платон. Тимей. 28с; 37с; 41а—b. В отличие от Л. Бриссона, я считаю заслуживающей серьезного внимания проблему «отцовства» демиурга.
(обратно)850
Ср.: Brisson 1974: 50-51.
(обратно)851
Л. Бриссон (Brisson 1974: 49) пишет: «Метафора сева присутствует везде, где речь идет о наделении душой, и не важно — звезд или человеческих тел».
(обратно)852
Ср. со следующим замечанием Л. Бриссона: «Она (земледельческая деятельность демиурга в «Тимее»] не представляет никакой проблемы, так как в платоновском государстве ремесленники и земледельцы всегда вместе, они — одно третье сословие» (Brisson 1974: 48).
(обратно)853
Ср.: Vernant 1981в: 16-25.
(обратно)854
См. ниже: «Платоновский миф в диалоге "Политик": двусмысленность золотого века и истории».
(обратно)855
См. выше: «Вместо введения. Цивилизация политического слова».
(обратно)856
Количество исследований, посвященных этой теме, стало увеличиваться только в последнее время. В дополнение к уже упомянутым работам Л. Бриссона, Дж. Камбиано, М. Детьенна и Ж.-П. Вернана, см.: Burford 1972 (наилучший обобщающий труд); Frontisi-Ducroux 1975; Petre 1979; Ziomecki 1975 (иконография). Начиная с последней книги можно наблюдать становление исследовательского метода, близкого моему. Наконец, отмечу очень важную третью главу «Ремесленники Слова» в: Svenbro 1976: 141—212. Свенбро (Svenbro J.) показывает, что в конце архаического и начале классического периодов поэты считались «ремесленниками» в прямом смысле этого слова.
(обратно)857
См.: Petre 1979а.
(обратно)858
См.: Cambiano 1975.
(обратно)859
К примеру, не так давно об этом было сказано в одном из разделов книги Дж. Камбиано (Cambiano 1971: 31—34), посвященном «социальному подъему ремесленников и мастеров». Ср. также: Carandini 1975: 153—166 (автор частично находится под влиянием выводов книги Камбиано).
(обратно)860
Основная документация собрана в: Cambiano 1971: 26—79; автор совершенно прав, отмечая влияние этой традиции V в. до н. э. на Платона. Более подробно о Демокрите см.: Cole 1967.
(обратно)861
Ср.: Аристотель. О частях животных. 687а. 8-9 (=Diels 59 А 102). Аристотель выступает против этого определения в характерном для IV в. до н. э. духе, полагая, «что более правильно говорить, что у человека есть руки, поскольку он — самый разумный».
(обратно)862
Gernet 1938. Я был не прав, подвергнув в свое время критике эту важнейшую статью (Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 74, примеч. 3).
(обратно)863
В том, что этот миф является точным отражением идей Софиста из Абдеры, я согласен, в частности, с Дж. Камбиано (Cambiano 1971: 17-22).
(обратно)864
Гефест и Афина присутствуют в одном из самых важных афинских преданий — мифе о рождении Эрихтония, но это не обязательно предполагает, что возникновение Афин связывалось исключительно с techne; во всяком случае, аттические вазописцы никогда не изображали в данном эпизоде Гефеста в образе кузнеца. См.: Loraux 1981а: 135-137.
(обратно)865
Подборку источников см.: Deubner 1932: 35-36. Самый выразительный эпиграфический документ, декрет 277/276 гг. до н. э. (IG II2. 674. 16), упоминает лишь Афину. Цитируемый Гарпократионом (s.v. Chalkeia) историк Фанодем, напротив, сообщает только о Гефесте. Суда (s.v. Chalkeia) говорит о двух периодах в истории праздника, вначале общегражданского, а затем справляемого лишь ремесленниками под эгидой Афины и Гефеста. Присутствие этих богов, играющих роль общеполисных в афинской мифологии, а также упоминаемых Судой аррефоров и жриц Афины, несущих пеплос, — все это заставляет усомниться в «профессиональном» характере праздника. Лексикографические источники собраны в: Adler A. Lexicographi Graeci. I. 4, s.v. Chalkeia (к ним можно добавить сведения Поллукса (Поллукс. VII. 105), который связывает праздник с Гефестом). Как-нибудь в другой раз я попытаюсь детально разобрать эту тему.
(обратно)866
Подобные сравнения критикует М. Финли (Finley 1973: 137—138).
(обратно)867
Garlan 1979: 265-266; Debidour 1979: 271-275.
(обратно)868
См. выше: «Черный охотник и происхождение афинской эфебии», а также: Schnapp 19736.
(обратно)869
См.: Détienne, Vernant 1978: 282-285.
(обратно)870
См. выше: «Традиция афинской гоплитии» и, в особенности, Garlan 1972а.
(обратно)871
Moscovici 1968; выводы этой работы представляются мне очень важными.
(обратно)872
Randall 1953; Austin, Vidal-Naquet 1973: 106, 276-282. А. Карандини (Carandini 1975) ссылается на нашу совместную с М. Остином работу, но его выводы абсолютно противоположны нашим.
(обратно)873
Ср.: Ziomecki 1975: 131-132.
(обратно)874
Необходимо отметить, что Аристотель рассуждает о роли женщин, приводя в пример Спарту, а не Афины, что, естественно, уменьшает масштабность его выводов, вопреки заявлению самого философа об их универсальности (Аристотель. Политика. II. 1269b. 12 сл.).
(обратно)875
См. отрывок из «Гомеровского гимна Афродите», на который я ссылаюсь выше (примеч. 38): в роли покровительницы ремесел Афина надзирает за работой ремесленников (tektonas andras) и девушек.
(обратно)876
См.: Loraux 19786: 47-49.
(обратно)877
Ср.: Détienne, Vernant 1978: 138, где разбираются сведения комментаторов относительно занятий Фетиды металлургией.
(обратно)878
См.: Saunders 1982, где критически рассматривается настоящее исследование. Сондерс пытается опровергнуть мои аргументы, но, по моему мнению, он безнадежно путает план платоновского города с планировкой английского парка.
(обратно)879
Впервые опубликовано в журнале: Raison présente. 1967. 2. P. 51—61.
(обратно)880
См.: Bachelard G. Le nouvel esprit scientifique. P., 1934. (Примеч. пер.)
(обратно)881
Ricoeur 1963. О двусмысленности понятия «человеческий разум» у Леви-Стросса см.: Leach 1965. О тотемистическом операторе см.: Lévi-Strauss 19626.
(обратно)882
Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I / Пер. с греч. А. В. Лебедева. М., 1989. (Примеч. пер.)
(обратно)883
Цит. по: Прокл. Комментарий к Первой книге «Начал» Евклида. Введение / Пер. с греч. Ю. А. Шичалина. М., 1994. С. 163. (Примеч. пер.)
(обратно)884
Здесь я разделяю взгляды Ж.-П. Вернана, см.: Vernant 1981b, а также: Vernant 1981а. По поводу неразрешимой проблемы «восточных истоков» см. обнадеживающую работу: West 1971.
(обратно)885
См.: Posener 1960, а также критикуемые им работы: Moret 1902; Labat 1939; Frankfort 1948.
(обратно)886
См.: Oppenheim 1964: Ch. 2.
(обратно)887
Effenterre 1963; см. также: Effenterre 1980/1: 189-195.
(обратно)888
См.: Détienne 1968.
(обратно)889
См.: Détienne 1965, где хорошо показано, что истоки этого понятия связаны с военным фактором.
(обратно)890
См.: Lévêque, Vidal-Naquet 1983.
(обратно)891
См. прежде всего: Kahn 1960.
(обратно)892
См.: Chatelet 1962.
(обратно)893
Ср.: Vernant 19816: 54.
(обратно)894
Общий обзор проблем, поднятых в этой главе, см.: Lloyd 1979: 226—267.
(обратно)895
Измененная версия текста, опубликованного в журнале: Revue des études grecques. 1964. 77. P. 420-444.
(обратно)896
Первый набросок этой работы можно найти в: Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 134—139.
(обратно)897
Такая передача рассказа порождает несомненные хронологические трудности, и этот факт, по-видимому, доставляет удовольствие самому Платону. Кто тот персонаж, чье имя носит диалог «Критий»: один из «Тридцати тиранов» или его дед? Если дед, то мы имеем дело с тремя Критиями и с шестью поколениями: с «тираном», его дедом и дедом последнего (итоги дискуссии на эту тему см.: Davies 1971: 325—326). Кажется вполне естественным, что разговор с Гермократом, хорошо известным политическим деятелем Сиракуз конца V в. до н. э. и, согласно Фукидиду, лидером сопротивления сиракузян афинскому вторжению, ведет тиран Критий, который известен к тому же как видный теоретик политической мысли.
(обратно)898
Ср.: Schuhl 1947: 75-108.
(обратно)899
См. прежде всего: Goldschmidt 1947: 81 сл.
(обратно)900
Участник диалога философ-пифагореец Тимей был родом из южноиталийских Локр Эпизефирийских. (Примеч. пер.)
(обратно)901
Здесь и далее цитаты из «Тимея» и «Крития» даны в пер. С. С. Аверинцева. (Примеч. пер.)
(обратно)902
Подобная работа или ее попытки — редкость. Удивительно, например, что эти проблемы почти не затрагиваются в классических комментариях к «Тимею» Э. Тэйлора и Ф. Корнфорда. Как попытку такой работы отметим диссертацию: Gegenschatz 1943.
(обратно)903
Уже длительное время библиография о древнейших Афинах остается крайне скудной. Исключением является исследование Бронира (Broneer 1949), но оно представляет интерес прежде всего для археологов и историков религии; из новых работ см.: Herter 1969. Недавняя библиография к «Критию», которая приводится в изданиях: Cherniss 1950: 79—83 и Brisson 1977: 266, — напротив, свидетельствует о непрекращающемся потоке исследований об Атлантиде. Удачный обзор этой литературы см.: Ramage 1978: 196—200; об истории связанных с Атлантидой фантастических теорий см.: Sprague De Camp 1954.
(обратно)904
FGrH 75 F 115. Речь идет об одном фрагменте из «Meropia» — приписываемого Феопомпу сочинения, посвященного жизни человека. Этот отрывок сохранился в пересказе Элиана (Элиан. Пестрые рассказы. III. 18).
(обратно)905
Об интерпретациях мифа об Атлантиде начиная с античности см.: Couissin 1927; Ramage 1978: 3-45.
(обратно)906
Козьма Индикоплов. Христианская топография. 452а. 11 сл. (Winstedt). Как справедливо заметила В. Вольска (Wolska 1962: 270), ссылки Козьмы на Платона часто ошибочны; при этом византийский монах не скрывает своего недоверия к рассказу Платона. Об упоминаниях (часто малозначительных) мифа об Атлантиде у Филона, Отцов церкви и позднеантичных авторов см.: Ramage 24—27.
(обратно)907
Ниже дается краткий пересказ моей статьи «Геродот и Атлантида».
(обратно)908
Rudbeck 1679—1702. Особенно ожесточенно Рудбек нападал на тех, кто находил Атлантиду в Америке. О Руд беке и интеллектуальном течении, к которому он принадлежал, см.: Simon 1960: 269—284 (об этой работе я узнал от Анри Марру), а также богато документированное исследование: Svenbro 1980.
(обратно)909
Случайно прочитав роман Пьера Бенуа, я вначале решил, что часто упоминаемый в нем географ Берлиу — вымышленный персонаж. Однако такое решение было следствием моего незнания. В «Annuaire de la faculté des lettres de Lyon» (1884. I. P. 1—70) можно найти его очерк об «алжирской Атлантиде», послуживший источником для П. Бенуа. Напомню, что опус Берлиу был написан во время французского проникновения в Сахару.
(обратно)910
Любопытные примеры подобной литературы, поток которой не ослабевает, см.: Couissin 1928; Ramage 1978: 3—45. Я не собираюсь цитировать здесь все эти работы, хотя их авторы представляют интерес с точки зрения социологического анализа, поскольку среди них встречаются по-своему выдающиеся личности — от подполковника до лютеранского пастора.
(обратно)911
Первым, кто предложил эту гипотезу, был, насколько мне известно, К. Фрост (Frost 1913: 189—206). В более сложном виде (сага вместо исторической традиции) она была заимствована В. Бранденштейном (Brandenstein 1951), С. Маринатосом (Marinatos 1971) и Дж. Льюсом (Luce 1969 — романтическая трактовка; Luce Sources — более умеренная интерпретация). Возможно, этим авторам следовало помнить об одном высказывании Прокла: «Теологи имеют обыкновение ссылаться на Крит, когда хотят показать разумное» (Прокл. Комментарий к «Тимею». I. 118. 25).
(обратно)912
Scranton 1949: 160. Напомню, что статья называется «Потерянная Атлантида найдена вновь?». Вслед за А. Шультеном Атлантиду искали в Тартессе; еще одна испанская инициатива — поиски Атлантиды в районе Кадиса, см.: Bérard 1929: 262—286. Оценим следующий аргумент этого автора, который он приводит, говоря о жертвоприношении быков во время клятвы царей атлантов: «Надо ли напоминать, что в современном Ка-дисе есть своя Plaza de toros, куда с соседнего континента пригоняют дикие стада Гери-она?» (с. 281).
(обратно)913
Данным замечанием я никоим образом не преследую цель умалить роль исследований, в которых «информация» Платона сопоставляется со свидетельствами его эпохи. Блестящим примером такого исследования можно считать введение Л. Жерне к французскому изданию «Законов» Платона (Platon. Lois. C.U.F. I. P. XCIV—CCVI). Аббат А. Венсен показал (Vincent 1940), какие замечательные результаты может дать сравнительный анализ клятвы царей атлантов; ср.: Gernet 1948—1949: 207—215. Правда, было бы еще неплохо показать, как эта «информация» соотносится с идеями самого Платона; Р. Вайль увидел эту проблему, но рассмотрел ее лишь наполовину (Weil 1959: 31-33).
(обратно)914
Ср.: Pallotino 1952: 229—240. В этой работе верные замечания автора, к сожалению, чередуются с весьма сомнительными рассуждениями об Атлантиде и Крите.
(обратно)915
См. выше: «Значение земли и жертвоприношения в религии и мифологии (по "Одиссее")».
(обратно)916
Об этих именах см.: Brisson 1970: 422-424.
(обратно)917
Friedländer 1954: 300-304; Bidez 1945; Appendice II. P. 33 suiv.
(обратно)918
О «гидравлическом» аспекте восточной монархии см. мое предисловие к французскому переводу книги К. Витфогеля (Vidal-Naquet 1964).
(обратно)919
См., например, издание Платона А. Риво (Rivaud А.) в С. U. F. (с. 352).
(обратно)920
Это мое сравнение было упомянуто в работе: Luce Sources: 66. Об аналогиях у других авторов см.: Gill 1977: 297—298.
(обратно)921
Мне не кажется невероятным предположение, что Платон мог заимствовать у Геродота название «Атлантида». «Отец истории» локализует своих атлантов, обитавших вокруг похожей на колонну горы, на западном краю известной ему полосы Сахары, тянувшейся до Геракловых Столпов и далее (Геродот. IV. 184—185). Платону, для того чтобы поместить свой остров «перед тем проливом, который называется... Геракловыми Столпами» (Платон. Тимей. 24е), достаточно продолжить на запад локализацию Геродота.
(обратно)922
О связи рассказа Платона с «афинской историей Афин» см.: Loraux 19816: 300-308.
(обратно)923
Курсив П. Видаль-Накэ. (Примеч. пер.)
(обратно)924
Здесь и далее цитаты из «Законов» даны в переводе А. Н. Егунова. (Примеч. пер.)
(обратно)925
Нет нужды напоминать здесь тезис о враждебном отношении аристократа Платона ко всему, что было связано с морем и морской цивилизацией; см. подборку сведений: Luccioni 1959; Weil 1959: 163.
(обратно)926
Откровенно говоря, оно не ново. Некоторые черты Афин в описании Атлантиды были выявлены А. Риво (см. издание Платона в серии C.U.F. Р. 249—250), П. Фридлендером (Friedländer 1954: 300—304) и другими авторами, о которых упоминается в статье: Herter 1928 (особо отмечу самого раннего из них, Г. Бартоли (Bartoli 1779), и его оригинальное исследование, к которому я обращаюсь в своей статье «Геродот и Атлантида»). Сравнение империализма Атлантиды и Афин дано в статье: Kahn 1963: 224. В недавно опубликованной монографии В. Велливера (Welliver 1977: 43) говорится, что «многие исследователи находили общее между Атлантидой, с одной стороны, и Персией или Афинами, с другой, но никто... не подметил, что целью Платона было показать обе стороны в одном зеркале».
(обратно)927
Напомню, что, согласно традиции, судьей в этом споре был Кекроп, которого Платон сделал одним из военных предводителей своих мифических Афин (Платон. Критий. 110а).
(обратно)928
Греческий термин указывает на стену-окружность.
(обратно)929
Мне непонятен перевод А. Риво: «обособленный от остальных»; если данное выражение переводимо, то его следует понимать как «всегда тождественный самому себе».
(обратно)930
См.: Broneer 1949: 52; Thompson, Wycherley 1972: 140-149.
(обратно)931
Платон не склонен считать Афину только покровительницей философии; статуи богини в облике воительницы служат ему доказательством того, что в прежние времена женщины участвовали в сражениях наравне с мужчинами (Платон. Критий. ПОb).
(обратно)932
На севере ее границы доходили до горных хребтов Киферон и Парнет вплоть до Оропии.
(обратно)933
Λέγω δε το μίαν ειναι την πάλιν ως άριστον öv οτι μάλιστα πασαν λαμβάνει γαρ ταύτην ύπόθεσιν ό Σωκράτης (Аристотель. Политика. П. 1261а. 15). Здесь не составило бы труда процитировать и ряд отрывков Платона (см. особенно: Государство. IV. 462а—b). Естественно, никакого деления на демы, как в классических Афинах, в едином полисе «Крития» или «Государства» не было. О филах в полисе «Законов» см. выше: «Этюд о двусмысленном: ремесленники в городе-государстве Платона».
(обратно)934
Именно так я понимаю (вслед за Ж. Моро, издание «Плеяды») выражение ευκράς ουσα προς χειμώνα те και θέρος (Платон. Критий. 112d). Перевод А. Риво — «одинаково здоровая зимой и летом» — не учитывает платоновскую идею о смешанном умеренном климате в течение всего года (ώρας μετριώτατα κεκραμένας — Критий. 111e; ср. также: Платон. Тимей. 24с: την εύκρασίαν τών ωρών).
(обратно)935
Платон. Критий. 112d—е: «более всего они следили за тем, чтобы на вечные времена сохранить одно и то же число мужчин и женщин, способных когда угодно взяться за оружие, а именно около двадцати тысяч». А из начала этой фразы мы узнаем, что афиняне стали «вождями всех прочих эллинов по доброй воле последних». В данном случае, как и в ряде других мест, содержащих описание «первобытных» Афин, мы имеем дело с заимствованием лексики из надгробной речи; см.: Loraux 19816.
(обратно)936
Все это было отмечено еще Проклом (Прокл. Комментарий к «Тимею». I. Р. 132 сл.).
(обратно)937
Как и Риво, я принимаю чтение Дж. Барнета, который считает, что слова αυ πέρι являются ранней вставкой; см., однако, возражения Л. Бриссона (Brisson 1974: 270-275). Впрочем, даже если прав Л. Бриссон, моя аргуменгация существенно не изменится, поскольку Тождественное и Иное в любом случае остаются первоэлементами Мировой души.
(обратно)938
См.: Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 118—119, а также цитируемых в примечаниях авторов. Как заметил Э. Рушенбуш (Huschenbusch 1958: 400), все упоминания о Солоне у аттических ораторов относятся (за исключением трех случаев) ко времени после 356 г. до н. э. — поражения Афин в Союзнической войне и конца Второго афинского морского союза. «Тимей» и «Критий» датируются как раз этим временем.
(обратно)939
О структуре этого мифа и его связи с идеями Эмпедокла см.: Bollack 1965: 133— 135; см. также: «Платоновский миф в диалоге "Политик": двусмысленность золотого века и истории».
(обратно)940
Эта цитата из «Политика» дана в переводе С. Я. Шейнман-Топштейн. (Примеч. пер.)
(обратно)941
Здесь я цитирую рукописный текст. Комментаторы (Прокл, Симплиций) ссылаются на этот отрывок, исправляя topon на ponton, и их чтение принято многими издателями, например А. Диесом, который переводит эту фразу: «в бездонный океан несходного». Это место остается предметом многочисленных споров, см. особенно: Pépin 1953. Я намеренно придерживаюсь рукописного topon, поскольку ponton слишком откровенно подходит к моей гипотезе, как бы я ни старался быть осторожным в выводах. Предыдущие образы кормчего, кормила и бури, действительно, вызывают, по словам Диеса, ассоциации с «образом Океана», но не менее вероятно, что они повлияли и на само исправление.
(обратно)942
Заметим, что в этом отрывке Платон постоянно использует двойственное число.
(обратно)943
О месте и роли апейрона в платоновской философии ясно излагается в работе: Gaiser 1963: 190—192. Вторая гипотеза «Парменида» рассматривает разбавление единого в мире дуального; ср. также: Платон. Теэтет. 155b—с.
(обратно)944
Платон. Тимей. 36с сл. Такое же разделение, как у Мировой души, наблюдается на всех ступенях иерархии душ. Каждый из двух циклов состоит, в соответствии с установленными пропорциями, из Тождественного, Иного и субстанции, образуемой от их смешения. Приоритет цикла Тождественного обусловлен его местоположением во вселенной. Подробное изложение см.: Brisson 1974.
(обратно)945
Платон. Тимей. 48е—49а. Я оставляю в стороне дискуссию о платоновской хоре как материальном вместилище Иного, в котором оно способно развиваться (там же. 50Ь сл.).
(обратно)946
После этого Платон прибегает к сравнению с островами.
(обратно)947
Замечу, что сравнение империалистических Афин с островом отнюдь не ново. В начале Пелопоннесской войны Перикл призывал афинян действовать подобно островным жителям (Фукидид. I. 92. 5); похожий образ встречается у «Старого олигарха» (Псевдо-Ксенофонт. Афинская полития. П. 14) и Ксенофонта (Ксенофонт. Доходы. 1).
(обратно)948
В описании Атлантиды прослеживаются воспоминания Платона (возможно, приведенные не без умысла) о его путешествии в Сиракузы, см.: Rudberg 1956: 51—72.
(обратно)949
Таким образом, первые жители Атлантиды, как и жители Аттики, были автохтонами (Платон. Критий. 109d). В этом нет ничего удивительного, если вспомнить о разделе территории между Посейдоном и Афиной, на которьш намекает устройство Эрехтейона, где совместно почитались Афина и Посейдон-Эрехтей. Платон еще раз подчеркивает эту мысль, назвав одного из царей-атлантов именем Автохтон (Платон. Критий. 113с). Вообще говорящие имена сопровождают весь рассказ об Атлантиде: Евенор — «добрый человек», Левкиппа — «белая лошадь» (Посейдона), их дочь Клейто — «слава» и т. д. (см.: Brisson 1970: 421-424).
(обратно)950
Выше я уже сравнивал информацию Платона о двух источниках с данными Гомера; здесь мы имеем хороший пример многозначности платоновских текстов.
(обратно)951
Камни, в изобилии встречаемые на Атлантиде, тоже образуются в результате фильтрации воды сквозь землю (Платон. Тимей. 60b сл.). Рассуждения Платона о металлах, разумеется, навеяны мифологическими представлениями. Вспомним начало первой «Олимпийской оды» Пиндара: "Αριστον μεν ϋδωρ, ό 8è χρυσός αιθόμενον πυρ ατε διαπρεπει νυκτΐ μεγάνορος έξοχα πλούτου — «Лучше всего на свете — вода; но золото, как огонь, пылающий в ночи, затмевает гордыню любых богатств» (пер. М. Гаспарова). Естественно, в изначальных Афинах драгоценные металлы отсутствуют, как того требуют законы (Платон. Критий. 112 с).
(обратно)952
Сравним схему, воспроизведенную в книге: Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 137. Отметим роль двойных и тройных интервалов в структуре Мировой души (Платон. Тимей. 36d); двойной интервал соответствует октаве, а соотношение трех к двум — квинте.
(обратно)953
Николь Лоро заметила, что принцип удвоения хорошо виден на примере двойного (мужчины и женщины) автохтонного происхождения жителей Атлантиды. По сравнению с афинским мифом об автохтонности только мужчин это примечательное новшество (см.: Loraux 1981а).
(обратно)954
Платон. Критий. 116b, 117b, 118e, 119d. Четное и нечетное, подобно горячему и холодному, мокрому и сухому и т. д., является частью известного списка противоположностей (systoichia), приписываемого Аристотелем пифагорейцам (Аристотель. Метафизика. А. 5. 986а. 15). В одной интересной книге (Brumbaugh 1957: 47—59) предлагается спорная, на мой взгляд, интерпретация чисел, столь часто используемых Платоном в рассказе об Атлантиде. Едва ли философ хотел показать на основе данных архаичной математики плохо устроенный мир. В то же время автор книги справедливо отмечает важность чисел шесть и пять в платоновском рассказе. Здесь и пять пар близнецов, и пять ограждений, и центральный остров шириной в пять стадиев, и соотношение суммарной ширины водных и земляных колец как шесть к пяти, и шесть коней статуи Посейдона (Платон. Критий. 116d), и центральная долина площадью в 6 тысяч «квадратных» стадиев (там же. 118а), кстати, прямоугольная, а не квадратная, что позволяет поместить ее в «плохой ряд» пифагорейской systoichia. Число шесть и его производные тесно связаны с организацией войска атлантов (там же. 119а—b). В мою задачу здесь не входит детальное рассмотрение всех этих фактов, ограничусь лишь замечанием, что, согласно Платону, отношение пять к шести есть разновидность оппозиции между нечетным и четным, или, в соответствии с пифагорейской systoichia, между хорошим и плохим.
(обратно)955
Цари построили каналы и мосты, покончив тем самым с изолированностью острова Клейто; это — шаг вперед на пути Иного.
(обратно)956
Ср.: Gill 1976: 8-9.
(обратно)957
Заметим, что в «Законах» (Платон. Законы. III. 681 d сл.) люди заселяют долину после потопа в тот самый момент, когда «встречаются все виды государственных устройств и полисов, все конституционные и гражданские болезни».
(обратно)958
Эта армия имеет как греческие, так и варварские черты: помимо гоплитов, в ней есть воины на колесницах. Альбер Риво (см. его издание Платона в серии C.U.F. Ad loc.) не прав, утверждая, что праща тоже была варварским оружием; ср.: Фукидид. VI. 93, где упоминаются родосские пращники.
(обратно)959
Число десять выглядит как сумма четырех первых цифр, или тетрактис. О роли четверицы в пифагореизме и философии Платона см.: Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 100 (с библиографией); Gaiser 1963: 118—123 и цитируемые на с. 542 тексты Аристотеля. Тетрактис у Платона — форма выражения генезиса (ср.: Платон. Тимей. 53е), не говоря уже о создании Мировой души (там же. 32b—35b—с) на основе двойной четверицы. В «Критии», как мне кажется, происхождение чисел тесно связано со становлением космоса. Мои замечания не убедили Л. Бриссона (Brisson 1970: 430); боюсь, он придерживается слишком рационального взгляда на платонизм, не допускающего в нем каких-либо спекуляций о числах.
(обратно)960
Вспомним скрижали (kyrbeis), на которых были записаны законы Солона.
(обратно)961
В конституции Атлантиды клятва играет роль, аналогичную той, что отводится заклинаниям и мифам в «Законах». Согласно Доддсу, речь здесь идет об «укреплении обломков, унаследованных от прошлого» (Dodds 1951: 205).
(обратно)962
В анализе социальной смуты, предпринятом в восьмой и девятой книгах платоновского «Государства», самое удивительное — показ роли золота. В тимократическом полисе типа Спарты золото не имеет никакого значения (Платон. Государство. VIII. 547b— 548b), но в олигархическом полисе его роль выходит на первый план — золото официально становится основой прав на власть (там же. 550d—е) и превращается в объект зависти со стороны черни, устанавливающей демократию (там же. 555Ь сл.). Уравнивание в правах имущих и неимущих, впрочем, не решает проблемы, и ненависть к богачам бросает бедняков в объятия тирана (там же. 556а сл.).
(обратно)963
Обратим внимание на использование здесь лексики, обычно характеризующей политику империализма.
(обратно)964
Точно так же в «Одиссее» (Гомер. Одиссея. XIII. 154—187) не говорится об участи феакийцев, способствовавших возвращению Улисса в мир людей, — повествование обрывается на сцене жертвоприношения быков.
(обратно)965
Я прошу прощения за то, что вновь вынужден сослаться на работу: Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 96—98, 110—111, 135—136, 141—142, где говорится о значении этого деления; там же анализируются тексты «Законов», позволяющие определить отношение Платона к реформам Клисфена.
(обратно)966
Здесь напрашивается параллель с лаврионским серебром.
(обратно)967
Слово thorybos часто используется Платоном при описании демократического собрания (см., например: Платон. Государство. VI. 492b—с). Соединение души с телом также сопровождается thorybos (Платон. Тимей. 42с). Напротив, вечное и истинное слово (λόγος1 ό κατά ταύτόν αληθής) «изрекается безгласно и беззвучно» (άνeυ φθόγγου και ήχή? — там же. 37b). В «Государстве» диалог происходит в Пирее после праздника в честь чужеземной богини, в доме оружейника Кефала, среди шумной толпы малоискушенных в философии молодых людей. Не намекает ли начальная фраза диалога: «Я сходил вчера в Пирей.....(κατέβην χθες εις Πειραια)» на сошествие философа в пещеру? Этой ремаркой я обязан Анри Маргеритту, чьи семинары в «Ecole pratique des hautes études» я посещал в 1952—1953 гг.
(обратно)968
Ср.: Picard 1931: 174.
(обратно)969
Ср.: Павсаний. I. 28. 2. Большинством этих археологических замечаний (их можно также найти в книге: Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 138) я обязан Пьеру Левеку.
(обратно)970
«Тимей» относится к последним диалогам Платона. Не так давно это общепринятое мнение было оспорено Оуэном (Owen 1953), которому, на мой взгляд, убедительно возражает Чернисс (Cherniss 1957). К таким же выводам, что и Чернисс, пришел Джилл (Gill 1979) на основе сопоставления этих диалогов с «Политиком».
(обратно)971
См.: Schaerer 1948.
(обратно)972
Этот отрывок является предметом многочисленных споров, к которым здесь нет необходимости обращаться.
(обратно)973
Платон. Законы. I. 632d; ср.: Протагор. 342b—е (образ «философской» Спарты).
(обратно)974
Эсхатологический миф в «Законах» (Платон. Законы. X. 903е—904е) основан на аналогичной игре превращений.
(обратно)975
Пер. с фр. перевода Л. Робэна. (Примеч. Пер.)
(обратно)976
Слегка измененный вариант статьи, опубликованной в сборнике: Langue, discours, société. Pour Emile Benveniste /J. Kristeva (Éd.). P., 1975. P. 374—391, и ее англ. пер. M. Йолас (см.: Journal of Hellenic Studies. 1978. 98. P. 132-141).
(обратно)977
Речь идет о фрагменте 49 из собрания отрывков Дикеарха у Ф. Верли (см. также: фрагменты 47, 48, 50 и 51, происходящие из того же источника, но не являющиеся прямыми цитатами). Данный отрывок воспроизведен (с англ. пер.) в книге: Lovejoy, Boas 1936: 94—96. Об источниках Порфирия см.: предисловие Bouffartigue J. и Patillon Μ. к изданию: Porphyre. De l'abstinence P.: C.U.F., 1977.
(обратно)978
Думаю, будет достаточно сослаться на фундаментальную работу: Cole 1967.
(обратно)979
См. прежде всего: Bertier 1972.
(обратно)980
См. выше: «Значение земли и жертвоприношения в религии и мифологии (по "Одиссее")».
(обратно)981
Ср.: Vernant 1981б.
(обратно)982
См.: Vernant 1979.
(обратно)983
Ср. выше: «Значение земли и жертвоприношения в религии и мифологии (по "Одиссее")».
(обратно)984
Ср., напр.: Will 1972: 482. Детальное изложение вопроса содержится в неопубликованной диссертации Р. Уинтона (R. Winton), Кембридж.
(обратно)985
Вспомним знаменитые строки из «Одиссеи» (Гомер. Одиссея. IX. 112—115) об отсутствии у циклопов совещательных учреждений.
(обратно)986
Одним из таких свидетельств, характерных для эпохи, является утверждение Аристотеля о том, что афинские крестьяне отождествляли тиранию Писистрата с веком Кроноса (Аристотель. Афинская полития. XVI. 7).
(обратно)987
См.: Détienne 1977. Это исследование можно рассматривать целиком как комментарий к высказыванию Аристотеля: «Тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, — либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек» (Аристотель. Политика. I. 1253а, пер. С. А. Жебелева).
(обратно)988
Ср.: Loraux 1973а.
(обратно)989
«Eine Schule, welche recht für die Proletarier Athens gerechnet war» (Kynosarges. S. 169).
(обратно)990
Диоген Лаэртский. VI. 1. 13; Lexic. Rhet. P. 274 (Bekker). См. дискуссию в работах: Humphreys 1974; Bremmer 1977.
(обратно)991
Ср.: Плутарх. Моралии. 956b; Дион Хризостолл. VI. 25. 29—30. Геракл — антипод Прометея.
(обратно)992
Ср.: (.Diog.] Epist. (Hercher). XXXII (письмо к Аристиппу); Лукиан. Быстроног. 17; Cole 1967: 151.
(обратно)993
Goldschmidt 1963: 259. О роли мифа в определении человеческого eidos см.: Benardette 1963: 198.
(обратно)994
Они были собраны Дж. Г. Фрэзером в его издании «Библиотеки» Псевдо-Аполло-дора (ΙΙ. Р. 164—166); основной источник до Платона — Еврипид (см.: Еврипид. Елена. 699-730; Орест. 996-1012).
(обратно)995
Ср.: Pearson 1917/1: 93.
(обратно)996
Ср.: Froidefond 1971: 267-342.
(обратно)997
См., например: Vian 1963; 1968. Я не могу согласиться с исторической интерпретацией автора. Грубая сила характеризует лишь gegeneis, а не все автохтонное население (см.: Bérard 1974: 35; Loraux 1979: 9).
(обратно)998
См. ниже.
(обратно)999
Платон. Горгий. 523b—е; о негативных сторонах Кроноса см. также: Платон. Государство. ΙΙ. 378а.
(обратно)1000
См., например: Schul 1932.
(обратно)1001
Bollack 1965: 133; см. также великолепный анализ на с. 135, примеч. 1; ср.: Goldschmidt 1959: 104. Некоторые исследователи утверждают, что речь идет не о двух космических циклах, а о трех этапах: веке Кроноса, времени мира, противоположного нашему, и времени нашего мира, смешанного по своему характеру; см.: Lovejoy, Boas 1936: 158; Brisson 1974: 478—496. Эта гипотеза опирается на отрывок из «Политика» (Платон. Политик. 269d), где «наш» мир описывается как смешанный в понятиях, близких «Тимею». Однако она не находит подтверждения при более внимательном чтении мифа.
(обратно)1002
См. особенно: Rodier 1911.
(обратно)1003
Именно так следует понимать фразу: Τα δ'έκ γης νεογενη σώματα πολιά φύντα (Платон. Политик. 273е). Перевод этого места у А. Диеса лишен смысла, чего нельзя сказать о комментированном издании Л. Кемпбелла, вышедшем в Оксфорде в 1867 г.
(обратно)1004
Цитируется по фр. пер. Платона (Примеч. пер.)
(обратно)1005
Ср.: употребление глаголов νεμειν, νομεύειν, существительного νομή в «Политике» (271d-272a, 274b); см.: Laroche 1949: 115-129 и краткий обзор: Benveniste 1969: 84-86. «Пасторальное» начало особо не подчеркивалось, тем не менее оно отчетливо ощущалось современниками Платона.
(обратно)1006
Сближение двух выражений: «покинутый богом» и «цикл Зевса»— в очередной раз подчеркивает двусмысленность платоновского текста. Каждое из них, естественно, подкрепляется соответствующим пассажем в тексте (Платон. Политик. 272b, е и др.). Одновременно Платон подчеркивает тот факт, что царство Зевса есть логос, или «как это зовут» (там же. 272Ь, здесь и ниже пер. С. Я. Шейнман-Топштейн), и что бог, устранившись от прямого управления миром, тем не менее продолжает занимать «свой наблюдательный пост» (там же. 272е).
(обратно)1007
О предыстории слова kratos (в гомеровскую эпоху) см.: Benveniste 1969. II: 57—83. Одно утверждение автора представляется особенно важным: «Kratos употребляется исключительно в отношении богов и людей» (с. 78).
(обратно)1008
Выражение «круговое вращение» (mouvement circulaire) цитируется по французскому переводу автора. В русском переводе С. Я. Шейнман-Топштейн говорится об «обратном вращении». (Примеч. пер.)
(обратно)1009
Здесь я не согласен с А. Диесом, подразумевающим под anakyklosis «обратное круговое движение» (о значении этого термина см. комментарий Л. Робена к его изданию Платона; T. II. С. 1456, примеч. 46). Перевод А. Диеса не согласуется с дальнейшим текстом, в котором говорится, что мир вращается то в одну, то в другую сторону.
(обратно)1010
См.: Платон. Тимей. 36b—d (основной отрывок); что касается деталей, то ограничусь ссылкой на уже не раз упоминавшуюся книгу: Brisson 1974.
(обратно)1011
Можно, правда, усомниться в точном смысле выражения в 274с: τα πάλαι λεχθεντα παρά θεων δώρα — «дары богов, упоминаемые в предании», где под преданием Платон не обязательно подразумевает свой собственный миф; но из двух преданий, одно из которых называет искусства и ремесла изобретением человека, а другое относит их к божественным дарам, Платон явно выбирает второе (ср.: Rodier 1911; Платон. Менексен. 238b, где «божественной» версии отдается предпочтение по сравнению с «мирской», представленной в надгробной речи).
(обратно)1012
Havelock 1957: 40-51; Popper 1966/1 (особенно с. 19-25, 39 сл.), к библиографии об этой книге, приведенной выше в главе «Время людей и время богов», добавлю: Goldschmidt 1970: 139-141.
(обратно)1013
Аналогичное противоречие мы найдем в эпикурейской философии; см. классическую работу: Robin 1916.
(обратно)1014
В. Голдшмидт справедливо отмечает, что «полис, чьи материальные причины и основы кроются в нужде, неспособности индивида быть самодостаточным, слепой необходимости, кажется невостребованным в потустороннем мире. У Платона нет понятия града Божьего (Goldschmidt 1959: 120). Даже если Платон и допускает отделение науки от гражданских установлений, люди золотого века, как мы видим, ее не практикуют.
(обратно)1015
Напомню, что именно так Виламовиц озаглавил раздел, посвященный «Законам», в своей книге (Wilamowitz 1920. II: 654—704). Считается, что диалог «Политик» был написан сразу после третьей поездки Платона на Сицилию (361 г. до н. э.), т. е. еще до окончательного краха Афинской империи.
(обратно)1016
Некое божество способствует установлению власти двух царей, «некая человеческая природа, соединившись с какой-то божественной силой», учреждает герусию, «третий же спаситель» учреждает власть эфоров. «Потому-то у вас царская власть, возникнув из смеси надлежащих частей, была умеренной и, сохранившись сама, оказалась спасительной и для других» (Платон. Законы. III. 69Id—692а, пер. А. Н. Егунова).
(обратно)1017
Я придерживаюсь здесь вслед за моим учителем А. Маргериттом текста рукописей А и О и не принимаю стандартную конъектуру Апельта τιμία δεθτερος — «второй по значению», принятую в издании Е. Des Places. О единстве как основном принципе платоновского «Государства» см.: Аристотель. Политика. II. 1263b. 30—35.
(обратно)1018
См. комментарий Е. Des Places к его изданию «Законов« (C.U.F. II. Р. 61, n. 2).
(обратно)1019
Не совсем удачное выражение, поскольку, согласно Платону, человечество возобновляет, а не начинает свою историю.
(обратно)1020
Τα ζωα; речь не идет лишь о животных, поскольку изобретение земледелия затронуло не только их.
(обратно)1021
Отрывок из «Одиссеи (Гомер. Одиссея. IX. 112-115) приводится в «Законах» (III. 680с); см.: Labarbe 1949: 236-238.
(обратно)1022
Простота и наивность первых законодательств — одна из аристотелевских тем (см.: Аристотель. Политика. II. 1268b. 42). Я благодарю Р. Вайля, сообщившего мне об этом отрывке.
(обратно)1023
В начале своего исследования я пытаюсь показать, что этот разрыв произошел уже после Платона.
(обратно)1024
Впервые опубликована в журнале: Revue historique. 1967. № 91. P. 281-302. Нынешний вариант переработан и дополнен при участии А. Шнаппа.
(обратно)1025
Мой перевод основан на двух последних французских переводах этого отрывка: Daux 1936: 29; Pouilloux, Roux 1963: 7.
(обратно)1026
Ср.: Coste-Messeliure 1936: 260 suiv., где приводятся данные о полемике французских и немецких ученых. Наиболее полным исследованием остается: Audiat 1933.
(обратно)1027
См.: Picard 1939 / II: 310 suiv.
(обратно)1028
Об этом уже писал X. Брюнн (Brunn 1853: 164). Вряд ли возможно говорить о более точной дате, хотя П. Кост-Месельер (Coste-Messelière 1936: 447) полагает, что пьедестал был поставлен в Дельфах одновременно со статуей Промахос в Афинах (451— 448 гг.), тоже изваянной в честь Марафона. С другой стороны, Э. Клюве (Kluwe 1958), опираясь на шаткую гипотезу Раубичека, который относит смерть Кимона к 456 г., датирует (с мнимой точностью) пьедестал 460—457 гг. Приведем еще несколько неубедительных точек зрения: X. Помтов (Pomtow 1908 / II: 95—96) считал, что Павсаний неправильно прочитал имя автора и монумент является работой малоизвестного мастера Гегия, учителя Фидия. Это утверждение было им повторено в статье: Pomtow 1924: 1217). А. Фуртвенглер (Furtwängler 1904), напротив, полагал, опираясь на сложные археологические построения, что памятник датируется лишь IV в. до н. э. Рассуждая примерно в том же духе, Ф. Пульсен (Poulsen 1908: 422—425) видел в марафонском пьедестале и соседнем с ним «деревянном коне» символы союза между афинянами и аргивянами, заключенного в 414 г. до н. э.
(обратно)1029
Ф. Броммер (Brammer 1957) в своей статье «Attische Könige», посвященной рассматриваемому отрывку, упустил из виду, что речь в нем идет об афинских эпонимах, и поэтому его исследование, основанное на многочисленных источниках, теряет свою ценность. Об эпонимах и связанных с ними мифах, религиозном характере этих персонажей и их иконографии основополагающей работой остается: Krön 1976 — я мог бы ссылаться на нее на каждой странице своего исследования (о марафонском пьедестале см.: с. 205-227).
(обратно)1030
См.: Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 50-51, 70-72.
(обратно)1031
См.: Shear 1976. Этот автор считает, что разрушенная около 350 г. до н. э. конструкция под «средним портиком» (middle stoa) сохранила следы памятника, который был сооружен в последней четверти V в. до н. э. О нем упоминается в источниках (см.: Аристофан. Мир. 1183; Всадники. 979; их общий обзор см.: Wycherley 1957: 85-90). Мнение Т. Л. Шира разделяется в работе: Thompson, Wycherley 1972: 38—41. Павсаний тоже описывает этот памятник (Павсаний. I. 5); см. также: Krön 1976: 226—236.
(обратно)1032
См.: Busolt, Swoboda 1920: 973-974; Will 1979: 73, 363-364, где приводятся материалы дискуссии о времени учреждения птолемеевской филы. Заметим, что после 224/223 г. афиняне перестали проявлять интерес к памятнику из Дельф, поэтому на нем не были зафиксированы ни ликвидация двух «македонских» фил в 201 г. до н. э., ни учреждение в 200 г. до н. э. филы Атталидов, а позже, во времена Римской империи, — филы Адриана.
(обратно)1033
В адресованном мне письме от 23 февраля 1967 г. Ж. Ру хорошо написал по поводу этого загадочного обстоятельства: «Меня всегда удивляло, что здесь не представлены все десять афинских эпонимов. Что могли подумать при посещении Дельф афиняне тех трех фил, чьи герои оказались исключенными? А что бы подумали сами герои, которым люди с таким усердием стремились воздать почести?»
(обратно)1034
Мой «критический аппарат» служит исключительно утилитарной цели — прояснить содержание отрывка. Естественно, я вынужден опустить обычные орфографические ошибки, отсутствие «йоты подписной» и др.
(обратно)1035
Следует, однако, отметить, что Дж. Г. Фрэзер, целиком принимая чтение Phyleus, в комментарии к отрывку считал допустимым его исправление на Philaios; см.: Frazer 1898/1:608; 5: 265-266.
(обратно)1036
Так, в 1941 г. Т. Леншау (Lenschau Т.) в статье о Филее писал: «Attischer Heros, seine Statue in dem Weihgeschenk der Athener in Delphi für Marathon» (Lenschau 1941: 1016); ср.: Brommer 1957: 152; Gauer 1968: 66.
(обратно)1037
Ср.: Sauppe 1846: 8: «Hune heroem Atticum, eponymum Phylasiorum, misse docent ea quae de statuis ex praeda marathonica Apolloni Delphico consecratis Pausanias narrât» («Это был аттический герой, эпоним филасийцев, как следует из рассказа Павсания о статуях, поставленных Аполлону Дельфийскому на трофеи Марафона»).
(обратно)1038
Göttling 1854: 17—18. Полемизируя с Э. Курциусом, К. Геттлинг повторяет и развивает свою аргументацию в: Gesammelte Abhandlungen (Göttling 1854 / II: 163—164).
(обратно)1039
Об этих легендах см.: Sakellariou 1958; об их использовании в политической пропаганде V в. до н.э. см.: Barron 1962; 1964.
(обратно)1040
Ее заимствовал Э. Леви (Loewy 1897), причем не напрямую у Геттлинга, а из цитируемой ниже работы Курциуса. Позже это исправление вошло в тойбнеровское издание Ф. Шпиро, который в своем критическом аппарате ссылается лишь на Леви, а также в английское (Loeb) издание 1918 г. У. Джоунза, впрочем, не сообщившего об исправлении. См. также: Furtwängler 1904: 396 Anm. 2; Domaszewski 1925: 20. Другой вариант исправления, совершенно неприемлемый, был предложен в работе: Berger 1958 — вместо Phileus следует читать Oineus. В этом случае мы не досчитаемся двух эпонимов, но не будем забывать, что сам Павсаний называет имена трех «лишних» героев.
(обратно)1041
Помимо уже упоминавшегося издания Дж. Г. Фрэзера назову: Overbeck 1868: 117 — и более основательное: Hitzig, Bluemner 1907—1910: 547, 678. Именно этому последнему изданию следуют Ж . До (Pausanias à Delphes) и Ж. Ру (Enigmes), но, к сожалению, они не приводят критического аппарата.
(обратно)1042
См.: Diller 1956; Diller 1957. Познакомившись с классификацией Диллера, я думаю, что могу ручаться за ее надежность. Именно эта классификация, как мне кажется, заимствована (с незначительными изменениями) в новом (1973 г.) тойбнеровском издании Павсания, предпринятом М. Роха Перейра.
(обратно)1043
Справедливости ради отметим, что несколько удачных исправлений, сделанных гуманистами, содержится как раз в других рукописях. Так, правильное чтение Pandion вместо Dion трех основных списков принимается всеми издателями начиная с editio princeps Альдино 1516 г. Это исправление фигурирует на полях Riccardianus graecus 29 (насколько я могу судить на основании микрофильма), а также, согласно стемме Диллера, во всех остальных происходящих от данного экземпляра списках.
(обратно)1044
Э. Мионни, мой коллега из университета в Падуе, любезно согласился проверить чтение в венецианской рукописи, а мой друг М. Папатомопулос просмотрел микрофильмы венецианского и флорентийского списков в Институте истории текстов, за что я им глубоко благодарен. Лично я проверил чтение в Parisinus gr. 1410.
(обратно)1045
Оно засвидетельствовано лишь в некоторых détériores, в чем я мог убедиться, просмотрев Parisinus gr. 1399.
(обратно)1046
Похожие замечания, сформулированные, правда, в самом общем виде из-за отсутствия в ту пору тщательной классификации манускриптов, были высказаны X. Хитцигом (Hitzig H.) в одном письме, которое цитируется: Pomtow 1908: 86.
(обратно)1047
Сочинительный союз мог исчезнуть, и, возможно, этим объясняется появление ούτοι μεν δή, справедливо изъятое Шубартом (Schubart) в его издании 1839 г. В некоторых текстах из разряда détériores вновь добавляется και, и в результате получаем και Κελεος τε. Κελεος было подвергнуто сомнению переписчиком или редактором Riccardianus gr. 29, которому, кстати, принадлежит и удачная конъектура Πανδίων. Впервые чтение Κελεος = και Λεώς (правда, с ляпсусом Λεών вместо Λεώς) было предложено в 1768 г. Жаком Ле Полмье де Грантеменилем (Пальмериусом) (Paulmier de Grentemesnil 1768: 435): «Suspicor legendum Πανδίων καΐ Λεών. Non enim censetur Celeus inter Heroes Eponymos, nihil certius est, omnia enim alia nomina sunt eponymorum qui nomina tribubus Atheniensium dederunt». Это исправление поддержал Р. Порсон (см. приложение к работе: Gaisford 1820: 184), и оно присутствует во всех изданиях, начиная с издания Клавье (1821 г.), хотя Я. Ф. Фациус указал его еще в 1794 г. в своем прекрасном лейпцигском издании.
(обратно)1048
Это имя следует писать как Philaios, а не Phileas, как это делает сам Павсаний (Павсаний. 1. 35. 2).
(обратно)1049
Fig. 34. Их план, в свою очередь, заимствован (с исправлениями и уточнениями) из издания: Coste-Messelière 1936: Fig. L. Я благодарен моему другу П. Левеку, любезно согласившемуся перерисовать для меня этот план.
(обратно)1050
В уже упоминавшемся письме от 23 февраля 1967 г. Ж. Ру писал мне следующее: «На плане... мы поместили этот постамент (5) сразу за постаментом Эгоспотамос (3). Но возможен и другой вариант: постамент (3) располагается южнее, а постамент (5) частично удлиняется в сторону (3) [...], так что размеры постамента невозможно установить даже приблизительно».
(обратно)1051
Bulle, Wiegand 1898: 333; ср.: Homolle 1897, где поддерживается эта гипотеза. Она была повторена А. Фуртвенглером (Furtwängler 1904) и в более сложном виде рассмотрена Ф. Пульсеном (Poulsen 1908). Об этой нише см.: Pouilloux, Roux 1963: 19—36.
(обратно)1052
Homolle 1898: 297-299 (ошибочно указаны как 397-399).
(обратно)1053
Эту точку зрения разделяют Э. Бурге (Bourguet 1914: 40) и Ж. До (Daux 1936: 88).
(обратно)1054
См. план в статье: Pomtow 1924: 1199-1200; ср.: Pouilloux, Roux 1963: 53: Fig. 17; Pl. XI, 1-2.
(обратно)1055
См.: Daux 1965: 899. Раскопки проводили К. Ватэн и В. Реньо.
(обратно)1056
Это всего лишь гипотеза, и, как указывал Ж. Ру в своем письме от 9 марта 1967 г., не исключено, что в данном случае речь идет о базе Эгоспотамос (3).
(обратно)1057
Если речь действительно идет о марафонском ex-voto, то трудно относить к верхней кладке пьедестала камень из черного известняка с белыми вкраплениями, о котором упоминает Ж. Буске (Bousquet 1942—1943: 126—129). На камне запечатлена аттическая надпись, а также имеются два углубления под ноги бронзовой статуи, по мнению исследователя, невысокой. Ж. Буске сообщает еще об одном каменном блоке (серый известняк) с записанным на нем проксеническим декретом в честь одного афинянина (324/323 г. до н. э.). В свое время Бурге писал, что этот блок, вероятно, был вделан в марафонский постамент (см.: Bourguet 1909: 3: 1: № 408).
(обратно)1058
Письмо от 9 марта 1967 г. Дополнительную информацию об археологической дискуссии см.: Hitzig, Bluemner 1907—1910: 677—679.
(обратно)1059
Насколько мне известно, эту гипотезу поддержали Б. Сауэр (Sauer В.) и Дж. Г. Фрэзер (Frazer 1898 / V: 265—266). Б. Сауэр развил гипотезу Курциуса в том, что касается проблемы симметрии скульптурной группы. Исследователь заметил, что группа будет несимметричной, если не уравновесить трех дополнительных героев — Тесея, Кодра и Филая — тремя другими персонажами. Скорее всего, полагал Сауэр, в V в. до н. э. памятник включал 19 статуй, а в эллинистическую эпоху трех неизвестных нам персонажей заменили тремя новыми эпонимами. Как видим, данное решение не согласуется с гипотезой археологов об удлинении цоколя памятника в эллинистическую эпоху. Сравнительно недавно проблема лакуны в тексте Павсания была вновь поднята в исследовании: Shear 1976: 221, примеч. 112. См. также: Kron 1976: 225 — автор подчеркивает, что Павсаний ясно пишет о том, что на памятнике представлены не все эпонимы.
(обратно)1060
О связи между этими фактами см.: Busolt 1892: 589, примеч. 4; в более общем плане см. мой очерк об Эпаминонде, публикуемый выше. Что касается Курциуса, то он пишет следующее: «Совершенно немыслимо, чтобы в таком важном официальном памятнике, к тому же в Дельфах, где состоялось утверждение названий десяти афинских фил, могли быть допущены столь вольные изменения. Как филы, чьи герои оказались исключенными, могли перенести подобное унижение? В частности, как допустить исключение филы Эантиды, находившейся на вершине славы и пользовавшейся привилегией, состоявшейся в том, что на общественных праздниках ее хор никогда не выступал последним?» (Curtius 1899: 365). Замечу, что последняя ремарка Курциуса основана как раз на сведениях Плутарха.
(обратно)1061
Ср.: Petersen 1901: 144. Ответ Леви (Loewy 1900) не вызвал продолжения дискуссии. У. Крон (Krön 1976: 225) не уверен в том, что эпонимы были изображены бородатыми: Аякс, Ойней и Гиппотоонт часто представлены в юношеском облике.
(обратно)1062
Pomtow 1902: 82—84; 1908 / II: 87: «Вполне допустимо, что когда афиняне прислали в Дельфы статуи новых эпонимов — царей, то изображения трех старых эпонимов уступили им место». Впоследствии Помтов в присущей ему манере легко менять свои взгляды отказался от этой гипотезы (см.: Pomtow 1924: 1215—1216). Впрочем, она появляется в работе: Barron 1964: 46 (автор, правда, не ссылается на немецкого ученого); к аналогичной точке зрения приходит в конечном счете и У. Крон (Krön 1976: 225).
(обратно)1063
См.: Loraux 1979: 12.
(обратно)1064
Выражение заимствовано мною из статьи: Karo 1909: 198.
(обратно)1065
Вероятно, Мильтиад находился посередине между богами; к сожалению, мы не можем с точностью сказать, составляли ли два божества и стратег первый ряд группы или же они стояли в центре одного ряда с героями.
(обратно)1066
На значение ετι δέ в свое время обратил внимание Сауэр (Sauer 1889: 19); блестящий анализ композиции памятника дан в работах Э. Петерсена (Petersen 1891: 277— 278; 1901), хотя их автор заходит слишком далеко, говоря о «марафонском» Аполлоне как прототипе Аполлона Тибрского. Развивая идеи Петерсена, Хитциг и Блюмнер (Hitzig, Bluemner 1907—1910 / III: 678) вполне обоснованно сравнивают композицию марафонского ex-voto с композицией фронтона.
(обратно)1067
Ср.: Will 1956.
(обратно)1068
Об этой традиции см.: Sakellariou 1958 (автор весьма осторожен в своих выводах); об «ионийских» легендах о Тесее см.: Herter 1936 (не все выводы автора заслуживают доверия). Точка зрения Геттлинга (включая чтение Neleus) разделяется в работе: Barron 1962: 46.
(обратно)1069
См.: Robert 1944: 673, где указаны эпиграфические данные; ср.: Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 111: η. 6. Заимствование Милетом афинских государственных учреждений и территориально-административной системы фил и демов Аттики относится, возможно, к 442 г. до н. э. (см.: Barron 1964: 5—6). Было бы интересно узнать, сохранилась ли при этом милетская фила Тесеида.
(обратно)1070
Совсем иная интерпретация этого отрьшка дана в нашей совместной с П. Левеком книге о Клисфене (с. 50—51).
(обратно)1071
Mommsen 18986: 451—460. Хронологический порядок моего изложения не должен порождать иллюзию, будто речь идет о продолжающейся дискуссии. Гипотеза Геттлинга обсуждалась одним лишь Курциусом; статья Моммзена была включена в общую дискуссию только в 1924 г. (см.: Pomtow 1924: 1215—1216), причем X. Помтов неверно истолковал идею Моммзена.
(обратно)1072
О боевом порядке при Марафоне сообщает Геродот (Геродот. VI. 111): «За правым крылом во главе с Каллимахом следовали (аттические] филы одна за другой, как они шли по счету (ώς αριθμέοντο). Последними выстроились на левом крыле платейцы» (пер. Г. А. Стратановского). Характер этого описания таков, что оно допускает множество интерпретаций.
(обратно)1073
О Гиппотоонте см.: Kron 1976: 177—187. Этот герой был сыном Посейдона и внуком разбойника Керкиона, погибшего от рук Тесея. О связи Гиппотоонта с Эвмолпом сообщает анонимный поэт, цитируемый Геродианом (Геродиан. 2. 615 Lenz). Согласно Павсанию (Павсаний. I. 38. 4), героон Гиппотоонта находился на месте древней границы между Афинами и Элевсином. О символическом значении этой границы см. отчасти надуманную статью: Picard 1931: 7. Центр филы Гиппотонтиды находился (уникальный случай!) не в Афинах, а в Элевсине (см.: IG. III. 1149. 153).
(обратно)1074
См. его уже упоминавшиеся статьи, особенно: Petersen 1901: 144. Неудачный вариант этой гипотезы см.: Berger 1958: 25, n. 92; по мнению автора, Phileus - ошибка вместо правильного Oineus, Тесей представляет целиком Афины, Мильтиад — филу Эантиду (несмотря на принадлежность к Ойнеиде), а Кодр — филу Гиппотонтиду, поскольку последнего царя Афин и Гиппотоонта связывали некие прослеживаемые в мифах отношения.
(обратно)1075
Pomtow 1924: 1216. Опираясь на Моммзена, Помтов предлагал следующую расстановку: Филай (Phyleus) был от Эантиды, Тесей — от Гиппотонтиды, Кодр — от Ойнеиды. Однако сам Моммзен совершенно четко говорил о принадлежности Phyleus, героя из Филы, к Ойнеиде (Mommsen 18986: 459).
(обратно)1076
Raubitschek 1949: 18—20 (текст восстановлен неубедительно). Я не буду разбирать многочисленные споры вокруг этой надписи и рассматривать вопрос о роли полемарха Каллимаха.
(обратно)1077
См. выше: «Традиция афинской гоплитии»; ср.: Loraux 1973б.
(обратно)1078
См.: Amandry 1960; ср.: Pritchett 1960: 160-168; Nenci 1958: 41, η. 46. См. также более общую работу: Amandry 1961а; продолжение дискуссии см.: Delvoye 1975; Petre 1978.
(обратно)1079
Более подробно об этом см. выше мою главу «Традиция афинской гоплитии»
(обратно)1080
Одновременно отметим, что Кимон усовершенствовал триеры с той целью, чтобы они вмещали как можно больше гоплитов (Плутарх. Кимон. 12)
(обратно)1081
О 460—450 гг. до н. э. как вероятной дате изготовления статуи см.: Meritt 1936: 362— 380 (рассматривается надпись I G. П. 388, где приведены счета Промахос). Впоследствии Стивене и Раубичек (Stevens, Raubitschek 1946) попытались реконструировать пьедестал статуи с имевшимся на нем посвящением, которое они датировали 480—460 гг. до н. э. По мнению этих авторов, статуя Афины представляла собой мемориал в честь Греко-персидских войн. Однако П. Амандри скептически отнесся к их реконструкции, заявив, что «восстановление текста посвящения и сама идентификация каменных блоков спорны» (Amandry 1960: 7: п. 16).
(обратно)1082
Первое предложение отрывка цит. по: Павсаний. Описание Эллады/Пер. С. П. Кондратьева. СПб., 1996. Второе предложение, выделенное курсивом, дано в переводе с французского. (Примеч. пер.)
(обратно)1083
Vanderpool 1966. Одно время высказывалось предположение, что скульптуры Афинской сокровищницы в Дельфах тоже следует датировать временем Кимона. См. заметку Ж. Перро в «Journal des débats» от 13 июня 1907 г. (с. 2, кол. 2); я заимствовал эту ссылку из работы: Coste-Messelière 1957: 267 (n. 3). Последний автор хотя и пишет, что скульптуры были изготовлены в 489 г. до н. э., тем не менее не исключает их более позднюю датировку.
(обратно)1084
Противоположная точка зрения высказывается в работе: Defradas 1954.
(обратно)1085
См.: Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 40.
(обратно)1086
См.: Павсаний. X. 9. 4; ср. надпись: Meiggs-Lewis 1969. О дискуссии относительно местонахождения этого постамента см.: Pouilloux, Roux 1963: 16—36.
(обратно)1087
См.: Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 23-24.
(обратно)1088
Сомнения по поводу этого сообщения см.: Lévêque, Vidal-Naquet 1983: 50, η. 7.
(обратно)1089
Об истории отношений Афин с Дельфами см. обобщающую работу: Daux G. Athènes et Delphes. Автор отмечает сравнительно позднюю дату установления этих контактов и на с. 61—67 приводит полезную информацию по хронологии; о марафонском ex-voto см.: там же, с. 44.
(обратно)1090
См.: Coste-Messelière 1957: 58-63.
(обратно)1091
Например: Schefold 1946: 66.
(обратно)1092
Coste-Messelière 1957: 261. Я поддерживаю эту точку зрения, несмотря на огонь критики сторонников гипотезы Шефолда; см.: Sourvinou-Inwood 1971b: 99—100; Boardman 1972 / 1; Boardman 1972/2; Berard 1982. Этим авторам, действительно, удалось показать, что изображения Тесея на аттических вазах становятся популярными после изгнания тиранов, поэтому теория Нильссона (Nilsson 1953) о том, что культ Тесея был инструментом пропаганды Писистрата, неверна. В то же время было бы неправильным считать изображения на вазах прямым отражением идей какой-либо одной господствующей партии или даже всего афинского полиса. Так, откровенно вздорным представляется утверждение Дж. Бордмэна (Boardman 1972 / 1: 61—62) о том, что палица Геракла — символ булавоносцев (korynephoroi) Писистрата. Наконец, не следует забывать: Тесея нет в клисфеновском списке героев-эпонимов, а для Мильтиада и Кимона он — герой.
(обратно)1093
См.: Плутарх. Кимон. VIII; Тесей. XXXVI. 1; Павсаний. I. 17. 2; Схолии к речи Эсхина «Против Ктесифонта» (Эсхин. Против Ктесифонта. 13).
(обратно)1094
См.: Jacoby 1947. Ниже я цитирую фрагменты Ферекида по изданию Якоби: FGrH 3.
(обратно)1095
См. фрагменты: 147—150 (Тесей) и 154—155 (Кодр).
(обратно)1096
См. генеалогическую таблицу: Wade-Gery 1958: 164, п. 3. Усыновление Мильтиад ом Старшим Кимона Коалема («Простака») породнило потомков последнего с «Филаидами».
(обратно)1097
См.: Jacoby 1947: 31: «Ферекид не только доводил родословную потомков Филая до второй половины VI в. ... но, добавляя отдельные имена, стремился умножить славу рода Филаидов». В то же время я не могу согласиться с Якоби, когда он ссылается (с. 32—33) на отсутствие имени Кимона как на обстоятельство, позволяющее датировать сочинение Ферекида временем, предшествующим первой стратегии Кимона (476—475 гг. до н. э.). С равным успехом можно было бы использовать и отсутствие имени Мильтиада Младшего, что позволило бы отнести сочинение Ферекида к еще более ранней эпохе. Достаточно того исключительного факта, что Ферекид прослеживает генеалогию от мифического персонажа до реального исторического деятеля, мы не вправе требовать от него большего — ее доведения до одного из своих современников. В Афинах каждый знал о родстве Кимона с Мильтиадом Старшим.
(обратно)1098
Напомню, что согласно Плутарху (Плутарх. Тесей. V), одно место в Дельфах называлось Theseia — в память об обряде, совершенном Тесеем, когда тот был эфебом.
(обратно)1099
Плутарх. Кимон. IV. Об изображении Тесея на этих двух памятниках см.: Herter 1939: 291—292. В этой же статье даны ссылки (см. с. 290) на все источники (включая сочинения поздних авторов), в которых говорится о связи Тесея с Марафоном. Так, например, в схолиях к «Фиваиде» Стация (Стаций. Фиваида. V. 431; XII. 196) утверждается, что Тесей вырос в Марафоне. См. также: Podlecki 1966: 13; Simon 1963.
(обратно)1100
Самый подробный разбор этого отрывка и касающихся его источников см.: Robert 1895: 1—45. Согласно схолии к Элию Аристиду (III. Р. 566 Dindorf), Мильтиад вытянул руку, указывая эллинам на варваров. Плиний (Плиний. Естественная история. 35. 57) пишет, что картина была нарисована Паненом. О появлении Тесея на поле Марафонской битвы сообщает Плутарх (Плутарх. Тесей. XXXV. 8).
(обратно)1101
Ср.: Павсаний. X. 26. 2—3. (Примеч. пер.)
(обратно)1102
Об этом персонаже и связанных с ним мифах см.: Kron 1976: 188—189.
(обратно)1103
Аргументы в пользу этого предположения см.: Lewis 1963: 24—25.
(обратно)1104
Здесь у Кимона имелись клиенты (ср.: Аристотель. Фрагм. 363 (Rose)). О семейной гробнице потомков Мильтиада, находившейся в Келе на территории филы Гиппотонтиды, см.: Геродот. VI. 103; Марцеллин. Жизнеописание Фукидида. 55.
(обратно)1105
Павсаний. I. 37. 2; Плутарх. Тесей. XII. 1; ср.: FGrH. ΙΙΙb. I. P. 207-208.
(обратно)1106
Ср.: Riemann 1956: 182: автор сближает этих двух героев на том основании, что они оба происходят от Посейдона.
(обратно)1107
Ср.: FGrH. ΙΙΙb. II. Р. 50.
(обратно)1108
О дискуссии по данному вопросу см.: Crosby 1941 (надпись № 1 на с. 21—22); там же указана библиография.
(обратно)1109
См.: Travlos 1971: 332-334.
(обратно)1110
Dittenberger. Sylloge3. 93. Наиболее детальный анализ афинской традиции о Код-ре см.: Ledl 1914. Изображение Кодра сохранилось на единственном сосуде, датируемом временем Перикла (ваза носит имя легендарного царя); см.: Beazley. ARV2. 1268. 1. Кодр встречает прорицателя Энета. Снаружи на чаше изображены Аякс, Эгей и Тесей -любопытная встреча нескольких героев, так или иначе связанных с памятником в Дельфах. Однако к этому больше нечего добавить.
(обратно)1111
Об этом аспекте творчества Ликурга и его современников см.: Robert 1939: 316.
(обратно)1112
Дезертир, против которого выступает Ликург и к делу которого он время от времени возвращается после экскурсов в прошлое.
(обратно)1113
По другой версии мифа, Эрехтей, чтобы победить врагов, принес в жертву Афине свою младшую дочь Отионию. (Примеч. пер.)
(обратно)1114
Мне возражает У. Крон (Krön 1976: 224, Anm. 1087), говоря, что в отрывке речь идет об «эпонимах страны» (επώνυμοι της χώρας), а не эпонимах фил. Странное возражение, если учесть, что Кодр сравнивается с Эрехтеем, эпонимом Эрехтеиды. В качестве типичного примера обращения греческих авторов IV в. до н. э. к теме героев-эпонимов и связанной с ними идеологии назову одну из речей Демосфена (Демосфен. Надгробная речь. 34—43), прокомментированную Н. Лоро (Loraux 19816: 127, 138—142).
(обратно)1115
Вряд ли имеет смысл говорить о том, что я не пытаюсь показать стремления Кимона учредить в Афинах филы Тесеиду, Филаиду и Кодриду. Марафонский памятник — всего лишь «пробный шар», свидетельство крайней смелости выражения, дозволенной в Дельфах, и чрезвычайной аморфности мира героев. Существует ряд других примеров, аналогичных нашему. Так, уже неоднократно упоминавшаяся работа Дж. Бэррона (Barron 1964: 35—48), посвящена весьма любопытному памятнику — датируемым V в. до н. э. пограничным камням на Самосе, ограждавшим территорию святилища Афины — «покровительницы Афин» (Αθηνών με δέουσα), эпонимов и Иона. Надписи на камнях выполнены на ионийском и аттическом диалектах и датируются примерно 450—446 гг. до н. э. Бэррон приписывает установку камней инициативе самосцев, но я бы не стал настаивать на этой гипотезе, поскольку на камнях имеется ряд аттических надписей. Не разделяя всех выводов автора, не могу не согласиться с одним из них, а именно: учреждение на Самосе в рамках союза с Афинами культов «Иона Афинского» и «Афинских эпонимов» предполагает, что под последними скорее подразумевались четверо сыновей Иона, прародителей «ионийских» фил, нежели десять клисфеновских эпонимов. Таким образом, несколько эпонимов, упраздненных Клисфеном, продолжали официально значиться в самосском святилище, находившемся под покровительством Афин. Не следует ли нам признать, что подобная двусмысленность была намеренной?
(обратно)1116
В основе данного сочинения лежит «Corbett Lecture», прочитанная 2 мая 1986 г. в Кембридже. Именно тогда я в последний раз видел моих друзей Мозеса и Мери Финли, памяти которых я и посвятил английскую публикацию этой работы (The Black Hunter revisited //PCPS. 1986. 212. P. 126—144). Предлагаемый ее вариант, значительно расширенный и пересмотренный, я посвящаю Пьеру Левеку, учеником которого я был еще в Коллеж Севинье в 1953—1955 гг., — в память о 33 годах сотрудничества в самых разных областях, которое помогло не повредить нашей дружбе периодически возникавшим между нами временным разногласиям, дружбе, во взаимности которой я уверен. Я уверен также, что он не рассердится на меня за то, что я думаю одновременно и о нем, к счастью, живом и здоровом, и об уже ушедшем М. И. Финли, с которым ему часто приходилось спорить. Во всяком случае, интеллектуальное сотрудничество, соединившее нас, остается для меня незабываемым. Я сердечно благодарен Мод Сисанг, перечитавшей мой текст со своей обычной скрупулезностью. Русский перевод был первоначально опубликован в «Вестнике древней истории» (1989. № 4. С. 11—32.). Редакция ВДИ получила данную статью во французском варианте. Перевод выполнен А. И. Иванчиком. Ему же, за исключением оговоренных случаев, принадлежат переводы цитируемых греческих текстов.
(обратно)1117
Vidal-Naquet P. Le Chasseur noir et l'origine de l'éphébie athénienne // Annales ESC. 1968. 23. P. 947-964; Idem. The Black Hunter and the Origin of the Athenian Ephebeia // PCPS. 1968. 194. P. 49—64. У истоков этих публикаций стояли также Ж. Ле Гофф и Д. Пейдж.
(обратно)1118
Brelich A. Guerre, agoni е culti nella Grecia arcaica. Bonn, 1961.
(обратно)1119
Idem. Paides e parthenoi. Roma, 1969. Материал, изложенный в этой книге, можно дополнить с помощью рецензий на нее, особенно: Calame Cl. // Quad. Urb. 1971. 11. P. 7— 47 и Sourvinou-Inwood Ch. //JHS. 1971. P. 91.
(обратно)1120
Jeanmaire H. Couroi et Couerètes. Lille; Paris, 1939.
(обратно)1121
Idem. La Cryptie lacédémonienne//REG. 1913. 26. P. 121-150.
(обратно)1122
Можно назвать, например, статью: Vernant J.-P. Hestia — Hermès. Sur l'expression religieuse de l'espace et du mouvement chez les Grecs // L'Homme. 1963. III. 3. P. 12—50. С ней можно теперь ознакомиться в сборнике: Mythe et pensée chez les Grecs. Nouv. éd. P., 1985. P. 155-201.
(обратно)1123
Ниже «Черный охотник» («Le Chasseur noir») будет означать статью 1968 г., Черный охотник (Le Chasseur noir) — книгу 1981—1983 гг., а Черный охотник — героя моего исследования. Напоминаю, что Черный охотник содержит статью, написанную совместно с П. Левеком.
(обратно)1124
Jeanmaire H. La Cryptie... P. 142. Или следует иметь в виду, как Кавафи в его знаменитой поэме, что в любом случае Эфиальт появился бы в конце концов: ό Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος ? Об идеале спартанского гоплита в целом см.: Cart ledge P. Hoplites and Heroes: Sparta's Contribution to the Technique of Ancient Warfare //JHS. 1977. 97. P. 11— 27; переизд.: Sparta. Darmstadt, 1986. P. 387—425, 470; Loraux N. La belle mort Spartiate // Ktéma. 1977. 2. P. 105-120.
(обратно)1125
Возможно это покажется странным, но последняя оппозиция не сразу пришла мне в голову, и мой друг Ш. Маламю дополнил этот список — ведь очевидное часго пропускают.
(обратно)1126
Основной работой долгое время была: Manns О. Über die Jagd bei den Griechen // Progr. Kassel, 1888. S. 7-38; 1889. S. 3-20; 1890. S. 3-21. А. Шнапп предпринял по этой теме весьма глубокое исследование и уже защитил диссертацию третьей ступени. Та же тема стоит в центре его докторской диссертации. См. его статьи: Schnapp A. Pratiche е immagini decaccia nella Grecia antica //Dialoghi di archeologia. N. s. 1979. 1. P. 35—59; Idem. Images et programmes: les figurations archaïques et la chasse au sanglier //Rev. Arch. 1979. P. 195—218; Schnapp Α., Schmitt-Pantel P. Images et société en Grèce ancienne: les représentations de la chasse et du banquet // Ibid. 1982. P. 57—74. Теперь можно использовать также: Anderson J. К. Hunting in the Ancient World. Berkeley; Los Angeles; London, 1985. См. еще очень краткую статью, опубликованную в то время, когда я готовил эту работу: Sherratt A. The Chase, from Subsistence to Sport // The Ashmolean. 1986. 10. P. 4-7.
(обратно)1127
Толкование этого текста, сильно отличающееся от моего, см.: Lonis R. Guerre et religion en Grèce a l'époque classique. Besançon; Paris, 1979. P. 32—33.
(обратно)1128
Faure P. La vie quotidienne en Grèce au temps de la guerre de Troie. P., 1975. P. 148.
(обратно)1129
Хламида была признаком эфеба и в классическую, и в эллинистическую эпоху. Из последних работ см.: Gauthier Ph. Les chlamydes et l'entretien des éphèbes athéniens: remarques sur le décret du 204/3 // Chiron. 1985. 15. P. 149—163, с исправлением, опубликованным в том же журнале — Chiron. 1986. 16. Р. 15—16. О черных хламидах афинских эфебов см.: Le Chasseur noir. P. 160—161 и ссылки, данные в примечаниях.
(обратно)1130
Я отвечаю здесь Дж. К. Андерсону (Anderson J. К. Op. cit. P. 159. Not. 3). См.: Le Chasseur noir. P. 962—963; См. также: Rubin N. F., Sale W. M. Meleager and Odysseus: A Structural and Cultural Study of the Greek Hunting-maturation Myth //Arethusa. 1983. 16. 1— 2. P. 137—171, но эти авторы знают Мелеагра гораздо лучше, чем Мелания.
(обратно)1131
Эти представления правильно, как мне кажется, использованы С. П. Стеткевич для истолкования строения доисламской поэзии: Stetkevych S. P. The Su'luk and His Poem: a Paradigm of Passage Manqué //JAOS. 1984. 104. 4. P. 661-678.
(обратно)1132
Я имею в виду в первую очередь замечания, которые были мне сделаны в статье: Pleket H. W. Collegium Iuvenum Nemesiorum: A Note on Ancient Youth Organisation // Mnemosyne. 1969. 22. P. 281-298, особенно 294.
(обратно)1133
Il Mito. Guida storica е critica / Ed. M. Détienne. Bari, 1975. «Черный охотник», естественно, вошел в книгу под тем же названием и был еще раз пересмотрен; см.: Vidal-Naquet P. The Black Hunter. Baltimore; London, 1986. Эту статью часто цитируют по сборнику: Myth, Religion and Society/Ed. R. Gordon. Cambr., 1981. P. 147—162, с дополнительными примечаниями издателя.
(обратно)1134
См., например: Maxwell-Stuart P. G. Remarks on the Black Cloaks of the Ephebes // PCPS. 1970. 196. P. 113—116. Я обязан многими замечаниями моим друзьям, особенно М. Детьену и А. Шнаппу.
(обратно)1135
См. две мои работы: Vernant J.-P., Vidal-Naquet P. Mythe et tragédie. P., 1972. Vol. L; Vidal-Naquet P. Le cru, l'enfant grec et le cuit (1974), переизданная в исправленном и расширенном виде в Черном охотнике (с. 177—207); глава «Alexandre et les Chasseurs noirs» в работе: Flavius Arrien entre deux mondes // Arrien: Histoire d'Alexandre le Grand. P., 1984. P. 355—365. Упомяну здесь также совместную с Ж. Ле Гоффом работу о средневековом развитии этих представлений, которую можно найти в: Claude Lévi-Strauss / Ed. R. Bellour, С. Clement. P., 1979. P. 265-319, a также в: Le Goff J. L'imaginaire médiéval. P., 1985. P. 151—187 под заглавием «Lévi-Strauss en Brocéliande: Esquisse pour une analyse d'un roman courtois». Анализируемый роман — «Ивейн, или Рыцарь со львом» Кретьена де Труа.
(обратно)1136
Он вдохновил даже, что было более чем неожиданно, автора романа для детей: Weulersse О. Le Messager d'Athènes. P., 1985.
(обратно)1137
См., например: Sourvinou-Inwood Ch. Rez.: Brelich A. Paides e parthenoi //JHS. 1971. 91. P. 172—177; Bruhns H. Initiation in der Antike: Tod, Wiedergeburt und Politik//Journ. für Geschichte. 1979. 1. S. 33—37; Mason P. The City of Men: Ideology, Sexual politics and the Social Formation. Göttingen, 1984. S. 50—58.
(обратно)1138
Reinmuth O. W. The Ephebic Inscriptions of the Fourth century В. C. Leydden, 1971. P. 126.
(обратно)1139
Вежливо —Anderson J. K. Op. cit. P. 159. Not. 3; резко — Di Benedetto V. Il Filottete e l'efebia secondo Pierre Vidal-Naquet //Belfagor. 1978. 33. P. 191-207, перепечатано в: Di Benedetto V, LamiA. Filologia e marxismo: Contra le mistificazioni. Napoli, 1981. P. 115—136.
(обратно)1140
Кроме уже упомянутых работ А. Шнаппа см.: Schmitt-Pantel P. Athéna Apatouria et la cienture: Les aspects féminins des Apatouries à Athènes // Annales ESC. 1977. 32. P. 1059—1073. Б. Сержан развил некоторые посылки моей работы с почти барочной пышностью — см., например: Sergent В. L'homosexualité dans la mythologie grecque. P., 1984. P. 250—256. Ниже я сошлюсь на важные дополнения, которыми я обязан Б. Браво и Ф. Готье, а также на исследования Дж. Винклера. О римском мире см. в совершенно независимом от моей работы, но связанном с исследованием А. Брелиха, труде: Torelli М. Lavinio е Roma; riti iniziatici e matrimonio tra archéologie e storia. Roma, 1984. P. 106—115. Что касается более позднего времени, то сходства и различия с исследованным мной институтом отмечены в работах: Pleket H. W. Op. cit. P. 281—298; Jaczynowska M. Les organisations des Iuvenes et l'aristocratie municipale au temps de l'empire romain // Rechersches sur les structures sociales dans, l'Antiquité classique / Ed. C. Nicolet. P., 1970. P. 265—274. О средневековье см.: Guerre au A. Le Bel inconnu: Structre symbolique et signification sociale // Romani. 1982. 409. P. 28—82; Davidson 0. M. The Crown-bestower in the Iranian Book of Kings //Melanges. Leiden, 1985; Grisward J. H. Archéologie de l'épopée médiévall. P., 1981.
(обратно)1141
«Le Chasseur noir». P. 953. Я не упоминаю здесь классическую статью П. Русселя: Roussel P. Les chlamydes noires des éphèbes athéniens //REA. 1941. 43. P. 163—165, в которой говорится в основном о текстах, а не изображениях.
(обратно)1142
Maxwell-Stuart P. G. Op. cit. Not. 21.
(обратно)1143
См., например, коллективный труд: La Cité des images / Ed. Cl. Bérard, J.-P. Vernant. Paris; Lausanne, 1984.
(обратно)1144
Говоря о работе Ж. Бажана на эту тему, Метцгер (Metzger Η. Bulletin archéologique, Céramique //REG. 1986. 99. P. 107) замечает: «Автор в некоторой степени ломится в открытые двери». Вполне ли он прав?
(обратно)1145
См.: Rubin N. F., Sale W. M. Op. cit.
(обратно)1146
Bravo Β. Συλάυ Représailles et justice privée contre des ectrangers dans les cités grecques//ASNP. 1980. 3. 10. 3. P. 675-987, особенно 954-957.
(обратно)1147
Leaf W. The Iliad2. L., 1900. Vol. I. P. 465 f.
(обратно)1148
Ibid. P. 466: «garrulous old man».
(обратно)1149
Именно это сказано в стихе 750, но дальнейпшй текст показывает, что они — сыновья Посейдона и жены Актора. Возможный смысл двойственного числа Μολίονε — «Молион и его близнец» (ср. замечания Д. Пейджа, который опирается на Вакернагеля: Page D. L. History and the Homeric Iliad. Berkeley; Los Angeles, 1959. P. 236).
(обратно)1150
Этим указанием я обязан отчасти И. Малкину, моему другу из Тель-Авивского университета.
(обратно)1151
Это противопоставление можно найти и в других местах, начиная с «Долонии» (X песнь), единственной ночной песни «Илиады». Однако следует ли напоминать, насколько «Долония» нарушает обычные нормы поэмы? См., например: Schnapp-Gourbeillon A. Lions, héros, masques. P., 1981. P. 104—131.
(обратно)1152
Выражение «héros inachevé» использовано в заглавии диссертации третьей ступени моего бывшего ученика А. Гарцио-Татти, посвященной этому персонажу (Gartziou-Tatti A. EHESS, 1985).
(обратно)1153
Выражения в кавычках заимствованы из книги: Kirk G S. The Iliad: A Commentary. Cambr., 1985. Vol. I. P. 267f., где содержится комментарий к пассажу III. 17—20 «Илиады». Дж. Кирк, впрочем, никак не объясняет это ощущение удивления. Панцирь Парис одолжил у Ликаона, человека-волка (III. 333).
(обратно)1154
Что совершенно не было понято в работе: Hijmans В. L. Archers in the Iliad // Mélanges Α. Ν. Zadoks et J. Jitta. Groningham, 1976. P. 343-352.
(обратно)1155
Schnapp-Gourbeillon. Op. cit. P. 135-148.
(обратно)1156
Beye C. R. The Iliad, the Odyssey and the Epic Tradition. London; Melbourne, 1968. P. 49.
(обратно)1157
Pind. Pyth. IV. 77—84 (пер. Μ. Л. Гаспарова). Ср.: Le Chasseur noir. P. 154. suiv. и более пространный комментарий: Segal Ch. Pindar's Mythmaking: The Fourth Pythian Ode. Princeton, 1986. P. 56-60.
(обратно)1158
Благодаря Φ. Жуану мне удалось использовать данные о Парисе, собранные Полем Ватле в его диссертации, защищенной в 1968 г. в Льеже: Wathelet P. Les Troyens de l'Iliade: Mythe et histoire. Liège, 1986. P. 263-334, 861-915.
(обратно)1159
См.: Pind. Pyth. IV. 75. 96; Thuc. III. 22.2. П. Левек и я в статье 1960 г. (Historia) размышляли над этим странным сообщением Фукидида. См.: Le Chasseur noir. P. 101 suiv. и мои более поздние комментарии на с. 116 и 154—155. Теперь см. еще одну статью на эту тему, наводящую на размышления: Edmunds L. Thucydides on Monosandalism. III. 22. 2//Mélanges Sterling Dow. Durham, 1984. P. 71—75. За указание на нее благодарю Η. Лоро.
(обратно)1160
Anderson J. К. Op. cit. P. XI.
(обратно)1161
Ibid. P. XII.
(обратно)1162
Pleket H. W. Games, Prizyes, Athletes and Ideology: Some Aspects of the History of Sport in the Greco-Roman World //Arena. 1976. I. P. 49—83. Эта статья, кроме других достоинств, сводит воедино многие наблюдения, рассеянные в огромном количестве трудов Луи Робера. Я оставляю сейчас в стороне римскую часть проблемы, с которой связаны совсем иные вопросы.
(обратно)1163
Vernant J.-P, Vidal-Naquet P. Mythe et tragédie. P., 1972. Vol. I. 135-158.
(обратно)1164
Anderson J. K. Op. cit. P. 53.
(обратно)1165
См.: Schnapp A. Représentation du territoire de guerre et du territoire de chasse dans l'oeuvres de Xénophon // Problèmes de la terre en Grèce ancienne / Ed. M. I. Finley. Paris; La Haye, 1973. P. 307-321.
(обратно)1166
«Le Chasseur noir». P. 961.
(обратно)1167
Eur. Her. 151-205; Goossens R. Euripide et Athènes. Bruxelles, 1960. P. 348-354, где комментируются эти строки. Я принимаю датировку автора, но он не понял места охоты в этой проблеме.
(обратно)1168
Благодарю Д. Левиса, обратившего мое внимание на важность этого фрагмента для обсуждаемой темы.
(обратно)1169
Сначала во время экспедиции на Самос в 440 г. до н. э.: Thuc. I. 117. 2.
(обратно)1170
Я говорю о Fragmentum Vaticanum de Eligendis Magistratibus, который был опубликован в 1943 г. В. Али. Его принадлежность Феофрасту по меньшей мере очень вероятна; см.: Szegedy-Maszak A. The Nomoi of Theophrastus. Ν. Y., 1981. P. 91-115. Текст, на который я ссылаюсь, — fr. В. 120. Р. 97, перевод — Р. 100.
(обратно)1171
Сравнение между юношей и молодым псом см.: Plato. Resp. III. 375а; о собаке как реальности и метафоре см.: Mainoldi С. L'image du loup et du chien dans la Grèce ancienne d'Homère a Platon. Strassbourg; Paris, 1984.
(обратно)1172
Beazley J. D. The Development of Attic Black-figure. Berkeley; Los Angeles, 1951. P. 32-33. Процит.: Anderson J. K. Op. cit. P. 58.
(обратно)1173
Согласно Ксенофонту, мужем Аталанты был не Мелеагр, а Меланий (Cyneg. I. 7).
(обратно)1174
См. замечания: Cartledge P. Op. cit. Р. 11—27, особенно 44; Heza Е. Ruse de guerre, trait caractéristique d'une tactique nouvelle dans l'oeuvre de Thucydide //Eos. 1984. 62; ср.: Said S., Tredé M. Art de la guerre et expérience chez Thucydide // Class, et Med. 1985. 36. P. 65—85. Главные упоминания y Фукидида: II. 39; III. 30—32; V. 8. О засадах и военных хитростях в общем см.: Pritchett W. К. The Greek State at War. Berkeley; Los-Angeles, 1974. Vol. II. P. 156-189; Vol. III. 1979. P. 330 и, естественно: Détienne M., Vernant J.-P. Les Ruses de l'intelligence, la Métis des Grecs. P., 1978 2.
(обратно)1175
Goldhill S. Reading Greek Tragedy. Cambr., 1968. P. 57 f.
(обратно)1176
Дискуссия по этой проблеме была вновь поднята в статье: Loraux N. Repolitiser la cité //L'Homme. 1986. 97-98. P. 239-255; cp: Schnapp A. La cité sans images? //Bulletin des amis de la Bibliothèque Salomon Reinach. 1978.
(обратно)1177
Hartog F. Le Miroir d'Hérodote: Essai sur la représentation de l'autre. P., 1980. P. 69—79.
(обратно)1178
Ср. удачное использование этого метода для анализа античности: Borgeaud Ph. L'animal comme opératuer symboliqye // L'animal, l'homme, le Dieu dans le Proche-Orient ancien (Cahiers du CEPOA). Genève, 1986. P. 13-19.
(обратно)1179
S. ν. συνέφηβος.
(обратно)1180
Lissarague F. Archers, peltastes et cavaliers: Aspects de l'iconographie attique du guerrier. Thèse du 3e cycle, EHESS. P., 1983.
(обратно)1181
О скифах см. еще: Brown F. S., Blake Tyrrell W. Μ. Εκτιλώσαντο. A Reading of Herodotus Amazons // CJ. 1985. 80. P. 297-302; Blake Tyrrell W. M. Amazons: A Study in Athenian Mythmaking. Baltimore; London, 1984.
(обратно)1182
Именно поэтому «Storie di caccia», проанализированные Ε. Пеллицером (Pellizer Ε. Favole d'identitâ; favole di paura. Roma, 1982) кажутся мне, несмотря на интересные параллели, особенно на с. 40—46, зависящими от совершенно других явлений.
(обратно)1183
Я упоминал об этом в «Черном охотнике», опираясь в основном на исследование: Labarbe J. L'âge correspondant au sacrifice du κούρeιον et les données historiques de sixième discours d'Isee //BARBCZ. 1953. P. 358—394. См. также: Pélékidis Ch. Histoire de l'éphébie attique. P., 1962. P. 51-60.
(обратно)1184
См. недавний комментарий: Rhodes P. J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Cambr., 1981. P. 493—495, однако автор не обсуждает всерьез проблему происхождения эфебии.
(обратно)1185
См.: Harpokration. S. ν. Επικράτης = Lycurg. Fr. 20 Blass (25 Sauppe).
(обратно)1186
Le Chasseur noir. P. 194.
(обратно)1187
Это не было общим правилом в греческом мире даже в эллинистическую эпоху. Павсаний утверждает (VII. 27. 5), что противоположное правило действовало в Пеллане в Ахайе. Эта противоположность отмечена в работе: Haussoullier В. Traité entre Delphes et Pellana. P., 1917. P. 110.
(обратно)1188
См.: Reinmuth O. W. Op. cit. P. 123—138. Правда, дата самой ранней эфебовской надписи остается спорной: Le Chasseur noir. P. 151. Not. 1; Φ. Готье (Op. cit. Not. 1) присоединяется к «верхней» дате — 334/333 г. до н. э. вместо 361/360.
(обратно)1189
См. убедительное доказательство: Gauthier Ph. Un commentaire historique des Poroi de Xénophon. Genève; Paris, 1976. P. 190-195.
(обратно)1190
De Leg. 167. Важность этого свидетельства была подчеркнута Л. Робером в его публикации «Клятвы эфебов» (Etudes épigraphiques et philologiques. P., 1938. P. 306. Not. 3).
(обратно)1191
Данный вопрос дьявольски запутан, в особенности различными интерпретаторами этого текста Эсхина; из недавних работ см.: Andrewes A. The Hoplite Katalogos // Mélanges M. McGregor. Locust Valley; Ν. Y., 1981. P. 1-3.
(обратно)1192
Прямое и несомненное упоминание клятвы эфебов имеется в речи Алкивиада у Плутарха (Alcib. 15. 7—8), однако оно также может быть отнесено к его собственному времени или времени его эллинистических источников. Возможные намеки в «Филоктете» Софокла были обнаружены мной (Vernant J.-P., Vidal-Naquet P. Mythe et Tragédie. P., 1972. Vol. I. P. 173 suiv.) и в работе: 0sterud S. The Concept of Society in Sophocles: Four Interpretations. Bergen, 1976. P. 218. Наконец, см. небольшую подборку материала: Siewert P. Ephebic Oath in Fifth Century Athens //JHS. 1977. 97. P. 102-111. Все это достаточно правдоподобно, однако несомненное подтверждение отсутствует.
(обратно)1193
См.: Heza Е. Op. cit. Р. 228: «В полисе не было обладателей личной славы — ни "военного класса", ни героев. Существовала только община, члены которой носили оружие и, отказавшись от всяких индивидуальных подвигов, действовали в бою только коллективно».
(обратно)1194
Vidal-Naquet P. L'Iliade sans travesti: Préface // Iliade. Traduction P. Mazon. Collection Folio. P., 1975. P. 22-27.
(обратно)1195
См. в общем со ссылками на основные, если не все источники: Détienne M. La phalange: Problèmes et controverses // Problèmes de la guerre en Grèce ancienne / Ed. J.-P. Vernant. Paris; La Haye, 1968. P. 119—142; Hoffmann H. Les choisis: un ordre dans la cité grecque?//Droit et culture. 1985. 9-10. P. 15-26.
(обратно)1196
О фокейцах см.: Paus. X. 1.5. Указанием на это место я обязан П. Эллингеру.
(обратно)1197
Ср.: Loraux N. Op. cit. P. 117.
(обратно)1198
Thuc. VI. 100. 1. Я обязан этой ссылкой А. Эндрюсу.
(обратно)1199
Και των ψιλών τινας εκλεκτούς ώπλισμένους. — Thuc. VI. 100. 1.
(обратно)1200
В Сиракузах против афинян сражался отряд из 600, а не из 300 логадов. Половина их погибла, что было обычным для такого рода отрядов отборных воинов.
(обратно)1201
FGrH 70 F 149 (Strabo. Χ. 4.21). Этот фрагмент был подробнейшим образом прокомментирован недавно в работе: Sergent. Op. cit. P. 15—53. С точки зрения того, что нас здесь интересует, см. особенно: Jeanmaire H. Couroi et Courètes. P. 450—455; Briquel D. Initiations grecques et idéologie indo-européenne //Annales ESC. 1982. 37. P. 454—469.
(обратно)1202
Thuc. V. 67. 2; Diod. XII. 75. Это подразделение из 1000 логадов, очевидно, сменило в Аргосе древний отряд из 300 воинов, бой которого с его спартанским аналогом описывает Геродот (I. 82; ср.: Paus. II. 38. 4—5). Павсаний говорит об аргосских логадах также в IX. 36. 2, однако не называет их численности.
(обратно)1203
Jeanmaire H. Couroi et Courètes. P. 540—552; Xen. Lac. pol. IV. 3: ιππείς набираются из ήβώντες.
(обратно)1204
Об Элиде см.: Thuc. П. 25. 3; о Мегарах: Thuc. V. 60. 3.
(обратно)1205
Plut. Pelop. 14. 18—19. Основные источники, кроме Плутарха: Diod. XII. 70; Polyaen. Strat. П. 51; Athen. XIII. 602а (цитата из Иеронима Перипатетика).
(обратно)1206
S. ν. Τριακάτιοι- οί έφηβοι και τό σύστημ α αυτών.
(обратно)1207
Об этом разделении см.: SEG. IX. 72. 34—40.
(обратно)1208
Основные свидетельства источников приведены и проанализированы в работе: Luni M. Documenti per la storia della instituzione ginnasiale e dell attivita atletica in Girenaica, in rapporto a quelle della Grecia // Quaderni di archeologia della Libia. 1976. 8. P. 223—284, особенно 236-255; о командирах: SEG. IX. 55 (Schwyzer. 234). 14. 51; IX. 51; XX. 742. 5. 6 (τριακατιάρχοι принимают название έφήβαρχοι) Евстафий (ad II. VIII. 518) замечает, что в Кирене эфебы назывались «тремястами», что связывает его замечание с сообщением Гесихия, цит. в примеч. 91. Я обязан знанием этих документов К. Добья-Лалу ( Dobias-Lalou C.), диссертация которой будет содержать глубокий анализ частично неизданного материала.
(обратно)1209
См.: Le Chasseur noir. P. 197—199, где можно найти отсылку к работам Л. Каил (Kahil L.), а также недавнюю работу: Osborne R. Demos: The Discovery of Classical Attica. Cambr., 1985. P. 154—172. Для тех, кто посещал музей Браврона, то обстоятельство, что они видят там статуи мальчиков рядом со статуями девочек, толкуемыми как изображения «медведиц», составляет, однако же, определенную трудность.
(обратно)1210
Внушительный список их можно найти в работе: Winkler J. J. The Ephebe's Song: Tragôidia and Polis //Représentation. 1985. II. P. 27-62, особенно 32-35.
(обратно)1211
Le Chasseur noir. P. 964. Not. 1.
(обратно)1212
Vidal-Naquet P. Le Philoctète de Sophocle et l'éphébie //Annales ESC. 1971. 26. Перепечатано: Vernant J.-P., Vidal-Naquet P. Mythe et tragédie. P., 1972. Vol. I. P. 161-184.
(обратно)1213
Я излагаю вкратце гипотезу Я. Андреадиса, который обещал ее развить. Исследование М.-Е. Жиро о роли птиц в этой пьесе находится в печати в «Revue de Philologie».
(обратно)1214
Segal Ch. Dionysica Poetics and Euripid's Bacchae. Princeton, 1982. P. 189-201.
(обратно)1215
См.: Benedetto V. di.Op. cit. P. 115-136; Winnigton-Ingram R. P. Sophoclea // BICS. 1979. 16. P. 1—12. Подробно я отвечу на эту критику в другом месте. Мою гипотезу, напротив, развивал и защищал С. Остеруд (Op. cit. Р. 211—268). Эта глава названа: «Neoptolemus: from ephebus to hoplite».
(обратно)1216
Winnigton-Ingram R. P. Op. cit. P. 10-11.
(обратно)1217
Ciani M. G. Filottete délie galassie // Sigma. 1981. 7. P. 15-25.
(обратно)1218
Silverberg R. The Man in the Maze; французский перевод: L'Homme dans le labyrinthe/Trad. M. Rivelain. P., 1970.
(обратно)1219
М. Детьен обращал на это внимание в 1969 г., и я был не прав, что совершенно не принял в расчет его предупреждение.
(обратно)1220
Я благодарен М. Казевицу, кагорьш обратил мое внимание на это обстоятельство. Другая этимология, заимствованная у Павсания (X. 26. 4), была предложена в работе: Sulzberger Μ. Ονομα έπώνυμον. Les noms propres chez Homère et dans la mythologie grecque // REG. 1926. 37. P. 381—447, особенно 389—390. Павсаний писал: «Имя "Неоптолем" было дано ему Фениксом потому, что Ахилл как раз начал воевать в то время, когда он был еще очень юн». Это говорит о том, что связь Неоптолема с эфебией ощущалась уже в античности. Этим указанием я обязан Ж. Свенбро.
(обратно)1221
Имя Пирр, как пишет Павсаний (X. 26. 4), было дано Неоптолему дедом по матери, Ликомедом. Об этом двойном имени ср. замечания П. Левека: Lévêque P. Pyrrhos. Р., 1957. Р. 87 suiv. В этой книге можно найти также множество данных о дальнейшей судьбе сына Ахилла.
(обратно)1222
Andrem. 1135; ср.: Pouilloux J.y Roux G. Enigmes a Delphes. P., 1963. P. 117. Прямые указания см.: Schol. Pind. Pyth. IL 127; Hesych. S. ν. πυρρίχα, πυρρίχας, πυρριχίζειν; Diomed. Ars gramm. III (Grammatici latini. I. 475); Luc. De Saltat. IX.
(обратно)1223
Об этом персонаже см.: Paus. III. 26. 9; Hygin. Fab. 112; Strabo. XIII. 584.
(обратно)1224
Legg. VII. 796b; ср. указание Аристоксена (Athen. XIV. 631c): «Древние исполняли танец обнаженных (γυμνοπαιδική) и, прежде чем войти в театр, переходили к пиррихе».
(обратно)1225
О пиррихе см.: Poursat J. С Les représentations de danse arméedans la céramique attique // BCH. 1968. 92. P. 550—615 и особенно Scarpi P. La pyrrhikè ό le armi della persuasione /Dialoghi di archeologia. N. s. 1. 1979. P. 78^-97.
(обратно)1226
Он был νεανίας в момент смерти, согласно Еврипиду (Androm. 1104).
(обратно)1227
Morel J.-P. La Juventus et les Origines du théâtre romain //REL. 1969/1970. 47. P. 208-252; см. также другие работы Ж.-П. Мореля в: Le Chasseur noir. P. 437—438.
(обратно)1228
Имеется недавний комментарий, выдержанный в совершенно ином духе: Dupont F. L'Acteur-roi ou le théâtre dans la Rome antique. P., 1985. P. 136—140.
(обратно)1229
Ж.-П. Морель опирается в основном на книгу: Eberle О. Canalora, Leben, Glaube, Tanz und Theater der Urvölker. Ölten, 1955, — которая существует и в итальянском переводе (Milan, 1966).
(обратно)1230
См. примеч. 95.
(обратно)1231
Я посвятил этой статье несколько занятий моего семинара и, настаивая на своих сомнениях и оговорках, все же могу гордиться тем, что отчасти вдохновил столь смелую попытку.
(обратно)1232
Hist. An. VII. 581а. 18-25; Gen. An. V. 778b. 30-788a. 5. В указанном месте «Истории животных» Аристотель как раз противопоставляет πραγίζειν — «блеять» — и хоровое пение.
(обратно)1233
Я здесь пересказываю близко к тексту то, что пишет Ж. Винклер (Op. cit. P. 47f).
(обратно)1234
Хранится в Неаполитанском музее: Beazley. ARV2. 1136; очень часто воспроизводится, например: Pickar-Cambridge A. The Dramatic Festivals of Athens. Oxf., 19682. Fig. 49; Seaford R. Euripides: Cyclops. Oxf., 1984. Fig. Ill; Charbonneaux J., Martin R., Villard F. Grèce classique. P., 1969. P. 274 suiv.
(обратно)1235
Д. Левис, однако, сообщил мне, что он считает ее изображающей хор дифирамба.
(обратно)1236
Я основываюсь здесь на исследовании Ф. Лиссарага, которое вскоре должно появиться в «Трудах» конференции, организованной в 1986 г. GITA (Междисциплинарная группа по античному театру Университета Поль-Валери, Монпелье).
(обратно)1237
Seaford R. Op. cit. P. 3. Not. 129.
(обратно)1238
Winkler U. Op. cit. P. 39.
(обратно)1239
Seaford R. Op. cit. P. 33-36.
(обратно)1240
См.: Op. cit. P. 123.
(обратно)1241
Например, Dumézil G. Mythe et Épopée. P., 1968. Vol. I. P. 63-65; Idem. Heur et malheur du guerrier. P., 19853. P. 140, 161-168.
(обратно)1242
Как ни странно, в книге «Mitra — Varuna» (P., 19482. P. 48-54) Дюмезиль проводит параллель между фламинами и луперками как между seniores и iuniores. Однако он считает, что луперки относятся к первой функции, хотя и цитирует Валерия Максима (II. 2), который определяет их в качестве «молодежи всаднического сословия» («equestris ordinis iuventus»). Не должен ли этот вопрос быть пересмотрен? Благодарю Дж. Шейда за указания, которые он мне дал на этот счет.
(обратно)1243
Davidson О. M. Op. cit. Р. 61-148, особенно 81-87.
(обратно)1244
Grisward J. H. Op. cit. P. 222—224. Однако я не думаю, что оппозиция «внутреннее — внешнее», которая, согласно Дж. Грисворду, разделяла воинскую функцию в средневековье, может считаться универсальной. В Афинах эфеб, согласно этому критерию, был бы «внутренним», поскольку он был обязан находиться на территории полиса, что дало бы пару оппозиций, противоположную той, какую предполагает Грисворд.
(обратно)1245
См. попытку связать греческие инициации с индоевропейской идеологией при широком использовании «Черного охотника»: Briquel D. Op. cit.
(обратно)1246
Статья была впервые опубликована в книге: Vidal-Naquet P. La Démocratie grecque vue d'ailleurs: Essais d'historiographie ancienne et moderne. P.: Flammarion, 1990. P. 139— 159, 353—361. Предлагаемый здесь перевод выполнен по этому изданию. При переводе примечаний учтены исправления и добавления, которые имеются в английском варианте данной статьи: Vidal-Naquet Р. Atlantis and the Nations // Critical Inquiry. Winter 1992. 18. P. 300-326 (transi, by J. Lloyd). (Примеч. пер.)
(обратно)1247
Ряд положений настоящей статьи содержится в другой моей работе: Hérodote et l'Atlantide; entre les Grecs et les Juifs: Réflexions sur l'historiographie du siècle des Lumières // Quaderni di Storia. 1982. 16. P. 3-76.
(обратно)1248
Более подробно об этом см. в моей статье: Athènes et l'Atlantide: Structure et signification d'un mythe platonicien // Revue des études grecques. 1964. 77. P. 420—442, переизданной с добавлениями в «Черном охотнике» (см. выше: «Афины и Атлантида. Содержание и смысл одного платоновского мифа»). С аналогичных позиций проблема платоновской Атлантиды рассматривается в работах Люка Бриссона (Brisson L. De la philosophie politique à l'épopée: Le «Critias» de Platon // Revue de métaphysique et de morale. 1970. 75. P. 402—438; Idem. Platon, les mots et les mythes. P., 1982), a также Кристофера Джилла (Gill Ch. The Origin of the Atlantis Myth // Trivium. 1976. 11. P. 1-11; Idem. The Genre of the Atlantis Story // Classical Philology. 1977. 72. P. 287-304; Idem. Plato: The Atlantis Story. Bristol, 1980). В указанных работах, включая мою статью, упомянутую выше в примеч. 1, содержится подробная библиография. Наиболее полный список посвященных данной проблеме исследований, многие из которых откровенно абсурдны, приведен в библиографии к Платону, публикуемой Гарольдом Черниссом и Люком Бриссоном в «Lustrum». В качестве одного из таких псевдонаучных опусов назову: Pischel В. Die Atlantische Lehre. Frankfurt am Main; Bern, 1982.
(обратно)1249
Λόγου μάλα μεν ατόπου, παντάπασι γε μεν αληθούς (Платон. Тимей. 20d).
(обратно)1250
Впрочем, здесь у Платона имеются предшественники, например Ксенофонт, написавший «Киропедию» примерно тогда же, когда было написано «Государство» Платона (около 380 г. до н. э.), а также Геродот — автор выдаваемого им за достоверный диалога (о котором мне любезно напомнила Сэлли Хэмфрис) персидских вельмож о наилучшем государственном устройстве (Геродот. III. 80; VI. 43).
(обратно)1251
См., в частности, книгу Л. Бриссона, указанную выше, в примеч. 2, в которой показано, насколько тщательно Платон продумал время и место действия для своего рассказа.
(обратно)1252
См. работы, упомянутые выше, в примеч. 2.
(обратно)1253
Первым, кто попытался дать подобное объяснение этому мифу, был, насколько мне известно, пьемонтский ученый Джузеппе Бартоли (Bartoli G. Essai sur l'explication historique que Platon a donné de sa «République» et de son Atlantide et qu'on n'a pas considérée jusqu'à maintenant. Stockholm; Paris, 1779—1780).
(обратно)1254
См. заметку «Русские говорят, что это не Атлантида», опубликованную в «International Herald Tribune» 20 сентября 1984 г. (с. 7), а также статью «По следам советской подводной лодки», помещенную в «International Defense Review» (1984. November P. 1601), где, в частности, говорится, что эти «археологические» исследования велись с 1973 по 1984 г. (пользуясь случаем, выражаю признательность Иесперу Свенбро за информацию о последней статье).
(обратно)1255
В «Courrier de Gand» от 22 февраля 1985 г. читаем следующее: «Проделанная г-ном Местдагом грандиозная работа является образцом научной точности и прилежания и доказывает (если это все еще нуждается в доказательстве), что есть среди жителей Гента те, кто внес неоценимый вклад в историю не только своего отечества, но и соседних стран». Процитированной газетной вырезкой я обязан Ивону Гарлану.
(обратно)1256
Martin Th.-H. Études sur le «Timée»de Platon. P., 1841. P. 257-332.
(обратно)1257
Ibid. P. 332.
(обратно)1258
Об этом, например, свидетельствует предпринятая в 1840 г. попытка связать Атлантиду с Италией (см. ниже, примеч. 73).
(обратно)1259
См.: Nora P. Archives et construction d'une histoire nationale: le cas français // Les Arabes par leurs archives (XVIe-XXe siècles) / Ed. J. Berque, D. Chevallier. P., 1979. P. 321-332, a также великолепную статью: Gauchet M. Les «Lettres sur l'histoire de France» d'Augustin Thierry //Les Lieux de mémoire/Ed. P. Nora. P., 1986. Vol. 2. P. 247-316.
(обратно)1260
Великий ученый-энциклопедист Александр фон Гумбольдт был, по сравнению с Мартэном, менее радикален в критике мифа об Атлантиде, но проявил большую научную фантазию при рассмотрении «мифической географии» греков, см.: Humboldt А. von. Histoire de la géographie du nouveau continent et des progrès de l'astronomie nautique aux quinzième et seizième siècles. P., 1836. Vol. I. P. 112-115, 167-180.
(обратно)1261
Сравнительно недавние рассуждения на эту тему можно встретить в местами спорной работе: Sprague de Camp L. Lost Continents: The Atlantis Theme in History, Science, and Literature. Ν. Y., 1954, а также в сборнике: Atlantis, Fact or Fiction? / Ed. Ε. S. Ramage. Bloomington, 1978.
(обратно)1262
См., например: SirinelliJ. Les vues historiques d'Eusèbe de Césarée durant la période prénicéenne. Dakar, 1961.
(обратно)1263
Все ссылки даны в моей статье: Hérodote et l'Atlantide... P. 50, n. 4.
(обратно)1264
См.: Cosmas Indicopleustès. Topographie chrétienne. XII. 2-3, 7 (Ed. et trad W. Wolska-Conus. P., 1968-1973).
(обратно)1265
См.: Teillet S. Dès goths à la nation gothique: Les Origines de l'idée de nation en Occident du Ve au VIIe siècle. P., 1984.
(обратно)1266
Здесь я сошлюсь на классическую работу Марка Блока: Bloc M. Les Rois thaumaturges: Etudes sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale, particulièrement en France et en Angleterre. Strassbourg, 1924, - недавно переизданную в Париже (Gallimard, 1983) с предисловием Ж. Ле Гоффа (см. также русский перевод этой книги: Блок М. Короли-чудотворцы. М., 1998. — Примеч. пер.).
(обратно)1267
См.: Teillet S. Op. cit. P. 602-611. О взглядах Исидора Севильского на королевскую власть см.: Reydellet M. La Royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Seville. Rome, 1981. P. 556—568. Автор особо настаивает на посреднической роли образа Христа. Самым обстоятельным исследованием средневековых представлений о царской (королевской) власти остается замечательная книга Эрнста Хартвига Канторовича (Kantorowitz E.H. The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology Princeton, 1957).
(обратно)1268
См.: Teillet S. Op. cit. P. 404.
(обратно)1269
Важнейшая работа по данному вопросу: Borst Α. Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker. Stuttgart, 1957—1963. Bd. 1—6; см. также: Poliakov L. Le Mythe aryen: Essai sur les sources du racisme et du nationalisme. Bruxelles, 1987.
(обратно)1270
Одной из основных работ, помимо указанной выше книги А Борста, является: Allen D. С. The Legend of Noah: Renaissance Rationalism in Art, Science, and Letters. Urbana, 1949.
(обратно)1271
Мне известно лишь одно недавно вышедшее исследование об Аннии да Витербо: Baffioni G, Mattiangeli P. Annio da Viterbo: Documenti e ricerche. Roma, 1981. Эта книга в основном посвящена критическому изданию прежде не выходившего сочинения Витербо, а также иконографическим штудиям. На с. 24, примеч. 1 автор приводит подробную библиографию. Из работ, представляющих интерес для нас, назову уже упомянутые выше (примеч. 23 и 24) книги А. Борста (Bd. 3. S. 975—977) и Д. К. Аллена (Р. 114—116), а также статью: Tigerstedt Ε.N. Johannes Annius and «Graecia Mendax» // Classical, Mediaeval, and Renaissance Studies in Honor of Berthold Louis Ullman / Ed. Ch. Henderson, Jr. Rome, 1964. Vol. 2. P. 293-310. Для «италофильства» Анния да Витербо, которое по сути являлось разновидностью его «местного» патриотизма, характерно то, что наиболее ранние фальсификации автора, приписываемые им Мирсилу Лесбосскому и Катону, посвящены «началам» италиков и этрусков. В то же время, опираясь на текст Витербо, можно найти прославленные генеалогии у большинства народов. Особую симпатию Анний испытывал к Испании, чей посол финансировал издание его книги.
(обратно)1272
Οlender M. Les langues du paradis: Aryens et Sémites, un couple unprovidentiel. P., 1989.
(обратно)1273
Ibid. P. 26, 124-126.
(обратно)1274
В своей книге «Delle Origine di Firenze», датируемой 1542 г. См. также: Simoncelli Р. La Lingua di Adamo: Guillaume Postel fra Accademia e fuorusciti Fiorentini. Firenze, 1984. P. 18 sq.
(обратно)1275
О Гийоме Постеле и кельтомании см.: Dubois Cl.-G. Celtes et Gaulois au XVIe siècle: Le développement littéraire d'un mythe nationaliste. P., 1972 (о связах с Аннием да Витербо см.: ibid. Р. 85); см. также важную работу: Bouwsma W.J. Concordia Mundi: The Career and Thought of Guillaume Postel (1510-1581). Cambr., 1957 (о странствиях Ноя см.: ibid. P. 257-258).
(обратно)1276
Audigier P. L'Origine des Français et de leur empire. P., 1676. Vol. I. P. 214—217.
(обратно)1277
См.: Stayer J. R. France, the Holy Land. The Chosen People and the Most Christian King // Action and Conviction in Early Modern Europe: Essays in Memory of E. H. Harbison/Ed. T. K. RalbJ. E. Seigel. Princeton, N.J., 1969. P. 3-16. Об аналогичных сюжетах в Германии см.: Bor char dt F. L. German Antiquity in Renaissance Myth. Baltimore, 1971. Сравнительный анализ дается в сборнике: National Consciousness, History, and Political Culture in Early Modern Europe / Ed. O. Ranum. Baltimore, 1975.
(обратно)1278
См.: Klibansky R. The Continuity of the Platonic Tradition during the Middle Ages. L., 1939. Эта работа одновременно является введением в: Corpus Platonicum Medii Aevi. L., 1951—1975. Vol. 1—4, — в 4-й том которого включено лейденское издание «Тимея» 1962 г. В комментарии J. H. Waszink к этому изданию о еврейском влиянии на Платона говорится как о само собой разумеющемся, хотя ни слова не сказано об Атлантиде.
(обратно)1279
См. предисловие Яна Шорта и Брайена Меррилиса к: Benedict. The Anglo-Norman Voyage of St. Brendan / Ed. J. Short, B. Merrilees. Manchester, 1979.
(обратно)1280
См.: Marcel R. Marsile Ficin, 1433-1499. P., 1958. P. 630-631.
(обратно)1281
Размышления на эту тему можно найти у А. фон Гумбольдта, автора блестящего интеллектуального портрета Колумба, несмотря на отдельные неточности его первых двух томов «Histoire de la géographie...» (см. выше, примеч. 14). См. также сравнительно новую работу об этом сочинении Гумбольдта: Minguet Ch. Alexandre de Humboldt, historien et géographe de l'Amérique espagnole, 1799-1801. P., 1969. P. 584-603, - автор которой не всегда объективен. Действительно, согласно Гумбольдту, в трудах Колумба отсутствует какое-либо упоминание об Атлантиде (Histoire de la géographie... Vol. I. P. 167), но в то же время немецкий энциклопедист пишет, что Колумбу «нравилась история об Атлантиде Солона» (ibid. Р. 30). Вызывает сомнение и то, что между открытием Колумба и мифом Платона существовала некая связь, о чем якобы имеются противоречивые свидетельства в биографии Колумба, написанной его сыном Фернандо. Действительно, в полемике с Гонсало Фернандесом де Овьедо, Фернандо ссылается на Атлантиду, однако из его аргументов видно, что миф Платона был совершенно незнаком Колумбу, - см.: Fernando Colon. The Life of the Admiral Christopher Columbus by His Son, Ferdinand / Transi, by B. Keen. New Brunswick, N.J., 1959. P. 28-34. Известно, что испанский оригинал биографии Колумба не сохранился, и все ее современные издания основаны на итальянском переводе.
(обратно)1282
Lévi-Strauss Cl. Tristes Tropiques. P., 1984. P. 79. У Леви-Стросса, которого часто неверно цитируют и приписывают ему отдельные суждения, мы не найдем утверждения о том, что испанцы намеревались «проверить правдивость древних легенд», в том числе и легенды об Атлантиде. Все, кого эта проблема интересует, могут обратиться к работам: Lafaye J. Les Conquistadors. P., 1964. P. 111; Mahn-Lot M. La Découverte de l'Amérique. P., 1970. P. 90; Broc N. La Géographie de la Renaissance (1420-1620). P., 1980. P. 166. Вышеназванные авторы ссылаются друг на друга вместо того, чтобы обратиться к тексту оригинала, неточно процитированному Ж. Лафайем. На точную цитату мне указал сам Клод Леви-Стросс.
(обратно)1283
Первым это предположил Пьетро Мартире д'Ангиера в своем письме кардиналу Асканио, написанном 1 ноября 1493 г. в Барселоне. Америго Веспуччи сообщил о своем открытии десятилетием позже. См.: Randies W. G. Le Nouveau Monde, l'autre monde et la pluralité des mondes / Congreso internacional de Historia dos Descobrimentos. Lisboa, 1961. Vol. 4. P. 347-382.
(обратно)1284
Об Атлантиде и Великих географических открытиях см. две принципиально важные работы: Prampolini I.R. La Adantida de Platon en los cronistas del siglo XVI. Mexico, 1947; Gliozzi G. Adamo e il nuovo mondo: La nascita dell'antropologia come ideologia
(обратно)1285
См. знаменитую 31-ю главу первой книги «Опытов» Монтеня («О каннибалах»), а также: Acosta J. de. Historia natural y moral de las Indias. Sevilla, 1589—1590 (см. 20-ю главу первой книги).
(обратно)1286
См. об этом упомянутые выше, в примеч. 36 и 38, работы Нумы Брока и Джулиано Льоцци.
(обратно)1287
См. комментарий Жана де Серра к его переводу Платона: Plato. Opera quae extant omnia. Vol. 3. Paris; Genève, 1578. P. 105.
(обратно)1288
Третья книга Ездры. 13. 39—42. Этому загадочному отрывку посвящено фундаментальное исследование: Moïse géographes: Recherches sur les représentations juives et chrétiennes de l'espace /Ed. A. Desreumaux, F. Schmidt. P., 1988. Комментарии и библиографию можно также найти в сочинении: Manasseh ben Joseph ben Israel. The Hope of Israel/Ed. H. Méchoulan, G. Nahon. Ν. Y., 1987.
(обратно)1289
См. об этом также: Batailon M. L'Unité de genre humain du P. Acosta au P. Clavigero / Mélanges à la mémoire de Jean Sarrailh. Vol. I. P., 1966. P. 75-95; Huddleston L.E. Origins of the American Indians: European Concepts, 1492—1729. Austin, 1967; Glaser L. Indians or Jews. An Introduction to a Reprint. Gilroy, 1973; о «причастности» испанцев к этой проблеме см.: Méchoulan H. Le Sang de l'autre ou l'Honneur de Dieu. Indiens, Juifs et Morisques au Siècle d'or. P., 1979.
(обратно)1290
X. де Акоста считал легенды о десяти коленах Израиля и об Атлантиде «ключами» к разгадке «тайны» Америки, хотя сам отвергал их .
(обратно)1291
Обычно ссылаются на работу: Lopez de Gomara F. Historia general de las Indias. Sevilla-Zaragoza, 1555. Дж. Льоцци (см. выше, примеч. 38) приводит (р. 178—179) еще более раннюю цитату из книги: Francastoros G. Syphilis, sive morbus Gallicus. Verona, 1530. III. XI. 165-186.
(обратно)1292
См.: Bartolome de las Casas. Historia de las Indias / Ed. J. Perez de Tudela Buesco. Madrid, 1957. P. 36—39. «История» Лас Касаса, сочинявшаяся в 1520—1561 гг., впервые была опубликована лишь в 1875—1876 гг. Выражаю признательность Иде Родригес Прамполини, указавшей мне на эту работу.
(обратно)1293
См. комментарии М. Ле Дёффа и М. Льясера к французскому изданию: Bacon F. La Nouvelle Atlantide: Voyage dans la pensée baroque / Trad, et comm. par M. Le Doeuff et M. Llasera. P., 1983, — хотя в этих комментариях не затрагиваются поднимаемые здесь вопросы.
(обратно)1294
См.: Peyrère I. de la. Prae-adamitae, sive Exercitatio super versibus duodecimo, decimoterio, et decimoquarto, capitis quinti epistolae d. Pauli ad Romanos: Quibus inducuntur primi homines ante Adamum conditi. Amsterdam, 1655. P. 176—180. Ссылки на этот весьма логичный вывод Лапейрера отсутствуют в известных мне посвященных ему работах, включая превосходную диссертацию: Oddos J.-P. Recherches sur la vie et l'oeuvre d'Isaac de la Peyrère. Grenoble, 1977; a также капитальное исследование: Popkin R.H. Isaac La Peyrère (1596-1676): His Life, Work, and Influence. New York; Leiden, 1987.
(обратно)1295
Besoldus Ch. De novo orbe, conjectanea / Dissetationes singulares. Tübingen, 1619. P. 21-24.
(обратно)1296
Oviedo y Valdés G. F. de. Historia general y natural de las Indias. Sevilla, 1535. Основополагающей работой об Овьедо является упомянутая выше книга А. Джерби. См. в ней, в частности: Р. 379—380 (письмо Карла V); Р. 365—383 (проблема Гесперид). Мифологически-библейскую аргументацию (Тубал-Геркулес) Овьедо заимствовал у Анния да Витербо.
(обратно)1297
См.: Goropius Becanus J. Hispanica / Opera hactenus in lucem non édita. Antwerpen, 1580. P. 35, 62, 105-158; Gliozzi G. Op. cit. P. 42-44, 155-158; Prampolini I. R. Op. cit. P. 25-27. Ван Гороп умер в 1574 г., так что его труд вышел посмертно. Испанофильство Ван Горопа не помешало ему отыскать параллели между индейскими и фламандским языками. Что касается связи между Тартессом и Атлантидой, то в XX в. ее вновь «открыл» Адольф Шультен, см.: Schulten Α. Tartessos. Ein Beitrag zur ältesten Geschichte des Westen. Hamburg, 1922. S. 53-56.
(обратно)1298
Сочинение Педро Сармиенто де Гамбоа (Historia general llamada Indica) не публиковалось вплоть до 1902 г. Я ссылаюсь на издание, помещенное в качестве приложения к работе: Vega G. de la. Obras complétas del Inca Garcilaso de la Vega / Ed. P. Carmelo Saenz de Santa Maria. Madrid, 1960. Vol. 4. P. 201-205.
(обратно)1299
К. Миральес, мой коллега из Барселоны, сообщил мне, что каталонская националистическая версия легенды об Атлантиде появилась достаточно поздно, в конце XIX в., в виде эпоса, опубликованного Хакинто Вердагуэром под заголовком «Атлантида» в 1877 г. в Барселоне и положенного на музыку Мануэлем де Фальей. В этом эпосе налицо соединение мифов о Гесперидах и Атлантиде: последняя царица атлантов, спасенная Гераклом, ставшая его супругой и возведенная им на испанский трон, была... Гесперидой. Французский перевод каталонского эпоса, выполненный Альбером Савином и изданный в Париже в 1883—1887 гг., тоже называется «Атлантида». См. также обширную библиографию: Miralles С. L'arbre i la Lira /Festschrift Antoni Comas. Barcelona, 1985. P. 289—304.
(обратно)1300
Более подробно об истории мифа об Атлантиде в эпоху Просвещения говорится в моей статье «Hérodote et l'Atlantide...» (см. выше, примеч. 1). Здесь же мой обзор будет достаточно кратким.
(обратно)1301
Бесспорно, литература по данному вопросу огромна. Тем не менее особо отмечу следующие работы, отличающиеся четкой постановкой проблемы: Gay P. The Enlightenment: An Interpretation. Ν. Y., 1966—1969. I—II; Manuel F. Ε. The Eighteenth Century Confronts the Gods. N. Y., 1967; см. также рецензию Старобинского (Starobinski J. Le Mythe au XVIIIe siècle) на книгу: Feldman В., Richardson R. D. The Rise of Modem Mythology, 1680-1860 // Critique. 1977. 33. P. 975-997.
(обратно)1302
Более подробно этот вопрос я освещаю в упомянутой выше, в примеч. 1, моей статье (см., в частности: с. 17—18, 25—42).
(обратно)1303
Rudbeck О. Atlantica. Uppsala, 1679—1702. Vol. 1—3. Последнее издание: Atland eller Manheim / Ed. Α. Nelson. Uppsala, 1937—1950. Vol. 1—4. В четвертом томе дана подборка свидетельств и высказываний, касающихся этого труда (с. 205—265). Об Олофе Рудбеке и «готской» идеологии существует огромная (в основном шведская) литература, и я укажу лишь некоторые из работ: Simon E. Réveil national et culture populaire en Scandinavie: La genèse de la Hojskole nordique, 1844—1878. P., 1960; Ekman E. Gothic Patriotism and Olof Rudbeck //Journal of Modem History. 1962. 34. P. 52—63; Svennung J. G. A. Zur Geschichte des Goticismus. Stockholm, 1967; Svenbro J. L'Idéologie «gothisante» et l'«Atlantica» d'Olof Rudbeck: Le Mythe platonicien de l'Atlantide au service de l'Empire suédois du XVIIe siècle // Quaderni di storia. 1980. 11. P. 121—156 (обстоятельная статья с обширной шведской библиографией); Eriksson G. Gestalter i Svensk lärdomhistoria. I. Olof Rudbeck D. A. // Lychnos. 1984. P. 77—119 (резюме на^английском языке: P. 116—118). Последняя статья оказалась мне доступной благодаря И. Свенбро. Хочу также выразить искреннюю благодарность Нильсу и Рене Андерссонам, показавшим мне в мае 1985 г. все места и достопримечательности Уппсалы, связанные с сагой Рудбека. Попутно замечу, что в октябре 1982 г., во время «визита» советских подводных лодок в район Стокгольмского архипелага не делалось никаких заявлений относительно Швеции — Атлантиды и Уппсалы — столицы Атлантиды (см. также выше, примеч. 8).
(обратно)1304
В парижском издании «Petit Larousse» (1973 г.) упомянут лишь Рудбек-врач. О Рудбеке — ученом-энциклопедисте эпохи барокко говорится в указанной выше статье Г. Эрикссона.
(обратно)1305
См.: Bay le P. Olavi Rudbeckii Atlantica, sive Manheim //Nouvelles de la république de lettres. Janirer et février 1685. 3. P. 49-69, 119-136.
(обратно)1306
Rudbeck O. Atlantica. I. P. 890.
(обратно)1307
См. рис. 6.
(обратно)1308
Не следует забывать и то, что уже в VI в. «История готов» Кассиодора, дошедшая в кратком пересказе Иордана, породила миф о «готской нордической расе»; см.: Teillet S. Op. cit. P. 305—334; Dagron G, Marin L. Discours utopique et récit des origines //Annales ESC. 1971. 26. P. 290—327 (рассматривается собственно мифологический аспект традиции).
(обратно)1309
Этим описанием я многим обязан комментарию А. Эллениуса (Ellenius A. Olaus Rudbecks Atlantiska Anatomi // Lychnos. 1959. P. 40—54; резюме на английском языке: с. 53-54).
(обратно)1310
Bayle P. Op. cit.
(обратно)1311
См. выше, примеч. 30.
(обратно)1312
См.: Costa G. Le Antichità germaniche nella cultura italiana da Machiavelli a Vico. Napoli, 1977. P. 372-373.
(обратно)1313
Подробнее об этом см. в моей статье: Hérodote et l'Atlantide... P. 25—28.
(обратно)1314
О Бартоли и Швеции см.: ibid. Р. 43—46, а также более позднее исследование: Venturi F. Il patriotismo repubblicano e gli imperi dell'Est / Settecento Riformatore. Torino, 1984. Vol. 4. Pt. 2. P. 899.
(обратно)1315
См.: Dumézil G. Du mythe au roman: La Saga de Hadingus et autres essais. P., 1970; Lévi-Strauss Cl. Anthropologie structrale (Deux). P., 1973. P. 312-315.
(обратно)1316
О французской историографии и Людовике XIV см. фундаментальный труд: Ranum 0. Artisans of Glory, Writers, and Historical Thought in Seventeenth Century France. Chapel Hill, 1980, а также последнюю работу: Barret-Kriegel В. Les Historiens et la monarchie. P., 1988. Vol. 1-4.
(обратно)1317
Fortia d'Urban. Antiquités et monuments du département de Vaucluse. Paris; Avignon, 1808. Vol. 2. P. 40&-479.
(обратно)1318
О Джанринальдо Карли (или Джованнии Ринальдо Карли) см.: Illuministi italiani: Riformatori Lombardi, Piemontesi e Toscani. Этот том, изданный Φ. Вентури, вышел в серии: La letteratura italiana: Storia e testi / Ed. R. Matioli, P. Pancrazi et A. Schiaffini. Milano, 1958. Vol. 46. Pt. 3. P. 419—479. По интересующему нас вопросу Карли главным образом рассуждает в четырех выпусках своего сочинения: Lettere Americane (1770—1781) / Opère. Milano, 1779. Два первых выпуска «Американских писем» были переведены на французский язык и изданы в Париже в 1788 г. Более подробную информацию см. в моей статье: Hérodote et l'Atlantide... P. 22-24.
(обратно)1319
См.: Mazzoldi A. Delle origini italiche e délia diffusione dell mcivilmento italiano alla Fenicia, alla Crecia e a tutte le nazioni asiatiche poste sul Mediterraneo. Milano, 1840. P. 44, 172—187. О серьезном восприятии этой книги современниками см.: Сгосе В. Storia délia storiografia italiana nel secolo decimonono/B. Croce. Scritti di storia letteraria e politica. XV. Bari, 1921. P. 56.
(обратно)1320
TolandJ. The life of James Harrington //The Oceana of James Harrington and His Other Works. L., 1700. P. 2.
(обратно)1321
Blake W. A Descriptive Catalogue // The Complete Writings of William Blake / Ed. G. Keynes. L., 1957. P. 580.
(обратно)1322
Idem. Jerusalem // Ibid. P. 637—638. Более подробно об этом см. в моей статье: Hérodote et l'Atlantide... P. 24.
(обратно)1323
Wilford F. An Essay on the «Sacred Isles» in the West // Asiatic Researches. 1806. 8. P. 246-247.
(обратно)1324
Лучшее тому подтверждение — изданный в Лондоне в 1834 г. роман Генри О`Брайена «The Round Towers of Ireland, or The History of the Tuath-de-Danaans for the First Time Unveiled», недавно переизданный (с предисловием П. Аллен Штайнера) под заголовком «Adantis in Ireland» (Ν. Y., 1976).
(обратно)1325
С. Маринатос впервые выступил с данной гипотезой в 1950 г. задолго до открытия им блестящей цивилизации минойского Санторина, см.: Marinatos S. On the Atlantis Legend //Kretika Chronika. 1950. 4. P. 195—213 (на греческом языке); idem. Some Words about the Legend of Adantis. Athens, 1969. Подборку сведений, касающихся данной гипотезы, можно найти в: Luce J. V. Lost AÜantis: New Light on an Old Legend. N. Y., 1969.
(обратно)1326
См.: Mavor J. W., Jr. Voyage to Adantis. Ν. Y., 1969.
(обратно)1327
Rosenberg A. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der Seelischgeistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit. München, 1932. S. 43—48.
(обратно)1328
Herrmann A. Unsere Ahnen und Adantis: Nordische Seeherrschaft von Skandinavien bis nach Nordafrika. Berlin, 1934.
(обратно)1329
См.: Ory P. Le Petit Nazi illustré: Une Pédagogie hidérienne en culture française. «Le Téméraire» (1943—1944). P., 1979. P. 53—57. Аксель Зееберг, мой коллега из университета в Осло, сообщил мне, что аналогичный пропагандистский «комикс» появился примерно тогда же и в оккупированной Норвегии. Вероятно, эту продукцию заказывали в Берлине.
(обратно)1330
См. серьезное исследование: Kater M. H. Das «Ahnenerbe» der SS. 1935—1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches. Stuttgart, 1974. S. 51, 71, 372 (участие в дискуссии Гиммлера), 378.
(обратно)1331
Ibid. S. 378, Anm. 109. A. Германн, один из корреспондентов этого института, сближал слово «Атлантида» с немецким Adland — «страна избранных» (ibid. S. 51).
(обратно)1332
Spanuth J. Das enträselte Atlantis. Stuttgart, 1953; Idem. Atlantis, Heimat, Reich und Schicksaal der Germanen. Tübingen, 1965. Эта последняя работа была опубликована откровенно нацистским издателем Г. Ферлагом.
(обратно)1333
Salinas Price R. Homer's Blind Audience: An Essay on the «Iliad»'s Geographical Prerequisites for the Site of Ilios. San Antonio, 1984 (в Югославии эта книга была издана в 1985 г.).
(обратно)1334
См.: Les Illyriens / Ed. S. Islami. Tirana, 1985. Хотя книга не свободна от националистических выводов, она остается ценным и серьезным исследованием.
(обратно)1335
См.: Sedaj E. Les Tribus illyriennes dans les chansons homériques // Studia Albanica. 1986. 23. 1. P. 157-172.
(обратно)1336
Ayda A. Les Etruscans étaient des Turcs. Ankara, 1985 (автор книги — бывший министр). Другие аналогичные примеры, относящиеся к Востоку, можно найти в моей статье: Flavius Josephe et les prophètes / Cahiers du Centre d'études du Proche-Orient ancien. Genève, 1989. P. 11-31.
(обратно)1337
См. замечательный альбом: Stahel H. R. Atlantis Illustrated. Ν.Y., 1982 (его составитель — профессиональный архитектор). Об этом альбоме я узнал от Алена Шнаппа, и рис. 7. заимствован мною оттуда. Предисловие к альбому написано Айзеком Азимовым, который, к сожалению, придерживается «санторинской теории» Маринатоса. Аналогичные взгляды и у М. Катера (Kater M. Op. cit. S. 372, Anm. 119). Жан-Пьер Адам в своей занимательной книге (Passé recomposé. Chroniques d'archéologie fantastique. P., 1988. P. 38—64) подвергает критике некоторые из этих бредовых идей, но взамен выдвигает свою, которая ни нова, ни убедительна. Увы, нельзя объять необъятное!
(обратно)1338
За исключением раздела Приложения.
(обратно)


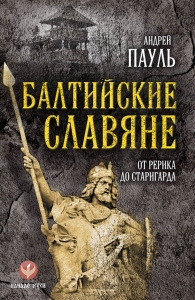
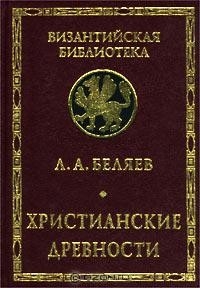



Комментарии к книге «Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире», Пьер Видаль-Наке
Всего 0 комментариев